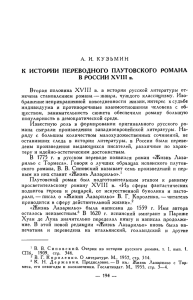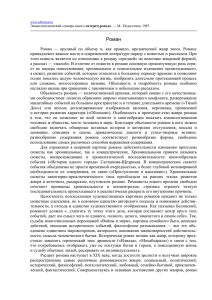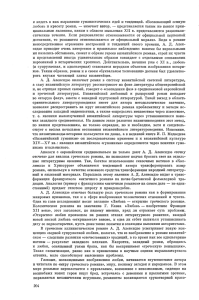Untitled - Преподавателям
advertisement
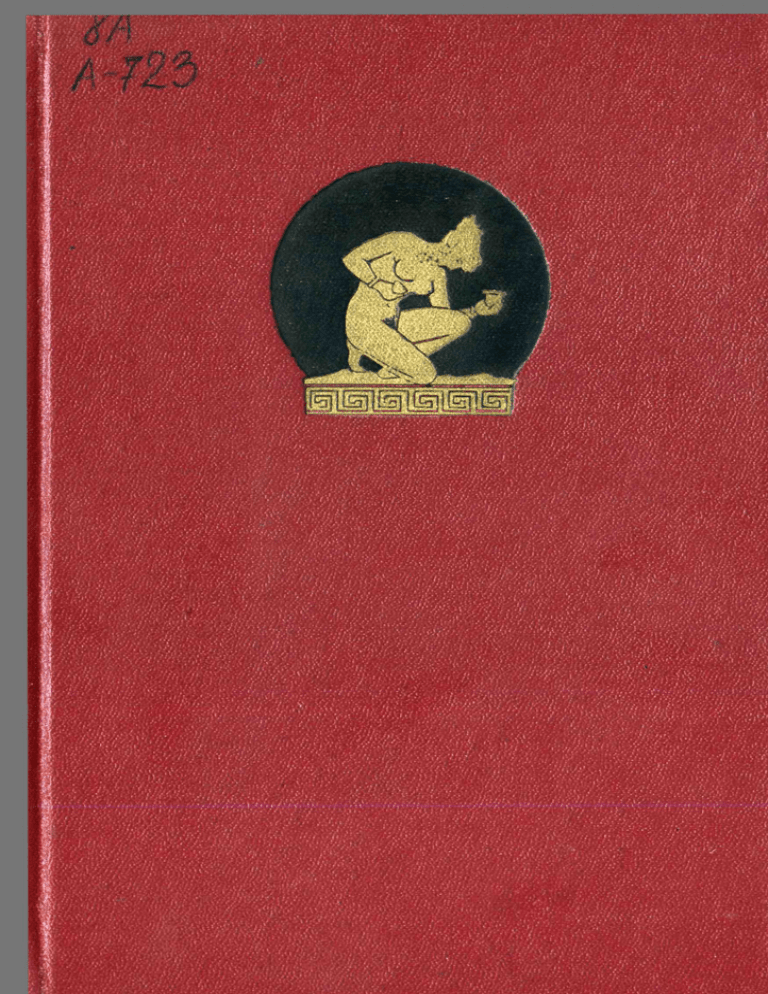
ОТВЕТСТВЕННЫЙ
РЕДАКТОР
М. Е. ГРАБАРЬ-ПАССЕК
В книге освещается сложная
и малоизученная в русской
науке проблема античного
романа;
исследуются отдельные памятники этого
жанра — роман
риторический, сатирико-бытовой, философско-любовный, буколический и др. Рассматриваются
также
проблемы
истоков романа и его связи
с другими литературными
жанрами.
7-2-2
196-69 (I)
СОДЕРЖАНИЕ
ОТ РЕДАКЦИИ
5
Е.
И.
А.
П.
Е.
А.
Беркова
ГРЕЧЕСКИЙ ЛЮБОВНЫЙ РОМАН. ХАРИТОН.
КСЕНОФОНТ ЭФЕССКИЙ. АХИЛЛ ТАТИЙ
32
Е.
А.
Беркова
БУКОЛИЧЕСКИЙ РОМАН ЛОНГА
75
//.
П.
Т.Н.
Беркова,
ВВЕДЕНИЕ.
КРАТКИЙ ОЧЕРК ИЗУЧЕНИЯ
Стрельникова АНТИЧНОГО РОМАНА В ЗАРУБЕЖНОМ, РУССКОМ И СОВЕТСКОМ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ
7
Зембатова
РОМАН
ГЕЛИОДОРА
«ЭФИОПИКА»
МЕСТО В ИСТОРИИ ЖАНРА
Кузнецова
РОМАН О НИНЕ И ДРУГИЕ^ ПАПИРУСНЫЕ
ОТРЫВКИ ГРЕЧЕСКОГО РОМАНА
107
И
ЕГО
92
Т.
И.
Кузнецова
СКАЗОЧНЫЙ РОМАН. «ИСТОРИЯ АПОЛЛОНИЯ,
ЦАРЯ ТИРСКОГО»
132
Т.
И.
Кузнецова
ЛЮБОВНО-ФАНТАСТИЧЕСКИЙ
НИЙ ДИОГЕН. ЯМВЛИХ
156
Т.
И.
Кузнецова
ИСТОРИЧЕСКАЯ ТЕМА В ГРЕЧЕСКОМ
МАНЕ. «РОМАН ОБ АЛЕКСАНДРЕ»
Грабаръ-
ФИЛОСОФСКИЙ РОМАН. ФИЛОСТРАТ. «ЖИЗНЬ
АПОЛЛОНИЯ ТИАНСКОГО»
230
ГРЕЧЕСКОГО
РОМАНА
АРИСТИД. ВАРРОН
256
М% Е.
Пассек
И. П. Стрельникова от
РОМАН. АНТО-
К
РО-
РИМСКОМУ.
И.
П.
Стрельникова САТИРИКО-БЫТОВОЙ РОМАН. ПЕТРОНИЙ
273
И.
П.
Стрельникова «МЕТАМОРФОЗЫ» АПУЛЕЯ
332
Т.Н.
Кузнецова
СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ГРЕЧЕСКОГО РОМАНА В СОВРЕМЕННОМ ЗАРУБЕЖНОМ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ
365
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
403
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
404
ОТ РЕДАКЦИИ
Предлагаемый вниманию читателя сборник охватывает все памятники античного романа, сохранившиеся полностью или
фрагментарно. Тем не менее он не претендует на исчерпывающую полноту освещения всех вопросов, связанных с этим жанром. В статьях дается конкретный идейно-художественный анализ романов, рассматриваются вопросы генезиса романа, его
литературные и национальные истоки, исследуются вопросы
хронологии романа, его жанровые особенности, изучаются
связи романа с исторической действительностью, критически
оцениваются зарубежные исследования о романе.
Редакция стремилась придать материалу возможно более
систематическую форму, считая, что некоторое хронологическое
смещение последовательности развития романов допустимо в сочинениях, не имеющих точной датировки. Так, например, первый по времени возникновения анонимный роман о Нине
(I в. до н. д.), сохранившийся лишь во фрагментах, помещен
в разделе о папирусных отрывках и после раздела о романах
основной группы, сохранившихся полностью и относящихся
главным образом ко II в. н. э.
Некоторая несоразмерность объема статей сборника, посвященных основной группе романов (так называемому любовному
роману) и романам других видов (историческому, сказочному,
фантастическому, философскому, сатирико-бьгтовому), объясняется тем, что преимущественное внимание уделялось романам
наименее исследованным в научной литературе и неизвестным
русскому читателю («Роману об Александре», фрагментам
5
романа о Нине и другим папирусным отрывкам, роману Филострата «Жизнь Аполлония Тианского»). Выдержки из романовранее не переводившихся на русский язык, представят для
читателя несомненный интерес.
Сборник подготовлен группой сотрудников сектора наследия
античной литературы: М. Е. Г рабарь-Пассек, Е. А. Берковой,
Т. 11, Кузнецовой, И. П. Стрельниковой. Статья о Гелиодоре
написана преподавателем МГУ Н. П. Зембатовой.
Редактировали сборник М. Е. Г рабарь-Пассек и Т. И. Кузнецова.
ВВЕДЕНИЕ. КРАТКИЙ ОЧЕРК
И З У Ч Е Н И Я АНТИЧНОГО РОМАНА
В ЗАРУБЕЖНОМ, РУССКОМ
И СОВЕТСКОМ
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ
Прежде чем обратиться непосредственно к исследованию тех
произведений античной литературы, которые обычно объединяют термином «античный роман», необходимо, на наш взгляд,
в самых общих чертах остановиться если не па истории вопроса
об античном романе в строгом смысле слова, то на отношении
к нему некоторых исследователей, специально им занимавшихся. При этом надо сразу заметить, что, несмотря на интерес
к этому вопросу как специалистов по античной литературе, так
и теоретиков литературы, он в сущности по'сей день остается
открытым. Как известно, в ряде работ современных ученых 1
ставится под сомнение самая правомерность употребления термина «роман» по отношению к произведениям античной художественно-повествовательной прозы.
Но дело, разумеется, не только в термине, хотя за ним
стоит определение жанра этих произведений, но в целом ряде
проблем, встающих при их рассмотрении: вопрос об идейных и
художественных предпосылках и времени появления этого нового для античности вида литературы, вопрос об его соотношении с действительностью, жанровых и стилевых особенностях,
1
См., напр.: В. В. К о ж и н о в. Происхождение романа. М., 1964,
стр. 39—44; И. И. Т о л с т о й . Повесть Харитона как особый литературный жанр поздней античности (послесловие к изданию: X а р ит о н . Повесть о любви Херея и Каллирои. М.—JL, Изд-во АН СССР,
1959).
Сами античные писатели называли эти произведения по-разному:
Spajiaxa, SpajisTixov, <hi]-уплата,
и др. Расплывчатость определения
и многообразие названий указывают на близость античного романа
ко многим видам литературы.
7
вопрос о месте этого жанра в мировом литературном процессе.
Новый жанр, венчающий славный путь развития античной литературы, отразил глубокие изменения, происшедшие в античном обществе на стыке старой и новой эр, и как бы возвестил
о начавшемся ее закате.
Нарастающий кризис рабовладельческого общества не мог
не наложить отпечаток на развитие литературы. На смену сильному и цельному герою классического эпоса и трагедии в литературу приходит другой герой, который от огромности и необъяснимости мира, от усложнившейся жизни уходит в маленький мир частных интересов и интимных чувств. Литература,
потеряв в масштабе изображения чувств и действий героя,
в философской насыщенности и глубине, приобрела достоинство
приближенности к жизни и быту маленького человека, к его
повседневным интересам и интимным переживаниям. Именно
в это время в античной литературе формируется ряд жанров,
которые, по мнению исследователей, сыграли существенную
роль в подготовке античного романа, в выработке его тематики,
проблематики и поэтики: новоаттическая комедия, александрийская лирика, мениппова сатура, новелла.
Однако ни один из них не дает такого простора для раскрытия внутреннего мира человека, для показа его интимных
чувств и переживаний, как появившийся затем новый для
античной литературы жанр большого художественно-повествовательного произведения, называемого в современном литературоведении античным романом. Органически связанный со всей
предшествующей ему античной литературой, впитавший в себя
элементы, свойственные основным жанрам эллинистической
литературы, античный роман явился не механическим «сплавом» всех этих элементов, а качественно новым видом античной
литературы, отразившим новый этап ее развития.
До нас дошло немного произведений этого жанра, из которых лишь меньшая часть сохранилась полностью, большинство же представлено в отрывках, обнаруженных на египетских
папирусах. Сохранившиеся отрывки и произведения неоднородны и различаются прежде всего своей тематикой. Сюда
относятся повествования об исторических лицах, как, например,
«Роман об Александре», рассказы о полуфантастических путешествиях в экзотические страны, философское повествование,
стоящее на грани между биографией и ареталогией, и др.
Значительную и наиболее характерную с точки зрения
признаков жанра группу составляют произведения, рассказывающие о злоключениях влюбленной четы, разлученной по
воле жестокой судьбы, — это так называемые любовные романы. Автор, пытаясь привлечь читателя занимательной фабулой, проводит своих героев через сеть приключений и прегтят8
ствий, чтобы в конце романа счастливо соединить их друг
с другом.
Систематическое изучение греческого романа, понимаемого
как особый литературный жанр, начинается сравнительно
поздно. При этом в центре внимания исследователей стоит, как
правило, любовный роман, поэтому он представляет наиболее
исследованную область из всей античной художественной прозы.
Не претендуя на полноту освещения проблем античного
романа и преследуя в этой статье преимущественно информационную цель, обратимся к работам зарубежных и русских ученых, специально занимавшихся историей и теорией античного
романа. Можно сразу отметить, что наибольшее внимание ученых всегда привлекала проблема происхождения жанра. Один
из первых исследователей античного романа П. Гюэ 2 считал,
что роман зародился на Востоке и через и-одян перешел к грекам. Исходя из этого, первым греческим романистом Гюэ называет Аристида из Милета, автора знаменитых в древности милетских рассказов.
К новеллистике, греческой и восточной, возводит греческие
любовные романы и А. Шассан 3 , разделяя точку зрения Гюэ
о восточном влиянии, считая, однако, что роман прошел длительный путь развития, а не был непосредственно перенесен
с Востока его греческими подражателями. По мнению Шассана,
в создании романа главную роль сыграла историография, поэтому в своей работе он исследует пути превращения истории
в роман, ограничивая тем самым круг источников этого жанра,
в действительности значительно более широкий.
Во всей полноте проблему греческого романа поставил
Э. Роде 4 . Капитальный труд Роде «Греческий роман и его
предшественники», вышедший в 1876 г., послужил отправной
точкой для многих появившихся затем работ на эту тему. Несмотря на то что книга Роде вышла почти столетие назад и
отдельные ее положения и гипотезы (в частности, хронологические) отвергнуты или устарели, она представляет собой не
только исторический интерес — об этом красноречиво свидетельствует ее недавнее, 4-е переиздание 5 . Охватывающая широкий
круг вопросов, связанных с античным романом, увлекательно
написанная книга Роде стала классическим трудом по античному роману. В центре внимания исследователя — нахождение
истоков греческого романа. Отвергая гипотезу о восточном
2
P. D. Н и е t. Traite de l'origine des romans. Paris, 1670.
A . C h a s s a n g . Histoire du roman et de ses rapports avec l'histoire.
Paris, 1862.
4
E. R о h d e. Der griechische Roman und seine Vorlaufer. Leipzig, 1876.
5
To же, Berlin, 1960.
3
9
происхождении романа, Роде стремился понять в о з н и к н о в е н и е
любовных романов, исходя из данных Греции. Исследуя идейные истоки появления романа в античной литературе, он отмечает наметившийся в эллинистическую эпоху в античной литературе поворот к личной теме, ошибочно видя в этом свидетельство расцвета культуры и свободного развития личности в эпоху
эллинизма. Исследуя художественные предпосылки позднегреческого любовного романа, он разлагает его на важнейшие составные элементы — на историю любви героев, на их скитания
и приключения, на софистическое красноречие — и объясняет
любовный роман как сочетание фантастических, географических
сведений с распространеннейшими мотивами и приемами эллинистической любовной поэзии. Таким образом, Роде видит три
источника, положивших начало античному роману: эллинистическую любовную поэзию, утопическую литературу, связанную
с путешествиями, и риторику периода второй софистики. Эпоха
эллинизма с ее вниманием к внутреннему миру человека
создала целую литературу, культивирующую любовную тематику. К ней относятся элегии Каллимаха, идиллии Феокрита
и Мосха, эпос Аполлония Родосского. В этой поэзии сложились
определенные мотивы и приемы, повествовательная техника для
изображения любви, которую потом во многом перенял любовный роман.
По мнению Роде, эротический элемент эллинистической поэзии влился в рамки романов о вымышленных путешествиях и
из этих двух основных элементов возник античный роман.
Он пишет: «В какое-то время эротический элемент соединился
с этнографическо-философской идиллией. Из соединения этих
различных составных частей возник греческий роман» 6 . Большую роль в процессе его формирования сыграла риторика. При
разработке любовных тем во многих случаях происходило соединение лирики и риторики. «Софистический роман, — пишет
Роде, — заимствовал душу своей эротической фабулы у искусно
построенной эротической поэзии эллинистических поэтов... и
придал этой душе телесные формы, построению которых он мог
научиться у поэтов фантастических романов-путешествий...» 7
Наиболее древними романами Роде считал те, где преобладал
географический элемент, лишь постепенно уступающий место
эротике, и отсюда давал соответствующее хронологическое распределение дошедших до нас романов. Самым древним из романов он считал произведение Антония Диогена, лишенное софистического влияния. Следующими по времени он ставил романы
Ямвлиха и Ксенофонта Эфесского, созданные уже в период
6
7
1 0
Е. R о h d е. Указ. соч., стр. 262.
Там же, стр. 379.
первоначального расцвета софистики. Творчество Гелиодора
он относил ко времени ее упадка, а произведения Ахилла Татия
и Лонга связывал с новым подъемом софистики и заканчивал
эпоху создания античных романов творчеством Харитона,
искусного компилятора более ранних романов.
Роде решительно отрицал генетическую связь греческой новеллы и позднегреческого романа. Он определял новеллу как
изображение взаимоотношений людей на каком-то одном примере и, считая, что она стоит гораздо ближе к жизни, чем такое
искусственное построение, как греческий роман, сближал ее
с новой комедией. В связи с этим «Милетские рассказы»
Аристида Роде никак не связывал с развитием романа.
При дальнейшем изучении вопроса отдельные построения и
тезисы Роде подверглись критике. Так, папирусные находки,
допускающие иногда довольно точную датировку, заставили
пересмотреть принятую в его книге хронологию романов, в особенности романа Харитона; другие находки — фрагменты романа о Нине — доказали существование любовного романа задолго до новой софистики. В то же время были указаны весьма
важные для истории романа материалы, ускользнувшие от
внимания Роде. Наконец, стали высказываться очень основательные сомнения в убедительности его общих выводов и
в правильности самой постановки у него основных вопросов
изучения романа.
Интересным дополнением к работе Роде явилась работа
Г. Тиле 8, где он критикует взгляды Роде на соотношение античного романа и античной новеллы.
Резкой критике подверг концепцию Роде австрийский ученый Шиссель фон Флешенберг 9, автор целого ряда исследований, посвященных формальным особенностям греческого романа. По его мнению, античный роман с таким же успехом мог
сложиться из других разновидностей предшествующей литературы, как и из категорий, рассмотренных Роде.
В. Шмид 10, исходивший с известными оговорками из предложенной Роде схемы, почти не принимал в расчет влияния
географических утопий. Он предположил, что более древними
могут считаться те романы, где главными героями выдвинуты
исторические лица и где описываются исторические события.
В этих литературных произведениях не видно столь явного
влияния риторических школьных упражнений.
8
G. T h i e l e . Zum griechischen Roman. Berlin, 1890 («Aus der Anomia»).
0 . S c h i s s e l von F l e s c h e n b e r g . Entwicklungs Geschichte der
griechischen Romans in Altertum. Halle, 1913.
10
W. S с h m i d. Der griechische Roman. — «Neue Jahrbiicher fur das
klassische Altertum», XIII, 1904, S. 465 ff.
9
11
Рассматривая рЛшие произведения, например
«Роман
о Hi n ie», написанный не позже первой половины 1 в. н. э. 11
выдержанный в историографической манере своего времени,
Шмвд проводит от него прямую линию развития к роману Харитона. К позднейшим романам, созданным новой софистикой,
Шмид относит романы Ямвлиха, Гелиодора, Лонга и Ахилла
Татия. Особое место в развитии романа Шмид отводит Антонию
Диогену, который в своем произведении дает не любовную
тему, а описание чудесных стран.
В ранних романах, по его мнению, намечаются две особенности развития. Так, в «Романе о Нине» можно видеть простоту
его построения и тенденцию пользоваться мифологическими
сюжетами и персонажами, идущую еще от эллинистической
поэзии. Но известная симметричность построения сюжета, расположения персонажей и сами речи главных героев говорят
уже о некотором влиянии софистической риторики. Литературный жанр уже создан, но техника этого жанра еще недостаточно разработана и связана теми литературными образцами,
откуда автор брал свой материал, т. е. главным образом историографией и софистическим красноречием.
Постепенно овладевая техникой нового жанра, романисты
начинают все более осложнять различными приключениями и
психологическими переживаниями первоначальный сюжет,
создавая определенные литературные типы, действующие и рассуждающие по строго установленному шаблону. Романы Харитона и Ксенофонта представляют собой уже произведения, где
романисты свободно распоряжаются своим литературным материалом.
В свое время большим одобрением пользовалось мнение,
высказанное Э. Шварцем п . Он считал, что роман возникает как
продукт распада эллинистической историографии, постепенно
перерождавшейся в исторический роман, из которого впоследствии образовался софистический любовный роман.
В то же время новые пути в изучении романов прокладываются рядом исследователей, исходящих из анализа наиболее
неизменного и специфического элемента любовных романов —
их сюжета. Еще в 1906 г. Р. Рейценштейн 12 указал на близость романа к ареталогии и вместе с тем на существенные их
отличия друг от друга. Впоследствии он же обнаружил мифологическую основу апулеевского рассказа об Амуре и Психее,
во многих отношениях очень близкого к сюжету греческих романов, и всячески настаивал на привлечении восточных повест11
12
1 2
Е. S c h w a r t z . Fiinf Vortrage iiber griechischen Roman. Berlin, 1896.
R.
Re i t. z e n s t e i n.
Hellenistisclie
Wundererzahhingen.
Leipzig, 1906.
йойательных жанров к разрешению вопроса о происхождении
романа.
В противовес трактовке греческих романов как искусственных и по-своему рациональных продуктов риторического мастерства, характерной для Роде и его школы, за последние десятилетия стали обращать внимание именно на исконные и традиционные элементы мифа и ареталогии, имеющиеся в романе.
Так, по мнению Б. Лаваньини 13, роман рождается из местных легенд и преданий. Эти местные легенды становятся «индивидуальным романом», когда в греческой литературе интерес
переходит от судеб государства к судьбам индивида и когда
в историографии любовная тема приобретает самостоятельный,
«человеческий», интерес.
Сходным образом венгерский ученый К. Керени 14 возводит
типичную схему романа с ее повторяющимися эпизодами (разлука, скитания, бичевание, мнимая смерть, воскресение, окончательное соединение) к египетскому мифу об Осирисе и Исиде,
а роман о Нине считает позднею формой ассиро-вавилонской
легенды. Вся работа Керени проникнута идеализмом и мистицизмом. Античный роман трактуется как один из типичных
видов ареталогической литературы. Керени стремится обосновать гипотезу о негреческом происхождении греческого романа,
отрывая литературное явление от национальной почвы, превращая его в культовую легенду. Для Керени наиболее существенным в истории возникновения любовного романа оказывается
перенесение мифа в сферу человеческих отношений. Той же
точки зрения придерживается и М. Браун 15,^обращаясь, правда,
к кругу не египетских, а библейских сказаний. Роман образуется из объединенных вместе легенд, выражая духовную
жизнь народа, угнетенного чужим господством. Браун рассматривает библейскую легенду о прекрасном Иосифе, сыне Иакова,
в которого влюбилась жена Пентефрия, как сюжет, общий с греческими эротическими романами. Он делает вывод, что роман
существовал уже в I в. н. э., так как историк I в. н. э. Иосиф
Флавий уже переработал эту легенду в риторическом духе.
Применяя формальный метод сравнения сюжетных мотивов и
техники изложения, Браун находит, что у риторов-историков и
романистов общая повествовательная техника.
В чешской работе Я. Людвиковского 16 ставится под вопрос
самое понятие «любовного» романа. С точки зрения автора
13
14
15
16
В. L a v a g n i n i . Le origini del romanzo greco. Pisa, 1921.
K. K e r e n y i . Die griechisch-orientalische Romanliteratur in religionsgeschichtlicher Beleuchtung. Tiibungen, 1927.
M. B r a u n . Griechischer Roman und hellenistische Geschihtsschreibung. Frankfurt am Main, 1934.
J. L u d v i k o v s k y . Reeky roman dobrodriizny. Praha, 1925.
1 3
работы существеннейшей чертой романа является действие й
фантазия. Так называемый любовный роман он рассматривает
совместно с историческим романом типа Псевдо-Каллисфеновой
«Истории Александра»: и тот и другой для него — лишь две
разновидности романа приключений, возникающего как результат разложения историографии. Первые романы брали исторические события или пытались создать иллюзию таковых. Исторический роман типа «Киропедии» Ксенофонта еще в эллинистическую эпоху вбирает в себя разнородные элементы (например,
любовную поэзию) и постепенно видоизменяется в классический любовный роман. Отделившись от историографии в самостоятельный жанр, роман сохранил в себе сильную фольклорную струю, свойственную народным произведениям, и сделался
жанром не официальной, а народной литературы. Появление
литературы для масс было одной из новых замечательных черт
эллинистической эпохи. Народный характер романов особенно
ярко выявляется в более ранних произведениях этого жанра,
тогда как поздние романы представляют собой литературнориторическую стадию развития жанра. Авторы романов обращаются первоначально к низам, и лишь постепенно то, что
было «народной» литературой, становится литературой, рассчитанной на рафинированные вкусы. В числе предшественников
романа Людвиковский считает Геродота, наследника народных
повествовательных жанров. Роман окончательно складывается
в эпоху эллинизма вне официальной литературы, даже в своего
рода оппозиции к ней. Людвиковский вводит новый термин для
определения романа—«авантюрный роман», считая, что исторический роман (об Александре Македонском) и эротический
представляют собой две ветви одного литературного жанра,
а «Роман о Нине» находится между ними как связующее
звено.
Параллельно с упомянутыми выше трудами зарубежных
ученых в конце прошлого и начале нашего века появился ряд
работ русских ученых, затрагивающих проблемы античного романа. Здесь прежде всего надо назвать А. Н. Веселовского, который в своих трудах коснулся и теории, и истории античного
романа. Намечая схему развития жанров в античной литературе 17, он, отдавая дань социологизму, непосредственно связывает последовательность их развития с поступательным движением античного общества.
«Как последовательность изменения быта и рост общественного и личного сознания выражались в новых формах политического устройства, в выделении научного миросозерцания из
17
1 4
А. Н. В е с е л о в с к и й . Из истории романа и повести, вып. I. СПб.,
1886, стр. 1.
мифического, философии из религии, истории из эпоса, — говорит он, — так выражались они в поэзии, в чередовании ее форм,
обусловленном изменениями ее идеального содержания».
Сначала это были произведения народной поэзии, не знающей творца, которые объединяют именем эпоса, а на другом
конце этого развития — «особый род повестей и рассказов...
которые зовутся новеллами, романами и т. д.». Между ними
прошла целая история, наполненная выделением лирики и
драмы. Веселовский отмечает синкретизм, которым характеризуется ранняя стадия поэтического и вообще художественного
развития: народные обряды (например, празднества в честь
Диониса) объединяют в зачатке эпос, лирику и драму. Эпос
идет по следам истории. Гомеровского человека отличает неразделенность, как говорит Веселовский, «индивидуальной и народной души». По его словам, это было время «единения певца
и народа». Дальнейший исторический процесс ведет к обособлению личности, у нее появляется свой особый мир, желание
заявить о себе, осмыслить мир по-своему — возникает лирика
и драма. Еще один этап развития, новый поворот мысли — и
появляется греческая новелла. В числе обстоятельств, обусловивших ее появление, Веселовский называет упадок общественной мысли, ослабление национального самосознания, отсутствие
«прочных кругозоров» и общих целей для народной деятельности. Человек уединяется в свой внутренний мир, откуда он
пытается восстановить картину внешнего мира, свой личный
эпос.
Таковы, говоря словами Веселовского, Общественно-психологические посылки, подготовившие произведения, которые мы
называем романами, а греки называли «драмами» или «драматическими рассказами» 18.
Роман органически отличен от всех предшествующих ему
жанров в античной литературе и лежит как бы в стороне от ее
героико-мифологических традиций. Веселовский отмечает его
«нетрадиционность», сказавшуюся в том, что поэт — творец сюжета, что в центре интересов, ограниченных личной жизнью, —
любовь. Обстановка, в которой происходит действие, представляет собой либо фантастические дали, либо уединенный уголок.
Роман, родившись в эпоху общественного упадка, не получил
развития в греческой литературе или, как пишет Веселовский,
«не досказался до конца», ибо «он явился слишком поздно,
когда иссякли живые поэтические силы нации» 19.
is §р5(ла laTopixov —драма в рассказе или рассказанная драма. Эта древняя терминология может свидетельствовать о родстве романа с драмой, одним из предполагаемых литературных источников романа.
19
Д. И. В е с е л о в с к и й . Указ. соч., стр. 12.
1 5
Давая эту схему-историю развития жанров, Веселовский
имеет в виду главным образом Грецию с ее наиболее последовательным развитием. Незаслуженно считая римлян просто
подражателями, он говорит, что Апулей лишь обработал сюжет
греческого рассказа, включив в него народную сказку об Амуре
и Психее. Внешним, школьным подражанием греческому считает Веселовский и византийский роман.
Большой статьей «Греческий роман» 20 Веселовский откликнулся на книгу Э. Роде. Признавая значение в романе элемента
странствований, Веселовский недоверчиво отнесся к утверждению Роде относительно роли географического романа в создании романа любовного. Он считал, что в основе романа лежит
эротический элемент, а приключения и странствия влюбленного служат лишь фоном для наиболее яркого и полного развития и показа любовных переживаний героев романа. Веселовский всячески приветствует тезис Роде об отсутствии
генетических связей между новеллой и романом. По его мнению,
Роде убедительно доказал, что греческий эротический роман
по миросозерцанию — органическое продолжение александрийской поэзии. Веселовский соглашается с доводами Роде и относительно влияния на формирование романа риторических
упражнений «второй софистики». По его словам, типы греческих романов до того отвлеченны, что в них нельзя не признать
шаблонных созданий школьной риторики. К тому же времени,
что и книга Э. Роде, относится работа о романе русского учепого А. И. Кирпичникова 21 . Кирпичников исследует литературные истоки греческого любовного романа и прослеживает
его влияние на литературу новой Европы. В числе родов литературы, подготовивших его появление, Кирпичников в первую
очередь называет драму, в частности драму Еврипида, сделавшего любовь центром трагедии и правдиво изобразившего человеческие страсти и переживания. Новая комедия, имевшая мало
общего с политической комедией Аристофана, тоже сыграла, по
его мнению, свою роль в подготовке романа: ее основная
тема — любовь, она старается заинтересовать интригой и изображением характера; большая роль в ней отводится женщине.
Среди родов литературы, предшественников романа, Кирпичников называет и идиллию, которую он считает продуктом жизни:
в ней отразилось характерное для эллинистической поэзии
стремление к обыденному, к изображению бытовых мелочей и
подробностей. К числу обстоятельств, способствовавших появлению романа, Кирпичников относит обучение в риторических
20
21
1 6
ЖМНП, ноябрь 1876 г., стр. 99—151.
А. К и р п и ч н и к о в . Греческий роман в новой литературе. Харьков, 1876.
школах, где ученики занимались декламацией на выдуманные
темы.
В отличие от Роде и Веселовского, Кирпичников видит в новелле зачаток романа и считает Аристида Милетского (начало I в. н. э.) «первым, известным по имени, романистом, или
новеллистом».
Кирпичников проводит резкую границу между милетскими
рассказами и рассказами Парфения Никейского (20 г. до н. э.Хгпятью любовными рассказами Плутарха и т. п., считая, что'они
не имеют между собой ничего общего ни по форме, ни по содержанию, ни по источникам, так как и Парфений, и Плутарх
излагали любовные мифы и сказания. Идя дальше, он утверждает, что к истории любовного романа не имеют отношения
ни диалоги Лукиана, ни письма Алкифрона, ни «чудеса» Флегонта и Дамасция, ни превращения Антония и Луция. По его
мнению, у них есть общие частности и общие литературные
приемы: в Лукиановом Луции узел приключений завязывается
нападением разбойников; в письмах Алкифрона чувственная
любовь и влияние женской красоты описываются теми же
приемами и красками, что в романе. Признавая, что в «Золотом осле» Апулея много пунктов соприкосновения с греческим
романом, много общих мотивов и перипетий, поскольку он появился, когда роман уже твердо встал на ноги (во II в. н. э.),
Кирпичников говорит, что по своей цели и отсутствию единой
любовной интриги он еще далек от любовного романа.
Кирпичников полагает, что начало греческого романа сле^ дует искать в вымышленных описаниях путешествий, с кото^ рыми соединилась любовная интрига новой комедии. Не слуО^ чайно роман Ямвлиха, который дошел до нас в изложении
патриарха Фотия (IX в.), последний называет драматическим
^
произведением, изображающим любовь—Spajxaxixov, ерштад отсохptvojjisvov. Как и Роде, первым по времени дошедшим до нас
любовным романом Кирпичников считает «Невероятные приключения по ту сторону Ф.улы» Антония Диогена (приблизительно II в. н. э.).
Отмечая отдаленность изображаемого в греческих романах от
реальной жизни, отсутствие в них примет времени, Кирпичников высказывает важную мысль о том, что «греческие романисты старались скрыться от неприятной действительности и
в этом сказалась общественная болезнь того времени» 22.
Что же касается влияния греческого романа на литературу
новой Европы, то Кирпичников, отрицая перманентность развития, видит влияние греческого стиля и духа в разных малозначащих частностях.
22
Там же, стр. 23—24.
"<т
•
2
Античный роман
,
!;
V
-
•
У » I t V:
17
Работа Кирпичникова вызвала резкую критику Веселовского 23 и прежде всего за то, что Кирпичников увидел в новелле зачатки романа и назвал Аристида Милетского «первым
романистом, или новеллистом» в греческой литературе. Веселовский считает, что Аристид лишь собрал народные фаблио,
или сказки, и записал их. Позднее они как вставные новеллы
вошли в романы. Таким образом, по его мнению, связь между
новеллой и романом существует лишь чисто внешняя, механическая.
Роман, считает А. Н. Веселовский, — это продукт «новой
софистики», повернувшейся от вопросов политических и гражданских к личным, среди которых значительную роль играет
вопрос эротический. Он настаивает на утверждении, что именно
александрийская элегия, порвав со старым эпосом и обратившись к новым сюжетам, подготовила развитие романа. Кирпичников, как считает Веселовский, не дал ответа на вопрос о влиянии греческого романа на литературу новой Европы. Он установил, что это влияние возможно и через много веков, но
увидел его в мелких деталях, греческих именах и названиях,
т. е. в том, что не имеет существенного значения.
Б. А. Грифцов в своей книге «Теория романа» 24 подходит
к вопросу о происхождении античного романа с формалистических позиций. Отстаивая ошибочный тезис о происхождении
античного романа из декламаций «второй софистики», он в ходе
рассуждения высказывает немало любопытных мыслей.
Прежде всего для позиции Грифцова характерно уже то, как
он объясняет отсутствие такого жанра, как роман, в классический период существования античной литературы. Причины
этого, по его мнению, заключаются в том, что роман не укладывался в строгие рамки античной эстетики. Классическая Греция не знала романа не из-за того, что боялась быта и повседневности, которые ему свойственно изображать, или чуждалась
любовных тем (ведь была и комедия Аристофана, и любовная
лирика), но потому, что Греции было несвойственно эстетически беспринципное искусство. Роман не укладывался в определенные правила: ни в ритмическую речь, ни в определенный
размер, т. е. не имел никакой определенной поэтики, тогда как
античная проза — искусство эстетически принципиальное, особенно, если иметь в виду стилистику (диалоги Платона, письма
Сенеки). Для образования романа, по мнению Грифцова, было
недостаточно бытовой тенденции, любовного сюжета и строгой
стилистики. Роману нужен оформляющий принцип — стержень,
23
24
1 8
А. Н. В е с е л о в с к и й . Беллетристика у древних греков. — «Вестник Европы», 1876, № 12, стр. 671—697.
Б. А. Г р и ф ц о в. Теория романа. М., 1927,
Который роман берет у рйторйки. Грифцов прямо гоборйт, что
роман создается из академических упражнений по риторике 25.
Ниже мы увидим, что он признает связь романа и с драмой,
и с лирикой, но решающую роль все-таки отводит риторике,
при этом «чистой риторике». Пока риторика служила практическим целям обнаружения истины, роман не возникал.
Позднее «чистая» риторика открывает сложные казусы — неразрешимое столкновение интересов; в этой атмосфере и рождается роман. Недаром греческий роман всегда назывался
«второстепенным продуктом софистики» или «софистическим
любовным романом». Пособие по риторике может служить пособием и но теории романа. В риторических трактатах Цицерона есть положения или правила, которые в равной степени
можно отнести и к роману, особенно это относится к красноречию типа exornatio, т. е. украшательному. Грифцов приводит
примеры из цицероновских трактатов, где говорится о том, что
должно быть во вступлении (сведения о действующих лицах
и событиях), какова должна быть развязка (лучше непредвиденная, неожиданная), какие лучше употреблять украшения
и т. и.
Если у Цицерона, по мнению Грифцова, прототипом романа
становится речь украшательная, то у Сенеки Старшего уже все
красноречие пропитано беллетристикой. Каждая его контроверсия — готовый роман, каждый из героев может найти себе защитника в каком-нибудь из читателей. Увещательные декламации, или свазории, считает Грифцов, тоже были прототипом
романа, но если контроверсии — прототипом романа психологического или проблематического, то свазории — романа настроения в стиле Руссо или Шатобриана. Риторика не только подготовила появление романа, но, по его мнению, некоторые
любовные повествования, например, Гелиодора или Ахилла Татия, будут в меньшей степени романом, чем все эти экзорнации,
контроверсии и свазории. Часто роман брал от риторики
меньше, чем можно было от нее взять. Но, главное, говорит
Б. А. Грифцов, он взял у нее контроверсионную концепцию,
самое свое существо (т. е., по-видимому, то, что мы теперь называем конфликтом. — И. С.). Контроверсия или ряд контроверсий — конструктивный принцип романа: верность и непостоянство, прилив и отлив бед, знатное происхождение и бедность, целомудрие и угрожающее ему чье-то сладострастие,
страстная любовь и обет чистоты, который надо соблюдать,
и т. п. В романе много непосредственной риторики, например
речей. О связи с риторикой свидетельствуют также заключающие роман судебные процессы.
25
Там же, стр. 27.
2*
19
Доказывая связь романа с риторикой, Грифцов не отрицает
и его связи с драмой, раскрывая их точки соприкосновения.
Исходя из положения, что роман — это рассказываемая драма,
он видит главный нерв романа не в бытописании, не в естественности положений, а в психологии, родственной той, которую
требует драма. Не случайно, говорит он, греческие теоретики,
не зная термина «роман», колебались между терминами «история» и «драма», чаще пользуясь вторым. Коренное же отличие
романа от драмы Грифцов видит в том, что драма выросла из
хоровой песни и обусловливается принципом катарсиса и перипетии, а роман — принципом контроверсии, т. е. некоего неразрешимого положения, который он берет у риторики. Как и Веселовский, он видит одно из главных достижений Роде в том,
что тот показал пропасть, отделяющую роман от предшествующей ему новеллистики. Роман, по мнению Грифцова, сразу
выкристаллизовался в чистом виде, ему не пришлось пребывать в состоянии синкретизма,' но позднее он часто вбирал
в себя инородные элементы — рассказы, стихи и т. и.
Б. А. Грифцов отмечает и принципиальную новизну романа
как жанра. К какому бы времени ни относили исследователи
возникновение романа — ко II ли в. н. ; э., как Роде, или
к I в. н. э., как большинство из них, — между классической литературой и романом — глубокий разрыв. Роман не есть завершение ранее существующего искусства. Греческие романисты
начинают новое дело, хотя и берут много из ранней литературы: темы, приемы, стилистику.
Как и большинство исследователей, Грифцов, не выявляя
причин, говорит о сознательном анахронизме и абстрактности
древнегреческого романа, о его искусственности и однообразии,
о построении по шаблону. Оценивая древнегреческий роман
очень низко эстетически и отрицая за ним какое-либо серьезное
историческое значение, он делает исключение лишь для романа Лонга. По его мнению, роман о Дафнисе и Хлое остался
живым, несмотря на шаблон, и проникнут той индивидуальной
обаятельностью, которой так чуждалась греческая беллетристика.
Работа Б. А. Грифцова — не единственная среди отечественных работ, выводящая античный роман из риторики. В свое
время (в 20-е годы XX в.) формалистическая теория о происхождении античного романа из риторики имела широкое распространение среди исследователей. С этой точки зрения показательна вступительная статья А. В. Болдырева к переводу
Ахилла Татия 2 6 , вышедшему двумя годами раньше книги
Грифцова.
26
2 0
А х н л л Т а т н й. Левкиппа и Клнтофонт. М., 1925, стр. 8.
Упомянув о гюм, что риторика оказывала колоссальное
влияние на все жанры античной литературы на всем протяжении ее развития, которое раньше недооценивалось, он прямо
говорит 27, что «в истории романа риторика, по-видимому, была
той стихией, из которой вышел роман». Доказательства этому
он видит в симметричности построения ранних образцов романа, сохранившихся на папирусах, в обилии в романах непосредственной риторики — речей и т. п., построенных по
школьным риторическим правилам. Ои так же, как и Грифцов,
связывает происхождение романа с «чистой» риторикой, т. е.
с риторическими правилами для рассказов о вымышленных
событиях, а не с правилами для судебных речей, и приходит
к выводу, что риторические упражнения послужили образцом
и примером для авторов романа. Болдырев приводит отрывок
из «Риторики к Гереннию», где, по его мнению, перечислены
основные мотивы греческого романа: «Этот род рассказа должен
заключать в себе: веселый топ повествования, несходные характеры, серьезность, легкомыслие, надежду, страх, подозрение,
тоску, притворство, сострадание, разнообразие событий, перемену судьбы, нежданное бедствие, внезапную радость, приятный исход событий. . .» (I, 8, 13).
Намек на отсутствующий здесь мотив любви, необходимый
элемент романа, Болдырев видит в слове «тоска», и, таким
образом, по его мнению, если соединить риторический рассказ,
построенный по этим правилам, с комплексом приемов, выработанных александрийской лирикой, то получится нечто близкое
к софистическому любовному роману. Кро&е того, свободный
вымысел, несвязанность с мифологической или исторической
традицией, отличающие риторические упражнения, характерны
и для позднегреческих романов. Родство романа с драмой Болдырев видит в том, что в романе нередко употребляются такие,
свойственные драме, технические приемы, как перипетия и
узнавание. Однако, по его мнению, это родство гораздо менее
близкое, чем родство с эротической поэзией и риторикой.
Формальный анализ, представленный в работах Грифцова и
Болдырева, имея немало положительных сторон, оказывается
бессильным, когда вопрос касается существа дела. Риторика,
бесспорно, сыграла большую роль в формировании античного
романа. Она помогает объяснению многих формальных особенностей романа, и прежде всего композиционных и стилистических. К тому же, не надо забывать, что авторами романов были
в большинстве своем риторы и софисты. Однако ссылка на
риторику не раскрывает сути античного романа как принципиально нового для античной литературы жанра. При всей
27
Там же, стр. 12.
21
искусственности его построения, как бы по софистическому
рецепту, он несет в себе заряд нового, в каком бы ничтожном
количестве и как бы бледно оно в нем ни проявлялось. Это новое — в обращении к обыденному, в изображении маленького
человека, в свободной воле автора, и главное в ином, чем у героя классической литературы, мировоззрении и мироощущении
героя романа, в ином его взаимодействии с обществом, а этому
не дают объяснений учебник риторики или сборник софистических декламаций.
Любопытно, что сторонники происхождения романа из риторики, оставаясь верными своему методу исследования, так же
формально — это можно было видеть на примере только что
упомянутой статьи Болдырева — объясняют и связь античного
романа с лирикой и драмой. Другая работа Болдырева, относящаяся к более позднему времени, несет в себе уже другие
идеи 28.
По мысли автора, роман возник путем отбора многочисленных средств художественного изображения, сложившихся
в прежних жанрах. «Анализ обнаруживает в сохранившихся
романах, — пишет Болдырев, — и этические мотивы, и элементы
трагической или комической драматургии, щ черты, восходящие
к сократическим диалогам, и приемы, свойственные миму.
В большом количестве представлены излюбленные литературные формы новой софистики: письма разного стиля, описания,
патетические монологи, судебные речи. В одних случаях бывают пущены в ход все средства азианского красноречия, в других повествование ведется в нарочито упрощенной манере
«народной книги». Болдырев убежден, что впечатление «чужеродности» романа создается лишь при поверхностном с ним
знакомстве и что на самом деле античный роман органически
связан с предыдущей литературой и неотделим от нее.
В разделе об истоках греческого романа А. В. Болдырев
особо отмечает такой неиссякаемый источник для литературы
как устное народное творчество. Он высказывает здесь очень
правильную мысль о том, что в эпоху эллинизма поэты и прозаики широко используют из фольклора то, что раньше не допускалось в серьезные жанры. Во многих сказках, местных
преданиях сюжеты напоминали типичные сюжеты позднего
времени. Ранним примером такого сюжета в классической литературе является «Елена» Еврипида. Болдырев отмечает и возможность восточного, особенно египетского, влияния на античный роман, проникновение в него восточных литературных
мотивов.
28
2 2
«История греческой литературы», т. III. М., Изд-во АН СССР, 1960,
стр. 242—283.
В разделе о новелле он характеризует ее как ранний образец греческой прозы, непременный компонент произведений
греческой историографии, лишь в эллинистической литературе
получивший самостоятельность. Он рассматривает новеллу как
самостоятельный жанр, не связывая ее с историей романа.
И. И. Толстой в статье «Трагедия Еврипида «Елена» и начало греческого романа» 29 указывает на сходство сюжета и
мотивов трагедии с поздним романом. Он сторонник раннего
рождения романа. «Риторика к Гереннию» и Цицерон, по его
мнению, уже знают роман. Схему романа он видит и в любовной истории Аконтия и Кидиппы из «Причин» Каллимаха
(III в. до н. э.), ее можно обнаружить и в иных из комедий
Плавта. Монолог Палестриона из II акта «Хвастливого воина»
Плавта содержит типичную фабулу романа. Отсюда он делает
вывод, что сюжетная схема романа, распадающаяся обычно на
три части, — разлука, искание, встреча — существовала еще
в V в. до н. э., чему доказательство трагедия Еврипида «Елена».
Толстой высказывает предположение, что, может быть, уже
тогда был известен тот особый литературный жанр, который
мы называем теперь «античным романом».
На этой статье, при всех ее достоинствах, несомненно, сказались издержки формального метода. Поставив во главу угла
сюжет и применяя его в качестве критерия романа, Толстой
приходит к явно ошибочному выводу о существовании романа
еще в доэллинистическую эпоху. В послесловии к переводу Харитона, изданному двадцатью годами позже, И. И. Толстой
делает уже другой вывод. Он повторяет свой) мысль о том, что
сюжетная схема, знакомая нам по античному роману, была
хорошо известна в эпоху Цезаря, доказательством чему служат
трактат Цицерона «О нахождении» (I, 27) и «Риторика к Гереннию». Эту сюжетную схему можно встретить и у Плавта, но
ни греческих, ни латинских романов того времени до нас не
дошло. Следовательно, делает вывод Толстой, не в сюжете дело
и нельзя решать проблему происхождения романа только через
тщательное изучение сюжета, поэтики и речевой формы, т. е.
главным образом путем формального анализа.
Современный советский теоретик литературы В. В. Кожинов 30 , исходя из убеждения, что роман — это новая форма
29
30
«Ученые записки Ленингр. гос. ун-та. Серия Филология, наук», 1939,
№ 20, вып. I, стр. 199—212.
См. В. В. К о ж и н о в. Становление романа в западноевропейской
литературе. М., 1958 (дисс., приложение «Вопрос об античном романе»); он ж е . Происхождение романа. М., 1963; он ж е . Гл. «Роман — эпос нового времени». — В кн. «Теория литературы». М., 1964,
стр. 97.
2 3
литературы, родившаяся з эпоху Возрождения, отказывает
в праве называться романами произведениям поздней античной
художественной прозы.
Ссылаясь на Энгельса, он утверждает, что в классический
период античности не было и не могло быть произведений,
изображающих частную жизнь, так как сама структура античного общества не давала почвы для таких отношений. Герои
классической античной литературы — это не частные люди,
а представители определенного класса, касты. Лишь в период
распада античного общества литература обращается к частной
тематике. Однако изображенная в античных романах частная
жизнь далека от реальности. Она изображается там либо в идеализированном виде, как в греческих романах, в частности
в лучшем из них «Дафнисе и Хлое», либо в сатирическом —
как у Петроиия и Апулея. При всем внешнем различии эти
произведения, по мнению Кожинова, объединяет то, что они
осваивают две «крайние» формы частной жизни, обособившиеся
от большого общественного мира и далекие от того, чтобы показать жизнь общества того времени многогранно и реально.
С этой точки зрения он особенно критически интерпретирует
дошедший до нас отрывок из «Сатирикона», Петрония и «Метаморфозы» Апулея.
Кожинов убежденно заявляет, что никакой генетической
связи между античным и современным романом не существует.
Тип повествования, возникший в эпоху Возрождения, коренным образом отличается от позднегреческого романа и с точки
зрения отражения через частную жизнь жизни общества, и
с точки зрения эстетики и поэтики. Принципиальное же отличие романа, возникшего в новую эпоху, от романа античного
Кожинов видит в том, что в новом романе отображена ячейка
нового, зарождающегося мира, а античный роман изображает
«крайние» стороны жизни, свидетельствующие о распаде античного общества.
Касаясь генезиса античной прозы, он, как когда-то Кирпичников, делает акцент на связи античной прозы с драмой. Отрицая преемственность и генетические связи античной прозы
с современным романом, Кожинов тем не менее признает, что
определенные тенденции в литературе поздней античности
(в особенности жанр менипповой сатиры) сыграли большую
роль в становлении европейского романа.
В главе о романе в новейшей «Теории литературы», говоря
о процессах, предшествующих появлению романа в новой литературе, В. Кожинов находит сходство в путях возникновения
нового эпоса — романа в новое время и в античности. По его
мысли, истоки романа надо искать в устном творчестве народных масс. По закону фольклора он складывается из старых
2 4
фабульных, образных, языковых элементов, в делом образуя
нечто принципиально новое.
Какие же специфические литературные линии предшествовали созданию нового эпоса в античной литературе?
В числе жанров, предшествующих появлению романа, современный исследователь теории и истории романа М. М Бахтин
называет и такие, еще более ранние, чем упомянутые выше,
жанры, как сократический диалог, симпосион и мемуарная литература. Отличие этих жанров от традиционного эпоса, трагедии и комедии и то новое, что вошло с ними в литературу,
Бахтин хорошо показал в своей книге о Рабле:
Сами древние, пишет Бахтин, отчетливо сознавали отличие этой области от эпоса, трагедии и комедии. Здесь вырабатывалась особая (новая) зона построения художественного
образа, зона контакта с незавершенной современностью (осознанный отказ от эпической и трагической дистанции) и новые
типы парадного и фамильярного слова, по-особому относящегося к своему предмету. Здесь начинает формироваться и особый тип почти романного диалога, принципиально отличного от
трагического и комического (такой диалог можно кончить, по
не завершить, как незавершимы и люди, его ведущие). Здесь
возникает и почти романный образ человека — образ Сократа,
Диогена, Мениппа. Эпическая память и предание начинают
уступать место личному опыту (даже своеобразному эксперименту) и вымыслу 31.
Бахтин объединяет эти явления понятием «мениппеи» в отличие от классического эпоса и разного рода эпических форм:
комических, идиллических, утопических, куртуазных. Под
чертами мениппеи он разумеет свободу художественного вымысла, ведущую роль личного опыта (а в ренессансной литературе еще и готовую фабулу), незавершенность действия и
героя, живой контакт с современностью, эстетику серьезносмешного, т. е. черты, присущие роману. В русле мениппеи,
по мнению Бахтина, находятся отчасти такие произведения, как
«Метаморфозы» Апулея, «Сатирикон» Петрония, повествовательные диалоги Лукиана. Именно эта жанровая линия, которая не нашла в античной литературе прочных форм, имела, по
мнению Бахтина, наибольшее значение для подготовки романа.
И хотя роман, в нашем смысле слова, складывается лишь
в эпоху Возрождения, это были своего рода предпосылки будущего жанра. Жанровая стихия мениппеи ярко выразилась
в литературе позднего средневековья или ренессансной литературе — например, в книге Рабле, в «Похвале глупости» Эразма
31
М. М. К а х т и тг. Творчество Франсуа Рабле. М., 1965.
2 5
Роттердамского и «Письмах темных людей» Ульриха фон Гуттена и т. п.
Эта же стихия мениппеи особым образом преломляется и
в жанре новеллы. В упомянутой выше статье из «Теории литературы» В. Кожинов склоняется к убеждению, что именно
книга новелл открывает возможность создания романа. Она
идет сначала по пути количественного роста, вбирая в себя все
больше и больше материала. Сама же новелла возникает на
фоне фольклорных рассказов, объединенных одним героем.
Стержнем рассказов становится мотив странствий. Цепь анекдотов превращается в историю жизни. Примером такого романа
Кожинов называет роман о Тиле Уленшпигеле.
Один из современных противников генетических связей романа и новеллы М. М. Кузнецов, оспаривая эту теорию 32, обращает внимание на то, что разница между романом и новеллой
не только и не столько в объеме изображения, а гораздо глубже.
Новелла лишь демонстрирует противоречие, а ромаи раскрывает его. К тому же объем имеет не только формальное значение — он обусловливает и различие приемов. Новелле свойственна концентрированность, сжатость, предельная выразительность художественных средств. Кррме того, замечает
Кузнецов, роман дает концепцию действительности в определенный момент, что вряд ли в возможностях новеллы.
Различие между романом и новеллой очевидно. Однако, на
наш взгляд, трудно сказать, исключает ли оно возможность
возникновения романа из новелл, а тем более из книги новелл,
объединенной одним рассказчиком: прием, распространенный
в античных романах, — рассказ от первого лица, служит подкрепляющим моментом возможной верности этой теории для
античной литературы.
Обзор греческих любовных романов, сохранившихся в цельном или фрагментарном виде, помогает нам уяснить некоторые
основные закономерности в истории всего жанра 3 3 . Черты
сходства между отдельными романами настолько велики, что
рассмотрение их в тесной связи друг с другом представляется
совершенно оправданным. Романы
можно разделить на
две группы, что обусловлено рядом стилистических признаков.
К одной группе относятся более поздние романы, отмеченные
широким использованием всех приемов и средств того специфического риторического мастерства, которое культивировалось
82
33
2 6
М. М. К у з н е ц о в . О специфике романа. — Сб. «Вопросы теории
литературы». М., 1958.
В этой части статьи (стр. 26—29) использованы неопубликованные
материалы А. В. Болдырева, подготовленные им для III тома «Истории греческой литературы».
b эпоху новой софистики (Ямвлих, Ахилл Татий, Лонг, Гелиодор). К другой — романы более ранние, еще не затронутые
такого рода риторическими и литературными влияниями. Конечно!, и в романах этой более ранней группы очень явственно
сказывается вековая культура художественного слова.
Для романов более ранних (фрагменты романа о Нине, романы Харитона, Ксенофонта Эфесского, «История Аполлония»)
можно считать характерным простоту пх композиции, строгую
приверженность к выработанному канону, а также склонность
к краткому пересказу уже прежде изложенных событий. Романы этой категории, рассчитанные в основном на самые широкие массы, во многих случаях приближаются к стилю сказки.
Язык их близок к тому «общему» литературному языку, который складывается в эллинистическое время и не воспроизводит
каких бы то ни было особенностей аттической речи.
Совсем не таковы романы другой, более поздней группы.
Традиционная сюжетная схема не тяготит авторов, они обращаются с нею весьма вольно, обогащая традиционный сюжет
вводными эпизодами. Уже не говоря о Гелиодоре, совершенно
по-иному давшем обычную в романах хронологическую манеру изложения событий, и Ямвлих, и Ахилл Татий, и Лонг —
каждый по-своему преодолевают унаследованный от прошлого
канон. Ямвлих, щедро вводя новые дополнения к принятой для
романа схеме, с другой стороны, выбрасывает некоторые привычные мотивы (как, например, морское плавание); это делает
и Лонг, для которого авантюрный элемент вообще оказывается
чем-то второстепенным. Ахилл Татий, сохраняя, казалось бы,
архаический ряд обязательных для романа авантюрных эпизодов, совершенно обесценивает их, часто трактуя их лишь как
повод для риторических декламаций. Можно сказать, что романы более поздней группы представляют собою настоящую
мозаику наиболее распространенных во времена новой софистики разновидностей риторических упражнений. Ритмическая
пышность Лонга или Ахилла Татия может быть сравнена лишь
с творчеством самых изысканных софистов IT в. Язык авторов
романов этой группы соответствует разнообразным оттенкам
литературного языка той же поры; здесь уже вступает в силу
аттицистический пуризм.
Таким образом, авторы более поздних романов — Ямвлих,
Ахилл, Лонг, Гелиодор, — восприняв от своих непосредственных предшественников обработанный рассказ о разнообразных
приключениях и долгих скитаниях четы любящих и о благополучном их воссоединении, расцветили его самыми изысканными средствами красноречия, выработанными и проверенными
в долгой практике ораторского мастерства. Они создали тот
самый тип романа, который впоследствии пленял целые поко2 7
леиня позднейших читателей как в Византин IX—XI вв., так и
в Западной Европе в XVI и XVII столетиях.
Не только наиболее зрелые и сложные греческие любовные
романы, но, без сомнения, it задолго до них, уже начиная примерно с I в. н. э., а может быть, и раньше, жанр любовного
романа получает массовое распространение. Папирусные отрывки романов, обнаруживаемые в Египте, доказывают это
с бо'лыной убедительностью. По всей вероятности, в обращении
в это время находилось много романов, о существовании которых мы сейчас можем только догадываться. Весьма возможно,
что хотя они и были до известной степени порождениями литературной моды, успех многих из них не был явлением мимолетным.
Мы знаем теперь, что роман Харитона (I в.—начало
II в. н. э.), который не упоминается ни у кого из древних
авторов и сохранился в полном виде лишь в одной рукописи
XIII в., читался и переписывался и во II, в III, и в VI—VII вв.,
т. е. на протяжении, по крайней мере, пятисот лет. Нет никаких оснований думать, что он был исключением.
Новый литературный жанр должен был отражать какие-то
устойчивые и прочные черты идеологии прздней античности и
служить для нас одним из источников понимания того особого
ощущения мира, которое обнаруживается в этой стадии истории античного общества. Оставаясь литературой развлекательного характера, не ставя перед собою ни политических, ни дидактических — в самом широком смысле этого слова — задач,
греческие любовные романы тем не менее до известной степени
удовлетворяют какие-то глубокие и постоянные потребности
своих читателей, отвечая жизненным запросам того времени.
В трактовке разрабатываемого в романах традиционного сюжета и в изображении идеальных героев, заслуживающих восхищения и подражания и борющихся с бесконечными препятствиями, создатели этого нового жанра пе ограничивались
простым перенесением в него функций героического эпоса или
народных сказок. Роман явственно отображал и бытовую обстановку поздней античности с ее уже сложившейся идеологией.
Во всех романах явно ощущается сочувствие к «среднему» человеку и даже к миру рабов, несправедливость социального
положения которых уже ясно осознается.
Образы положительных героев трактуются в идеальных тонах: в читателе они должны возбуждать восхищение. Роман
говорит о возвышенных переживаниях этих персонажей, повествует об их борьбе с возникающими препятствиями и о конечном триумфе героев. Героика этого нового типа несет отпечаток своей эпохи. Пафос романа связан с переживаниями,
чрезвычайно далекими от того, что одушевляло людей архаиче2 8
скоп Греции или эпохи расцвета полиса. Теперь на первом
плане стоит уже не боевая слава, как у гомеровских героев,
и не благополучие родного государства, а любовное счастье
юной и обольстительной четы. Если главные действующие лица
и наделяются иногда идеальными чертами, восходящими
к прошлым эпохам, уподобляясь своим моральным и физическим обликом героям и героиням эпоса или классической истории, то все эти свойства в любовном романе входят в совершенно новый контекст. Любовная тема становится до такой
степени господствующей, что ею определяется и ход политических событий, подчас упоминаемых в романах: судьбы любящих
волнуют народные собрания, приводят в движение целые города и государства. Это возвеличение и литературное освещение
любовных переживаний, столь несвойственное классической
эпохе, предполагает громадные сдвиги в общественном сознании. Тот факт, что распространеннейшие литературные жанры
ориентируются на частную жизнь, именно на самые личные и
субъективные элементы этой жизни, очень важен для характеристики господствующих настроений эпохи империи.
Нельзя не отметить, что в судьбах скитающейся четы, бросаемой случайностями по близким и дальним берегам и странам, то и дело проглядывают очертания старых мифов. В мотивах описаний и приключений, рожденных, казалось бы,
вольной фантазией авторов, при внимательном изучении обнаруживаются разительные совпадения с греческими и восточными ареталогиями, с гимнами и молитвами в честь богов,
с древними и распространенными обрядами. Именно это последовательное и неуклонное соединение элементов быта или истории со слегка замаскированными мотивами сказки или мифа
создает специфическую атмосферу греческих любовных романов. Правда, не везде подобное смешение разнородных начал
выступает достаточно явственно, но в какой-то мере оно присуще всем любовным романам. Сюда относится прежде всего
постоянная игра со смертью, часто мнимая смерть и оживление,
а также нагромождение ужасов и жестокостей, особенно, видимо, привлекательных для авторов и читателей этих произведений.
Не подлежит сомнению, что специфический облик любовных
романов очень хорошо гармонирует с господствующими настроениями эпохи их возникновения. Это — то самое время,
когда на фоне все усложняющегося кризиса социальной системы империи оживают старинные, часто весьма примитивные
верования и распространяются идущие с Востока учения и
культуры. Памятники литературы и быта этих веков позволяют
нарисовать достаточно полную картину этих процессов. Многочисленные точки соприкосновения с египетским культом,
2 9
интерес к магии и волшебству, восприятие человеческой жизни
то как серии несвязанных случайностей, то как чего-то находящегося под непрерывным наблюдением божественных сил —
все эти обычные в романах черты как нельзя лучше совпадают
с чувствами и чаяниями огромных пластов населения грекоримского мира в первые века нашей эры.
При изучении античного романа можно видеть, как в лучших
памятниках этого жанра получает отражение эпоха поздней
античности.
Что же касается одной из главных проблем, связанных с развитием этого жанра, а именно происхождения античного романа, то она до сих пор не получила своего окончательного
разрешения.
Относительно места античного романа в общем мировом литературном процессе нам кажется бесспорным утверждение
большинства исследователей, что непрерывного развития жанра
романа от античности до наших дней не было. Античный роман
возник и завершил свое существование в античности. Современный роман, появление которого относят ко времени Возрождения, возник самостоятельно, по-видимому, вне влияния
сложившихся форм античного романа. Впоследствии, возникнув
самостоятельно, современный роман испытал какие-то античные
влияния.
Однако отрицание непрерывности развития жанра романа
вовсе не отрицает, на наш взгляд, существование романа в античности.
Известно, что вульгарные социологи, исходя из определения:
«роман — это буржуазная эпопея», пророчили отмирание романа в советскую эпоху, однако он по сей день остается ведущим жанром советской литературы. Те же вульгарные социологи, исходя из того же определения, признавали существование романа в античности, так как, по их мнению, существовал
так называемый античный капитализм. Но для признания античного романа вовсе, на наш взгляд, не обязательно изобретать «античный капитализм». Конечно, если мы применим
к античному роману те же критерии, что мы применяем к роману современному, опираясь на ставшие аксиомами определения: роман — это эпос нового времени, решающий проблему
отношений индивида и общества, дающий концепцию действительности, новое осмысление мира и т. п., — то он может не
выдержать испытаний. Но вряд ли правомерно предъявлять
равные требования к произведениям пусть даже условно одного
жанра, но между которыми разрыв более, чем в полторы тысячи лет, и на основании несоответствия этим требованиям
отказывать раннему образцу в праве принадлежать к этому
жанру. Неважно, в конце концов, как называть тот жанр про3 0
изведений античной литературы, который появился уже на
закате ее развития и оказался ее завершающим этапом. Важно,
что произведения античной художественной прозы занимают
в истории античной литературы приблизительно то же место,
какое занимает роман в новое время; что по пути к художественной прозе, к роману, и та и другая литература прошла
сходные этапы развития, что найденная в античной литературе повествовательная форма уже содержит в зачатке те принципы отображения жизни, которые нашли свое продолжение
в новой литературе, в частности в романе, что античная
проза — это шаг вперед по сравнению с предыдущей литературой в изображении жизни и человека; что самый факт появления произведений античной художественной прозы в свое
время обогатил литературу.
v
ГРЕЧЕСКИЙ ЛЮБОВНЫЙ РОМАН.
ХАРИТОН. КСЕНОФОНТ
ЭФЕССКИЙ. АХИЛЛ ТАТИЙ
Рассматривая греческие прозаические произведения, дошедшие до нас под названием любовных романов, мы должны помнить, что термин «роман» является в данном случае совершенно условным. Под этим наименование объединяется ряд
литературных произведений, весьма разнообразных по своему
стилю и по выдвигаемым авторами задачам. Об условности
термина говорит и то обстоятельство, что разнообразные прозаические произведения, имеющие своей фабулой невероятные
приключения любящей прекрасной четы, разлученной друг
с другом и в конце романа вновь встретившейся для совместной счастливой жизни, и по-гречески носили различные названия. Сами авторы называли их то: М701 (сказы), как Лонг и
Ахилл Татий, то |3c|3Xoi (книги), как Гелиодор и Ксенофонт
Эфесский, то Зпг^тгцха (повествование), как Харитон.
Но несмотря на различие этих названий, их всех объединяло то, что они были написаны прозой и сюжеты их имели
между собой очень много общего. Развитие жанра романа, зародившегося еще в эпоху эллинизма, когда складывались новые взаимоотношения между человеком и обществом, прошло
долгий путь, который мы сейчас не в состоянии отчетливо
проследить и можем высказывать лишь различные предположения.
Основные противоречия рабовладельческого общества, усиливавшиеся бурным развитием производительных сил, привели
к тому, что уже в IV в. до п. э. началось разложение античного
полиса. Одновременно с этим в результате завоевания Греции
Филиппом и Александром Македонским на территории Македонии появилось новое сильное государство, имевшее возможность
3 2
предоставить больше простора для развития новой экономики.
С течением времени на месте Македонской монархии образовалось много эллинистических государств, в свою очередь пришедших к упадку, так как «эллинизм обозначал повторение
развития античного рабовладельческого общества на более
высокой ступени, но возникший в результате греческого
(и восточного) рабовладельческого общества, эллинизм не разрешил и не мог разрешить ни одного социального противоречия»
С утратой политической свободы отдельные эллинистические
государства потеряли свою национальную самобытность и
в обществе получили широкое распространение космополитические настроения. Одним из следствий этого было усиление
интереса к чужим странам, чужим нравам и обычаям и в особенности к чужой религии. Потеряв привычную связь -с полисом, служившим защитой и опорой человеку в античном
государстве, люди в эпоху эллинизма стремятся прибегнуть
к покровительству сверхъестественных сил, т. е. к помощи
богов. Но старые боги постепенно утрачивали свое былое значение, уступая место новым, появившимся в результате религиозного синкретизма. Теперь широкое распространение получают новые, главным образом восточные божества с их мистическими культами и обрядами, а также усиливается влечение к всевозможным чудесам и к магии. Огромным влиянием
стали пользоваться такие божества, как Судьба — Тиха, или
Фортуна, пролагаютцие путь для перехода к монотеистической
религии. Но наряду с этим новая эллинистическая культура
содействовала освобождению личности от тяготевшего над ней
духовного гнета, атеистические настроения получили широкое
развитие преимущественно в верхах общества. Теперь не боги,
а человеческая личность с ее мыслями и чувствами, приобретая право на существование, вызывает живой интерес со стороны общества. Помимо религии получают широкое распространение и философские идеи. Сама наука — философия также
претерпевает значительное изменение, переходя от попыток
разрешить общефилософские проблемы к познанию внутреннего мира человека. Наиболее популярным и типичным для
эпохи эллинизма становится учение стоиков, с их идеями свободы духа и проповедью покорности судьбе, и до известной
степени процветает материалистическая школа Эпикура, но,
отойдя от активного участия в жизни общества, она во многом уже утрачивает свое актуальное значение 2 .
1
2
А. Б. Р а н о в и ч. Эллинизм и его историческая роль. М.—JT., Изд-во
ATI СССР, 1950, стр. 29.
Там же.
3 Античныii ромам
33
Греческая культура продолжала оказывать свое влияние
на весь позднеантичный мир, с т а в господствующей и в Римской империи. Греческие писатели наряду с латинскими продолжали отражать жизнь и и д е о л о г и ю с о в р е м е н н о г о им общества, но самый характер художественной л и т е р а т у р ы уже значительно изменился. О б щ е с т в е н н ы е мотивы, игравшие главную
роль в художественной литературе классического периода,
теперь уступили место иным т е м а м , с в я з а н н ы м с переживаниями отдельного индивидуума. Классический эпос и драма
с их гражданскими проблемами заменяются новыми литературными формами, способствующими б о л е е полному и г л у б о кому проникновению в мир интимных ч у в с т в отдельных личностей. Расцветают такие поэтические ж а н р ы , как э п и г р а м м а ,
идиллия, любовная лирика; появляются талантливые комедии
Менандра с его новыми в литературе героями — простыми
людьми.
Наряду с внедрением этих новых литературных форм происходит также развитие и прозаического жанра, раньше
включавшего в себя произведения главным образом исторического и географического характера. Теперь тематика в них
от показа богов и героев переходит к изображению обыкновенных людей с их чувствами и страстями. Мы видим простых
смертных и не только свободных, но и рабов с их повседневными горестями и радостями. Греческая проза, представляя
собой особый жанр, сложившийся в этот период, получила
условное название греческого «любовного романа» и стала
одним из наиболее распространенных видов литературы своего
времени. Эта популярность романа среди широких слоев населения была обусловлена как легкой для восприятия формой,
так и занимательным сюжетом. Свободные бедняки и рабы
в силу новых исторических условий в качестве нового читателя,
появившегося на общественной арене, требовали увлекательной
литературы с доступным для его понимания содержанием.
Теперь художественные произведения создаются уже не только
для высших образованных классов, но учитывают и запросы
«низов», благодаря чему занимательный античный роман приобретает все больше и больше прав на свое существование.
Буржуазные исследователи, отмечая и резкое отличие греческого любовного романа от других литературных жанров, уделяли много внимания рассмотрению и изучению его сюжета,
поэтики и стиля и почти совершенно не затрагивали вопроса,
какие социальные факторы были причиной его возникновения
и развития. Было установлено, что сюжеты всех этих романов
строились по одному образцу (исключение составляет до известной степени лишь роман Лонга). Любовь прекрасной девушки и юноши, вспыхнувшая внезапно с потрясающей силой,
3 4
соединение их и вскоре наступившая разлука, поиски друг
друга, испытания их взаимной верности и любви, мнимая
смерть одного из них, путешествия по морю, кораблекрушения,
пираты и разбойники всех мастей (от «благородных разбойников» до обыкновенных бандитов), преследования, тюрьмы, побои, продажа и т. д. — и под конец счастливое соединение любящих друг с другом. Герои отличаются необыкновенной
красотой и благородством и являются детьми знатных и богатых родителей. Наряду с непрерывными приключениями главных героев показываются их чувства, беспрестанно меняющиеся из-за беспокойной жизни, полной бурных событий.
Счастливый конец является непременным условием всякого
романа и свидетельствует о том, что авторы их руководствовались определенными литературными канонами. Можно полагать, что сюжеты подобного рода были известны ранее II—
III вв. н. э., т. е. еще до появления любовного романа. Так,
Цицерон в своем трактате «De inventione» (I, 27) указывал на
необходимость именно таким образом излагать сюжет, чтобы
вызвать в читателях различные чувства, пробуждая в них то
жалость и гнев, то страх и радость, то негодование и сочувствие. Произведение должно было доставить удовлетворение
читателю, воздействовав на его душу.
Харитон
Переходя к рассмотрению романа Харитона /Повесть о любви
Херея и Каллирои», с самого начала приходится сказать, что
у нас нет никаких точных сведений ни о жизни самого автора,
ни о времени написания его романа. Данные, которыми мы
располагаем, взяты из самого его произведения, где Харитон
говорит о себе, что он был секретарем ритора Афинагора в Малой Азии. Это типичный любовный роман с фабулой, построенной по определенной трафаретной схеме, о которой более
подробно будет рассказано ниже.
Знакомство с Харитоном началось тогда, когда другие греческие романисты (Ахилл Татий, Гелиодор и Лонг) уже пользовались широкой известностью у публики. Это давало основания некоторым исследователям рассматривать их как предшественников Харитона.
Помещая Харитона
в конце ряда
романистов, явно подвергшихся влиянию софистики, эти ученые считали Харитона писателем как бы второго ранга, лишенным творческой фантазии и уступающим другим авторам. Так,
определяя время написания «Повести о любви Херея и Каллирои», Э. Роде 3 полагал, что роман развивался, начиная от
3
Е. R о li d е. Der griechishe Roman und seine Vorlaufer. Leipzig, 1876.
3*
35
Антония Диогена до Харитона, т. е. шел от сложного, нереального и софистического вначале к простому, наивному и якобы
историческому в конце. Роде считал, таким образом, произведение Харитона одним из наиболее поздних софистических романов и относил его к V в. п. э. Но такая датировка романа оказалась певерной, что убедительно и было доказано находкой
папирусных отрывков, обнаруженных в Египете, датируемых
II в. н. э. Роман Харитона является одним из наиболее ранних
произведений этого жанра, что обнаруживается в его тесной
связи с историческими и мифологическими традициями, а также
в большом сходстве с такими фрагментами, как «Роман о Нине»
и «Роман о царевне Хионе». На листах пергамента, где были
помещены отрывки романа о Хионе, содержались и главы из
последней книги романа Харитона, что может до известной степени говорить о тождестве их авторов, тем более, что язык отрывка близок к языку автора Хионы. Во всяком случае, если
нельзя говорить с уверенностью, что этот роман также принадлежит Харитону, то все же можно их отнести к одной и той же
эпохе. Близость романа Харитона к дошедшим до нас отрывкам,
датируемым II в. н. э., а также анализ его языка и стиля говорит о том, что Харитон был одним из первых романистов и
что развитие греческого романа в общих Чертах совпало со временем первого периода софистической риторики. «Повесть
о любви Херея и Каллирои» интересна для нас тем, что в ней
можно проследить более отчетливо, чем в других аналогичных
произведениях, как бы «истоки» самого жанра «романа» и увидеть, какие изменения получили в нем различные элементы,
столь характерные для более ранних видов прозы.
Прежде всего внимание большинства исследователей обращалось на близость любовного романа к работам историков,
среди ученых 4 было много сторонников происхождения романа
из историографии. Действительно, анализируя дошедшие до нас
фрагменты и отрывки прозаических произведений, можно заметить, что любовный роман и исторический имеют много точек
соприкосновения. Так, в дошедшем до нас в отрывках любовноисторическом романе о Нине в качестве главных действующих
лиц выводятся реально существовавшие исторические лица, как
Нин и Семирамида. Вероятно, в период становления нового
жанра в художественной литературе можно было легко обнаружить ряд предпосылок, обусловивших его связь с историографией. У историков среди изложения чисто исторических фактов
и описаний исторических лиц встречались вставные новеллы,
носившие характер короткого рассказа о какой-либо прекрасной
4
3 6
W. В a r t s ch.
zig, 1934.
Der
Charitonromaii
und
die
Historiographie. Leip1
любящей чете, подвергавшейся опасности разлуки. Но историки
не могли вводить в свои исторические работы выдуманные
фигуры, а должны были соблюдать некое подобие историчности. Исторические лица оказывались обычно в таких ситуациях, когда они как герои романа обязаны были проделать ряд
путешествий, часто против их воли, совместно или в разлуке
друг с другом. Такое положение являлось, очевидно, отголоском
дани географическим исследованиям и наблюдениям. Авторы
получали возможность, отправив своих героев в путь, рассказывать о занимательных и малоизвестных обычаях чужеземцев, иногда в виде отдельных картин, а иногда как воспоминания действующих лиц, повествующих о своих скитаниях. Этой
схемы строго придерживались почти все авторы романов и некоторое отклонение от нее можно наблюдать лишь в романе
Лонга.
С течением времени от показа исторических или псевдоисторических лиц романисты постепенно переходят к созданию
литературных типов, сохраняя, однако, при этом обязательные
для исторического романа условные приемы описания внешности и рассказ о происхождении героев. Главные действующие
лица — это молодые люди, непременно благородного рода, из
богатых семей, часто враждующих друг с другом. Герои отличаются прекрасной наружностью, потрясающая красота их
в большинстве случаев является для них источником бесконечных преследований и сложных интриг со стороны окружающих.
Введенные на смену историческим лицам уже чисто литературные персонажи обладали в основном теми же привлекательными моральными качествами, как и излюбленные исторические герои, — смелостью, мужеством, верностью в любви и
дружбе и т. д.
Роман Харитона близко примыкает к такого рода «историческим» романам, вроде упомянутого выше «Романа о Нине»,
но по сравнению с ним представляет уже иной вид литературного произведения. В романе о Нине большее место занимают
описания походов, написанные в духе исторических трудов,
а не любовная фабула. Это произведение еще во многом не
соответствует схеме более поздних любовных романов с их
сложной интригой. «Повесть о любви Херея и Каллирои» — это
уже шаг вперед в истории развития прозаического жанра. Это
не исторический роман и основное содержание его составляет
не рассказ о военных походах, а приключения влюбленной
четы, разлученной жестокой судьбою. Тем не менее Харитон
стремится придать своему произведению известную историческую достоверность и главные действующие лица его связаны
с историческими личностями. Так, знаменитый сиракузский
стратег Гермократ, победивший Афинский флот в 413 г. до н. э.,
3 7
представлен как отец главной героини красавицы Каллирои.
Одним из ее многочисленных поклонников изображен персидский царь Артаксеркс II. Автор стремится передать до известной степени историческую обстановку, чтобы придать больше
убедительности и правдоподобия своему рассказу. Но военные
эпизоды, связанные с определенными историческими событиями, служат лишь для оживления основного сюжета и выявления храбрости героя. Характерно, что исторические деятели
и учреждения интересуются не делами государства, а главным
образом жизнью влюбленной четы (так, народное собрание,
совет и суд увлечены ио политикой или общественной жизнью,
а обсуяедают поведение героев и их частную жизнь). Но наряду
с этим дается соответствующее исторической истине описание
суда у персидского царя или рисуется яркая бытовая картина
персидского двора с его восточной роскошью.
С историческими работами роман Харитона сближает также
то обстоятельство, что он написан на основании тех же принципов, как и работы эллинистических историков. Подобно историкам, Харитон ставил себе целью, чтобы заключительная часть
повести оказалась приятной читателям, «которых она освободит
от мрачности тех событий, какие изложены в предшествующих
ее частях» (VIII, 1) 5, да и самое начало романа имеет сходство
как бы с формулой начала исторических трудов у Геродота и
Фукидида. «Харитон афродисиец, писец ритора Афинагора, расскажу я историю одной любви, происшедшую в Сиракузах»
(I, 1). Если у историков мы находим картины битв и сражений,
то и Харитон не уступает им в этом. Например, он красочно
описывает взятие города Тира (VII, 4) или показывает морской
бой (VII, 5), явно свидетельствуя, что он хорошо был знаком
с правилами написания исторических сочинений. Но пользуясь
ими в своей повести, Харитон давал описания уже не столь
сухими, а насыщенными эмоциональными переживаниями.
Таковы, например, сцена похорон Каллирои (I, 6), картина
блестящей охоты персидского царя (VI, 4) и т. п. С историками
Харитона роднят также и ярко выраженные патриотические
тенденции, когда он пользуется всяким случаем, чтобы восхвалить греческую доблесть, заявляя, например, о Гермократе, что
«не было такого народа, который бы не знал о поражении,
понесенном в Сицилийскую войну афинянами» (VII, 2). Херей,
произнося речь перед войском египетского царя, набранном из
наемников, особо подчеркивает храбрость греков (VII, 3). Хотя
такое восхваление независимости и доблести греков, отрадное
любому греческому патриоту, само ио себе еще не указывает
на прямое подражание историкам, во всяком случае, следует
5
3 8
Цитаты даются в переводе И. И. Толстого. См.: Х а р и т о н . Повесть
о любви Херея и Каллирои. М.—JL, 1959.
отметить, что, например, речь Херея перед войском (VII, 3)
представляет собой типичную лбуос тсарах^тсхос (побуждающую
речь), встречающуюся у историков 6 . Они обычно вкладывали
ее в уста полководцев, желающих преуменьшить достоинства
противника и поднять дух собственного войска. Эта речь сильно
отличается от других речей и монологов, встречающихся у Харитона, также построенных по правилам риторики, но преследующих иную цель, а именно: выявить психологию действующих лиц (например, жалобы Каллирои — V, 1; сетования Херея
на судьбу — III, 6 и т. д.).
Но не только на военное превосходство греков указывает
Харитон. Он всячески подчеркивает высокие моральные качества своих соотечественников. Образованные греки, попав
в тяжелую политическую зависимость от персидского царя,
относились к своим победителям со скрытым презрением, и это
взаимное пренебрежение Харитон правильно и тонко подмечает в своем произведении. Взгляд восточных деспотов на покоренных «рабов» отчетливо вырисовывается у Харитона, излагающего мысли персидского царя Артаксеркса, стремящегося
оправдать свое желание завладеть Каллироей. Особенно ясно
раскрывается эта мысль главным евнухом царя, говорящим красавице: «Прославленное по всей земле знаменитое имя твое
не нашло по сей день ни мужа, ни возлюбленного, какие
были бы тебя достойны: выпали на долю тебе двое людей, бедный островитянин и царский раб... Счастлива ты именно тем,
что уже не рабом любима ты или бедняком, а любима великим
царем... Приноси же жертвы богам, славь свое блаженство,
старайся понравиться царю еще больше...» (VI, 5).
Отмечая неоднократно, какое значение имеет для человека
воспитание и образование, Харитон на примере своих героев
показывает, как они благодаря своей высокой культуре и природным моральным качествам могут проявлять душевное благородство и превосходство над невежественными варварами.
Раскрывая характер Каллирои, Харитон восхищается ею, показывая, как воспитанная и образованная гречанка умеет вести
себя в любых жизненных условиях. Оказавшись в затруднительном положении, когда могущественный персидский царь
стремился овладеть ею, она на его откровенные признания, переданные через евнуха, сумела найти должный ответ. «Воспитанная и умеющая владеть своими порывами женщина, вспомнив, где она находится, кто она сама и кто с ней разговаривает,
сдержала свой гнев и перешла перед варваром к притворству»
(VI, 5). Та же Каллироя, испытав превратности судьбы и сама
6
F. S с h е 11 е г. De hellenistica
Leipzig, 1911.
historiae
conscribendae arte (Diss.).
3 9
знакомая с горем, успокаивает царицу Статиру, попавшую
г плен (VII, 6), а впоследствии с почетом отправляет ее домой
к мужу (VIII, 3). Статира, которая в начале называла греков
нищими хвастунами, а Каллирою — бедной рабыней (V, 3),
позже чистосердечно признается, что Каллироя «выказала благородный свой, достойный ее красоты характер» (VIII, 3), и
тем самым признала ее превосходство.
Удаляясь все далее от показа исторических лиц и событий
и произвольно меняя исторический фон, Харитон отходил и от
распространенной в древности фантастики и мистики, укрепляя
прежде всего чисто приключенческую линию романа. Мистические культы и широкое влияние верований Востока в свое
время поколебали веру в национальных исконных античных
богов и наделили их новыми не свойственными им ранее чертами, выявив тем самым и новое отношение к ним со стороны
их почитателей. Мотив преследования героев завистливой судьбой или разгневанным божеством, чаще всего карающим юношу
за неуважение к богине любви и презрительное отношение
к ней, был хорошо знаком еще античным трагикам и остался
как бы обязательным для каждого любовного романа. Хотя
влияние религиозных и мифологических мотивов имело место
при построении литературного сюжета, тем не менее устанавливать тесную органическую связь романа с религиозными верованиями, как это делали некоторые исследователи (Керени,
Меркельбах и др.) 7, не представляется достаточно обоснованным. Указывалось на то, что ход развития сюжета любовных
романов как бы отражает мистический обряд поисков богиней
Исидой утраченного и вновь ею обретенного возлюбленного.
Считалось, что ритуальные действия, связанные с культом
Исиды, нашли свое отображение как в тематике, так и в лексике романов. Поскольку начало появления любовных романов
относится к весьма отдаленному времени, то участие божества
и его активное вмешательство в судьбы людей казалось вполне
естественным в глазах человека той эпохи. Этими божествами
обычно являлись Афродита или Эрот, т. е. боги, символизирующие такие человеческие чувства, как любовь или страсть,
играющие важную роль в жизни отдельных индивидуумов. Новое отношение к внутреннему миру человека, столь характерное для эпохи эллинизма, не только не преуменьшило силу и
влияние этих богов, но, наоборот, придало им еще большую
значимость. Поэтому почти во всех любовных романах Афродита и Эрот так полновластно распоряжаются судьбами своих
героев и им отводится авторами особое место.
7
4 0
См. ниже, в статье Т. И. Кузнецовой «Состояние изучения греческого романа в современном зарубежном литературоведении».
У Харитона могущество Афродиты и ее сына ощущается на
протяжении всего романа. Герои впервые встречаются на народном празднестве Афродиты при содействии со стороны Эрота
и с его же помощью народное собрание высказывается за брак
этой четы. Афродита присутствует везде: на островах Арадосе
и Пафосе и в Сиракузах, куда в конце романа вновь возвращается Каллироя после многочисленных испытаний 8 . Но отношение к богам делается все более и более фамильярным и
по носит никакого мистического оттенка. Каллироя, например,
идет в храм Афродиты, чтобы высказать ей свое неодобрение:
«Что за несчастье! И здесь опять Афродита, та богиня, которая
стала причиной всех моих бедствий! Но я пойду к ней: хочется
мне за многое упрекнуть ее» (II, 2). И такой разговор с богиней рискует вести простая благочестивая смертная, не боясь
немедленной кары со стороны оскорбленного божества.
Таким образом, можно видеть, как изменяется постепенно
отношение к религии, подобно тому, как меняются и сами герои этих литературных произведений. Авторы от изображения'
богов и героев переходят сначала к историческим лицам, восхваляя их подвиги, затем с развитием литературного жанра
заменяют их псевдоисторическими персонажами и наконец
создают уже чисто литературные типы, представляющие простых свободных людей и даже рабов. Точно так же наряду
с развитием мистических верований идет одновременно снижение религиозных настроений: божество уже не пользуется таким слепым и безоговорочным поклонением, как в древности,
превращаясь в существа, символизирующие человеческие чувства. Хорошо знакомые из восточных культов поиски богиней
ее возлюбленного, его мнимая смерть и вновь возрождение
получают теперь свое отражение в литературе, но вводятся и
рассматриваются как явления чисто реалистического характера.
Для любовных романов вполне закономерно рассказывать читателям и о встречах влюбленных, и об их душевных переживаниях, о разлуке и препятствиях, мешающих их счастью. Трафаретная схема — встреча, разлука и счастливый конец — необходимая для занимательности рассказа, обрастает теперь рядом
разнообразных событий и приключений, часто весьма реального
происхождения и далеких от какой бы то ни было мистики.
Жанр романа, развиваясь по своим внутренним законам, как
всякий литературный жанр, существовал в определенной
исторической среде и произведения его, несмотря на свою кажущуюся отдаленность от каких бы то ни было общественных проблем, должны были прежде всего отражать реально
8
В. P e r r y . Chariton and his Romance
Point of View. — AJPh, 51, 1930.
from
a
Literary Historical
41
существующую действительность. Например, среди персонажей
любовных романов мы непременно найдем разнообразные типы
разбойников — от обыкновенных грабителей преимущественно
из беглых рабов до свободных людей, часто ищущих для себя
не только наживы, но и выхода из тяжелых социальных условий. Вместе с тем Харитон, как и другие авторы романов, пытался до известной степени, если не разрешить, то хотя бы
поставить перед читателем основные проблемы морального и
этического порядка, интересовавшие их современников.
Роман Харитона построен по определенной схеме, которой
в той или иной степени придерживались все авторы любовных
романов, и потому мы довольно подробно остановимся на его
содержании. Херей и Каллироя, главные герои романа Харитона, молодые жители Сиракуз, отличались богатством и неземной красотой. Встретившись на празднике, посвященном
Афродите, молодые люди с первого взгляда влюбляются друг
в друга; счастливая пара сочетается браком. Но богиня Афродита, чьей власти раньше не признавал Херей, гневается на
молодого супруга и подвергает его тяжелым испытаниям. Херей, охваченный ревностью, по наветам отвергнутых Каллироей
женихов, наносит жене страшный удар в живот и та падает
как мертвая. Так как Каллироя долго не приходит в чувство,
то ее, считая умершей, торжественно погребают вместе с большим количеством драгоценностей. Ночью пират Ферон со своей
шайкой взламывают склеп и обнаруживают там очнувшуюся
от мнимой смерти Каллирою. Забрав драгоценности и Каллирою, разбойники увозят ее на корабле и продают как рабыню
богатому и знатному жителю Ионии Дионисию. Дионисий
сразу же пленяется красотой своей новой невольницы,
но видя в ней женщину благородного происхождения и
не желая силой владеть ею, предлагает ей вступить с ним в законный брак. Каллироя сначала отказывается, но, обнаружив,
что у нее должен быть ребенок от ее мужа Херея и не желая,
чтобы ее дитя стало рабом, соглашается и выходит вторично
замуж за Дионисия.
Херей после смерти Каллирои впадает в отчаяние, обвиняет
себя в несправедливой ревности и, обнаружив исчезновение
жены, отправляется на ее поиски. Пойманный пират Ферон
рассказывает о судьбе Каллирои, и Херей спешит в Милет.
Но по дороге Херея и его друга Полихарма захватывают в плен
персы и продают как рабов сатрапу Митридату. Херей после
многих расспросов узнает о судьбе Каллирои, теперь богатой и
знатной жены Дионисия. Благодаря своей неземной красоте
Каллироя пленяет сердца всех мужчин, встречавшихся на ее
пути. Херей, его господин — сатрап Митридат, Дионисий — все
только и думают, как обладать ею. Дионисий, случайно прочи4 3
тав письмо Херея к Каллирое и считая Херея умершим, объявляет, что это письмо подделано Митридатом, и подает на него
жалобу персидскому царю Артаксерксу. Но Митридат оправдывается, когда на суде появляется сам Херей и происходит
сцена его узнавания Каллироей. Тем не менее царь колеблется
решить дело в пользу Херея, так как он и сам пленился прекрасной гречанкой. Начавшийся в это время поход против восставшего Египета дает царю возможность на неопределенное
врем^ отложить судебное решение о судьбе Каллирои. Оскорбленный Херей, не получив Каллирои, перебегает на сторону
восставших египтян, храбро сражается против персов и разбивает персидское войско, захватив в плен жену царя Статиру.
Роман кончается встречей Хорея и Каллирои и их счастливым
возвращением домой в Сиракузы.
У Харитона, как и во всех любовных романах, с героями
происходит множество происшествий: кораблекрушение, мнимая смерть одного из героев, продажа в рабство, распятие на
кресте. Герои из-за своей красоты подвергаются покушениям
на них со стороны окружающих, но остаются верными своей
любви. Даже в отношении Каллирои, нарушившей верность
мужу и вышедшей вторично замуж за Дионисия, Харитон все
время подчеркивает, что она так поступила лишь из-за любви
к своему и Херея ребенку, что только это обстоятельство вынудило ее на брак с Дионисием. Испытание высоких чувств
героев является одним из основных моментов в развитии сюжета, так же как гнев Афродиты или Эрота, преследующих
влюбленных за нанесенную ранее им обиду. *
В романе Харитона можно видеть уже четко разработанную
типовую схему, обязательную для каждого произведения подобного рода. Не только в отношении развития основного сюжета,
но даже в деталях его роман совпадает с более поздними, известными нам произведениями этого жанра. Так, для придания
большего драматизма действию, Харитон вводит традиционные
приемы, вроде получения и писания писем главными героями
или упоминания о вещих снах. Письма (как отголосок эпистолографического жанра) играют значительную роль в любовных
романах. Например, письмо Херея к Каллирое с извещением,
что он жив и ждет ее (IV, 4), послужило причиной длительного
судебного процесса между Хереем и Дионисием, имевшего важное значение для дальнейшей судьбы героев. Покидая навсегда
своего второго мужа, Каллироя пишет Дионисию ласковое
письмо, чтобы для этого положительного героя романа разлука
с ней была бы не столь тяжелой. Херей в своем письме персидскому царю не может удержаться, чтобы не подчеркнуть
лишний раз своего морального над ним превосходства
(VIII, 4).
4 3
Что же касается вещих снов, то упоминание о них встречается постоянно еще в классической литературе, и Харитон,
как и все остальные авторы романов, не остается в стороне и
от этого приема. Дионисий видит во сне умершую жену (II, 1),
Каллирое снится Херей перед тем, как она должна принять
серьезное решение.
Всем романам присущ и такой мотив, когда наряду с развитием главной темы вводится элемент искушения героини и попыток заставить ее изменить любимому человеку. Так, например, евнух всячески убеждает Каллирою покориться персидскому царю и не отвергать его любовь (VI, 5).
Но наряду с такими шаблонными мотивами можно видеть
уже и новые черты в мировоззрении автора, свойственные более позднему эллинистическому времени. Так, старый мотив
Судьбы, часто жестокой и неумолимой, властно требующей от
героев тех или иных угодных ей поступков, дается Харитоном
уже в ином виде. Судьба преследовала разлученных супругов
на протяжении всего романа, и «затевала Судьба не только
странное, но и лютое дело: хотела она, чтобы Херей не узнал,
что в его руках находится Каллироя, и посадив чужих жен на
свои триеры, покинул на острове одну лишь собственную, оставив ее там не в невесты Дионису, как спящую Ариадну, а в добычу своим врагам» (VIII, 1). И если бы не вмешательство
Афродиты, решившей наконец простить Херея, то не было бы
и счастливой встречи супругов.
Здесь Судьба представлена в традиционном изображении,
но все же Каллироя, несмотря на все ее козни, сама выбирает
свою дорогу, решаясь выйти замуж за Дионисия. Здесь уже
видна свободная воля человека, поступающего в решительный
момент не под влиянием божества, а тщательно взвесившего и
обдумавшего свои поступки. Тут уже нет мистического трепета
человека перед Судьбой, и автор раскрывает глубокие психологические переживания героини, принимающей определенное
решение.
Роман Харитона увлекал своего читателя не только показом
многочисленных приключений главных героев или изображением их высоких моральных качеств, но силой их переживаний,
впервые столь убедительно показанных в художественной
античной прозе.
Харитона можно назвать даже до известной степени предшественником психологического романа, где он стремится
с реалистической правдивостью раскрыть психологию действующих лиц и с помощью отдельных штрихов показать внутренний
облик каждого героя. Хотя Харитон подчеркивает, каким авто ритетом пользуются богатые и знатные люди вроде Гермократа
или Дионисия среди своих сограждан, но в показе душевных
4 4
переживаний не делает различия не только между знатными и
простыми людьми, но даже между свободными и рабами.
Внимание писателей к личности раба стало выявляться в художественной литературе постепенно, когда в жизни античного
общества появились определенные к тому предпосылки и проблема рабовладения стала одной из основных задач. Беллетристические произведения того времени, затрагивая эту тему,
должны были ответить новым социальным запросам. Признавая
рабство закономерным для античного общества явлением и
не пытаясь ни в какой мере его отвергнуть, Харитон тем не менее, как и другие романисты, показывает его как явление отрицательное, являющееся по сути дела величайшим злом для
человека, особенно свободнорожденного. Рассказывая о своих
героях, попавших в рабство, Харитон, придерживаясь, по-видимому, наиболее популярного и типичного для его эпохи учения
стоиков, указывает, что моральные качества человека не зависят от его состояния и человек, ставший рабом, может сохранить врожденное благородство. Так, Каллироя всегда и везде
оставалась высокообразованной, просвещенной гречанкой и от
всей души сочувствовала Статире, впавшей в отчаяние от ожидавшей ее рабской участи. Но Харитон подчеркивает, что
не каждый мог это сразу понять и что только попав в беду,
«Статира поняла, что значит для свободнорожденного человека
плен» (VIII, 3).
Изображению психологии рабов и рабынь отводится немало
места. В отличие от рабов новой комедии, обычно показываемых в виде ловких и хитрых наперсников своих молодых
господ, рабы Харитона изображаются совсем в ином плане, как
обыкновенные люди с их достоинствами и недостатками. Такова, например, Плангона, умная и ловкая женщина, искренне
стремящаяся угодить своему господину, но желающая одновременно с тем помочь и полюбившейся ей Каллирое. Хорош образ
Леоны, управляющего у богатого Дионисия и его доверенного
слуги. Типична фигура евнуха при дворе Артаксеркса, тупого
и хитрого подхалима, считающего себя выше «греческих рабов»,
и ряд других.
Зарисовки Харитона полны правды, и даже второстепенные
лица, стоявшие рядом с обоими главными персонажами, часто
изображены более яркими чертами, чем они. Так, если главного
героя Херея автор рисует весьма примитивно мыслящим и довольно стандартным персонажем, встречающимся в любом романе, то Дионисия, его соперника и второго мужа Каллирои,
он изображает по-иному. Харитон показывает душевный разлад
Дионисия, знатного и богатого гражданина города Милета, влюбившегося в свою рабыню — Каллирою и тщетно добивающегося от нее ответного чувства. Дионисий считает ниже своего
4 5
достоинства овладеть ею силой, хотя он мог бы свободно сделать
это, как ее полноправный хозяин. Но он видит и ценит в Каллирое человеческое достоинство и отвергает насилие, не поддаваясь уговорам преданного ему раба, и скорее готов убить себя,
не добившись от нее взаимности.
Реалистическими чертами обрисован и образ персидского
царя Артаксеркса, пылкого поклонника Каллирои, могущественного восточного деспота, всячески старающегося оправдать себя
в своем желании овладеть женой одного из своих влиятельных
подданных. С чисто восточной хитростью царь стремится к намеченной цели, но терпит поражение.
В романе Харитона, созданном в эпоху, далекую от классической древности, в эпоху нового отношения к человеку, отразилось и новое отношение к женщине. Мы видим ряд женских
типов, отличающихся уже известной индивидуальностью. Главная героиня Каллироя, хотя и обладает внешностью мифологической богини, — уже не покорное безгласное существо, а женщина-мать, размышляющая и борющаяся за судьбу своего ребенка: Каллироя любит Херея, уважает Дионисия, искусно
избегает домогательства персидского царя. Она с достоинством
держит себя в положении рабыни, а впоследствии проявляет
подлинное благородство в отношении своей бывшей госпожи,
царицы Статиры. Статира вначале показана в роли «высокой
покровительницы», презирающей и слегка ревнующей Каллирою к своему мужу, но в конце романа она уже по достоинству
оценила Каллирою и прониклась к ней глубокой симпатией.
Хорошо изображено общество знатных персидских дам, желающих «посрамить» чужеземку в соревновании по красоте и т. д.
Такое разнообразие женских типов, обладающих определенной
индивидуальностью и обрисованных Харитоном яркими чертами, являлось новшеством для античной литературы, так же
как и его попытки показать психологические переживания
своих героев 9.
Привлекая к себе внимание самых разнообразных кругов читателей, новый вид литературы удовлетворял вкусы различных
общественных групп. Если простой народ с большой охотой читал увлекательные романы-приключения из жизни богатых
знатных лиц, то роман Лонга, например, был рассчитан на образованную публику. Оценить изысканную манеру автора, с которой он передавал нарочито безыскусственный сюжет, изображающий пастораль на лоне природы, могли лишь читатели,
искушенные в литературе. Совершенно естественно, что софистическое красноречие, оказавшее столь большое влияние на
9
4G
И. И. Т о л с т о й . Повесть Харитона как особый литературный жанр
поздней античности (В кн.: Х а р и т о н . Указ. соч., стр. 158—172),
развитие художественной литературы периода поздней античности, не могло не отразиться и на любовном романе. Но у Харитона это влияние не чувствуется еще столь сильно, о чем
свидетельствует язык, стиль и сама композиция романа. Будучи
одним из ранних известных нам авторов любовного романа,
Харитон, по-видимому, примыкал к писателям предаттицистического периода 10. На это указывает и его близость к историкам — Геродоту и Фукидиду, и многократные реминисценции и
заимствования из трагиков, а также употребление поэтических
оборотов и целых стихов из Гомера. Так, он берет стихи из
«Илиады» (XVII, 22—24), чтобы передать скорбь Херея об
умершей супруге, из «Одиссеи» (XVII, 486—487), показывая
преклонение толпы перед красотой Каллирои, несколько раз
применяет часто встречающийся у Гомера стих для изображения чувства внезапного страха («Илиада», XXI, 114) и вообще
во многих случаях широко использует литературное наследие
классиков.
Харитон также часто прибегает к чисто театральным эффектам, не скрывая этого. «Какой поэт выводил на сцену столь
необыкновенный сюжет? Казалось, находишься в театре, полном разнообразнейших чувств, где разом слилось все: слезы и
радость, жалость и изумление, сомнения и надежды» (V, 8).
У него встречаются отдельные сцены, взятые из античной
драмы, например, эффектное появление Херея, когда Митридат
театрально взывает к богам, умоляя, чтобы Херей явился:
«Хотя бы на этот суд одолжите Херея мне! Явись ко мне, добрый гений!» (V, 7). Помимо этого чисто театрального трюка,
перенесенного в литературу, мы встречаем и отголоски драматургического «узнавания», когда персидский царь, заподозрив
сначала обман со стороны врага (VIII, 5), узнает, что это
приближается к нему корабль, везущий его жену Статиру.
Встречаются и такие мотивы, столь распространенные в классической драме, как вмешательство отвергнутых и завистливых
женихов в жизнь молодой четы и т. д.
Композиция романа проста и ясна: в нем нет сказок и мифов,
нет вставных эпизодов, главную роль играют не приключения
и не интриги второстепенных лиц, а душевные переживания
героев.
Роман начинается сразу с самого основного: зарождение и
развитие любви главных героев. Затем идут препятствия, мешающие счастью влюбленной четы, приключения и трагические
происшествия и, как везде, счастливый конец. Требование
такого финала идет еще от историков, чего Харитон строго
10
Д. P a p a n i k o l a o u. Zur Sprache Charitons. Koln, 1963.
4 7
придерживается. Для романа характерны ясность и компактность содержания.
В соответствии с разработанной схемой рассказ Харитона
можно легко разделить на отдельные отрезки. В каждом из них
излагаются законченные события, героями которых поочередно
являются то Каллироя, то Херей. Все эти эпизоды тесно переплетаются между собой. При этом наблюдается определенная
симметрия в построении: оба знатного рода, оба скитаются по
чужим странам, ставши рабами. Оба получают избавление от
рабства: Каллироя благодаря любви к ней Дионисия, Херей из
дружбы к нему Митридата. Помимо показа постепенного развертывания событий автор дважды пересказывает все случившееся сначала устами Каллирои (V, 1, 2), затем — Херея
(VIII, 8). Наряду с этим литературным приемом у Харитона
большое место занимают речи, диалоги и монологи действующих лиц. Речи, являясь отголосками влияния исторической литературы, произносились лишь в самые ответственные моменты
п отличались прямотой и ясностью, как у аттических ораторов
(I, 2; IV, 4; V, 6; VII, 3 и др.). Диалоги, к которым часто прибегает Харитон, интересны своей большой живостью и драматичностью. Таковы, например, разговоры Каллирои с Планго
(II, 10), Дионисия с Фокой (III, 9), беседа Статиры с придворными дамами (V, 3), перебранка Дионисия с Хереем (V, 8)
и др. Но самое большое место Харитон отводил монологам,
которыми пользовались все персонажи его романа. Цель монологов — показать наиболее ярко психологию и характер действующих лиц, что роднило, как упоминалось выше, Харитона
уже не с историками, а с драматургами. Обычно эти монологи
произносились героями, охваченными чувствами жалости или
страха.
Так, например, в длинном монологе Каллироя оплакивает свою судьбу (I, 14), Херей терзается раскаянием (III, 3),
Каллироя проклинает свою красоту (VI, б) и т. д. Эти монологи, благодаря своей эмоциональной окраске, отличаются от
монологов в более поздних романах, где они являются скорее
эпидиктическимн упражнениями, в которых автор мог проявить
свое профессиональное искусство. У Харитона же наличие риторики можно видеть не столько в высказываниях на определенные темы, сколько в необычайных ситуациях, в которые
попадают его герои.
Харитон, изображая своих героев в бытовой обстановке, рассказывал о них простым и ясным языком, избегая замысловатых намеков, ггшштных лишь для образованного круга читателей, что было столь принятым в эллинистическое время. Он более непосредствен, чем другие романисты, и более близок по
форме и языку к классической литературе.
4 8
В качестве примера стиля Харитона возьмем обращение Каллирои к Афродите: «Молю я тебя, владычица: примирись
отныне со мной. Ибо довольно было у меня несчастий: и умирала, и оживала я, и у разбойников, и в изгнании побывала я,
продана была я и в рабство. Но еще для меня тяжелее, чем
это все, второе мое замужество...» (III, 8). Сопоставим эту
речь Каллирои с ее словами: «О коварная красота! Ты причина
всех моих бедствий, из-за тебя я была убита, из-за тебя продана в рабство, из-за тебя вышла вторично замуж после Херея,
из-за тебя же я и перед судом предстала» (VI, 6). Тот же
стиль мы находим и в речи Херея: «Нечестивая женщина!
Из-за тебя был я продан в рабство, вскапывал землю, нес крест,
отдан был в руки палачу...» (IV, 3).
Что же касается обрисовки характеров, то здесь Харитон
старался вывести реальных живых людей, а не изображать
надуманные литературные типы. Например, если взять главного героя Херея, то автор, начав с шаблонной встречи его
с красавицей Каллироей на празднике Афродиты и наделив
обоих молодых людей всеми качествами, свойственными героям
любовных романов, не побоялся ввести ряд реалистических
подробностей, вроде того, как Херей из ревности ударил жену
ногой или как Каллироя под влиянием чисто жизненных обстоятельств решается изменить установленный литературным
каноном порядок, — а именно, нарушив верность любимому
мужу, выйти замуж за другого. Херей из бледной безжизненной фигуры, лишенной всякой индивидуальности, постепенно
превращается в живого человека и в конце романа сильно отличается от Херея в начале.
Хорошо показаны такие характеры, как Дионисий, Артаксеркс, Леона, Планго и многие другие. Все эти типы своеобразны и жизненны. Харитон изображает их в действии, раскрывая их психологию посредством диалогов и монологов. Так,
например, если взять разбойника Ферона, то в отличие от типов безликих кровожадных пиратов, встречающихся у всех
романистов, в нем мы находим живого человека, не лишенного
юмора и иронии.
Вообще следует отметить, что иронию, как известный
прием, Харитон применяет часто, чтобы ярче подчеркнуть
контраст в отношении героев к тому или иному факту. Так,
разбойник Ферон, собираясь продать Каллирою в рабство,
хочет внушить ей, что он благородный человек и желает ей
добра. Каллироя, прекрасно понимая его поведение и не веря
ни одному его слову, отвечала ему в ироническом тоне: «Благодарю тебя, отец, за твое человечное ко мне отношение.
Да вознаградят всех вас по заслугам боги» (I, 13). Не без
юмора показывает Харитон и безутешного вдовца Дионисия и
4
Античный роман
49
хитрого раба Леону, задумавшего разогнать печаль своего
господина (II, 4). Ярким контрастом смотрится скорбь Херея,
встретившего лодку на море и узнавшего в ней вещи Каллирои,
и радость матросов, нашедших в лодке множество дорогих погребальных приношений и золота (III, 3). Особенно эффектный контраст можно видеть в высокопарных увещеваниях
евнуха, обращенных к Каллирое, чтобы она покорилась персидскому царю, и в ее скептическом отношении к царю и глубоком возмущении словами евнуха: «В первое мгновение
Каллироя готова была выдрать, если бы только это было возможно, глаза тому, кто подкупал ее» (VI, 5) и т. п.
Помимо свойственной Харитону мягкой иронии, одной из
отличительных черт его творчества является сентиментальность, что также до известной степени являлось как бы противодействием риторическим условностям его времени.
Отдавая дань литературным традициям, автор «Повести
о любви Херея и Каллирои» в описаниях часто поражает своей
наивностью. Так, говоря о божественной красоте Каллирои,
Харитон подчеркивает, что ее красота была столь поразительна, что Молва, бежавшая впереди нее, заставляла целые
города выходить к ней навстречу: тесными становились дороги
от стекавшегося всюду народа, люди брЪсали свои повседневные дела и интересовались лишь личной судьбой Каллирои
(IV, 7).
У Харитона повышенной чувствительностью отличаются все
его герои, и чувства их доведены до наивысшей степени. Полихарм, друг Херея, готов умереть за него; Дионисий, страстно
влюбившись в Каллирою и не получая взаимности, сам не
хочет жить, погибая от тоски; Митридат при виде красоты
Каллирои лишился чувств, и слуги с трудом подняли его и
вынесли на руках. Дионисий часто плачет, Херей также любит
проливать слезы и т. п.
В построении романа Харитон отличается от других романистов. Мы не находим у него второй темы с другой влюбленной
парой, обширных софистических отступлений, псевдонаучных
рассуждений и обилия невероятных приключений. Он отличается от других романистов не смелым полетом фантазии,
в чем он уступает многим, а попыткой проникнуть в психологию героев, желанием дать индивидуальную характеристику
своим героям. В его романе сохраняется внутренняя связь
между событиями, что часто трудно бывает проследить в других романах из-за нагромождения происшествий и приключений.
Простой и ясный стиль романа Харитона привлекал к нему
многочисленных читателей. Его «Повесть о любви Херея и
Каллирои», с одной стороны, была связана с литературными
5 0
традициями, идущими еще от исторического и драматического
жанров, а с другой, выявляла индивидуальное лицо автора.
У Харитона еще не так сильны трафаретные приемы, играющие столь важную роль у других, более поздних авторов
любовных романов. Предоставив своим героям известную свободу действий, он ввел в любовный роман живых людей, а не
отвлеченные схемы.
Ксенофонт Эфесский
Одним из ранних произведений, характерным для жанра греческого любовного романа и дошедшим до нас, является «Эфесская повесть о Габрокоме и Антии», принадлежащая некоему
Ксенофопту Эфесскому. Время создания этой повести, сходной
как по своему содержанию, так и по стилю с рассмотренной
выше «Повестью о любви Херея и Каллирои» Харитона, не
поддается точной датировке. Вследствие отсутствия сведений
о жизни и творчестве Ксенофонта Эфесского приходится
руководствоваться лишь косвенными данными, позволяющими
предположить, что роман этот относится ко II в. н. э.
Ксенофонт Эфесский, как можно судить по его имени, был,
по-видимому, родом из Эфеса, о чем свидетельствуют также и
различные детали из его повести. Например, он упоминает
о такой подробности, связанной с местоположением города, что
морем от Эфеса до святилища Аполлония Колофонского было
не более 80 стадий. Кроме того, он весьма красочно и живо,
как настоящий очевидец, описывает торжественную процессию,
растянувшуюся на целых 7 стадий в честь богини Артемиды.
Автор подробно рассказывает о ритуальном наряде своей героини — красавицы Антии, несущей лук и стрелы, сопровождаемой толпой нарядных и радостных девушек и как бы
олицетворяющей в своем лице саму богиню Артемиду.
Созданные, вероятно, в одну эпоху, обе повести, Ксенофонта и Харитона, обладая рядом сходных черт, в то же время
носят и черты различия. Для более ясного и четкого представления о специфике любовного романа следует, как нам калюется, произвести сравнение этих двух произведений. Прежде
всего надо отметить, что сюжеты их в основных чертах очень
похожи. Взаимная любовь героев с первого взгляда, их брак,
затем всевозможные приключения и испытания вплоть до мнимой смерти и счастливый финал — соединение любящих.
Но в деталях, хотя часто как бы сходных, эти произведения
отличаются друг от друга.
Познакомимся с содержанием «Эфесской повести о Габрокоме и Антии». Дети знатных эфесских граждан, 16-летний
Габроком и 14-летняя Антия, отличаются необыкновенной
4*
51
*
красотой. Юноша гордо и насмешливо отвергает власть всемог у щ е г о бога Эрота и навлекает на себя его гнев. Встретившись
по воле божества на празднике в честь богини Артемиды
с прекрасной Антией, Габроком влюбляется в нее с первого
в з г л я д а . Красота Габрокома также поражает в самое сердце
Антию, и они оба, скрывая от родных и близких свою любовь,
заболевают от избытка чувств. Родители в волнении обращаются за разъяснением к оракулу и узнают о дальнейшей
судьбе своих детей. Они должны пожениться, но им придется
претерпеть много бед и страданий, перенести разлуку, победить тяжелые препятствия и, сохранив любовь и верность друг
другу, наконец, вновь счастливо соединиться. Родители, сыграв
свадьбу, торопятся отправить молодых путешествовать, чтобы
тем самым, идя навстречу неумолимому року, они могли бы
скорее перенести неизбежные страдания и прийти к счастливому концу. Молодая чета вместе с преданными рабами Левконом и Родой начинает свое путешествие. Грозное пророчество оракула сразу же начинает осуществляться: Габроком и
Антия вместе с остальными терпят кораблекрушение; на них
нападают пираты и захватывают их в плен.
Начинается длинный ряд приключений, где красота молодой
четы служит для них источником страданий. То в них влюбляются разбойники и пытаются их соблазнить, то дочь
Апсирта, предводителя пиратов, Манто стремится увлечь Габрокома, но отвергнутая Габрокомом, клевещет на него, и Габрокома, избитого, бросают в тюрьму. Манто выходит замуж за
Мирида и увозит с собой как рабыню Антию с преданными ей
Левконом и Родой. Антия подвергается всяческим притеснениям со стороны Манто, а когда в нее влюбляется хозяин
Мирид, то Манто сначала хочет ее убить, а затем продает как
рабыню ликийским купцам. Опять Антия попадает в кораблекрушение, опять ее захватывают разбойники во главе
с предводителем Гиппотоем.
Антия претерпевает множество злоключений. Сначала ее
хотят принести в жертву богу Аресу, но ее освобождает благородный полководец Перилай, разбивший разбойников и
влюбившийся в Антию тотчас же. Он хочет жениться на Антии и увозит ее, полную отчаяния, в город Таре. Антия готова
скорее покончить с собой, чем выйти замуж за Перилая, и
умоляет врача Евдокса помочь ей. Евдокс за большие деньги
обещает дать Антии смертельный яд, который она и принимает
в день свадьбы. Но это был всего лишь снотворный порошок,
и Антия, мгновенно погрузившись в глубокий сон, падает
как бы замертво. Ее принимают за умершую и хоронят в склепе,
положив вместе с ней разные драгоценности. Разбойники раскрывают ее могилу, чтобы забрать драгоценности; появляясь
5 2
как раз в то время, когда Антия приходит в чувство, они забирают ее вместе с собой.
В это время Апсирт, отец Манто, оклеветавшей Габрокома,
узнает об его невиновности, освобождает его из тюрьмы и,
щедро наградив, отпускает. Габроком тотчас же отправляется
на поиски Антии. По дороге Габроком встречает разбойника
Гиппотоя после разгрома его шайки, они отправляются дальше
уже вместе и рассказывают друг другу о своей жизни. Постепенно Гиппотой вновь собирает вокруг себя шайку и Габроком
из рассказа старухи Хрисион узнает о судьбе Антии. Он немедленно покидает Гиппотоя, чтобы отыскать хотя бы тело
Антии.
Антию, проданную разбойниками, покупает, пленившись ее
красотой, индийский царь Псаммид и хочет сделать ее своей
наложницей, но Антия прибегает к покровительству богини
Исиды и выпрашивает у Псаммида год отсрочки. Во время
пути Псаммида в Индию на границе Эфиопии на него нападает
Гиппотой со своей шайкой, убивает Псаммида, а Антию забирает в плен, но не узнает ее. Один из шайки Гиппотоя, влюбившись в Антию, хочет овладеть ею, но нечаянно натыкается
на меч и умирает. Разбойники, считая Антию виновной в смерти
их товарища, в наказание бросают ее в яму, куда помещают
двух свирепых собак и, закрыв яму тяжелыми бревнами, ставят
стражу. Разбойник Амфином, который любит Антию, пожалев
ее, потихоньку ежедневно досыта кормит псов, и те ее не трогают. В конце концов разбойники, считая Антию мертвой,
оставляют ее в яме и направляются далее в Египет. Амфином
освобождает Антию, и они вместе приходят в город Копт.
Шайку Гиппотоя разбивает, по приказу префекта Египта
красивый и храбрый Полиид, но сам Гиппотой опять ускользает от преследования. Разбойника Амфинома встречают на
улице его бывшие товарищи, ранее попавшие в плен, и выдают
его вместе с Антией Полииду. Полиид влюбляется в Антию,
а жена его, ревнуя к Антии, приказывает рабу переправить
ее в Италию и там продать своднику, что тот и выполняет.
Антия притворяется больной падучей болезнью, и сводник
продает ее Гиппотою, который также оказался в Италии. Гиппотой после того, как его шайка была разбита, женился на
богатой старухе и, быстро овдовев, отправился в Италию, чтобы
купить красивых рабов и отыскать там Габрокома, которого
он полюбил, чтобы разделить с ним свое богатство, полученное
и наследство.
Габроком в поисках Антии попал в Египет, где египетские
пастухи, схватив, продали его в рабство воину Араксу. Распутная жена Аракса — Кюно, пленившись красотой Габрокома,
преследует его своей любовыо. Габроком в отчаянии готов
5 3
уступить со домогательствам, но Кюно, чтобы быть свободной,
убивает своего мужа Аракса, и тогда Габроком в ужасе от нее
отказывается. Кюно в ярости обвиняет Гиброкома в убийстве
Аракса, и юношу ведут к префекту Египта, в Александрию.
Габрокома приговаривают к смерти на кресте, но дважды божество спасает невинного Габрокома от смерти, и тогда префект, разобрав это дело, убеждается в его невиновности и
отпускает его на свободу. После долгих препятствий Габроком
попадает сначала в Сицилию, а затем и в Италию, где в храме
Гелиоса он в конце концов встречается с Антией, с Гиппотоем — верным другом и с Левконом и Родой — верными рабами, теперь богатыми и свободными людьми, готовыми отдать
все имущество своим господам — Габрокому и Антии. Все
возвращаются в Эфес и счастливо живут там до самой своей
смерти.
Сравнивая обе повести Ксенофонта и Харитона, прежде
всего мы видим наличие некоей общей для романов первоначальной сюжетной схемы. Правда, оба автора при использовании некоторых совершенно одинаковых мотивов дают им
каждый свою собственную трактовку и свое психологическое
объяснение. Таков, например, рассказ о мнимой смерти и погребении обеих героинь — Антии и Каллирои. Причины смерти
их совершенно различны: Антия сама решает покончить с собой, чтобы избежать ненавистного ей второго брака, Каллирою же погребают как умершую, вернее убитую ревнивым
мужем. Далее сюжет развивается совершенно одинаково
в обеих повестях. Так как умерших богатых женщин часто
хоронили вместе с принадлежавшими им драгоценностями, то
профессиональные грабители, открыв могилы, нередко забирали
оттуда золото, украшения, дорогие одежды и разные предметы
богатого домашнего обихода. Здесь в обеих повестях разбойники помимо всего нашли очнувшихся от длительного сна
прекрасных женщин — Антию и Каллирою, которых они и
продали как красивых рабынь (Кс. III, 7; Хар. I, 6).
Также по-разному разрешен обоими авторами такой мотив,
как смерть на кресте в наказание за свершенный проступок,
что, видимо, было весьма распространено в то время. Так,
у Харитона Херея собираются распять как одного из восставших рабов, и это является вполне реальной причиной, так же,
как более или менее правдоподобно его освобождение. Габрокома распинают на кресте, несправедливо оклеветанного развратной и злобной женщиной. Но освобождение его носит иной
характер: Ксенофонт нагромождает вокруг этого факта разные
обстоятельства мистического характера. В освобождении Габрокома принимает деятельное участие само божество, вставшее
на защиту невиновного, чтобы наказать подлинного убийцу.
5 4
Но в большинстве случаев встречается много совершенно одинаковых мест, вроде того, когда главные герои — свободные
люди из богатых и знатных семей — должны тяжело и изнурительно работать: Габроком в каменоломне, чтобы заработать
себе скудное пропитание, а Херей, как раб, в оковах копать
землю во владениях сатрапа Митридата. Большим сходством
отличаются и такие сцены, как встреча Габрокома с Антией
в храме Гелиоса на острове Родосе и переживания Каллирои
в храме Афродиты, когда она чувствует, что Херей находится
вблизи от нее (Кс. V, 13; Хар. III, 6). Равным образом в обоих
романах оскорбленное божество Эрот мстит за неуважение к его
могуществу. Сходство наблюдается не только в построении
сюжета, но и в обрисовке отдельных персонажей, и мы видим,
что благородный Перилай с его любовью к Антии весьма схож
с Дионисием, вторым мужем Каллирои (Кс. II, 13; Хар. III,
4-8).
Но несмотря на большое сходство между обоими авторами,
можно считать, что роман Ксенофонта представляет собой уже
более поздний этап в развитии этого жанра. Если Харитон,
придерживаясь разработанной схемы, давал более или менее
логичное развитие сюжета, то у Ксенофонта отдельные элементы этой схемы уже выглядят как известные штампы и производят впечатление несообразности. Так, например, мы видим
у Харитона, как мать Херея, умоляя сына остаться дома и не
отправляться в неведомое путешествие в поисках Каллирои,
говорит ему: «Меня же, мой сын, прошу тебя, не оставляй
здесь в одиночестве, а подкинь на триеру... Если ж окажется,
что... я лишняя, то сбрось меня тогда в море» (Хар. III, 5).
У Ксенофонта преданный Габрокому слуга с плачем бросается
в море, причитая и упрекая Габрокома, которого самого увозят
разбойники. «Как можешь ты, дитя, покинуть меня, твоего
старого наставника? Куда тебя увозят, Габроком? Лучше сам
убей меня злосчастного и сам схорони. Незачем мне жить без
тебя» (Кс. I, 14) п . Если у Харитона слезы и просьбы матери
выглядят вполне оправданно, то у Ксенофонта поведение старого раба производит впечатление неуместно примененного
литературного трафарета.
Всячески подчеркивая добродетель своих героев и силу их
чувств, Ксенофонт часто наделяет отдельных персонажей такими качествами, которые выглядят малоправдоподобными.
Мы видим у Харитона, что благородный друг Херея Полихарм
так предан своему другу, что готов умереть за него. У Ксенофонта же в роли такого бескорыстного и любящего друга
11
Цитаты приводятся в переводе С. В. Поляковой ( К с е н о ф о н т
Э ф е с с к и й . Повесть о Габрокоме и Антии. М., 1956).
5 5
выступает разбойник Гиппотой, жестокий и злобный, но проникшийся к Габрокому неожиданной любовью. Он не только готов
помочь ему искать Антию, но впоследствии хочет даже разделить с ним свое богатство. Полихарм у Харитона чувствителен и сентиментален, что является, несомненно, данью
литературной традиции, требующей проявления подобных
чувств в каждом произведении с любовным сюжетом. Чувства
Полихарма кажутся довольно правдоподобными, плачущий же
Гиппотой, рассказывающий первому встречному свою любовную историю и свято хранящий локон любимого юноши Гипперанта, по своему характеру вообще далек от сентиментальности и вызывает к себе довольно скептическое отношение.
Если в любовных элегиях слезы и стенания героев являются
вполне закономерными, то эти же элементы, перенесенные
механически в любовный роман, смотрятся как явно надуманные.
У Ксенофонта кажется совсем неубедительным и такой отголосок античной комедии, как мотив «узнавания». У Харитона
персидский царь из-за дальности расстояния не может узнать,
что это за корабль, плывущий под царским флагом, приближается к нему, и тем самым он едва не подвергает опасности
приближающуюся к нему на корабле свою жену Статиру.
У Ксенофонта же герои, хорошо знающие друг друга, постоянно не узнают даже своих самых близких, что выглядит
странным и неубедительным. Разбойник Гиппотой, захватив
вторично в плен красавицу Антию, не узнает ее, равно как
преданные рабы, Левкон и Рода, не сразу признают свою
госпожу, что уже совершенно непонятно. По-видимому, этот
мотив, введенный в схему романа и ранее как-то оправданный,
с течением времени стал применяться просто по традиции,
а не по смыслу. Излишне сгущенные краски в описании тех
или иных чувств местами придают роману Ксенофонта оттенок
легкой иронии. Это мы находим и в описании необычайной
преданности рабов Левкона и Роды. Сравнивая их со слугами
Дионисия в романе Харитона, мы видим у последнего живых
людей, безусловно привязанных к своему владыке, у Ксенофонта же Левкон и Рода полны такой любви к своим хозяевам,
что готовы отдать им свое богатство, вновь потерять свободу
и пожертвовать всем, лишь бы их молодым господам было
хорошо. В то же время у Ксенофонта образы главных героев
несколько снижены по сравнению с романом Харитона. Антия
и Каллироя обе проявляют мужество и стойкость, отстаивая
свою честь и любовь, по Каллироя рисуется более благородной
и более просвещенной женщиной. Антия проще, хитрее и
изворотливее, несмотря на свой почти детский возраст. Что же
касается Габрокома, то он обрисован в самых общих чертах
5 6
и лишен индивидуальности. В конечном итоге он готов идти
на компромисс и изменить Антии, согласившись на притязании
Кюно, жены Аракса. Лишь явное злодеяние Кюно отвращает
от нее Габрокома, и, таким образом, по существу Ксенофонт
показывает только Антию бесспорным образцом добродетели и
супружеской верности.
У Ксенофонта в отличие от Харитона с его патриотическими настроениями мы не найдем подражания историкам,
так же, как и высказываний о ценности и пользе греческого
воспитания и образования. С течением времени смягчалось и
презрительное отношение к варварам, и Ксенофонт упоминает
о них только вскользь. Так, говоря о Псаммиде и противопоставляя его благородному Перилаю, Ксенофонт замечает, что,
купив Антию, «как всякий варвар, Псаммид сразу же пытается
овладеть ею и сделать своей наложницей» (III, И ) . Но хитрая
Антия, выдав себя за посвященную богине Исиде, сумела убедить Псаммида дать ей год отсрочки. В другом месте, показывая Манто, влюбленную в Габрокома, Ксенофонт говорит
«о гневе варварии», не вдаваясь ни в какие подробности.
Если у Ксенофонта нельзя найти прямой и ясной связи
с историческими произведениями, равно как и с классическими
авторами более раннего периода, то у него можно видеть множество географических описаний и названий, не говоря уже
о том, что герои его романа постоянно переезжают с места на
место, совершая путешествия, часто не вызываемые никакими
обстоятельствами.
Наряду с этим встречаются и некоторое реминисценции
античной трагедии. Так, например, Манто, ревнивая хозяйка
Антии, чтобы унизить свою соперницу, выдает ее замуж за
козопаса Лампона, оказавшегося исключительно благородным
человеком, подобно мужу Электры в трагедии Еврипида. Очень
возможно, что мотив принесения Антии в жертву богу Аресу
был навеян также античной темой — жертвоприношением
Ифигении. Хотя, с другой стороны, это могло явиться отголоском какого-либо древнего обряда, когда богу Аресу приносили
жертвы, предварительно пронзив их дротиками (II, 13).
Через весь роман Ксенофонта красной нитыо проходит идея
о силе и могуществе любви. Изображая своих юных героев —
14-летнюю Антию и 16-летнего Габрокома, — скромных и
стыдливых, беззаветно любящих друг друга, Ксенофонт использовал мотив, достаточно хорошо известный в художественной литературе, особенно в любовной поэзии. Но здесь, в этом
назидательном романе, герои, став супругами, стремятся
остаться верными друг другу, несмотря ни на какие искушения и препятствия. Антия идет па всевозможные хитрости
и уловки, чтобы сохранить верность Габрокому, и готова скорее
5 7
умереть, чем вторично выйти замуж за любящего ее и показанного в весьма положительном виде полководца Перилая.
«Мне же должно умереть совершенно чистой», — говорит она
(V, 8). Габроком хотя и менее стоек, но все же в истории
с Манто подвергается истязаниям и даже угрозе смерти из-за
происков влюбленной в него и отвергнутой им женщины.
Здесь выявляется уже новое отношение к браку, появившееся во времена Ксенофонта, и автор делает попытки раскрыть глубокие чувства отдельных индивидуумов. В качестве
идеальных супружеских пар показаны не только Аития с Габрокомом или их преданные рабы Левкон и Рода, но и старый
рыбак Эгиалей со своей супругой Телксиноей, — все они как бы
утверждают, что даже смерть не может восторжествовать над
настоящей, подлинной любовью. «Смерть не полагает предела
истинной любви» (V, 1). Эти слова Габрокома раскрывают
основную мысль автора. Поэтому-то любовь влюбленной пары
вызывает такой интерес у всех окружающих: жители Эфеса
оплакивают их отъезд, а жители Родоса ликуют вместе с ними.
Роль женщины не только в любовном романе, но и в обществе неизмеримо возрастает 12, и Ксенофонт так же, как и Харитон, показывает уже иное к ней отношение. Несмотря на то,
что Каллироя и Антия продаются как рабыни или захватываются в плен как военная добыча, судьба их складывается
иначе, чем это было раньше: на жизненном пути как той, так
и другой женщины становятся уже не только грубые насильники, но и благородные просвещенные люди, как Дионисий или
Перилай. Хотя у нас нет прямых указаний, что роман Ксенофонта появился позже «Повести о любви Херея и Каллирои»
Харитона, но все больший отход от общегражданских интересов, введение множества деталей в разработанную ранее схему
романа, а также иное отношение к религии — все это говорит
о том, что произведение Ксенофонта является более поздним
этапом в развитии жанра любовного романа.
Культ античных богов, еще вполне ощутимый у Харитона,
уступает место религиозному синкретизму, столь характерному
для мировоззрения высших классов времен римской империи
II—III в. н. э. Антия в начале романа, представшая перед
читателем как жрица богини Артемиды, постепенно п совершенно незаметно становится пылкой поклонницей богини
Исиды, как во время своего путешествия по Египту, так и
в других краях. Богиня Исида выступает здесь как покровительница целомудрия, и поэтому она пользуется у Антии особой любовью.
12
5 8
Г. Г. К о з л о в а . Историко литературный авали:* романа
фонта Эфосского «Эфосгтше новости» (дисс. М., 1950).
Ксено-
Тема сохранения верности и целомудрия является одной из
основных тем в романе Ксенофонта, и ей уделяется особое
внимание. Недаром, достигнув цели, герои, обращаясь к Исиде,
говорят: «Тебе, о великая богиня, мы приносим благодарность
за наше спасение. С твоей помощью, о, почитаемая нами превыше всего, мы вновь обрели друг друга» (V, 13).
Но несмотря иа такое почтение к богине, мы все же видим
у Ксенофонта. и черты известного скептицизма, если не в отношении самой религии, то во всяком случае в отношении ее
жрецов. Когда родители Антии еще в самом начале ее любви
к Габрокому, не понимая причины ее недуга, обратились
к жрецам за советом, те «придя, стали жертвенных животных
убивать и возлияния совершать и читать непонятные слова,
говоря, что спи умилостивляют каких-то демонов, и представили, что это зло от подземных богов» (I, 5). Но так как они
не смогли облегчить страдания бедных влюбленных, то родители решили отправиться за предсказаниями в святилище
Аполлона Колофонского. Получив ответ, что дети их, сочетавшись браком, должны претерпеть много превратностей судьбы
и потом счастливо вновь соединиться, родители не только не
пытаются как-то бороться с судьбой, но стараются, чтобы их
дети как можно скорее испытали все предсказанные им несчастья: «Посылаем вас в путь, хотя и полный опасностей, но
неизбежный» (I, 10).
Покорность Судьбе здесь доведена до абсурда: логичнее
было бы не пускать юную чету путешествовать, раз им предсказано столько несчастий на море и суше, и заставить их
сидеть дома. Но они бегут навстречу Року, чтобы скорее
смягчить его, а не пытаются бороться с ним, или, по крайней
мере, по-своему устраивать свою судьбу, как поступает, например, Каллироя у Харитона. Взятый Ксенофонтом из трагедии старый прием — предсказание оракула приобретает новый
вид: герои сами как можно скорее стремятся выполнить это
предсказание, чтобы как бы «отвязаться» от Судьбы и прийти
к счастливому концу.
Хотя авторы любовных романов, в частности Ксенофонт, не
ставили целыо своей работы разрешить какие-либо социальные
проблемы, волновавшие их современников, все же жизнь властно врывалась и в художественную литературу. Охватывая
большой круг действующих лиц из разных слоев общества, Ксенофонт, часто невольно, выявлял скрытые стороны современной
ему жизни, затрагивая, например, такие актуальные вопросы,
как положение рабов. Отражая психологию рабовладельцев,
проникшихся идеями стоического учепия о моральном равенстве всех людей, как свободных, так и рабов, Ксенофонт пытается доказать, что моральный уровень современного ему
5 9
общества находится на должной высоте. Он изображает в идиллических тонах взаимоотношения рабов и господ, рисуя их как
единую дружную семью. Левкон и Рода, преданные сверх меры
своим господам, старый рабовладелец, хозяин Левкона и Роды,
любящий их как родных детей, давший им свободу и оставивший им богатое наследство, — все это далеко не соответствовало
истинному положению вещей.
Философские идеи стоиков были далеки от претворения их
в жизнь, хотя они были на устах у многих. Даже разбойник
Евксин, пытаясь соблазнить Габрокома и уговаривая его подчиниться разбойнику Коримбу, произносит не лишенную иронии речь в духе стоицизма, призывая Габрокома смириться со
своей участью и слушать того, кто является его господином
(I, 16). В действительности же истинное положение бесправных
рабов было очень тяжелым. Мы узнаем и об изнурительном
труде рабов в каменоломне и о жестоком обращении с ними их
владельцев. Так, Апсирт бросил в темницу оклеветанного его
дочерью Габрокома, предав его сначала пыткам и мучениям.
Его пытали огнем и жестоко били, что было тогда обычным явлением. «Побои изуродовали тело Габрокома, непривычное
к рабским пыткам, из ран струилась кровь. . .», — рассказывает
сам Ксенофонт (II, 6).
В тесной связи с вопросом рабства, затронутым в романе
Ксенофонта, стоит и такой факт, как широкое распространение
разбойничества. Разбойники встречаются решительно во всех
любовных романах и, хотя Ксенофонт не рассматривает разбойничество как социальное явление, рисуя разнообразные типы
разбойников, принимавших участие в различных приключениях, он раскрывает перед нами реальную жизнь своего
времени.
Огромное количество деклассированных людей, главным образом рабов, вместе со свободными покидали привычные места,
объединялись в более или менее многочисленные шайки, нападая и грабя на больших дорогах. Часто численность отдельных
шаек достигала до 500 человек, владеющих оружием и кочующих с места на место, использующих для жилья пещеры, болота
и другие потаенные убежища.
Ксенофонт среди многочисленных типов разбойников, обрисованных в основном очень схематично, показывает две интересные фигуры. Первая из них — это Апсирт, хозяин, если можно
так выразиться, целого разбойничьего предприятия. Он сам не
принимает непосредственного участия в нападениях и грабежах, но содержит целый штат разбойников, которые доставляют
ему награбленную добычу и рабов. Вторая фигура — Коримб —
был слугою Апсирта «за плату и долю в добыче» (I, 14). Если
последний — один из рядовых предводителей разбойников —
6 0
изображался в мрачных тонах, отличаясь даже по наружности
от обыкновенных людей: «громадный детина, со свирепым взором, с грязными распущенными волосами» (1, 13), то Апсирт
показан человеком справедливым и великодушным. Узнав, что
Габроком оклеветан его дочерью Манто, Апснрт, раньше жестоко поступивший с Габрокомом, старается всячески загладить
свою вину.
Особый тин разбойника представлял собой Гиппотой, свободный человек, ставший на путь грабежа и насилия вследствие
стечения обстоятельств. Из ревности он убил учителя красноречия, некоего Аристомаха, отнявшего у него красивого юношу
Гиперанта. Убегая с Гиперантом после совершенного убийства,
Гиппотой попадает в кораблекрушение, где Гиперант погибает.
Спасшийся Гиппотой становится в отчаянии разбойником.
Встретив на своем пути Габрокома, Гиппотой приглашает его
к себе в компанию, говоря: «Скитаешься ты, конечно, не по
своей воле, а претерпев какую-то обиду» (II, 14).
Таким образом, можно видеть, что разбойниками становились -люди, руководимые разными мотивами, объединенные
жаждой свободы или наживы. Помимо организованных шаек,
встречались и такие категории людей, которые не будучи разбойниками по существу мало чем отличались от них. Так, египетские пастухи напали на путешественников, высадившихся
на финикийский берег, захватили их имущество, взяли в плен
самих людей, а затем продали в рабство. Местные власти жестоко расправлялись с разбойниками. У Ксенофонта мы видим,
что египетский префект послал против шайки Гиппотоя отряд
во главе с Полиидом, а Перилай, напав на разбойничьи отряды,
жестоко расправился с ними и перебил их почти всех.
Таким образом, в романе Ксенофонта мы находим людей из
разных кругов общества. Наряду с рабами, бедняками и такими деклассированными элементами, как разбойники, автор
выводит высших чиновников вроде префекта Египта или полководца Перилая.
Композиция романа Ксенофонта в общих чертах сходна
с композицией романа Харитона. Обоих авторов объединяет
общность сюжета. Та же встреча героев на религиозном празднике, вспыхнувшая с первого взгляда любовь и счастливый
брак. Но божество Эрот, над могуществом которого ранее насмехались, теперь всячески мстит молодой чете и долго преследует ее. Здесь можно найти: изречения оракула, мнимую
смерть героини, ее погребение, ограбление склепа разбойниками и т. п. и счастливый конец. Но несмотря на сходство сюжета, в композиции Ксенофонта и Харитона наблюдается и
большое расхождение. У Ксенофонта прежде всего бросается
в глаза неравномерность самого изложения. Есть предположе6 1
ние 13, что роман был пагшсаи в десяти книгах, но до нас дошло
лишь пять, что представляет собой извлечение из Ксенофонта. Проводивший это сокращение был, по-видимому, не
слишком опытен и искусен в такой работе, в результате чего
получилось большое несоответствие между книгами, как по
объему, так и по художественности изложения. В некоторых
книгах автор приводит ряд эпизодов с многочисленными риторическими отступлениями, лирическими монологами и письмами. В других — факты рассказываются чрезвычайно сжато
и сухо. Так, например, история Кюно дана в нескольких фразах, тогда как эпизод с Манто, пытающейся соблазнить Габрокома, описан подробно. Многие приключения изложены конспективно и поэтому часто нарушается пропорциональность
в частях романа, появляются непонятные лакуны или неоправданные вставки вроде рассказа старухи Хрисион. Вероятно,
вследствие неумелого сокращения в романе оказалось много
несвязного и в самом сюжете — появилось много непонятных поступков героев, вроде, например, путешествия Габрокома
в Италию в поисках Антии 14.
В то время как у Харитона действие романа развивается
без особых осложнений, у Ксенофонта мы встречаем композицию иного рода, с рядом вставных эпизодов, передаваемых автором в виде рассказов, писем, вещих снов и т. д. Таков рассказ Гиппотоя о его любви к красавцу Гиперанту, рассказ старого рыбака Эгиалея о его супруге Телксиное, стихотворные
вставки в виде прорицания и эпитафии. Наряду с этим воображение читателя поражает беспрерывная цепь приключений, где
события чередуются с кинематографической быстротой, чтобы
как можно чаще и ярче показать героев в сложных и рискованных ситуациях. Здесь видно уже некоторое отступление от принятого литературного канона, так как Ксенофонт вводит новые мотивы, например, жертвоприношение Антии богу Аресу
(II, 13), продажу ее своднику и т. д.
Такое усложнение романа, как в части композиционной, так
и по линии развития сюжета, не говоря уже о введении многочисленных действующих лиц, также говорит за то, что любовный роман ко времени Ксенофонта прошел длинный путь развития.
Следует отметить, что в романе Ксенофонта с его бесчисленными приключениями автор все же стремится показать и
душевные переживания действующих лиц, но в обрисовке психологии героев так же, как и в их характеристике, Ксенофонт
13
14
6 2
К. B i i r g o r . /а Xenophon von Ephesns. — «Hermes», 27, 1892.
О. S c h i s s e i von F l e s c h e n b e r g . Die Rahmenerzahhmg in der
Ephesischen Geschichte. Innsbruck, 1909.
значительно уступает Харитону. Главные герои его мыслят
чрезвычайно примитивно, отдельные лица настолько нежизненны и обрисованы столь густыми красками, что представляются скорее олицетворением какого-либо порока и добродетели, чем живыми людьми.
Наиболее яркими чертами обрисованы лишь Антия и Гиппотой, но Антия во многом уступает Каллирое — героине Харитона. Гиппотой показан как наиболее сложная натура и представлен в двух совершенно разных аспектах по отношению
к обоим героям. Для Габрокома он верный друг, готовый идти
с ним на поиски Антии, а для Антии — жестокий хозяин, распоряжающийся по своему усмотрению жизныо свой рабыни.
То он хочет принести ее в жертву богу Аресу, то бросает в ров
на растерзание свирепым псам. Психологически его поступки
пе всегда оправданы, но он играет важную роль в композиции
романа, являясь как бы связующим звеном между чередующимися приключениями то Габрокома, то Антии. У Ксенофонта
все время сюжет развертывается как бы в двух направлениях,
то в показе смены событий, то в попытке как-то раскрыть психологию действующих лиц, причем автор для этой цели прибегает к диалогам, которые развиты у него значительно слабее,
чем у Харитона. По существу это скорее обмен монологами,
полными риторики, чем обычная речь обыкновенных людей.
О стиле Ксенофонта можно сказать, что он также весьма
неровен: там, где он конспективен, он прост, сух и безыскусствен, в других местах он художественно своеобразен и во многом близок к традициям народной сказки,'что выражается и
в нарочитой простоте даваемых им образов и в частых стилистических и словесных повторах 15.
Таким образом, с одной стороны, мы видим у Ксенофонта
как бы простоту в изложении без литературных реминисценций и цитат из древних авторов, а с другой, находим в его
языке гораздо более следов софистики, чем у Харитона. У него,
например, довольно много риторических высказываний, вроде
описания брачного ложа Антии и Габрокома, где влюбленные
произносят речи совершенно в духе риторических декламаций
(I, 8—9), или стенаний Антии, брошенной в ров на растерзание собакам (IV, (5). Слишком сложные ситуации, в которых
оказываются герои Ксенофонта, обилие стереотипных мест,
часто примененных пе но назначению, — все это лишает его
роман той простоты, которая составляет отличительную черту
произведения Харитона. Вероятно, Харитон как автор, стоявший ближе к классическим образцам, не так злоупотреблял
15
С. В. П о л я к о в а . Предисловие в кн.: К с е н о ф о п т Э ф е с с к и й .
Повесть о Габрокоме тт Антии.
6 3
литературными штампами своего времени. Ксенофонт же использовал их значительно шире.
Применяя принятые литературные стандарты по уже разработанной схеме и приукрашая их риторикой, Ксенофонт
вместе с тем значительно расширил сюжет по линии введения
в него бесчисленных и маловероятных приключений. Сама манера повествования претерпела также значительные усложнения; начав с простого чисто фольклорного изложения, Ксенофонт с помощью различных приемов, вставок, рассказов и т. п.
превратил любовный роман в довольно сложное художественное произведение.
Таким образом, романы Харитона и Ксенофонта, созданные, по всей вероятности, в одну эпоху, несмотря на свое
сходство, носят и черты различия. Любовный роман по мере
своего развития обогащался различными элементами, в том
числе и свойственными второй софистике, что мы и находим
у Ксенофонта.
Для нас романы Ксенофонта и Харитона представляют интерес как литературные памятники эпохи, где мы знакомимся
с идеологией рабовладельческого общества II в. н. э. Авторы
романов отражали, хотя и слабо, социальные проблемы своего
времени. Они преследовали не только развлекательную цель.
Показывая внутренний мир человека, независимо от его социального положения, что само по себе уже являлось новшеством, они воспитывали своих читателей, утверждая ценность
человеческой личности.
Ахилл Татий
К числУ немногих дошедших до нас так называемых «любовных романов» принадлежит и произведение александрийского
писателя Ахилла Татия «Повесть о Левкиппе и Клитофонте».
Сведения о Татии, его жизни и творчестве, как и о большинстве авторов греческого романа, весьма скудны и неопределенны. В самом тексте нет решительно никаких указаний;
нет о нем упоминаний и у древних авторов. Лишь у Суды, византийского писателя X в., мы встречаем упоминание о некоем
Статии, о том, что он был александрийцем, написал любовный
роман «Левкиппа и Клитофонт» и в конце жизни, приняв христианство, стал епископом. По данным Суды, этот же автор
написал сочинения «О сфере», «Об этимологии» и произведение
под названием «Смешанная история».
Замечание Суды о том, что Ахилл Татий был христианином
и даже епископом, вызывает большое сомнение. В самом романе нельзя найти и слабых намеков на христианские идеи,
6 4
йо так как «Повесть о Левкийпе и Клитофонте» пользовалась
в более позднее время в христианских кругах большой популярностью, то, возможно, что интерес читателей к столь легкомысленному по своей сущности произведению пытались как-то
объяснить интересом к самому автору. Что касается других
работ, приписываемых Татию, то из всех вышеперечисленных
до нас дошло лишь сочинение «О сфере». Представляется более
чем затруднительным установить, действительно ли оно принадлежит нашему автору, так как трудно обнаружить сходные стилевые черты между любовным романом и сочинением
по астрономии. Что же касается определения «александрийский» писатель, то вполне возможно, что Ахилл Татий был уроженцем Александрии. Об этом говорит и его описание великолепного города Александрии, полное патриотического чувства,
упоминание о некоторых округах Нила, служивших убежищем
для разбойников (IV, 12), так же, как и очень правдоподобное
описание таких животных, как гиппопотам (IV, 2) или крокодил (IV, 19), хорошо известных жителям Египта.
Первоначально творчество Ахилла Татия долгое время относили к позднему времени, а именно к V в. н. э. Исследователи пытались установить зависимость его от писателей того
времени, например, от Мусея с его известной поэмой «Геро и
Леандр». Но впоследствии, с открытием папирусов, содержащих
отрывок из 2-й книги «Левкиппа и Клитофонт», опубликованный в X томе Оксиринхских папирусов, появилась возможность
доказать на основании характера письма, что роман Татия был
написан не позднее конца II в. н. э.
Это обстоятельство косвенно подтверждается и тем, что
Татий не упоминает о катастрофе, происшедшей в Византии
в 194 г. н. э., а говорит о византийцах лишь как о победителях
в войне против фракийцев (VII, 12) 16.
Благодаря тому, что время написания романа было перенесено с V в. на III и даже на II, взгляды исследователей на
взаимоотношения между авторами сохранившихся романов
также подверглись изменению. Если раньше считалось, что
Ахилл Татий подражал Лонгу и Гелиодору, и к исследованию
его романа подходили именно с этой точки зрения, то теперь
с большим основанием можно говорить о подражании Ахилла
Татия Харитону и Ксенофонту.
В романе рассказывается о любви двух молодых людей,
Левкиппы и Клитофонта. Левкиппа — дочь византийского стратега Сострата. Клитофонт — двоюродный брат Левкиппы, житель Тира. В Византии идет война, и Левкиппа с матерью
16
Е. V i 1 b о г g. Achilles Tatius. Leucippe and Clitophon. A commentary. Goteborg, 1962.
5
Античный роман
65
переезжает к родным в Тир, к отцу Клитофонта. Молодые люди
влюбляются друг в друга и, боясь помехи со стороны родных,
убегают из родительского дома. Их сопровождает Клиний, родственник Клитофонта и его большой друг. Беглецы терпят
кораблекрушение, спасаются, снова нанимают корабль, попадают в руки разбойников, освобождаются из плена и прибывают в Александрию. Там Левкиппу с помощью своих товарищей похищает влюбившийся в нее разбойник Херей. Во время
погони за разбойниками Клитофонт видит инсценировку казни
Левкиппы и оплакивает ее смерть. В Клитофонта же влюбляется молодая, красивая и богатая вдова по имени Мелита и
добивается от Клитофонта согласия ехать с ней в Эфес, чтобы
там сочетаться с ней браком. Клитофонт, сначала отвергавший
Мелиту, теперь, считая Левкиппу умершей, дает свое согласие
на брак с ней. В Эфесе Клитофонт узнает в одной из рабынь
Мелиты Левкиппу. В это же время неожиданно возвращается
домой считавшийся погибшим муж Мелиты, Ферсандр, который
яростно набрасывается на Клитофонта, бьет его и заключает
в темницу. Сосфен, управляющий имением Мелиты, предлагает Левкиппу в любовницы Ферсандру. С большим мужеством Левкиппа отвергает притязания Ферсандра. С помощью
Мелиты Клитофонт бежит из тюрьмы, но снова попадает
в руки Ферсандра и вторично оказывается в тюрьме.
Желая сделать невозможным какие-либо сношения Левкиппы
с Клитофонтом, Ферсандр подсылает в темницу подкупленного
человека, который под видом мнимого узника рассказывает
Клитофонту, что Левкиппа якобы погибла от руки убийцы,
подосланного Мелитой. Клитофонт впадает в отчаяние и, обвиняя во всем Мелиту, ищет смерти, заявив на суде о своей
причастности к убийству Левкиппы. Суд приговаривает Клитофонта к казни, но решает подвергнуть его сначала пытке,
чтобы выявить соучастие Мелиты. Появление священного посольства во главе с Состратом, отцом Левкиппы, временно спасает Клитофонта. Процесс начинается снова, и Ферсандр обвиняет свою жену в измене, требуя возврата себе Левкиппы, как
развратной и беглой рабыни. Происходит испытание целомудрия Левкиппы и верности Мелиты. Благодаря вмешательству
божества все оканчивается благополучно для Мелиты и для
влюбленных. Ферсандр посрамлен и спасается бегством. Роман
кончается свадьбой Левкиппы и Клитофонта.
Таким образом, мы видим, что Ахилл Татий берет уже определенную трафаретную схему, по которой идет композиционное построение любовного романа.
Мотивы, обязательные для каждого романа, могут быть сведены к следующим: внезапно вспыхнувшая взаимная страсть
главных героев (как правило детей богатых и знатных роди6 6
телей), гнев божества, преследующего влюбленную чету, прорицания оракулов и вещие сны, морские путешествия, кораблекрушение, нападение разбойников и продажа в рабство, любовные домогательства со стороны лиц, окружающих главных
героев, жестокие наказания и заключение в темницу, мнимые
убийства и самоубийства, судебные процессы с ораторскими выступлениями, счастливый конец: любящие вновь соединяются.
Черты сходства между отдельными романами весьма велики,
что становится особенно заметным при совместном их рассмотрении. Но если романы более раннего периода (Харитон, Ксенофонт Эфесский) отличаются простотой своей композиции и
строго придерживаются установленной схемы, то романы более
позднего периода, в частности Ахилла Татия, уже значительно
от нее отличаются. Автор весьма свободно обращается с традиционными сюжетами; часть из них отбрасывает совсем (например, гнев божества), другие сильно изменяет, придавая им
своеобразную трактовку. Следует отметить, что Ахилл Татий не
выходит за пределы круга тем, принятых у авторов других
любовных романов. Мы сталкиваемся с теми же вопросами,
как и у других его современников, например, о взаимоотношениях между господами и рабами, о семье и браке, об отношении
к религии и т. п. Он выводит те же знакомые читателям персонажи: прекрасных и любящих друг друга главных героев, преданного друга и преданного раба, стратега, влюбленного в героиню, разбойника, красавицу, соблазняющую героя, хозяина,
добивающегося своей рабыни, и т. д.
Что касается разрабатываемых Ахиллой Татием мотивов,
то они также во многом совпадают с мотивами, встречающимися
у Ксенофонта Эфесского и в особенности у Харитона. Например, покупка управляющими Левкиппы и Каллирои как красивых рабынь для своих богатых хозяев; сцена уговоров Каллирои евнухом стать возлюбленной персидского царя сходна
с уговорами Левкиппы Сосфеном (VI, И ) , так же, как взаимная любовь героев с первого взгляда, бегство их из родного
дома, кораблекрушение, появление разбойников и т. д.
Но разрабатываются Ахиллом Татием все эти темы иначе.
Роман о «Левкиппе и Клитофонте» весь проникнут иронией
и до известной степени может рассматриваться как своеобразная пародия на типовые любовные романы. С самого начала
мы видим уже определенное отклонение от схемы: герои встречаются не на торжественном народном празднике в честь богов,
а в кругу семьи, в чисто бытовой обстановке. Любовь, охватившая Клитофонта с первого взгляда, вызывает ответное чувство Левкиппы, и молодые люди, живя под одной кровлей, постоянно стремятся к встречам. Руководимый своим старшим
другом Клинием, весьма опытным в делах любви, Клитофонт
5*
67
пытается добиться благосклонности Левкиппы и даже с ее
согласия пробирается ночью к ней в спальню. Молодая пара,
Левкиппа и Клитофонт, почитая Эрота, не могут вызвать, естественно, его гнева, а скрывают от родителей свои чувства отнюдь не из скромности (как Антия и Габроком у Ксенофонта
Эфесского), а из трусости и боязни скандала (Клитофонт был
уже помолвлен со'своей сводной сестрой Каллигоной). Мать
Левкиппы, увидев вещий сон, в страхе проснулась и, обнаружив юношу в комнате дочери, стала осыпать ее упреками.
Ахилл Татий показывает, какова была реакция Левкиппы на
слова матери. «Левкиппа, оставшись одна, под впечатлением
речей матери волновалась разнообразными чувствами: она огорчалась, стыдилась, гневалась. Печалилась потому, что ее уличили; стыдилась потому, что бранили; гневалась потому, что не
верили» (I, 29) 17.
Не желая больше переносить упреков матери, Левкиппа
вместе с Клитофонтом потихоньку убегает из родительского
дома в обществе умудренного житейским опытом 20-летнего
Клиния и бойкого раба-наперсника Сатира. Далее события развиваются по установленной схеме: молодые люди попадают
в кораблекрушение, а затем, счастливо спасшись от смерти,
оказываются во власти страшных, кровожадных и грязных
разбойников. Согласно предсказанию оракула, разбойникам следует «принести в жертву девушку для очищения разбойничьего
стана» и этой жертвой должна стать Левкиппа. Ахилл Татий
явно смеется над жертвоприношением, ставшим традиционным
сюжетом в любовном романе, и, показав хитроумную проделку
Сатира с переодеванием Левкиппы и ее мнимую смерть, превращает в фарс зрелище ритуального жертвоприношения 18.
Таким образом, Ахилл Татий, придерживаясь традиционного
сюжета, подает его в весьма своеобразном виде. То же можно
сказать и о мотиве мнимой смерти героини, столь распространенном в любовном романе. Антию и Каллирою — героинь романа Харитона и Ксенофонта Эфесского — принимают за умерших и погребают, что естественно вызывает скорбь и слезы
близких. У Ахилла Татия Левкиппа якобы умирает трижды,
причем два раза с нею разыгрывают просто комедию, чтобы
внушить зрителям мысль об ее смерти, и этот трагический мотив приобретает характер явной пародии.
В романе встречаются не только ситуации, сходные с комедийными, но выводятся и персонажи, как бы взятые из антич17
18
6 8
Отрывки из романа даются в переводе А. Болдырева под ред. Богаевского («Левкиппа и Клитофонт». М., 1925).
D. S е d е 1 m е i е г. Studien zu Achilcus Tatios, — WSt 72, 1959,
S. 113, ff.
ной комедии. Таков, например, ловкий и хитрый раб — наперсник Сатир, поучающий своего молодого хозяина Клитофонта,
каким образом легче и скорее добиться благосклонности Левкиппы. Да и сам главный герой Клитофонт не лишен черт,
более подходящих для бытовой комедии, чем для романа.
Происходит явное снижение моральных качеств почти всех
действующих лиц и прежде всего главных героев. Левкиппа и
Клитофонт, наделенные, как это принято в романах, исключительными внешними данными, в то же время отнюдь не отличаются высокими нравственными качествами. Левкиппа также,
как и Клитофонт, легкомысленна и неустойчива в моральном
отношении. Клитофонт, типичный представитель богатой молодежи того времени, достаточно искушен в любовных делах и
совсем не похож на гордых и целомудренных юношей в романах
Харитона и Ксенофонта Эфесского. Он труслив и малодушен,
что особенно ярко выявляется в его романе с Мелитой, женщ и н о й смелой и великодушной. В горе от утраты Левкиппы
Клитофонт готов поверить рассказу неизвестного человека,
который клевещет на Мелиту и обвиняет ее в убийстве Левкиппы. В комическом свете выставляет Ахилл Татий своего
героя Клитофонта, три раза подвергающегося побоям, то от
Ферсандра, «воскресшего» мужа Мелиты, то со стороны отца
Левкиппы.
Такая же картина наблюдается и в отношении изображения
Клиния, лучшего друга Клитофонта. Наставления этого молодого человека, как лучше обольстить Левкиппу, его рассуждения о любовных радостях и достаточно большой опыт в этом
отношении делают его похожим на способного ученика Овидия с его «Наукой любви». Таким образом, если у Харитона
в качестве друга показан благородный и скромный Полихарм,
а у Ксенофонта Эфесского сентиментальный разбойник Гиппотой, то у Ахилла Татия мы находим Клиния, представителя
развращенного светского общества.
Перед нами проходят молодые представители общества уже
иные, чем герои более ранних романов. Подобен Клинию и
Клитофонту мельком показанный молодой византиец Каллисфен, похитивший сводную сестру Клитофонта Каллигону исключительно из-за «свойственной молодости любви к насилию»
(VIII, 18). Сам Клитофонт считал его распутником и расточителем. Но моральные качества его нисколько не волновали окружающих — главный интерес вызывали его происхождение,
заслуги и воинские подвиги. Правда, Каллисфен проявил себя
в конечном итоге как рыцарь и не обидел похищенной им девушки, а искренне полюбив ее, сумел снискать ее расположение и вступил с ней в законный брак. Интересно отметить,
что идея об облагораживающей силе любви, когда дерзкий
6 9
насильник превращается в примерного мужа и гражданина,
встречается впервые в любовном романе.
В соответствии с новыми выведенными в романе героями мы
видим уже иное отношение и к целомудрию, и к браку. Если
в романе Ксенофонта Эфесского мы встречаем только идеальные супружеские пары, то здесь мы не найдем их ни одной.
Ферсандр, сам будучи человеком мало добродетельным, затевает
судебный процесс Лротив своей неверной жены, желая получить
в свою пользу ее приданое (VIII, 9). Клитофонт, прикрываясь
страхом перед Эротом, изменяет с Мелитой Левкиппе, считая,
что он занимается «исцелением страждущей души» (VII, 27).
Сама Левкиппа своим двусмысленным поведением в отношении
Клитофонта вызывала сильное подозрение насчет своей невинности. Сцена испытания ее целомудрия, так же, как и Мелиты,
проникнута несомненным оттенком иронии со стороны Ахилла
Татия. Хотя Мелита и изменила мужу, но формально она оказалась верна, так как свидание произошло не «за время отсут-.
ствия Ферсандра», как об этом говорил ее муж, а уже после его
возвращения. Божество, став на формальную точку зрения,
оправдало ее.
Под стать своим господам и рабы. Бойкий Сатир и прислуживающая Левкиппе рабыня Клио весьма далеки от преданных и скромных слуг Левкона и Роды в романе Ксенофонта Эфесского. Вообще у Ахилла Татия мы не найдем ни
одного явно положительного типа. Военачальник Хармид не похож на благородного стратега Перилая. Пленившись красотой
Левкиппы, Хармид всячески старается овладеть ею, невзирая
даже на присутствие ее мужа.
Наиболее интересно и жизненно показана Мелита. Это не
просто коварная обольстительница красивого юноши, но живая женщина, страстная, ревнивая, и по-своему благородная.
Считая себя и Клитофонта свободными, так как ее муж Ферсандр пропал без вести, а Левкиппу Клитофонт видел мертвой,
Мелита хочет, чтобы Клитофонт стал ее мужем. Ее поведение
полно достоинства и, узнав, что Левкиппа жива, она старается
помочь Клитофонту соединиться с нею. На своеобразном «суде
божьем» Мелита выдерживает испытание священной водой
Стикса, что она «не приобщалась Афродите с этим чужеземцем (Клитофонтом) во время отсутствия Ферсандра» (III, 2),
так как действительно за время отсутствия Ферсандра между
ними не было ничего, кроме разговоров.
Ярко выраженный характер пародии иосит у Ахилла Татия
его отношение к религии. Если речь жреца Артемиды, обвинявшего Ферсандра, полна двусмысленностей, то ответ Ферсандра
прямо обвиняет жреца в разврате. О более чем легкомысленном
отношении к религиозному жертвоприношению говорит и сцена
7 0
с Левкиипой, в которой множество бытовых деталей делало самый акт принесения очистительной жертвы явной насмешкой
над ритуалом.
У Ахилла Татия мы не найдем сколько-нибудь серьезныхфилософских высказываний, затрагивающих вопросы морали
или этики, но зато постоянно наталкиваемся на чисто риторические рассуждения, например, о природе любви и гнева
(VI, 19), о клевете и молве (VI, 10), о болезнях (I, 6), о слезах (VII, 4) и т. д. Роман Ахилла Татия изобилует сентенциями, как бы подводящими итог высказываниям автора по
тому или иному поводу. Таковы, например, сентенции: «Ведь
жена — зло, даже когда она хороша собой, а если она еще
страдает безобразием, то и зло двойное» (I, 7); «Вино — пища
любви» (II, 3); «Великая опасность разрушает даже дружественную связь» (III, 3); «Ведь все приятное, даже когда его
еще нет, радует самыми надеждами» (IV, 22) и т. п.
Сохраняя в основном в своей тематике сходство с другими
любовными романами, Ахилл Татий значительно шире, чем его
предшественники, использует мотивы, знакомые читателям по
образцам элегической поэзии. Таковы, например, описания
обеда и поведения на нем влюбленных, когда они пьют из одной чаши, услаждаются пением любовных песен и т. д.
Известным новшеством по сравнению с романами раннего
периода являются встречающиеся у Ахилла Татия описания
картин, что роднпт его уже с более поздними авторами вроде
Лонга. Отчасти напоминает Лонга и изображение цветущего
сада, данное автором как бы для иллюстрации душевных переживаний героя. Таким образом, у Ахилла Татия наблюдается
сочетание элементов, как из ранних, так и из более поздних
авторов любовных романов.
В композиции романа Ахилла Татия мы также находим новые черты по сравнению с романами его предшественников.
Прежде всего, рассказ о событиях и многочисленных приключениях ведется от первого лица — Клитофонта. Все мотивы, которые являются неотъемлемой принадлежностью каждого любовного романа, встречаются и в «Левкиппе и Клитофонте», но
рассказы об этих событиях, окрашенные эмоциональными переживаниями самого Клитофонта, получают уже иное звучание.
Повествование о любви Клитофонта и Левкиппы беспрестанно прерывается то длинными речами-монологами, то рассуждениями на различные темы, часто носящими характер риорических упражнений (вроде действия слез на внешность
-нщнн, о бессоннице и т. д.). Встречается много вставных рассказов, сказок, мифов (например, миф о Филомеле, сказка
о Фениксе, рассказ о свойствах слона, о любви среди животных и растений, история Харикла и т. п.), преследующих,
7 1
с одной стороны, цель показать эрудицию самого автора,
а с другой, замедлить развитие главной темы — любовных отношений обоих героев.
Как композиционный прием Ахилл Татий широко применяет симметрию в расположении материала и параллелизм
в группировке действующих лиц. Роман делится на две неравные части, отличающиеся и по своей композиции. В первой
части, охватывающей пять книг, встречается много вставных
эпизодов, но основной сюжет — это взаимоотношения Левкиппы
и Клитофонта. Во второй части мы находим осложненную
интригу, благодаря любви Мелиты к Клитофонту, и этот мотив
проходит через всю вторую часть, уже очищенную от вставных эпизодов. Большое место во второй части занимает судебный процесс, гда тесно переплетаются судьбы всех основных
персонажей романа. Самый конец романа производит впечатление незаконченного, так как в отличие от всех других
романов подобного типа в нем не дается описания счастливого
соединения влюбленных. Повествование заканчивается простой
констатацией фактов, что Левкиппа и Клитофонт прибыли
в Византию и там сыграли долгожданную свадьбу 19.
В своем романе, по-видимому, написанном в аттицистический период, Ахилл Татий в основном стремился подражать
авторам классического периода. Но у него можно встретить и
более поздние формы и конструкции, так же как в его словаре
мы видим сочетание современных и архаизированных слов.
Так как любовный роман «Левкиппа и Клитофонт» совпадает по времени своего написания с так называемой «второй
софистикой», то влияние риторики на это произведение было
весьма значительным. Мы находим ряд приемов, связанных со
второй софистикой, так же как и применение речей не только
на судебных процессах, где они уместны, но и в быту и для
раскрытия психологии героев.
Разные части романа различаются и по своему стилю.
Рассуждения на различные темы и речи написаны в тщательно
отделанном стиле, с широким применением антитез, аллитераций, гипербол и метафор, не всегда удачных. Излишнее
употребление риторики производит впечатление неестественности. Вот, например, как описывает Клитофонт момент зарождения в его сердце любви к Левкиппе: «Как только я увидел
ее, тотчас же погиб, ибо красота ранит острее стрелы и струится в душу через глаза: глаза — путь для любовного ранения.
Что только не охватило меня сразу! Восхищение, изумление,
дрожь, стыд, дерзновение. Я величием восхищался, красоте
изумлялся, содрогался сердцем, дерзновенно смотрел, стыдился
19
7 2
D. S е d е 1 m е i е г. Указ. соч., стр. 131—132.
своего плена. Я изо всех сил старался оттянуть свои глаза
от девушки, а они не хотели и тянулись к ней, канатом красоты притянутые, и, наконец, победа досталась им» (I, 4).
Если в судебных процессах красноречивые выступления
обвинителей и защитников с их риторическими приемами
вполне правомерны, то, например, разговор Левкиппы с ее
хозяином Ферсандром, пытавшимся насильно овладеть ею, кажется риторической декламацией.
«Послушайся Сосфена, — говорит Левкиппа, — он даст тебе
хороший совет, ставь орудия пытки! Несите колесо: вот руки,
тяните их! Несите бичи: вот спина — бейте! Добудьте огонь:
вот тело — жгите! Несите и железо: вот кожа — режьте! Борьбу
необыкновенную увидите, против всех пыток борется женщина одна и побеждает все! И ты называешь Клитофонта прелюбодеем, когда ты сам прелюбодей? И ты не боишься, скажи
мне, своей Артемиды, не подвергаешь насилию деву в городе
Девы? Владычица, где твои стрелы?» — «Ты дева? — сказал
Ферсандр. — О дерзость, о смех! Дева, после того как ты переночевала с пиратами? Евнухами были для тебя пираты? Или
это было убежище философов? Или никто из них не имел
глаз?» (VI, 21).
Приведенные образцы речей и монологов героев в сочетании
с обилием «общих мест» (topoi), вроде сравнения красоты Левкиппы с цветущим лугом (I, 19) или картины бури на море
(III, 1—2), многочисленных рассуждений на разные темы,
бытовых сценок вперемешку с полуфантастическими рассказами о характере животных (о свойстве слона лечить своим
дыханием головную боль или о птице фениксе, произносящей
надгробную речь у могилы своего отца) (III, 25), знакомят
читателя со стилем всего романа.
Искусственность стиля отражается и на обрисовке характеров действующих лиц. Герои, как правило, не действуют, а декламируют и рассуждают о чувствах и страстях. Наиболее
яркими и живыми фигурами являются раб Сатир и прекрасная
Мелита. Остальные показаны скорее как определенные типы,
чем живые люди. Но не будучи искусным в обрисовке характеров, Ахилл Татий тем не менее тонко и умело показывает
зарождение и развитие любовных чувств своих героев, знакомит
читателей с бытовой обстановкой и вкусами своих современников.
Ахилл Татий не осуждает своих героев, он изображает их
такими, какими они существовали в действительности. Свободные нравы, процветавшие в ту историческую эпоху, пашли
свое отображение в романе. Тему о добродетельных молодых
людях, об их необычайно высоких моральных качествах Ахилл
Татий дает в явно пародийном освещении, снижая моральный
7 3
облик своих героев, особенно по сравнению с Ксенофонтом.
Близость романа к реальной жизни, занимательность сюжета,
обилие приключений, интрига, значительно усложненная по
сравнению с другими любовными романами, — все это делало
роман о «Левкиппе и Клитофонте» одним из наиболее увлекательных греческих любовных романов. Сама же манера
письма Ахилла Татия, широкое применение риторики, с ее
искусственным стилем и множеством ученых экскурсов и сентенций, говорит за т*, что роман предназначался для развлечения
образованной публики, способной оценить все тонкости языка
и стиля, равно как и заимствования из других литературных
жанров. Изящество описаний, анализ страстей, частая смена
приключений, изобилующих разнообразными и пикантными
ситуациями, заставляли забывать о безликости персонажей и
утомительности риторических высказываний. Для нас роман
«Левкиппа и Клитофонт» представляет несомненную литературную ценность как продукт своей эпохи, отразивший черты
общественного упадка.
БУКОЛИЧЕСКИЙ
РОМАН
ЛОНГА
Из греческих прозаических произведений более позднего периода пользуется известностью «Пастушеская повесть о Дафнисе и Хлое» в четырех книгах, приписываемая некоему Лонгу.
Кем был этот Лонг, чье имя стоит в заголовке рукописи «Дафниса и Хлои», достоверно неизвестно. До нас не дошло никаких
сведений о времени его жизни или данных его биографии.
Высказывались даже гипотезы, что имя Лоиг получилось из
неправильно написанного переписчиком греческого слова
«Логу», т. е. «Повести», где была удвоена б^ква «г», что дало
основание прочесть слово «Лонгу». От этого «Лонгу» и был
образован именительный падеж «Лонг» и истолкован как имя
автора. С другой стороны, на острове Лесбосе, где развертывается действие повести, в одной надписи было упомянуто имя
жреца Лонга, и этот факт позволяет допустить, что Лонг, связанный с этим островом, мог быть автором «Дафниса и
Хлои» 1. Правда, сведения о самом острове у Лонга неполны и
неточны, хотя он и упоминает о Митилене, главном городе
острова Лесбоса. Также весьма приблизительно он определяет
расстояния между отдельными географическими пунктами.
Описывая же зиму на Лесбосе, он изображает ее столь суровой, что это представляется маловероятным фактом.
Трудно установить и время написания этого произведения.
В существующей по этому поводу обширной литературе приводятся различные предположения: если одни исследователи
относили повесть Лонга к V в. н. э., то другие — ко II в. н. э.
1
Предисловие М. Е. Г р а б а р ь - П а с с е к в кн.: Л о н г . Дафнис и
Хлоя. М., 1957.
7 5
По своему идейному замыслу «Дафнис и Хлоя» близко примыкает к литературе эпохи эллинизма, когда во всех литературных жанрах, начиная с эпоса, появилась новая тематика —
показ личных переживаний человека, главным образом его любовных чувств, наряду с тщательным изображением бытовых
деталей.
За то, чтобы отнести «Дафниса и Хлою» ко II в., говорят и
наблюдения, произведенные над содержанием повести, и анализ
ее социально-исторической обстановки, правда, отображенной
довольно слабо и весьма условно. Это же подтверждает в известной степени А рафинированная риторичность языка «Дафниса и Хлои», где выявляются изысканные приемы ораторов,
что позволяет сближать это произведение со временем новой
софистики. Противопоставление города и деревни, отсутствие
общественных проблем и выявление интереса к отдельным
личностям, столь свойственные эпохе эллинизма, нашли свое
выражение у Лонга.
«Формальное мастерство и безыдейность, изящество и отсутствие общественной направленности, интерес к природе, к отдельному человеку и равнодушие к общечеловеческим задачам
и философским проблемам — таковы специфические черты
эллинистической художественной литературы, отражающей
новый этап истории античного рабовладельческого общества» 2 .
Но ни сама повесть, ни последующая литература не дают никаких прямых указаний, которые можно было бы использовать
для точного определения времени ее написания.
Повесть Лонга начинается с короткого введения, где рассказывается, как автор во время охоты на острове Лесбосе в пещере Нимф обнаружил картину. Рассмотрев изображенные на
картине любовные сцены и восхищенный ими, он решил, «соревнуясь с картиной», создать такое произведение, которое
прославило бы Эрота, нимф и Пана, а всем людям было на
радость: «болящему на исцеление, печальному на утешенье,
тому, кто любил, напомнит о любви, а кто не любил, того любить научит» 3 .
Содержание повести весьма несложно: на острове Лесбосе
в окрестностях города Митилены козопас Ламон находит в кустарнике мальчика, которого кормит коза, а два года спустя
пасущий овец Дриас обнаруживает в гроте Нимф девочку,
вскармливаемую овцою. Возле обоих подкидышей были приметные знаки, положенные их родителями и свидетельствующие
2
3
7 6
А. Б. Р а н о в п ч. Эллинизм и его историческая роль. М.—JL, Изд-во
АН СССР, 1950, стр. 289.
Лонг цитируется в переводе С. Кондратьева под ред. М. Е. ГрабарьПассек в кн.: Л о н г . Дафнис и Хлоя, стр. 17—18.
об их благородном происхождении. Оба пастуха берут детей на
воспитание, надеясь впоследствии найти их родителей, и заботятся о них, как о своих собственных детях. Когда мальчику
Дафнису исполняется пятнадцать лет, а девочке Хлое — тринадцать, воспитатели по наущению богов посылают их вместе
пасти стада коз и овец. • Неведомое до сих пор чувство любви
овладевает подростками, оно растет изо дня в день, мучает и
терзает их, попавших во власть Эрота.
В это время тирийские пираты нападают на прибрежные
луга, ранят на смерть пастуха Доркона, влюбленного в Хлою,
угоняют его стада и уводят Дафниса. Умирающий Доркон дарит
Хлое свою свирель, и она играет на ней. При звуках знакомой
свирели стадо Доркона, находящееся на корабле, бросается
к берегу и опрокидывает судно. Разбойники тонут, Дафнис
спасается из плена и возвращается к Хлое.
Наступает осень, время сбора винограда. Любовь Дафниса
и Хлои растет с каждым днем, но юные влюбленные не понимают своих чувств. Из-за случайной ссоры богатых юношей
с пастухами между городами Метимной и Митиленой вспыхивает война. Жители Метимны, сделав набег на прибреяшые
поля митиленцев, угоняют стада Дафниса и похищают Хлою.
При покровительстве богов Хлое удается спастись, причем ей
явно для всех присутствующих помогает сам Пан.
Время идет, зима сменяется весной. Расцветающая красота
Хлои привлекает много женихов. Так как Дафнис был беден
и не мог рассчитывать получить согласие приемного отца Хлои
на брак с нею, то нимфы помогают юноше, « с их помощью он
находит на морском побережье кошелек с тремя тысячами
драхм, попавший туда с корабля метимнян. Согласие Дриаса
получено, он готов выдать Хлою за Дафниса, но на этот брак
нужно еще разрешение господина: ведь они рабы и не могут
сами распоряжаться своей судьбой.
Хозяин Ламона (приемного отца Дафниса), владелец поместья, богатый митиленец Дионисофан в конце лета приезжает в деревню вместе со своей женой и сыном Астилом.
Прельстившись красотой Дафниса, парасит Астила Гнафон выпрашивает его для себя, чтобы увезти в город. Не желая* отдавать юношу развратному параситу, Ламон рассказывает
господину историю найденного им Дафниса и показывает отличительные знаки, обнаруженные при нем. Происходит сцена
«узнавания»: Дафнис оказывается сыном богатых родителей:
Дионисофана и его жены Клеаристы.
В то время как Дафнис находит свою семью, Хлою вновь
похищают, на этот раз отвергнутый ею пастух Лампид. Она
освобождается с помощью парасита Гнафона, желающего теперь заслужить прощения Дафниса за свою дерзость. Прием7 7
ный отец Хлои Дриас рассказывает в свою очередь, как он
нашел Хлою. Красота девушки и ее явно не рабское происхождение приводят к тому, что Дионисофан дает согласие на ее
брак с Дафнисом. Вскоре при покровительстве божества — нимф
происходит и второе «узнавание». Отцом Хлои оказывается
богач Мегакл. Таким образом, наступает счастливая развязка
повести: Дафнис и Хлоя, дети богатых и влиятельных людей,
сочетаются браком и справляют свадьбу не в шумном городе,
а в кругу семьи на лоне природы, отдавая себя покровительству сельских божеств, опекающих их с самого дня рождения.
Среди античных /«романов» «Дафнис и Хлоя» занимает особое положение. От других произведений этого жанра его отличает прежде всего та обстановка, в которой развертывается действие самой повести. Недаром его называют «пастушеской повестью» и «буколическим романом».
В известной степени Лонг является последователем и подражателем одного из лучших поэтов эллинистической эпохи, Феокрита, жившего в III в. до н. э. и создавшего новый жанр буколической поэзии. Заимствуя многое из народного творчества —
песен, сказок и мифов, знаменитый буколик воспевал в своих
идиллиях труд пастухов и крестьян. Создавая свои изящные
стихотворения для изысканной публики, Феокрит отражал
хотя и приукрашенную, но все же реальную жизнь. Буколическая поэзия, достигшая своего расцвета в эпоху эллинизма и
представляющая собой своеобразное смешение эпических и лирических элементов, несомненно оказала свое влияние на
Лонга. Но самый жанр буколики с течением времени значительно изменился, и если у Феокрита основным ядром являлись идиллические сцены, изображающие встречи и беседы
пастухов, то у Лонга разработка сюжета идет по иному пути.
Используя хорошо знакомый читателям поэтический жанр
буколики с ее несколько манерными описаниями природы и
выводя пастухов в качестве героев, Лонг создал свою повесть,
написанную изящной ритмической прозой. Жизнь в деревне,
представленная автором в сильно идеализированном виде, была
наиболее подходящей, по его мнению, для раскрытия любовных чувств юной пары. «Дафнис и Хлоя» является единственным дошедшим до нас образцом буколического романа, где все
события, равно как и переживания героев, развертываются на
фоне описаний природы. Вполне естественно, что многие из
этих описаний проникнуты большой искусственностью и обилием чисто литературных реминисценций.
Сочетание любовной тематики с мотивами авантюрного романа, ставшее почти обязательным для любого прозаического
произведения этого времени, присуще также и повести Лонга.
Мы находим у него буколическую идиллию, искусно соединен7 8
ную с изображением различных событий, происходящих с его
героями по определенной, уже разработанной и хорошо известной читателю, схеме. Но в «Дафнисе и Хлое» эта традиционная
схема выдержана не так строго и несколько в ином разрезе,
чем в большинстве дошедших до нас произведениях подобного
типа. Хотя в романе Лонга имеются налицо как бы все основные линии, присущие любовно-авантюрному роману, мы можем
видеть интересную картину, как Лонг отступает от установленного стандарта, рассказывая о событиях, игравших важную
роль в жизни его юных героев.
Первым и самым главным отличием «Дафниса и Хлои» от
других античных «романов» является то, что в нем можно отчетливо проследить как бы две основные линии: одна рассказывает о приключениях, которые приходится испытать юной
паре (где мы видим наличие определенной схемы), другая повествует о душевных переживаниях Дафниса и Хлои, показывая как постепенно растет и развивается чувство их взаимной
любви.
В «Дафнисе и Хлое» приключения не играют главной роли.
Они вводятся лишь для того, чтобы выявить отношение героев
друг к другу и самые их переживания. Обычно в романах
авантюрные эпизоды составляют звенья одной цепи. Они
крепко связаны друг с другом, а патетические переживания и
выражения страстных чувств героев как бы внезапно врываются в вереницу приключений. У Лонга соотношение этих
элементов иное: не связанные между собою внешние события
вторгаются по временам в историю любви, задерживая на некоторое время развертывание действий в самой повести.
«Дафниса и Хлою» Лонга в известной степени можно назвать
психологическим романом. Не пытаясь искать в нем зачатков
психологического анализа в современном значении этого слова,
все же следует отметить, что психологии героев автор уделяет
большое внимание. В античной повествовательной прозе главную роль играли приключения героев, а сам образ героя, очерченный часто весьма схематично, служил лишь связующим
звеном для развертывания сюжета. У Лонга дается попытка
выявить психологию героев, раскрывая ее не в поступках,
а с помощью многочисленных монологов. Его герои еще не
способны проявлять свободную волю и совершать решительные
поступки. Они все еще находятся во власти Рока, который сам
направляет их жизнь, но все же их внутренний мир делается
сложнее и богаче. Показ нарастания чувства взаимной любви и
изменения в связи с этим психологии героев, — правда, поданный весьма условными приемами, — представляет в литературе того времени явление не обычного порядка. Традиционный юный возраст героев дает автору возможность в изыскан7 9
ной словесной форме показать их наивность в переживаниях и
поступках. А развертывание событий на лоне природы в идиллической обстановке особенно ярко подчеркивает искусство
Лонга в изображении сельского пейзажа.
Во всех любовных «романах» в судьбе героев играет огромное значение гнев божества, оскорбленного кем-либо из главных действующих лиц и преследующего их на протяжении
всего романа. У Лонга мы видим обратную картину: влюбленные находятся под особым покровительством сельских божеств,
гнев бога Пана обрушивается со страшной силой на голову их
обидчиков.
Когда Дафниса похищают и увозят на корабле, то традиционное для всех романов кораблекрушение, вызванное разгневанным божеством, губит его врагов, а ему самому помогает спастись от грозящей опасности. Далее метимнейцы захватывают
в качестве добычи Хлою и разгневанный Пан, явившись во сне
их вождю, упрекает его и грозит жестоким наказанием:
«О преступнейшие, о безбожнейшие люди! На что вы, обезумев, дерзнули? Шумом войны вы наполнили область сельскую,
милую мне, вы угнали стада и быков, и коз, и овец, о которых
заботился я; от алтарей оторвали вы девушку, из которой Эрот
хочет сказку любви создать, и не постыдились вы ни тех нимф,
что глядели на вас, ни меня, самого Пана. Не видать вам Метимны, пока вы плывете с добычей такой. . . Но в пищу рыбам
отдам я вас потопивши, если только как можно скорей не вернешь ты нимфам Хлою, а также и Хлои стада, ее коз и овец»
(II, 27). Таким образом, можно сказать, что такой широко
распространенный мотив, как нападение разбойников, здесь
вводится, главным образом, для того, чтобы лишний раз подтвердить особую заботу сельских богов о судьбе юных влюбленных. Об этом же говорят прорицания оракулов и вещие сны:
по внушению свыше Дафнис находит кошелек с деньгами
в качестве выкупа за Хлою; боги в сновидениях передают свою
волю приемным родителям Дафниса и Хлои, чтобы они одновременно послали детей пасти стада овец и коз и т. д.
Мотив мнимого убийства или самоубийства героев, столь распространенный во всех романах, здесь также приобретает
своеобразное разрешение. Чтобы не попасть во власть злодея —
развратного парасита, Дафнис хочет покончить с собой, но
к этому моменту обнаруживается с помощью богов его благородное происхождение, и он спасается и от позора, и от смерти.
Описание судебного процесса с ораторскими выступлениями
сторон, непременно встречающееся в любом авантюрном
романе, выдержано здесь также довольно условно. Тут нет
настоящего суда, а нечто вроде общественного судебного разбирательства, когда старый цастух Фидет выслушивает обвц8Q
нения метимнейцев по адресу Дафниса. Тем не менее и метимнейцы и Дафнис выступают как настоящие ораторы с искусными речами, обвиняя друг друга.
Таким образом, сюжет «Дафниса и Хлои», не отходя в основном от схемы, в то же время дает читателям несколько
иное изображение событий и приключений, чем это принято
в авантюрном романе. По существу приключений в «Дафнисе
и Хлое» совсем не так много, как в других произведениях подобного рода. Совершенно отсутствует такой важный момент,
как путешествия героев, или такие эффектные эпизоды, как
мнимая смерть или погребение заживо кого-либо из главных
действующих лиц. Кроме того, у Лонга все события развертываются в столь быстром темпе, приходя к счастливому концу,
что не оставляют времени для длительных переживаний влюбленных. Этот роман отличается не обилием всевозможных приключений или сложных ситуаций, как это мы видим в других случаях, а наличием многочисленных психологических рассуждений, вполне уместных для столь пассивных героев.
Особенно это выявляется в характере Дафниса, совершенно
не способного бороться ни за себя, ни за любимую девушку, а лишь льющего слезы и взывающего за помощью к божествам.
Буржуазные исследователи прежде всего подчеркивали пасторальный характер романа Лонга и сильное влияние на него
риторики. Подробно разбирая его с формальной точки зрения,
они не задавались вопросом, а какова же была действительность, столь поэтично изображаемая в романе. Даже несмотря
на художественные прикрасы, допущенные автором в показываемой им сельской жизни, в романе весьма отчетливо выявляются отрицательные стороны той эпохи. Юные и прекрасные
герои Дафнис и Хлоя живут не вне времени и вне определенной исторической почвы, а тесно связаны с ней.
Если проследить внимательно за теми картинными описаниями, которые дает Лонг, то можно увидеть довольно безотрадную картину жизни сельских жителей. Так, например, мы
видим скудную жизнь и бесправное положение бедного люда —
пастухов и крестьян, чьи поля и стада подвергаются нападениям и разорениям со стороны морских пиратов и сухопутных
разбойников. Лонг рассказывает об одном из таких эпизодов,
имевшем вполне реальную основу, а не являвшемся простым
литературным штампом. «Тирийские пираты на легком карийском судне (чтобы их не признали за варваров) причалили
к этим местам. Выйдя на берег, в полупанцирях, с короткими
мечами, грабя, забирали они все, что под руку им попадалось:
душистое вино, зерно без меры и счета, мед в сотах... захватили и Дафниса, бродившего около моря. ..» (I, 28).
6
Античный роман
81
Но населению приходилось терпеть не только от пиратов и
сухопутных разбойников. Из-за частых войн между отдельными городами жители сельских местностей подвергались постоянному риску быть ограбленными, так как при военных
действиях в первую очередь разорялись и опустошались скромные крестьянские хозяйства. Когда началась война между
Метимной и Митиленой, то военачальник метимнейцев
«. . . сделал набег на прибрежные поля митиленцев. И много
скота, много зерна и вина он награбил, так как только недавно
кончился сбор винограда; не мало забрал и людей, которые там
над всем этим трудились. . .» (II, 20).
Рабы и полусвободные крестьяне обрабатывали поля и пасли
стада богатых людей, стремясь преумножить господское добро,
ведя жалкое существование, в то время как их господа беззаботно проводили время. Несмотря на желание Лонга опоэтизировать жизнь в деревне, в романе ярко выступают противоречия современного ему общества. Молодые богатые городские
бездельники весело и бездумно развлекались, устроив прогулку
по морю и мимоходом заглядывая в расположенные по дороге
деревни. Красочное описание их времяпрепровождения дает
Лонг в своем «Дафнисе и Хлое». Автор подчеркивает, что «они
никому зла не причиняли, а веселились как только могли», и
даже, наоборот, их развлечения якобы приносили выгоду селянам: «Если ж чего не хватало, брали у местных жителей, платя
пм больше цены настоящей. А нужны им были только хлеб,
вино и ночлег. ..» (II, 12). У богатых горожан не было нужды
ни в чем, тогда как крестьяне испытывали недостаток в самых
элементарных предметах, например, «в веревке, чтобы камень
поднять, который грузом лежал на виноградных лозьях, уже
истоптанных в точиле (старая его веревка истерлась)» (II, 13).
В последующем повествовании рассказывается о том, как прогулка молодых людей оказалась не столь безобидной и что похищенная крестьянином веревка послужила причиной дальнейших весьма драматических событий. Зеленая длинная лоза,
которой был привязан корабль взамен веревки, была съедена
козами Дафниса, и корабль, лишенный привязи, ветром был
унесен в открытое море вместе с имуществом метимнейских
юношей. Дафнис был схвачен, избит и едва не уведен в рабство. Метимнейские юноши объясняли свой поступок таким
образом: « . . . Корабль упустили. Видел ты сам, как его уносило в море... А сколько на нем, как ты думаешь, было богатств? Сколько одежд пропало, сколько красивых уборов для
псов, сколько денег! Все эти ваши поля можно было б купить! И взамен всего этого мы считаем, что имеем право увести
его (Дафниса), так как он — никуда не годный пастух...»
(И, 15),
8 2
Ёсли даже псы богатых горожан имели красивые уборы,
то об одежде их хозяев говорить не приходится. Герои романа
Дафнис и Хлоя были одеты более чем скромно и украшением
их служили шкуры овец и коз, которые они надевали на бедра
(I, 23).
Поведение метимнейцев, жаждущих отомстить за несправедливо, по их мнению, обиженных богатых юношей, мало чем
по существу своему отличалось от нападения разбойников —
пиратов.
Большой мастер художественного слова, Лонг как настоящий
художник не мог не отразить реальности в своем романе, где
нашли свое место настроения и идеология разлагающегося
рабовладельческого общества: отсутствие высоких общественных интересов, индивидуализм и покорность богам и судьбе.
Наряду с этим идет идеализация старины, а также простоты
и скромности сельской жизни. Принадлежа, по-видимому, к самой верхушке класса рабовладельцев и будучи человеком
большой культуры, Лонг не мог обойти полным молчанием
те основные проблемы, которые были выдвинуты самой жизнью
и неизбежно должны были привлекать внимание образованных кругов.
Одним из актуальнейших вопросов, затрагиваемых в литературе того времени, было положение рабов и отношение
к ним. Какую же точку зрения выявляет Лонг в своем романе?
Он изображает действительность с точки зрения богатого рабовладельца, что и определяет его классовую принадлежность.
Хотя рабство по существу своему выглядело ^весьма непривлекательно, Лонг стремится его опоэтизировать и оправдать.
Раб — существо неполноценное, он всецело зависит от воли
своего господина, и это справедливо, по мнению Лонга. В уста
раба Ламона автор вкладывает такие знаменательные слова:
«Чтоб Астилу был он рабом — делом недостойным это я не
считаю: красивому и доброму господину — красивый слуга»
(IV, 19). Ламон возражает лишь против того, чтобы Дафнис
стал игрушкой развратного парасита. Изображенные Лонгом
различные группы рабов не выражают недовольства своей
жизнью и существующим положением, а покорно и безмолвно
повинуются воле своих господ, тогда как в этот период классовая борьба имела определенное и четкое выражение в восстаниях рабов и неимущих бедняков. Даже разбойники, которые в других авантюрных романах в большинстве своем состоят из беглых рабов, у Лонга показаны просто как морские
пираты. Господин для раба являлся богом. Лонг весьма красочно описывает отчаяние Ламона, когда он видит сад своего
хозяина, истоптанный и разоренный другим завистливым
рабом.
6*
83
Рассказывая об отчаянии Ламона, разорвавшего на себе хитон и начавшего в ужасе кричать и плакать вместе с женой и
прибежавшим Дафнисом, Лонг сам говорит читателю: «И необычным делом могло показаться, что так они о цветах горевали. Но рыдали они, боясь гнева хозяина» (IV, 8).
Жизнь рабов, которых Лонг хочет изобразить счастливыми
и довольными, на самом деле была трудной и бедной. Ламон
живет как будто самостоятельно, пася скот богача и обрабатывая его сад, но он всецело зависит от хозяина и должен просить его согласия на брак своего приемного сына. Встречаются
и другие категории крестьян — полусвободные пастухи (Лампис и Филет) и даже свободные мелкие землевладельцы-арендаторы (Хромис). Но жизнь представителей всех этих различных групп мало чем отличалась от участи рабов. Тяжелый
труд земледельца и уход за стадами богатых хозяев были основными источниками существования неимущих, так как скот
и продукты сельского хозяйства ценились высоко.
Ламону в награду за воспитание Дафниса господа «дали полурожая с полей и виноградников, отдали коз вместе с козопасами, подарили четыре упряжки быков, одежды на зиму и дали
свободу ему и жене» (IV, 33). Доркон, сватаясь за Хлою, обещал в качестве подарков ее приемному отцу пару волов для
пашни, четыре улья пчел молодых, полсотни яблонь, воловью
кожу, чтобы подошв нарезать, и всякий год теленка, уже не
сосунка (I, 19). Пища в деревне была скромной — сыр с поджаренным хлебом и сладкое вино (I, 16), в то время как богатые горожане пользовались самыми изысканными яствами.
Богатый горожанин Дионисофан, вновь обретя сына, брошенного им же самим, «велит роскошный пир приготовить, ничего
не жалея из того, что земля производит, моря, болота и реки»
(IV, 34). Лонг не стремился вызвать у читателей сочувствие
к тяжелой судьбе бедняков, наоборот, он хотел опоэтизировать
их жизнь, считая, что она для рабов (крестьян и пастухов)
вполне хороша, так как им предназначено свыше жить и трудиться для блага своих хозяев.
Не затрагивая прямо вопроса о взаимоотношениях различных
классов общества, Лонг также лишь попутно касается и других
проблем, несомненно занимавших его современников, например, проблемы брака и семьи. Автор, хорошо знакомый со
структурой прозаического повествовательного жанра, сохранил
для своей повести помимо положений, свойственных буколической поэзии, ряд мотивов из новой античной комедии с ее
типичным «узнаванием» и подкидыванием детей.
В рабовладельческом обществе, находящемся в состоянии
распада, деньги играли важную роль в создании семьи, почему
так и был распространен обычай подкладывать детей. Страх
8 4
перед бедностью заставлял родителей (часто даже зажиточных)
бросать своих детей на произвол судьбы. Так, отец Хлои, старый богач Магакл, рассказывал, что он, истратив свое имущество на устройство празднеств народу, обеднел. «Когда
дочка у меня родилась, боясь воспитать ее в бедности, я покинул ее, украсив этими знаками приметными» (IV, 35). Характерно, что Дионисофан, которого Лонг характеризует словами:
«благороден душой как никто» (IV, 13), бросает сына, обрекая
его, может быть, на смерть, так как считает, что четвертый
ребенок в семье — это уже обуза.
Лишь богатство делает человека полноценным членом общества, где он должен занимать высокое положение и вести беззаботную жизнь, но богатство создается не трудом, а переходит или по наследству или получается в результате удачи. Оно
должно быть у «благородных», и только тогда они смогут «достойно» воспитать свое потомство. Работа — удел бедняков, но
не богачей. Когда Дафнис, признанный сыном богатых родителей, хотел бежать поить своих коз, то «весело все засмеялись — став господином, он все еще хочет быть козопасом»
(IV, 25). Для богача и в деревне жизнь должна быть свободна
от работы: он может спокойно наслаждаться красотами природы, почитать богов и вести обеспеченное существование.
Лонг умалчивает о том, что для сельских жителей деньги
часто были связаны с вопросом личной свободы — чтобы откупиться от господина или хотя бы несколько улучшить свою
трудную жизнь. Поэтому совершенно естествендо, что, например, получение богатого выкупа за Хлею играло большую
роль для ее приемных родителей, боявшихся продешевить
(III, 25). Такова была действительность, окружавшая Лонга.
Рассуждения же о тщете богатства, носящие на себе отпечаток стоической философии, которые автор вкладывает в уста
действующих лиц, носят чисто теоретический характер. О презрении к богатству поучает тот же Дионисофан, бросивший
в свое время Дафниса, утешая своего второго сына Астила:
«Не печалься, что лишь половину получишь, не все мое состояние. Для людей благоразумных нет приобретенья лучше, чем
брат; любите друг друга...» (IV, 24). Даже бедняк Ламон произносит слова в защиту благородной бедности: «Правильно вы
поступили, соседей своих предпочтя людям чужим и богатств
не ставя выше бедности честной» (III, 31).
Касаясь вопроса о воспитании молодого поколения, Лонг выводит два типа молодых людей — Дафниса и Астила. Юноша
Астил, благородного происхождения, слабый и хилый телом,
вырос в городе. Несмотря на его хорошие природные задатки,
он уже развращен и испорчен городской жизнью. Астил еще
очень молод, «у него подбородок чуть опушен», но возле него
8 5
уже вертится парасит, которого он любит и балует. Город рано
знакомит со всеми пороками благородного юношу, и он готов
потакать низменным страстям своего наперсника — парасита,
обещав отдать для его похоти красивого раба Дафниса. Лонг
показывает молодых горожан, воспитанных большей частью рабами и окруженных порочными прихлебателями в дальнейшем
рассказе о митиленских юношах. Там как бы подводится итог
подобного воспитания и выявляется, какое влияние может оказать на жизнь города группка богатых бездельников, ввергающих из-за своего эгоизма в беды и несчастия как окрестных селян, так и своих сограждан.
С другой стороны, Лонг выводит скромного и набожного
Дафниса, на котором благотворно отразилось воспитание, вернее, пребывание в деревне, вдали от города. Дафнис, закаленный простой и суровой жизнью, пася свои стада среди чудесной природы, поражает не только своей физической красотой.
Общение с природой облагораживает его душу, и он способен
испытывать эстетическое наслаждение. Интересно отметить,
ч^о даже эстетическое восприятие природы Лонг приписывает лишь своим двум главным героям — Дафнису и Хлое,
людям свободным и благородным по природе, чем и объясняется известная тонкость их душевных переживаний. Подлинными героями романа могли быть только свободные люди, по
воле богов лишь временно ставшие рабами.
Тема прославления сельской жизни, противопоставляемой
скудной и порочной жизни горожанина, становится довольно
обычной в греческой литературе, начиная с I в. Знаменитая
охотничья идиллия Диона Хрисостома (Or. VII, 65), занимающая большую часть его Евбейской речи, — лишь один из примеров литературной обработки этой темы. Римлянин Плиний
Младший (I — II вв.) мечтает о жизни и работе в сельском
уединении. Письма земледельцев Элиана и письма Алкифрона
предполагают уже высокий интерес к жизни и труду людей
земли и своеобразное увлечение этой жизнью. В конце II в. н. у.,
характеризовавшегося некоторой стабилизацией в политической и экономической жизни Римской империи, писатели стремились восхвалять в литературе вновь пришедший «золотой
век». В связи с этими настроениями представляется вполне
закономерным объяснить и лонговский культ природы.
Перенесение буколических мотивов и настроений, взятых
в заново осмысленном виде, в форму прозаического произведения придает роману Лонга очень своеобразные и запоминающиеся черты. Литературные персонажи, хорошо знакомые образованным читателям еще со времен александрийской поэзии,
вновь оживают, но уже в жанре прозы. Изображение природы
Лонгом принципиально отличается от показа ее авторами дру8 6
гих романов. В истории наивной любви двух юных существ
Дафниса и Хлои природа играет не только подсобную роль для
изображения соответствующего пейзажа и показа лирических
чувств и настроений молодой пары, но имеет важное самостоятельное значение. Природа и одухотворяющие ее божества
тесно слиты воедино: подобное восприятие пейзажа как соприкосновения с божеством мы находим лишь в буколике, изобилующей изложением мифов с любовным содержанием и частым
упоминанием о деревенских божествах. Религия в эллинистическую эпоху уже не играла большой роли, и сельские божества,
Пан и нимфы, почитались лишь по традиции и главным образом среди деревенских жителей. Набожные поселяне приносили им жертвы — молоко, мед, первые плоды и цветы, но
если в деревне эти божества еще пользовались уважением, то
горожане относились к ним весьма скептически. Недаром Лонг
изображает, как метимнейцы смеялись над нимфами, к которым со слезами и мольбой обратилась Хлоя, прося о помощи.
«Поиздевавшись над статуями богинь, метимнейцы погнали
стада и Хлою с собой увели» (II, 20).
Но главным двигателем всего, что происходит в мире, Лонг
считает Эрота, понимая его как всеобъемлющую силу, с незапамятных времен оживляющую всю природу. «И я вовсе не
мальчик, и если я мальчиком с виду кажусь, то на самом деле
я Кроноса старше и всех его веков», — говорит Эрот о себе
самом (II, 5). А старый пастух Филет, поучая Дафниса и
Хлою, так превозносит его могущество: «Такова его мощь, что
и Зевсу с ним не сравняться: царит он над стихиями, царит
над светилами, царит над такими же, как сам он богами. ..
Цветы — это дело рук Эрота, деревья эти — его созданье.
По воле его и реки струятся и ветры шумят» (II, 7).
Подчеркивая с самого начала своей повести связь между
божеством, т. е. природой, и смиренными деревенскими жителями, Лонг стремится увлечь читателя идеализированной картиной счастливой сельской жизни, противопоставляемой городу
с его пороками и безбожием. «Дафнис и Хлоя» — это приношение сельским божествам — нимфам, Пану и Эроту, опекающим
своих верных почитателей. Божество, природа и человек
должны представлять единое гармоничное целое.
Тонкий наблюдатель природы и ценитель ее красоты, Лонг
дает яркие и живые картины, где природа присутствует как
животворящая сила. Таково, например, описание весны: «То
было начало весны, и все цветы расцвели — в лесах, в лугах, на
горах. Уже воздух был полон жужжанием пчел, птицы звонко
пели, прыгали, резвясь, рожденные недавно козлята и ягнята.
Барашки скакали по холмам, пчелы жужжали в лугах, и птицы
пеньем своим оглашали густые заросли. И так как все вокруг
07
охвачено было радостью и весельем, Дафнис и Хлоя, юные,
нежные, стали и сами подражать тому, что слышали, тому, что
видели: слыша пение птиц, сами пели; глядя, как прыгают
овцы, и сами легко скакали; пчелам подражая, цветы собирали
и на грудь за одежду себе их кидали или веночки сплетая, их
нимфам в дар посвящали» (I, 9).
Для творчества Лонга вообще характерно то, что у него мы
найдем лишь мирный, спокойный ландшафт — изображение
ясного дня, тенистой рощи, спокойного моря. Мы не увидим
у него грозной бури и разгула стихий, природа приветлива и
живописна. Но восхищение и преклонение перед силами природы, почитание сельских божеств, умеренные потребности,
скромность и наивность — все это лишь для избранных и благородных натур, как Дафнис и Хлоя, а не для грубых пастухов вроде Доркона, пылкого поклонника Хлои, и других, изображенных Лонгом далеко не в привлекательных красках.
На произведении Лонга можно видеть, какую значительную
роль в процессе формирования античной повествовательной
прозы сыграла риторика. Получив широкое применение
в жизни — в выступлениях общественных и государственных
деятелей, в участии ораторов в судебных процессах, — она оказала большое влияние и на литературные жанры. Поэзия
постепенно уступала место риторике, в свою очередь оказывая
на нее свое влияние. Поэтические образцы, в основном взятые
из трагедии, тщательно изучались и часто находили себе место
в ораторских речах. Создавался своеобразный стиль «поэтической прозы», где искусно перемешивались риторические
приемы и ставшие уже шаблонными поэтические описания.
Таким образом, риторы и поэты располагали целым арсеналом
«общих мест», нашедших свое отражение и в античной прозе.
Расцвет науки о языке и различных типах речи совпадает
со временем так называемой второй софистики. Особенно много
внимания уделялось в это время изучению различных стилевых приемов, установлению их, в результате чего были признаны четыре рода стилей: скудный, мощный, величественный
и сладостный (изящный).
Быть может, ни в каком другом романе, как у Лонга, не
видны столь явно и в таком чистом виде некоторые риторические правила и предписания, связанные с вполне определенной
стилистической установкой. Стремясь доставить читателям
эстетическое наслаждение, Лонг выбрал «сладостный» стиль,
отвечавший этой цели, и все приемы софистического красноречия подобраны Лонгом с точки зрения именно этого стиля 4 .
4
8 8
«История греческой литературы», т. III. М., Изд-во АН СССР, I960,
стр. 267.
Сюда относятся вещие сны (напр., I, 7; II, 23; II, 26—27;
III, 27; IV, 34), эротические мотивы, рассказы об удивительных событиях (напр., III, 28 — находка кошелька с деньгами),
наделение животных человеческими чертами (напр., IV, 14—
15) и большая роль пейзажа (напр., I, 9, 23; III, 12, 21), мифологические вставки (напр., I, 27; II, 34; III, 23), вводные эпизоды (напр., II, 3; 1, 2). Создаются маленькие риторические
декламации, как, например, прозаический гимн Эроту (II, 7)
или описание цветущего сада (IV, 2), которое мы приведем
в качестве образца данного стиля.
«И верно, прекрасен был сад у него и на царский похож.
Растянулся он на целый стадий, лежал на месте высоком,
а шириною был плектра в четыре. Сравнить его можно с лугом широким. Были в нем всякого рода деревья: яблони,
мирты, груши, гранаты, фиги, маслины; виноградные лозы
высоко вились по грушам и яблоням, и зрелые грозди чернели,
как будто с плодами соревнуясь. Такие-то были там деревья
плодовые, но были и кипарисы и лавры, платаны и сосны, на
них вместо лоз виноградных плющ вился. Большие пучки его
ягод темным цветом своим были похожи на виноградные
грозди. Деревья плодовые в середине сада росли, словно под
чьей-то охраной. А вокруг них стояли деревья, плодов не
дающие, будто стена, руками людей воздвигнутая. Все это
место было терновой изгородью обнесено. Было все разделено
и размерено в точном порядке, и ствол от ствола на равном
был расстоянье, а наверху ветви сходились друг с другом, переплетаясь листвою. И то, что сделала природа, казалось, создано
было искусством. Здесь были и грядки цветов; одни цветы рождены землею, другие искусства творение: розы, лилии и гиацинты — дело рук человека, а первоцветы, фиалки, нарциссы
растила земля сама. Летом была здесь тень, весной цветы,
осенью плоды, и в каждую пору года негою полнилось все».
Влияние риторики сказалось и на изображении характеров:
герои Лонга лишены яркой индивидуальности и мало чем отличаются друг от друга. Только Дафнис и Хлоя своей набожностью и наивностью резко выделяются среди остальных пастухов, распущенных и грубых, вроде Доркона или Ламписа.
Старшее поколение крестьян — приемные родители Дафниса
и Хлои расчетливы и трудолюбивы, представители города —
беспечны и падки на развлечения и т. д. Эта обезличенность
в показе характеров отразилась и на языке действующих лиц,
применяющих одни и те же риторические правила.
Стиль и язык Лонга представляет собой чрезвычайно интересное явление. Глубоко искусственный по своей форме, но
очень выразительный и изящный, он является любопытным
сочетанием архаических и современных приемов прозаиче8 9
бйого повествования. Так, Лонг использует, с одной стороны,
старый способ вставок в повествование сказок и мифов, а с другой — широко использует форму разговорной речи — монологи
и диалоги. Хотя сами по себе монологи, заимствованные еще
из античной драмы или созданные софистическим искусством,
и не являются совершенно новым приемом, но они выполняют
у Лонга иную роль, чем в других произведениях подобного
рода. Большинство монологов вводится для раскрытия психологии главных героев, не проявляющих себя какими-либо действиями, и рассказ-монолог от лица героя до известной степени
создает его индивидуальный образ.
Монологи и диалоги, построенные по всем правилам риторического искусства, различные по своей целевой установке,
отличаются множеством антитез и риторических вопросов.
Таковы, например, монолог Хлои, впервые почувствовавшей
пагубную власть Эрота (I, 14), или аналогичные высказывания
Дафниса (I, 18). Одни из них по своему содержанию напоминают судебные речи, как, например, при состязании Дафниса и
Доркона или при обвинении Дафниса метимнейцами, другие
построены по типу свазорий или контроверсий, вроде речи
Дафниса, сватающегося за Хлою, или просьбы Гнатона, убеждающего своего хозяина, и т. д. С помощью риторики Лонг
пытался показать внутренний мир своих героев, раскрыть их
психологию, что само по себе являлось уже достаточным новшеством.
Лонг широко использовал приемы поэтического языка —
аллитерацию, игру слов и пр. Почти на глазах у читателя
происходит своеобразное изменение поэтического жанра в прозаический любовный роман, где буколические мотивы сочетаются с эпизодами, характерными для повествовательных
жанров. В руках Лонга риторика явилась послушным орудием.
Он создал образец изящной чистой прозы, отличающейся своей
красотой и музыкальностью, что часто даже не могло соответствовать реальному изображению мыслей и чувств его героев —
простых пастухов и земледельцев.
Было бы, однако, большой ошибкою видеть в романе Лонга
только добросовестное применение правил и указаний, разработанных в школах красноречия, не принимая во внимание тех
эстетических задач, которые он себе ставил, не пытаясь распознать в нем тонкого художника, воплощающего не только
свои собственные, но и общественные идеалы при помощи разнообразных средств, бывших в распоряжении прозаиков эпохи
новой софистики.
Принадлежа, по-видимому, к высшему слою общества и
живя среди горожан и богатых свободных людей, Лонг идеализирует быт простых людей, показывая идиллические картины
9 0
из жизни крестьян и пастухов, изображая их неиспорченность
и благочестие среди нетронутой природы. Деревня по роману
«Дафнис и Хлоя» рисуется в привлекательных чертах, и жизнь
смиренных поселян идет в труде, спокойствии и общении с богами. Ограничиваясь пассивным сочувствием бедноте — крестьянам и рабам, Лонг не дает никаких собственных оценок,
а лишь констатирует отдельные факты, изображая при этом
труд, как легкое и приятное времяпрепровождение. Но несмотря на желание автора приукрасить суровую действительность и тем самым затушевать социальные противоречия,
реальная жизнь находит свое отражение в романе, хотя ни
одна из основных проблем не получает у Лонга какого-либо
разрешения.
Повесть Лонга «Дафнис и Хлоя» пользуется успехом и
у современного читателя. Это не случайно, так как она является одним из лучших высокохудожественных образцов
поздней греческой повествовательной прозы.
РОМАН ГЕЛИОДОРА «ЭФИОПИКА»
И ЕГО МЕСТО
В ИСТОРИИ ЖАНРА
1
Анализ историко-литературного значения «Эфиопики» Гелиодора наталкивается на трудности, характерные для изучения
так называемого античного романа в целом. Личность автора,
среда, в которой он работал, временное соотношение его книги
с другими образцами той же литературной линии — все это до
сих пор остается предметом более или менее сомнительных
догадок и гипотез. Все попытки выяснить место Гелиодора
в рамках литературного развития неизбежно остаются проблематичными.
В заключительной фразе произведения автор сам называет
себя. Это звучит так: «... сочинил финикиец из Эмесы, из рода
потомков Гелиоса, Гелиодор, сын Теодосия» («Эфиопика»,
кн. X, 41). Эти слова дают мало, причем неясно, можно ли
верить даже этому. Филология XIX в. склонна была приписывать жанру античного романа традицию многозначительных
авторских псевдонимов: имя Гелиодор подозрительно хорошо
соотносится со своего рода солярной теологией, которая
занимает в романе чрезвычайно много места. Подобным же
образом воспринимается имя Харитон из Афродисии, в романе
которого действительно царят Хариты и Афродита, а в имени
Ксенофонт Эфесский можно видеть намек на Ксенофонта
Афинского, автора любовной истории об Абрадате и Панфее
(«Киропедия», кн. VI и VIII) 1 . Гипотеза о псевдониме, время
от времени всплывающая и в новых работах 2 , — мало убе1
2
9 2
Ср.: Е. R o h d e . Der griechische Roman und seine Vorlaufer. Berlin,
1960, S. 498.
Ср., напр.: A. H. E г у н о в . Греческий роман и Гелиодор (предисло-
дительна: имя Гелиодор было как раз в эту эпоху очень распространенным 3 . Если мы допустим, что автор романа действительно был уроженцем такого первостепенного центра
солярных культов, как Эмеса, и притом возводил к Гелиосу
свое происхождение, т. е., по-видимому, по праву рождения
принадлежал к сакральным кругам, то совпадение его имени
и солярных мотивов в его романе было бы само по себе
исчерпывающе объяснено. И все же окончательно отмахнуться от указанной гипотезы, как это делает Вейнрейх,
называющий ее «неизящной и бездоказательной» 4, едва ли
можно. Между тем, если мы считаемся хотя бы со слабой
возможностью, что последняя фраза романа дает стилизованный псевдоним, то указание на Эмесу также отпадает. А указание это, как мы увидим, служит основанием для комбинаций, призванных выяснить время создания романа.
Кроме заключительной фразы «Эфиопики», мы располагаем
некоторым количеством свидетельств; но они еще менее
надежны. В «Церковной истории» Сократа Схоластика (кн. V,
гл. 22) утверждается, будто Гелиодор, автор романа о Теагене
и Хариклее, впоследствии принял крещение и стал епископом.
Сократ никак не датирует епископство Гелиодора. Ряд позднейших византийских авторов относит его к эпохе Феодосия Великого (379—395 гг.). Свидетельство Сократа нередко отвергается «с порога», как несостоятельная легенда 5 . По этому поводу можно заметить, что обращение языческого писателя в христианство не представляет для переходной эпохи
III — IV вв. ничего необычного, и даже путь tf епископской кафедре был нередко открыт для людей, не до конца порвавших
3
4
5
вие к кн.: Г е л и о д о р . Эфиопйка. М.—JL, 1932), стр. 66: «...приписка эта, учитывая вкус эпохи, может быть истолкована как чистая аллегория, намекающая на роль Гелиоса в этом романе...».
В предисловии к новому изданию ^перевода ( Г е л и о д о р . Эфиопика. М., 1965) тот же исследователь высказывается уже несколько
более осторожно (стр. 26).
Многочисленные примеры из позднеантичного
эпиграфического
материала для имени Гелиодор и аналогичных ему теофорных имен
приворит О. Вейнрейх (О. W e i n r e i c h . Heliodor und sein Werk. —
В кн.: H e l i o d o r . Aithiopica: Die Abenteuer der schonen Chariklea.
Zurich, 1959, S. 346).
Там же, стр. 346.
См. Е. R о h d е. Указ. соч., стр. 460—462; 471—473; F. А11 h е i m.
Literatur und Gesellschaft im ausgehenden Altertum. Bd. I. Halle,
S. 95; 0. W e i n r e i c h . Указ. соч.. стр. 350—352; A. H. E г у н о в.
Указ. соч., стр. 64—65. В защиту истинности Сократова свидетельства о епископстве Гелиодора выступали: O e f t e r i n g . Heliodorus
und seine Bedeutung fur Literatur. — «Literarhistorische Forschungen»
XVII. Berlin, 1901. R. R a t t e n b u r y . Preface. — В кн.: H ё 1 i о d о г е.
Les Ethiopiques (Theagene et Chariclee), v. I. Paris, 1935.
9 3
с язычеством 6 . Если исходить из самого текста «Эфиопики», то
хотя и неоспоримо, что автор во время работы над ним был язычником, в то же время в романе проявляется, не говоря уже об
общем интересе к религиозно-философским вопросам и сакральной морали, еще и какое-то знакомство с иудейско-христианским кругом идей (необычное для языческого автора использование Филона Александрийского) 7 . Таким образом, текст
не исключает истинности свидетельства Сократа, но и никак
не подтверждает.
Итак, непосредственных сведений о времени жизни Гелиодора невозможно извлечь ни из его произведений, ни из свидетельств потомков. Остаются вторичные построения и соображения. Ряд ученых пытались сделать основой для таких построений приверженность Гелиодора к культу Гелиоса и его
связь с Эмесой. Все эти попытки сводятся к подысканию
между III — IV вв. такого момента, когда популярность солнечного культа особо возрастала; к этому моменту и относится
Гелиодор. Беда в том, что таких кульминаций солярной религии в последние века язычества было слишком много (не говоря уже о том, что само ее существование собственно не
прерывалось). Отсюда ряд одинаково убедительных и одинаково недоказуемых гипотез.
У Э. Роде гелиодоровская проповедь культа Солнца вызвала
ассоциации с царствованием Аврелиана (270—275 гг.) 8 . Как
известно, этот император связывал судьбы своей державы
с покровительством Гелиоса и воздвиг последнему в Риме
грандиозное святилище. В качестве альтернативы к этой
6
7
8
9 4
Красочное описание этой практики содержит знаменитое письмо
императора Адриана (SHA, Vita Saturnini, 8): «Кто в Египте почитает Сараписа, одновременно христианин, и люди, называющие
себя христианскими епископами, в то же время воздают поклонение Сараггасу; каждый настоятель синагоги, каждый самарянин,
каждый христианский священник занимается там магией, прорицаниями, колдовством. Когда в Египет приезжает патриарх, одни
заставляют его служить Сарапису, другие — Христу». Эльвирский
собор (около 305 г.) в каноне 55 специально предусматривает случай, когда христианский священник исполняет обязанности языческого жреца. Сипесий был в начале V в. избран в епископы прямо
из мирян, причем он оговорил для себя не только право на семейную жизнь, но и свободное отношение к церковным догмам при
сохранении
верности
традициям
языческой
философии
(ср.
G. G r i i t z m a c h e r . Synesius von Kyrene. Leipzig, 1913; Ch. L а с о mb r a d e . Synesios de Cyrene, Hellene et Chretien. Paris, 1951).
«Эфиопика», IX. 9 содержит текстуальное заимствование из «Жизнеописания Моисея» Филона (III, 24). Следует отметить, что в эпоху
III—IV вв. сочинения Филона пользовались популярностью почти
исключительно среди христиан. Ортодоксальные иудеи к этому времени Филона отвергли, язычники, как правило, его не зналц,
См. Е. R h о d е. Указ. соч., стр. 496.
эпохе Э. Роде приходит в голову пора языческой реакции йрй
императоре Юлиане Отступнике (361—363 гг.), который был
горячим приверженцем солярных культов и сам написал знаменитую речь «О Царе Солнце»; но эту альтернативу исследователь немедленно отвергает на том достаточно сомнительном
основании, что «непринужденная» языческая религиозность
Гелиодора не соответствует духу эпохи Юлиана, ибо не
похожа ни на проповеднический тон самого этого авторамонарха, ни на сложные теологические построения Ямвлиха.
На это достаточно возразить, что и в эпоху Юлиана не всякий
язычник был непременно воинствующим религиозным деятелем (как сам Юлиан) или профессиональным философом (как
Ямвлих). Сам же Роде признает, что религиозные настроения
таких риторов, как Либаний или Гимерий, имели совершенно
*иной характер и были достаточно «непринужденными». Это
замечание отнимает убедительность у всего предыдущего хода
доказательств 9 .
В 1935 г. Рэттенбери указал на другую эпоху увлечения солярной религией — на время царствования династии Северов
(193—235 гг.) 10. Его доводы сводятся к тому, что настроения
эпохи Северов и эпохи Аврелиана были в принципе вполне
схожими, однако близость специально между «Эфиопикой» и
принадлежащим Флавию Филострату (так называемому Филострату II)
«Жизнеописанием Аполлония Тианского» заставляет отнести роман Гелиодора к ближайшим десятилетиям
после написания сочинения Филострата (после 217 г.). Однако
довод этот также стоит немного: хотя бы на Ьримере «Правдолюбивого слова» Гиерокла (антихристианский трактат, написанный около 300 г. и противопоставляющий Аполлония
Христу) очевидно, что читать роман Филострата и увлекаться
его героем не переставали и много позже (ср. также SHA,
Vopisc. Aurel, XXIV).
Датировку Рэттенбери пытался заново обосновать и уточнить
Альтхейм и . Его доводы построены на предположении, что
роман Гелиодора есть документ религиозной пропаганды очень
специфического характера, идеи которого можно соотнести
с замкнутым кружком эмесских жрецов. Насколько основателен такой подход к произведению Гелиодора, мы попытаемся
выяснить во второй части настоящей статьи. Однако даже
9
Доводы Роде обнаруживают характерное для XIX в. с его романтическим интересом к личности Юлиана условное представление
о IV в. как об эпохе, когда все «последние язычники» были поглощены отчаянным отстаиванием своей гибнущей веры. Реальность
IV в. была прозаичней и в то же время гораздо сложнее этих представлений (см. выше сноску 6).
10
И. R a t t e n b u r y . Указ. соч., предисловие.
11
F. А 11 h е i m. Указ. соч., стр. 94—124.
9 5
в том случае, еСли он безупречен, построить на нем датировку
невозможно, ибо сам Альтхейм вынужден признать, что никаких прямых указаний не только на конкретные события
религиозной борьбы эпохи Северов, но и на специально «эмесскую» сущность прославляемого автором Гелиоса в романе
найти невозможно. Попытка исследователя найти свидетельство в самом его отсутствии (см. ниже) может быть остроумной — убедительной она не может быть. И все же нужно сказать, что при всей зыбкости построений Альтхейма они и до
сих пор принимаются рядом исследователей 12.
Другой ряд попыток датировки романа основывается не на
его идеологии, а на его реалиях 13. Этот путь ложен по самому
своему существу по той причине, что произведение Гелиодора
в силу своих жанровых законов изображает не современность,
а времена неопределенной старины 14. Если, например, Гелиодор изображает племя блеммиев подданными Мерой («Эфиопика», IX, 16), то из этого никоим образом не следует
(вопреки построениям тех же Альтхейма и Вейнрейха) 15, что
в момент, когда Гелиодор писал соответствующие страницы
своего труда, блеммии еще не успели отделиться от Мерой
(это отделение произошло после 250 г.). Равным образом, даже
в том случае, если бы Гелиодор жил после движения так
называемых дромадономадов (в 284—305 гг.) и был о нем
осведомлен, — первое само по себе еще не предполагает непременно второго, — ему не было никакой необходимости во
что бы то ни стало вставлять упоминание о дромадономадах
в свой роман: в интересах стилизации он должен был скорее
избегать слишком грубых анахронизмов. Поэтому и попытка
Альтхейма усмотреть в упомянутом движении terminus ante
quern должна быть признана неубедительной 16.
Что касается попыток связать военные реалии IX книги
«Эфиопики» с определенной персидской кампанией, то они
остаются ненадежными просто из-за того, что на протяжении
III—IV вв. таких кампаний было несколько. На основании
одних и тех же мест романа (осада Сиены — IX, 1—6, оштса12
13
14
15
16
9 6
Т. S z е р е s s у. Die Aithiopica des Heliodor und der griechische sophistische Liebesroman. — «Acta Antiqua», 5, 1957, S. 241—259;
H. G a s s e . Nachwort. — В кн.: H e l i o d o r . Die athiopischen Abe ateiier von Theagenes und Charikleia. Leipzig, 1957.
M. H. A. L. H. van der V a l k . Remarques sur la date des Ethiopiques
d'Heliodore. — «Mnemosyne», 9, 1941, p. 97—100; A. G о 1 о n n a.
L'assedio di Nisibis nel 350 d. с. e la cronologia di Eliodoro Emeseno. — «Atheneum», 1950, № N. S. 28—38, p. 79—87.
См.: A. H. E г у н о в . Указ. соч., стр. 35.
F. A l t h e i m . Указ. соч., стр. 112; О. W e i n r e i c h . Указ. соч.,
стр. 347.
Там же, стр. 119.
ние персидской конницы — IX, 14—15) Альгхейм 17 относит
роман к эпохе Северов (военные действия 232—233 гг.), а ван
дер Вальк 1 8 и Колонна 19 — к IV в. (военные действия 350 г.).
Из этой группы доводов несколько более обоснованны соображения двух последних исследователей: они сосредоточивают
свое внимание не на экфразе так называемых катафрактов
(тяжеловооруженная персидская конница), которые были
хорошо известны греко-римскому миру, но на описании необычного приема, примененного при осаде Сиены в романе,
а в действительности — при осаде Нисибиды в 350 г. Существенно, что Юлиан (будущий император—«Отступник»),
описывая военные действия под Нисибидой в двух своих речах
(Orat., I, 22—23; III, 11 — 13), подчеркивает, что такого метода
осады никто никогда не знал ранее, — следовательно, едва ли
Гелиодор мог использовать сведения о других случаях этой же
тактики. К тому же ван дер Вальк и Колонна выявляют
у Юлиана и Гелиодора некоторые текстуальные совпадения,
впрочем, вполне естественные при описании одного и того же
предмета (Orat., Ill, 12 и Hel., IX, 8). И все же даже такие доводы не обладают окончательной убедительностью, так как словам Юлиана об уникальности описываемых им событий не приходится безусловно верить: такие заявления входят в почти
обязательную топику риторических экфраз, а Юлиан подходил
к своему предмету именно как ритор. Следовательно, соображения ван дер Валька и Колонны в лучшем случае правдоподобны, но не бесспорны.
Итак, позитивный результат всех попыток, датировки достаточно скуден: «Эфиопика» была создана в пределах отрезка
времени между эпохой Северов и второй половиной IV в.,
в этом убеждает и стилистический анализ: он не помогает сделать выбор между III или IV вв.20, но во всяком случае показывает, что роман Гелиодора возник не раньше эпохи Северов и
не позже эпохи Феодосия I 2 1 . Из этой датировки, при всей ее
неопределенности, все же можно извлечь один вполне определенный вывод: «Эфиопика» стоит не в начале и не в середине,
но в конце жанровой эволюции греко-римского романа. Особенна важно для понимания литературной формы произведения Гелиодора уяснить себе его хронологическую соотнесенность с романом Ахилла Татия «Левкиппа и Клитофонт». На
сходство обоих сочинений обратил внимание еще Фотий («Библиотека», 87, р. 66 А), и для Роде было аксиомой, что Ахилл
17
18
19
20
21
Там же, стр. 115.
Van der V а 1 к. Указ. соч., стр. 100.
А. С о 1 о n п а. Указ. соч., стр. 79 сл.
См. О. W e i n r e i c h . Указ. соч., стр. 349.
Там же. стр. 350.
7
Античный роман
97
Татий подражал Гелиодору 22 . Получалась довольно убедительная и наглядная историко-литературная схема. После того, как
Гелиодор разработал эротическую топику в серьезном духе,
оставалось только перевести эту топику в плоскость пародии,
снизить и огрубить ее, что будто бы и осуществил Ахилл Татий 2 3 . Однако в результате папирусных находок выяснилось,
что роман Ахилла Татия во всяком случае древнее начала
IV в., а возможно, что он относится ко II в.24 Это радикально
меняет соотношение между «Левкиппой и Клитофонтом» и
«Эфиопикой». В настоящее время общепринято мнение, что
не первый роман представляет собой травестию второго, но,
напротив, второй роман переводит мотивы первого в «возвышенный план» 2 5 . Из этого и приходится исходить при историко-литературной характеристике «серьезности» Гелиодора.
Так обстоит дело с датировкой «Эфиопики». Что касается
личности ее автора, то бесспорно, что им был человек, глубоко связанный с греческой образованностью и преклонявшийся перед ней. Существенпо, что эта греческая образованность приобретает у него отчетливые черты космополитизма,
нагляднее всего выразившиеся в эпитете «эллин»* который
приложен к египтянину Каласириду (IV, 17). Эллинская духовная культура придана всем положительным персонажам
«Эфиопики», включая упомянутого Каласирида, Гидаспа,
эфиопских гимнософистов, наделенных явственными чертами
пифагорейских мудрецов 23 , и т. п. Греческий идеал образованности в романе совершенно оторван от этнического «эллиыства». В этом отношении характерно, что устами Каласирида
сам Гомер сделан египтянином (III, 14). Безусловно, космополитическое истолкование понятия «эллин» было в духе эпохи
Римской империи, хотя все же прирожденные греки сдержанно
сопротивлялись этому и с особенной любовью рисовали жизнь
«настоящей» Греции (Плутарх, «Эвбейская речь» Диона Хрисостома, «Дафнис и Хлоя» Лонга). Напротив, позиция Гелиодора заставляет думать, что он был эллинизированным жите22
23
24
25
26
9 8
Е. И о h d е. Указ. соч., стр. 501, 514.
Там же, стр. 514. См. также: W. von C h r i s t и. О. S t a h l i n .
Geschichte der Griechischen Literatur, V. Auflage unter Mitwirkung
von W. Schmid, II. Teil. Miinchen, 1913, S. 854—855.
Особое значение имеет находка А. Вольяно, датируемая II в. См.:
«История греческой литературы», под ред. С. И. Соболевского и др.,
т. Ill, М., Изд-во АН СССР, 1960, стр. 265; «Вопросы античной литературы в зарубежном литературоведении». М., Изд-во АН СССР,
1963, стр. 74.
О. W e i n r e i c h . Указ. соч., стр. 347.
Подобным же образом Филострат отчетливо стилизует под пифагорейский идеал индийских брахманов («Жизнеописание Аполлония», кн. III и др.) и, что особенно примечательно, гимнософистов,
которые обитают в Эфиопии (кн. VI, 1—28).
лем Востока, связанным с эллинством через образование, но
чуждым ему этнически. Едва ли можно согласиться с решительными утверя^дениями А. Н. Егунова о греческом происхождении Гелиодора 27 . Насколько нам известно, никто еще
не обращал внимания па следующую интересную черту:
в «Эфиопике» все греки, на какую бы высоту они ни были
подняты автором, наделены той или иной степенью коварства:
коварна не только злодейка Демэнета, не только Кнемон и
Навсикл, но даже Хариклея (последняя, разумеется, с самыми
безупречными намерениями). Каласирид так характеризует ее:
«Кажется, ты мастерица измышлять против посягателей
всякие притворства и отговорки» 28. Идеальные греческие
герои Гелиодора систематически руководствуются принципом:
«Прекрасна порою и ложь, если она приносит пользу высказывающим ее и ничем не вредит слушающим» (I, 26).
Напротив, «если все греки, даже герои, лукавят, то все
варвары, даже злодеи, наделены чертой простодушия. Наивность характеризует Митрана, Фиамида, Фермуфида при всей
их грубости и разнузданности страстей. Простодушны даже
разбойники, по невежеству принимающие Хариклею за одушевленный кумир богини. Такое распределение черт хитрости
и простодушия между греческими и варварскими персонажами проходит через весь роман. Между тем психологически
несравненно вероятнее представить себе людей чужой национальности — даже вызывающих преклонение — хитрыми, коварными, непроницаемыми, а соотечественников — более простодушными, доверчивыми и понятными.- Это еще раз
убеждает в том, что Гелиодор был эллином по образованию,
но не по этническому происхождению.
Итак, автор «Эфиопики» работал на Востоке (вполне вероятно, что указание на Эмесу правдиво) в III или IV в.; почти
несомненно, что он уже имел возможность ознакомиться и
в самом деле ознакомился с «Левкиппой и Клитофонтом»
Ахилла Татия. Все остальные домыслы о нем, к сожалению,
ненадежны.
%
2
Уже при первом рассмотрении «Эфиопики» бросается в глаза черта, отличающая ее от других образцов греческого любовного романа: присутствие наряду с эротико-авантюрным материалом большого количества мотивов, образов и рассуждений,
28
А. Н. Е г у н о и . Указ. соч., стр. 67.
VI. О, исрев. А. Ы. Егунова.
7*
99
относящихся к совсем иным областям — к религии, мифологии, религиозной философии и религиозной морали.
Поскольку внедрение этого материала составляет специфику романа Гелиодора сравнительно с жанровой линией в целом, необходимо ответить на два тесно связанных между
собой вопроса:
1) Имеет ли данный круг мотивов для самого автора
сколько-нибудь принципиальное значение?
2) Как он соотносится с «легкомысленной» (т. е. любовноавантюрной) стороной произведения?
Первый вопрос до сих пор получает в научной литературе
самые взаимоисключающие решения. Крайние точки зрения
здесь представлены Альтхеймом и Капелле.
По мнению Альтхейма (см. выше), Гелиодор сознательно
поставил перед собой задачу пропаганды эмесского культа
Солнца. Эта задача якобы определяет весь облиД «Эфиопики»,
которая тем самым попадает в сферу религиозной литературы,
оказываясь памятником своего рода языческой теологии. Если
принять эту гипотезу, цель Гелиодора — ни больше нил5меныпе
как вербовка прозелитов во имя Гелиоса как универсального и
верховного божества, и притом специально для эмесского
культа Гелиогабала. Ученого не останавливает то обстоятельство, что Эмеса названа в романе только один-единственный
раз в качестве родины автора, так что с самим Гелиосом она,
собственно, нигде непосредственно не связывается, и что никакого следа таких религиозных реалий, мифологических мотивов, культовых наименований и т. п., которые можно было
бы охарактеризовать как специфически эмесские, в романе
обнаружить не удается.
Чтобы как-то объяснить этот факт (в самом деле, что же
это за пропаганда местного культа, в которой этот культ не
назван ни разу по имени), Альтхейм принужден прибегнуть
к сложному построению: после скандальной попытки Гелиогабала (218—222 гг.) придать эмесскому культу общеимперское первенство перед всеми другими этот культ оказался
скомпрометированным, и поэтому его миссионеры должны были
соблюдать осторожность. Это построение остроумно, но не
выдерживает критики даже само по себе, в отвлечении от
текста «Эфиопики». Источники ничего не сообщают о каких
бы то ни было религиозных гонениях или хотя бы недружелюбном отношении к эмесскому культу после падения Гелиогабала. Выстроенный последним в Риме храм в честь эмесского бога остался чтимым святилищем (Lamprid., Heliog. 17),
не говоря уже о том, что в самой Эмесе святилище продолжало так же благоденствовать вплоть до времен Аврелиана
(Vopisc. Aurelian. 25).
1 0 0
Но дело даже не в этом. Решающим остается факт, по
сути дела не оспоренный как факт даже самим Альтхеймом:
религиозность «Эфиопики» не содержит в себе ничего специфического, специального, особого — ничего, что выделяло бы
ее на фоне довольно расплывчатых «богоискательских» настроений, общих для широких кругов образованных людей поздней античности. Это не особое учение, заново продуманное и
вербующее себе прозелитов. Культ Солнца, повышенный интерес к таинственной восточной мудрости гимнософистов, увлечение магическими упражнениями и т. п. — общие места для
всей эпохи в целом, то, что объединяло таких различных
людей, как беллетрист типа Филострата (для которого такие
мотивы — простая «топика»), как философ неоплатонического
стиля (для которого они — основа для диалектических построений) и как рядовой образованный обыватель (для которого они — просто отдушина и выход из житейской прозы).
И в романе Гелиодора эти мотивы занимают ровно столько
места, сколько необходимо было, чтобы образованный и уважающий себя читатель с удовлетворением отметил, как впоследствии Фотий, что в книге «приводятся поучительные сентенции, богословские замечания и несколько наблюдений над
движущейся сферой» 29 , а следовательно, ее можно читать,
не стыдясь такого времяпрепровождения.
Неоднократно, начиная с Роде 3 0 , делались попытки связать роман Гелиодора с определенным философским (или, по
Роде, теологическим) направлением, а именно с неопифагореизмом. Для Сепеши религиозно-философское содержание
«Эфиопики» определяется неопифагореизмом или неоплатонизмом 31 . Но с «философскими» мотивами - в романе Гелиодора
дело обстоит так же, как и с религиозными. Это не проповедь
какой-то четкой доктрины, противостоящей другим доктринам,
но коллекционирование общих мест, характеризующих не
автора, но лишь эпоху в целом.
Что касается неопифагореизма, то набор основных неопифагорейских мотивов, как они известны по филостратовскому
«Жизнеописанию Аполлония Тианского» (мистико-теургическпй дух с%налетом своего рода оккультизма, этика чистоты и
29
30
31
Фотий, «Библиотека», кодекс 73, перев. А. Н. Егунова (Указ. соч.,
стр. 70). Позднеантичному (и византийскому) читателю, претендовавшему на серьезные духовные интересы, приходилось специально
оправдывать свое увлечение романами. Об этом красноречиво свидетельствует, в частности, тон «Толкования пз уст Филиппа Философа относительно целомудренной Хариклеи», приведенного в той
же статье Егунова (стр. 67—68).
Е. R o h d e . Указ. соч., стр. 466—471.
Т. S z е р е s s у. Указ. соч., стр. 243.
1 0 1
Целомудрия, особое почитание солнечного божества, религиозное просветительство в духе «возвышенных» представлений
о богах), действительно полностью представлен в «Эфиопике».
Каласирид — это тип «посвященного» в неопифагорейском
духе и излагает целую теорию теургической «мудрости»
(III, 16). Мотив целомудрия не только лежит в основе романа
в целом, но своеобразно подчеркнут чисто ареталогическими
деталями (золотой жертвенник, к которому могут прикасаться
только целомудренные люди — X, 8; чудесное спасение от огня
героини-девственницы — VIII, 9), встречающимися, между
прочим, и в топике христианских рассказов о непорочных мученицах 32 . Мистическое отождествление Аполлона и Гелиоса
(X, 36) соответствует рассуждениям Плутарха («Об «Е»
в Дельфах», 4, р. 386). Наконец, претензии на реформу народных религиозных обычаев и представлений в направлении
большей «духовности» выражены в отмене по внушению мудрых гимнософистов обычая человеческих жертвоприношений
в Эфиопии (X, 39).
Но очевидно, что все это складывается не в философскую
(или хотя бы религиозную) доктрину с определенными границами, но в расплывчатую картину позднеантичного «богоискательства» в целом. Неопифагореизм и был таким обобщением настроений образованного общества Римской империи,
тянувшегося к мистике. Книга Флавия Филострата об Аполлонии Тианском дает не философское учение, но житейский
идеал «пифагорейской жизни». Поэтому нельзя ставить рядом
неопифагореизм и неоплатонизм. На бытовом уровне, на
уровне общего настроения между ними не было никакого различия (в этой плоскости неоплатонизм без остатка вобрал
в себя неопифагореизм и продолжил его), но на этой эмоциональной основе неоплатонизм построил действительно оригинальную строгую философскую систему. В неопифагореизме
Аполлония Тианского такой системы не было. Тем более нет
ее у Гелиодора. Ничего специфически неоплатонического
в «Эфиопике» нет и не может быть (настоящий философ неоплатонического типа не стал бы писать для распространения
своих взглядов эротический роман). Что касается неопифагореизма, то он, действительно, весьма существенно влияет на
топику романа, но именно не как философская система, а как
настроение.
Другая крайность в оценке серьезности религиозно-философских мотивов у Гелиодора представлена в статье В. Ка32
1 0 2
HroLsvillia von G a n d e r s h e i m. Dulcitius (sive passio sanctarum
virginum Agapis, Chionae et Hirenae). В кн.: II. K u s c h . Einfuhrung
in das lateinische Mittelalter, I3d. I. Berlin, 1957, S. 162,
пелле 33 . Капелле настаивает на том, что поскольку Гелиодор
был «риторическим софистом, лишенным всякой глубины
этоса» 34, то он не мог иметь никакого «внутреннего отношения» к вопросам религии и этики. Исследователь исходит из
крайне суженного представления о природе античной риторической стихии, которая на деле достаточно органично вбирала
в себя самые разнообразные темы философского порядка. «Софист» — это и есть такой ритор, который свободно вращается
13 кругу философских вопросов. Рассуждения о «внутреннем»
или «внешнем» отношении автора к своим мотивам бесплодны
уже по причине своей субъективности и недоказуемости. Ими
подменяется совершенно объективная проблема места, которое
занимает та или иная топика в художественном целом произведения. Мы не знаем, как относился Апулей в глубинах своей
души к культу Исиды — ведь он тоже был «софистом», для
которого на переднем плане стояли чисто литературные интересы; но отрицать на этом основаниии объективные функции
XI книги «Метаморфоз» в формировании литературного лица
этого сочинения было бы странно. То обстоятельство, что
«Эфиопика», оставаясь эротическим романом, выделяется на
фоне прочей литературы этого направления своим повышенным
интересом к топике, изначально данному жанру чуждой, есть
факт достаточно важный вне всякой зависимости от того,
оценим ли мы авторское отношение к своей топике как
«внешнее» или как «внутреннее».
Помимо вышесказанного, следует заметить, что положение
о «несерьезности» Гелиодора опирается на некоторые ошибочные толкования текста, например, эпизодов, связанных с образом Каласирида. Двуполярность этих эпизодов отметил в свое
время Роде, подчеркивавший, что Каласирид представляет для
автора «идеал богоугодной жизни» 35, и наряду с этим указывавший, что «образ Каласирида удивительнейшим образом сочетает черты мудрого божественного мужа и прожженного
в плутнях египтянина» 36. Здесь имеется в виду прежде всего
эпизод 13 главы V книги, относительно которого А. Н. Егунов утверждал, что, прочтя его, приходится «усомниться в религиозности Гелиодора или, по меньшей мере, сказать, что
гелиодоровское понимание религии имеет мало общего с современной ему религиозностью» 37.
33
30
36
37
W. С а р е 11 е. Zwei Quellen des Heliodor. — Rheinisches Museum, 90,
1953, S. 166—180.
Там же, стр. 167.
E. R о h d е. Указ. соч., стр. 469.
Там же, стр. 477.
А. Н. Е г у н о в. Указ. соч., стр. 62.
1 0 3
Это но совсем точно в двояком отношении. Во-первых,
склонность Каласирида с высоты своей «посвященности» морочить непосвященных, которая действительно с немалым
юмором обыгрывается в «Эфиопике», как раз с точки зрения
«современной ему религиозности», т. е. в контексте эсотерической этики религиозных сообществ греко-римского мира, оказывается гораздо менее недопустимой, чем в мире других
нравственных представлений. Такова логика концепции «посвященности»:
посвященный
среди непосвященных — это
взрослый человек среди детей, а детей можно и нужно для
их же пользы обманывать. Мудреца это нисколько не может
унизить. Даже в «Жизнеописании Аполлония Тианского», где
самое серьезное отношение автора к герою стоит вне сомнения, Филострат с удовольствием описывает, как Аполлоний
морочит своего ученика и спутника — простодушного Дамида
(I, 23). Во-вторых, комические аспекты образа Каласирида,
имея в виду которые Егунов находил возможным назвать
этого героя «не то античным «салонным аббатом», не то прямотаки Калхасом из «Прекрасной Елены» 38, сосуществуют с совершенно иными аспектами: Каласирид — это жрец-наставник,
жрец-провидец, наделенный в соответствии с восточными представлениями
сверхчеловеческой
прозорливостью,
которая
играет в романе, в его композиционной структуре совершенно
особую роль.
Если эротический роман обычного типа всецело определен
в своем построении идеей слепой судьбы, — идеей, вокруг которой строится вся топика романа, — то в «Эфиопике» присутствует человек, способный прозреть в слепой судьбе волю богов
и с сознательной покорностью отнестись к этой божественной
воле, сотрудничать с ней и прокладывать ей путь, и этот человек — Каласирид. Благодаря ему открывается просвет из мира
слепой случайности в мир разумного провидения. Отрицать
существенную важность этого мотива для всей мировоззренческой и образной системы «Эфиопики» едва ли возможно.
И все же фигура Каласирида двуполярна: он действительно
не только «божественный мудрец», но и «прожженный египтянин». Момент иронии проглядывает и в других идеальных
образах «Эфиопики»: если Хариклея — не только непорочная
дева, но и ловкая плутовка, то Феаген — не только безупречный герой, но и безвольный, легко впадающий в панику и
проливающий слезы молодой человек, что колоритно контрастирует с его ахилловской внешностью (например, V, 6, где
Хариклея вынуждена утешать и урезонивать своего отчаявшегося возлюбленного). Зачем это нужно было Гелиодору,
38
1 0 4
А. Н. Е г у н о в. Указ. соч., стр. 62.
какое место занимает ироническая окрашенность как раз
самых идеализированных образов в его замысле?
По-видимому, эта черта связана с претензиями автора на
утонченность, что делало для него невозможной простодушную
серьезность Харитона. «Эфиопика» — продукт верхушечной
литературы (или, во всяком случае, литературы, стремящейся
быть верхушечной). Недаром великосветские писатели Франции XVII—XVIII столетий признали Гелиодора своим наставником 39 . Но для слоев, считающих себя верхушкой, элитой,
для психологии «света»
слишком
серьезное
отношение
к нравственным, религиозным и прочим «святыням» легко
воспринимается как проявление недопустимой примитивности;
это слишком простонародно. О почтении к этим святыням
может быть заявлено очень громко (и даже достаточно
искренно), но почтение должно быть сдобрено иронией. Травестийные мотивы у Гелиодора характеризуют поэтому не
столько отношение автора (и читателя, мыслимого автором по
своему образу и подобию) к своим героям, сколько его позицию по отношению ко всему миру в целом — позицию вежливого превосходства.
Кроме того, источником иронии и пародии в романе Гелиодора по необходимости была его жанровая природа, вступавшая в противоречивые отношения с попытками «облагородить»
эту природу внедрением религиозно-философского материала.
По сути дела, вся история так называемого античного романа
есть история попыток преодолеть его жанровую неполноценность и сделать его приемлемым для «большой'литературы».
Для решения этой задачи открывалось три пути. Во-первых, писатель, чувствующий себя прикосновенным к «большой
литературе», может заниматься низовым и развлекательным
жанром, не принимая его всерьез и делая его объектом пародийной игры (так Петроний переводит приключенческие сюжетные схемы эротического романа в плоскость романа плутовского). В меньшей степени сюда может быть причислен
Лхилл Татий.
Другой выход состоял в том, чтобы приобрести большую
ннутреннюю свободу по отношению к сюжетной схеме и перенести центр тяжести на детали, допускающие сближение романа с более «благородными» и классическими жанрами.
Так Лонг отодвинул топику похищений, кораблекрушений,
плена и т. п. на задний план и за счет этого связал роман
с буколической традицией. Наконец, третий, компромиссный
путь заключался в том, чтобы сохранить сюжетную схему
в своих правах, но насытить текст разного рода «серьезными»
39
Ср. там же, стр. 77—79.
1 0 5
мотивами, ради которых высокообразованный читатель сможет
с иронической терпимостью отнестись к условностям жанра.
Мы видели, что «Эфиопика» может быть без затруднений
объяснена как образец третьего варианта. «Серьезные» мотивы
г. структуре романа не настолько сильны, чтобы пересилить его
жанровую сущность. Поэтому всякие попытки интерпретировать произведение как философский или теологический трактат заведомо несостоятельны. Но эти мотивы все же вносят
достаточно важные поправки в общую жанровую схему, определяя собой специфически «гелиодоровский» тип романа.
Отсюда двойственность облика «Эфиопики». Это как бы самое
серьезное сочинение в ряду легкомысленных, но самое легкомысленное в ряду серьезных (отзывы византийских авторов
показывают, что читатель, стоявший еще в ряду непрерывной
традиции позднеантичного отношения к литературе, так его и
воспринимал). В таком произведении образы героев также не
могли не оказаться двойственными, колеблющимися между
экзальтированным пафосом и снижающей иронией. Этого требовала литературная ситуация, в которой работал Гелиодор.
РОМАН О НИНЕ И ДРУГИЕ
ПАПИРУСНЫЕ ОТРЫВКИ
ГРЕЧЕСКОГО РОМАНА
Кроме романов, сохранившихся полностью или во фрагментах и пересказах у поздних авторов, с конца XIX в. стали
известны еще некоторые папирусные отрывки романов, найденные в различных местах Египта.
При изучении греческого романа необходимо принимать во
снимание и этот дополнительный, но ценный материал, который, несомненно, обогащает наше представление о романном
жанре в целом и позволяет уточнить ряд вопросов конкретного плана.
В настоящее время мы располагаем по меньшей мере десятью небольшими папирусными текстами, бесспорно принадлежащими роману
Все найденные папирусные отрывки греческих романов относятся к промежутку времени от I в. до н. э. до начала IV в.
п. э., убедительно свидетельствуя этой датировкой о длительном пути развития романа, показывая, что становление его
как жанра следует относить не ко времени расцвета второй
софистики, как полагали исследователи, не знающие еще о находках, а к концу эллинистической эпохи, т. е. к I в. до н. э.
Палеографические особенности и состояние папирусов дали
возможность пересмотреть и радикально изменить концепцию
Роде 2 относительно хронологии всего жанра романа и его
отдельных образцов.
1
Издания текстов новых папирусных отрывков см. в кн.: F. Z i Earn е г ш a n п. Griechische Roman-Papyri und verwandte Texte.
Heidelberg, 1936. Переводы отдельных отрывков сделаны по этому
изданию.
Е. R о h d е. Der griechische Roman und seine Vorlaufer. Leipzig, 1914.
1 0 7
Если, например, до открытия файумского и оксиринхского
папирусов, принадлежащих II в. и. э. и содержащих отрывки
из романа Харитона 3 , бесспорным считалось утверждение
Роде о возникновении этого романа в IV в. н. э., то после
опубликования фрагментов эта точка зрения была отвергнута
как совершенно несостоятельная, и время рождения романа Харитона было отнесено к дософпстическому периоду развития романа, т. е. к концу I—началу II в. и. э.
Подобным же образом открытие фрагмента из романа Антония Диогена, который Роде считал самым древним романом, вернее, переходной формой от романов-путешествий
к классическому любовному роману, показало, что роман
«Невероятные приключения по ту сторону Фулы» относится
к более поздней фазе развития романа и что он вовсе не был
лишен любовной темы, еще до него представленной в анонимном романе о Нине, о найденных фрагментах которого
Роде еще не мог знать.
Далее, оксиринхские папирусные фрагменты из романа
Ахилла Татия позволили ученым на основании палеографических данных отвергнуть еще одно ошибочное положение
Роде — позднюю датировку этого романа и признать временем написания его нс^ V и даже не VI в., а II в. н. э.4
Большая часть папирусных фрагментов датируется, разумеется, лишь приблизительно I—II вв. н. э. Таковы фрагменты романа о Нине (I в. до н. э.), о царевне Хионе (I—
II вв. н. э.), о Герпиллиде (начало II в. н. э.), о Метиохе и
Парфеноне и фрагменты о Каллигоне (II в. н. э.). Другие
фрагменты отнесены к более позднему времени (III в. н. э.).
Открытия фрагментов на папирусах тем именно и важны,
что они обнаруживают следы наличия романа еще в недрах
эллинизма и подтверждают непрерывность хода развития романного жанра вплоть до конца Римской империи.
Итак, повторяем, в вопросе становления романа как жанра
отрывки сыграли не последнюю роль, подтверждая своей принадлежностью романам не развитой и уже определившейся
устойчивой формы, а более ранним романам, то, что уже
к I в. н. э. роман существовал (такой роман, на котором еще
не сказалось влияние изощренной софистической риторики),
и не просто существовал, но и получил широкое распростра3
4
1 0 8
В. G r e n f e l l , A. H u n t , D. H o g a r t h . Fayum Towns and their
Papyri. London, 1900. № 1; B. G r e n f e l l and A. H u n t . Oxyrhinchus
Papyri, 1900, VII, № 1019.
См.: О. W e i n r e i c h . Der griechische Liebesroman (послесловие
к переводу «Эфиопики» Гелиодора: «Aithiopika». Zurich, 1950,
S. 323—345). Подробнее обо всех фрагментах, принадлежащих известным романам, см. в соответствующих разделах наст. изд.
нение в качестве массового развлекательного чтения. Об этом
говорят места находок — небольшие селения Египта.
Естественно предположить, что эти романы были обращены
не к высшему разряду читающей публики, а к рядовому ее
составу, не слишком искушенному в вопросах стиля.
Ряд отрывков, лишенных всякого софического искусства,
отличается общностью мотивов мифологического или исторического характера, свойственных романам первой стадии
развития, краткостью изложения, а также, по-видимому, простотой построения сюжета, если, конечно, позволено высказать какие-то соображения о композиции сочинения, владея
очень незначительными, порой в несколько строк, да к тому
же и испорченными, текстами.
Основная часть фрагментов носит любовно-приключенческий характер (о Хионе, о Метиохе и Парфенопе, о Каллигоне), но встречаются фрагменты и с историческим содержанием (о сыне царя Сезонхосиса), а также с фантастическим
(как, например, отрывок о Главкете и явившемся ему призраке), правда, эти последние имеют лишь сомнительную
принадлежность роману.
Среди всех этих отрывков на папирусах особенно значительны по своей роли в истории развития жанра романа и
интересны по содержанию отрывки самого древнего из числа
известных нам романов анонимного романа об ассирийском
царе и полководце Нине. Кроме того, это были вообще самые
первые находки папирусных романных фрагментов, за которыми последовал ряд других открытий.
Отрывки из романа о Нине найдены в Египте в конце
прошлого столетия и опубликованы У. Вилькеном 5 .
Исследователи, опираясь на характер письма и его лингвистические особенности, а также на состояние папирусов,
относят время написания романа примерно к I в. до н. э.6
и даже ко II в. до н. э.7
На оборотной стороне папируса помещался какой-то счет,
помеченный 101 г. н. э. Следовательно, роман написан
5
U. W i 1 с k е п. Ein neuer griechischer Roman. — «Hermes», 28, 1893,
161, ff. Два отрывка папируса А и В хранятся в Берлинском музее (№ 6926). Позднее был найден еще один отрывок — С, опубликованный в 1945 г. во Флоренции (PSI, XIII, 1, № 1305). Тексты
отрывков см. в указанном выше сочинении Циммермана, отрывок С — в статье чешской исследовательницы Ружены Еништовой:
R. J e n i s t o v a . The Novel about Ninos. — «Listy Filologicke».
Praha, I (76), 1953, p. 30.
6
R . R a t t e n b u r y . Romance: traces of lost greek Novels. — В кн.:
J. P o w e l l . New Chapters in the History of Greek literature. Oxford,
1933, p. 212.
7
A. L e s k y . Storia della letteratura greca, III. Verona, 1962, p. 1056.
1 0 9
гораздо раньше этой даты, и, таким образом, он оказывается самым древним из известных нам греческих романов.
Наиболее вероятным местом возникновения романа о Нине
считается Сирия Селевкидов.
Находки папирусных фрагментов из романа о Нине оказали
неоценимую услугу литературоведению в том смысле, что
пролили свет на вопрос о зарождении романа в эпоху позднего эллинизма. Это подтвердили и другие документальные
данные, например находки папирусных отрывков романтического рассказа, относящихся еще ко II в. до н. э. («Сон Нектанеба») 8 .
Роман о Нине представляет собой характерный образец
раннего типа романа, в котором, однако, уже наметились
схема позднегреческого романа, система его мотивов и даже
стилистические средства, получившие свое технически совершенное развитие лишь в нору второй софистики. По-видимому, именно от этого романа идет прямой путь развития
романа как нового повествовательного жанра позднегреческой
литературы, отсюда тянутся нити к роману Харитона и
дальше к романам софистического направления.
Прежде чем обратиться к рассмотрению сохранившихся
фрагментов романа как художественного произведения определенного рода, следует возможно подробнее остановиться
на содержании фрагментов, поскольку переводов их на русский язык не имеется.
Отрывки папирусов А и В довольно значительны по
объему. Первый из них содержит 5 колонок, второй 3 колонки;
в третьем отрывке — С 50 строк, сильно попорченных (в первой
половине текста сохранились лишь отдельные слова). Несмотря на неясность содержания этого отрывка, принадлежность его роману не подлежит сомнению.
Установлено, что действие всех трех фрагментов происходит в разных местах: первого — в доме Нина, второго —
в Армении, третьего — в Колхиде.
Смысл первой колонки фрагмента А совершенно темен
из-за плохой сохранности текста. Также неясно содержание и
первой колонки фрагмента В.
В начале фрагмента А речь шла, по-видимому, о том, что
герои романа, двоюродные брат и сестра, поклявшись друг
другу в любви и верности, решились открыться своим теткам, каждый матери другого, с просьбой ускорить их бракосочетание.
Целиком сохранился текст следующих двух колонок фрагмента А и начало колонки четвертой. Смысл этой части ро8
«Eroticorum graecorum fragmenta раругасеа». Lipsiae, 1922, p. 37.
1 1 0
мана не оставляет никаких неясностей. Здесь содержится
речь Нина, в которой он, обращаясь к Деркее, матери его
возлюбленной Семирамиды, жалуется на несправедливость
обычаев, запрещающих девушкам до 15 лет вступать в брак
(Семирамиде 13 лет), сетует на капризы и переменчивость
судьбы, которая может разбить счастье влюбленных и тем
причинить ущерб интересам царства, требующим продолжения рода. Потому Нин и просит ускорить свадьбу.
Речь Нина дает о романе довольно определенное представление, и нам кажется не лишним дать здесь ее полный перевод 9.
А II 1—38«Мать, — сказал он, — сохранив верность своей клятве, я
прибыл пред твои очи и в объятия моей прелестной
сестры. Пусть боги это прежде всего знают, они и должны
знать. И я это, быть может, попытаюсь доказать тебе
теперь. Я прошел столько стран и стал повелителем
стольких народов, которые, побежденные ли моим оружием
или силой отца, чтили и поклонялись мне, так что я мог
вдосталь насладиться всеми удовольствиями. И если бы я
поступил так — моя тоска по сестре была бы, вероятно,
не столь мучительной. Теперь же, когда я возвратился,
сохранив свою чистоту, здесь меня одолевает Эрот и мой
возраст. Мне, как ты знаешь, семнадцать лет, и я считаю,
что уже год назад я вступил в пору возмужалости, но и
до сих пор я мальчик, дитя малое. И, не испытай
я власти Афродиты, я был бы счастлив своей силой.
А теперь я пленник твоей дочери, не постыдным образом,
но по нашему обоюдному согласию, до каких же пор я,
плененный, должен быть отвергнутым? То, что юноши
моего возраста достаточно зрелы для вступления в брак —
это ясно. Много ли юношей сохраняют невинность до
15 лет? Но против меня закон, не писаный, а принятый
нелепым обычаем. Ведь у нас по обычаю большинство деЛ III 1—Збвушек выходит замуж с 15 лет. Кто же, рассудив здраво,
станет оспаривать, что природа для таких связей самый
лучший закон? Женщины уже в 14 лет способны стать
беременными и, клянусь, даже родить. Почему же твоей
дочери не выйти замуж?
Ты, может статься, скажешь: ждите два года. Мы-то
мать, подождем, но станет ли ждать Судьба? Я, смертный,
соединяюсь со смертной девушкой и подвержен общей
участи себе подобных: я имею в виду болезни и Судьбу,
которая часто даже и тех, что остаются у домашнего
очага, уносит в могилу, меня же ждут скитания по морям
и войны за войнами; ведь я пе робок и не трусость оберегает меня от опасности, но ты знаешь, каков я, и я не
буду долее докучать тебе своей речью. Пусть ускорят наш
брак и мое царское достоинство, и моя страстная любовь,
и тревожная неизвестность будущего, что меня ожидает;
пусть и то, что мы оба — единственные дети у своих ро9
Переводы отрывков здесь и далее сделаны автором статьи.
1 1 1
Л IV
цптелей, ускорит этот брак, чтобы, если Судьба замыслит
против нас что-нибудь дурное, мы оставили вам залог
нашей любви.
Возможно, ты назовешь меня бесстыдным за разговор
об этих вещах. Я и был бы бесстыдным, если бы пытался
1—13 украдкой сблизиться с девушкой, получил бы тайное наслаждение и удовлетворил бы нашу общую любовь ночью,
в состоянии опьянения, через посредничество слуги или
воспитателя. Но ничего нет постыдного в том, что я говорю с матерью о браке с ее дочерью, которая связана со
мной обетом, и прошу о том, чтобы общее желание наших
семей и всего царства не было отложено на то время, которое уже не будет в нашей власти».
Так говорил Нин Деркее и получил ее согласие на брак.
Она обещала свое содействие, хотя некоторое время и делала
вид, что все это ей безразлично.
Между тем Семирамида, чье душевное состояние было
подобно состоянию ее возлюбленного, не сумела говорить
с его матерью Тамбой так же свободно и непосредственно.
Текст этого места сильно испорчен (сохранились лишь первые половины строк), потому ограничимся здесь пересказом
его
содержания,
восстановленного
специалистами-текстологами 10.
Вот о чем там идет речь (А IV 26 — А V 38).
Девушка дает понять Тамбе, что она хочет сказать ей
что-то, однако не может вымолвить ни слова. Едва она откроет рот, будто решила говорить, как заливается слезами.
Сердце ее замирает от стыда и волнения. Щеки ее то пылают, то вдруг становятся бледными от страха. Тамба пытается ободрить ее, но усилия тщетны. Тогда начинает говорить сама Тамба о том, что молчание девушки ей понятнее
всяких слов, она сама хвалит своего сына, который не может
позволить себе что-либо предосудительное в отношении девушки,
и оправдывает его спешку со свадьбой. Тамба целует девушку,
та в волнении склоняется ей на грудь. Далее следует встреча
двух сестер и беседа их «о чем-то важном» (А V 38).
Здесь папирус обрывается на полуслове.
Одни исследователи 11 полагают, что в несохранившейс^
части романа, которая должна была следовать за фрагментом А, говорилось о состоявшейся свадьбе молодых людей
и что содержание первой части фрагмента В подтверждает это,
другие 12 возражают против этого мнения, считая, что со10
11
12
F. Z i m m е г ш a n п. Aus der Welt des griechischen Romans. —
«Antike», 11, 1935, S. 292 ff.
F. Z i m m e r m a n n . Zwei zerstorte Kolumnen. — «Hermes», 67, 1932,
S. 100 ff.
R. R a t t e n b и г у. Указ. соч., стр. 217, примеч. 4.
112
гласно традиции греческого романа брак должен был венчать
собой цепь предшествующих испытаний влюбленных.
Попытка восстановить содержание потерянных текстов,
конечно, интересна, но весьма гипотетична и рискованна. Напротив, вполне оправданным представляется стремление текстологов восстановить содержание сохранившихся фрагментов,
даже и очень попорченных 13.
В очень плохо сохранившемся листе папируса В I (сохранилась лишь треть строк) содержалась эмоциональная сцена
размолвки между Нином и Семирамидой. Him готовится к новому походу на восставшую Армению, Семирамида, по-видимому, чувствует себя несчастной перед разлукой и протестует
против похода. Повод размолвки между Нином и Семирамидой неизвестен, ясно только, что она чем-то возбуждена.
Возможно, что по наговору злых языков у нее возникли подозрения в неверности Нина. Нин пытается их рассеять и
пылкими объятиями убедить супругу в своей верности.
Такова примерно сцена, описываемая в начале фрагмента
В, насколько можно судить по сохранившимся словам этой
искаженной колонки.
После сцены примирения героев следует фрагмент о подготовке Нина к войне с Арменией, описание состава и численности войск, говорится о трудностях этой военной экспедиции, о переходе через горы и реки, о тактике Нина. Текст этого
фрагмента (В II) сохранился лучше и его содержание можно
передать довольно подробно. Вот оно: по совету своего отца
Нин повел огромную армию против Армении. ТВойско состояло
из греческих и карийских солдат, 70 тысяч ассирийской пехоты, 30 тысяч конных, 150 слонов. Неожиданно подувшие
теплые ветры растопили снег и облегчили войску переход
через горные вершины, потери были незначительны, с преодолением опасности удеренность солдат в победе лишь возросла. Нин вторгся в неприятельскую землю, захватил трофеи
и разбил в равнине укрепленный лагерь. По прошествии десяти дней отдыха, в котором нуждались главным образом
слоны, измученные походом, Нин стал готовиться к битве.
В III колонке фрагмента В, содержащей лишь первую половину строк, дается подробное описание диспозиции войсковых сил.
Указано место ассирийских войск в центре фаланги гоплитов, всадников на обоих флангах, с внешней стороны легковооруженных.
На передней линии располагались боевые
слоны. Нин возглавляет наступательное крыло всадников и
13
Содержание испорченных мест в колонках А и В также восстановлено Циммерманом (см. указ. соч., стр. 91 сл.).
8
Античный роман
113
выходит вперед. Перед битвой он обращается к войску
с речью, начальные строки которой сохранились. Он говорит
о предстоящей решающей битве: даст ли она ему власть или
станет крушением всех его надежд. «С этого дня меня, ждет
великий успех, или я лишусь власти, которой теперь
владею...» (В III 32). Здесь папирус обрывается.
Можно полагать, что в потерянных частях романа рассказывалось и о других походах Нина, например о египетском,
о котором упоминается в обращении Нина к войску. Впрочем,
отбросив бездоказательные предположения, обратимся к рассмотрению того, что имеется в наших руках.
К сожалению, вопрос о последовательности найденных
частей в общей композиции романа не может быть положительно решен из-за фрагментарности материала и плохой
сохранности текстов. Попытки ученых в этом направлении
ничего определенного дать и не могли — в результате мнения
их совершенно различны и даже противоречивы.
На недостаточном материале всегда можно построить
какую угодно теорию, потому мы не считаем возможным подробно останавливаться да этом вопросе, принимая, как наиболее предпочтительный, порядок, установленный первооткрывателем текстов Вилькеном и поддержанный потом Циммерманом, т. е. .А—В. В последнее время, правда, вопрос этот
снова стал на повестку дня, в связи с открытием и опубликованием в 1945 г. текста С. Чешская исследовательница
Ружена Еништова, занимаясь реконструкцией содержания
романа, на основании анализа текста высказала предположение об иной последовательности частей В—А—С и пришла
к заключению, что роман о Нине не отличался сжатостью и
не уклонялся от обычной схемы романов 14.
Итак, главные персонажи романа: семнадцатилетний царь
Ассирии Нин и его любимая, двоюродная сестра, по имени
не названная. Второстепенные персонажи: мать Нина Тамба
и мать девушки Деркея — родные сестры.
Имя Деркеи, созвучное с именем Деркето, богини Аскалонской — матери
легендарной
Семирамиды,
натолкнуло
исследователей на мысль об отождествлении девушки из ро-%
мала с ассирийской царицей Семирамидой 15. И Нин, и Семирамида — оба герои предания, находившегося еще у Ктесия.
Историко-легендарная традиция сохранилась в двух вариантах
у Диодора.
14
ь
R. J е n i s I о v а. Указ. соч., стр. 42—43.
Правда, У. Вплькен, впервые высказавший это предположение
(указ. соч.. стр. 187), не настаивает на нем, поскольку образ героини
романа очень отличаемся от традиционного образа Семирамиды.
1 1 4
По первому варианту исторического предания Нин — полководец и царь, завоевавший всю Азию. Во время войны
с Бактрией он встретился с Семирамидой, женой ассирийского
наместника Оннея, и влюбился в нее. Муж Семирамиды
в отчаянии покончил с собой, а Нин женился на царице,
которая после его смерти сама правила Ливией и Эфиопией 16.
По другому варианту сказания Семирамида — прекрасная
гетера, пленившая Нина. Выйдя за него замуж, она выпросила себе власть на пять дней, умертвила Нина и захватила
трон 17.
Более поздняя легенда связывает Семирамиду с исторической Саммурамат (супругой Раманирари IV Ассирийского),
правившей Ассирией в 809—806 гг.
Взяв за основу эти легендарные образы, неизвестный автор
романа о Нине переделал их с большой свободой, соответственно требованиям романного жанра, так что образы романа
получили совершенно иную окраску.
Прежде всего в романе было устранено все сверхъестественное, что отличало традиционные предания. Нин и Семирамида здесь, хотя они и принадлежат царскому роду, — простые смертные, подверженные превратностям судьбы, так же
как и все герои последующих романов (Родан и Синонида
у Ямвлиха, Габроком и Антия у Ксенофонта Эфесского, Феаген
и Хариклея у Гелиодора и др.). Образ Семирамиды изменен
настолько, что в общем от легендарной царицы, дочери богини
и коварной властолюбивой гетеры, в нем ничего и не осталось.
Характер ее оказывается неожиданно противоположным характеру традиционной Семирамиды. Двоюродная сестра Нина
застенчива и робка, очень эмоциональна и горячо любит
Нина — это уже набросок того характера героини, что мы
встречаем в позднем романе, получившем полноценное развитие (хотя бы Хариклед в «Эфиопике» Гелиодора). Можно,
пожалуй, сказать, что роман о Нине создает традицию в этом
отношении — ведь подобного женского образа не встречается
ранее (Панфея из вставной новеллы в полуромантической
«Киропедии» Ксенофонта Афинского не в счет: трагический
конец этой новеллы был непригоден для фабулы любовного
романа).
Приведенное выше содержание фрагментов романа с убедительностью показывает, что здесь налицо любовный роман,
с рядом вытекающих из условностей этого жанра особенностей, которых мы коснемся ниже. В то же время нельзя
не обратить внимания на сплетение в нем черт любовного
16
17
Дп о до р. Библиотека, II, 4.
Там же, II, 20, 3. Ср. В л и п н. Пестрые истории, 7, 1.
8*
романа с чертами исторического повествования. Главный герой
в романе — полководец и завоеватель Нин, лицо, известное
из исторических преданий, вызывает определенные литературные ассоциации, напоминая нам молодого Кира из «Киропедии» и Александра Македонского из романа Псевдо-Каллисфена. Военные действия занимают в романе довольно большую часть. Юный завоеватель идеализирован автором, как
идеализировались фигуры Кира и Александра в упомянутых
сочинениях, где полководцы выступали в роли храбрых, мудрых, великодушных вождей. В своей речи Нин говорит об
опасностях и трудностях, сопровождающих его в походах
и плаваниях, о том, что долг не позволяет ему обеспечить
себе безопасность в войне трусостью, что он готов встретиться с опасностью в новом походе, приготовления к которому описаны во фрагменте В, II —III.
Нет ничего удивительного в том, что греков привлекали
сочинения с историческим сюжетом.
Это шло еще с того времени, когда у них преобладал интерес к вопросам широкого общественного значения и литература развивалась под влиянием общественно-политической
жизни. Достаточно здесь вспомнить ту же «Киропедию»
Ксенофонта —fсочинение, близко подходящее к роману. В нем
есть некоторые черты, которые подготавливают роман (фиктивная трактовка истории, введение новеллы с любовным содержанием), но это еще далеко не роман, даже в его условном, ограничительном понимании, а тенденциозное политическое и педагогическое сочинение, преследующее воспитательные цели. Несомненно, «Киропедия» оказала влияние на
первые романы, построенные на исторических темах, в частности и на роман Псевдо-Каллисфена и на роман о Нине.
В научной литературе не раз высказывались мнения о сходстве названных сочинений 18 . В самом деле, во всех трех основу составляет прославление исторического лица, описание
его жизни и походов. Ряд сходных моментов отмечает в этих
сочинениях Еништова, которая приходит к выводу о том, что
греческий роман развился из praxeis и, таким образом, путь
к романной литературе, начинаясь от «Киропедии», лежит
через «Роман об Александре» и выходит на широкий простор
в романе о Нине. При этом чешская исследовательница считает, вслед за Керени, что роман Псевдо-КалисфенЬ находится
вне первой эволюционной линии греческого романа 19.
18
19
1 1 6
J. L u d v i k o v s k y . Reeky roman dobrodruzni. Praze, 1925, S. 124;
T. S i n k o. Literatura grecka. Krakow, 1948, t. II, cz. 2, str. 156—157.
R. J e n i s t o v a . Указ. соч., стр. 222—224; ср. Керени (К. K e r e n y i .
Указ. соч.), который также исключает сочинение Псевдо-Каллисфена
из греческой романной литературы.
Однако это не совсем так. Хотя в романе об Александре
любовный элемент и не играет сколько-нибудь значительной
роли, а является лишь эпизодическим, роман этот, безусловно,
обладает рядом черт, присущих именно этому роду литературы.
В ущерб исторической точности в нем преобладает занимательность: Александр оказывается сыном египетского жреца Нектанеба, испытывает множество необычайных приключений п
в детстве, и в юности, он — завоеватель многих стран и устроитель судеб многих народов. Рассказы о завоеваниях
Александра сплетены с фантастическими приключениями
в диковинных странах. Потому представляется более верной
точка зрения Людвиковского о том, что «Роман об Александре»
и роман эротический — это две разновидности одного литературного жанра — приключенческого романа, а роман о Нине
находится между ними, в качестве промежуточного звена
между романом на историческую тему и романом любовноприключенческим 20.
В первых романах в основу брались значительные исторические события или же авторы пытались создать иллюзию
таковых. Это был тот исторический роман, где главные фигуры, трактующиеся в идеальных тонах, выступали на историческом фоне, соответственно локализованном (как мы это
видим в «Романе об Александре»). Романическая история,
постепенно впитывая в себя мотивы и элементы из любовной поэзии, упражнений риторов (экфраса и этопея) и, конечно, мотивы, продиктованные самой жизнью, трасформировалась в классический любовный роман, бначала такой, как
роман о Нине, полуисторический-иолулюбовный, затем в роман Харитона и, наконец, в роман Гелиодора. Это вполне
отвечало духу времени, когда в греческой литературе интерес
от судеб государства стал перемещаться к судьбам индивидуума, к его частной жизни.
Роман о Нине стоит как бы на переломе эпох, отражая
в себе особенности, присущие переходному времени. Несмотря
на черты сходства этого романа с романом историческим,
в нем в первую очередь привлекают внимание черты романа
любовного. Неизвестный автор романа широко вводит в исторический сюжет любовную тему, и вот тут-то, в этом развитии интереса к частным, любовным переживаниям человека
и заключается главная особенность романа и его отличие от
того же «Романа об Александре». Если в последнем романтизируются воинские подвиги и боевые приключения Александра, воспевается доблесть и необычайная жизнь необыкновенного героя и исторического деятеля, а любовной теме не
20
J. L u d v i k o v s k у. Указ. соч., стр. 123.
1 1 7
уделяется внимания, то пафос романа о Нине связан и с любовной темой, которая приобретает здесь свой самостоятельный интерес. Речь в нем идет не только об отважном царе и
полководце Нине, но и о Нине как простом юноше, чья любовь к Семирамиде предельно преданна и возвышенна. Да и
сама Семирамида украшена душевными добродетелями, она—
воплощение женской скромности, чистоты и нежности. В романе о Нине, по-видимому, берет начало традиция, которой
затем неуклонно следуют авторы других любовных романов.
Любовь, прошедшая испытания, и верность — вот их основная тема. И роман о Нине — предвестие будущего развития
этого жанра во II и III вв. и. э. В нем трудно обнаружить
ту самую схему греческого романа, которая потом стала его
устойчивой топикой: любовь молодой четы, их разлука, злоключения, наконец, счастливая развязка — встреча оставшихся верными друг другу влюбленных. Есть в романе о Нине
и мотивы препятствий, возникающих перед влюбленными и
разлучающих их, столь частые и в других романах.
Итак, в романе о Нине прослеживаются две темы, развивающиеся параллельно: история любви двух молодых людей
и история подвигов Нина. Любовь, приключения, странствия,
война — эти тесно связанные темы на все лады варьируются
и в других лЗобовных романах, где странствия и приключения героев являются или следствием войны, или же, напротив,
ее поводом. У Харитона, например, есть и странствия и военные приготовления, в романе Ямвлиха «Вавилонская история» войной заканчивается повествование, а у Гелиодора
речь о войне идет с начала до конца. В романе же о Нине
эта связь выражена особенно отчетливо; в нем еще имеет
самостоятельное значение тема военных предприятий и походов, видоизменившаяся позднее в тему о путешествиях и
странствиях героев.
Так же, как и в других романах любовного содержания,
в романе о Нине присутствует мотив несправедливой Тихи,
вера в могущество которой пронизывает все романы. В сохранившихся отрывках эта богиня упоминается трижды. Из других богов упоминается один раз Афродита и два раза Эрот,
чье присутствие в любовных романах вполне оправданно. Нин,
подобно и другим героям романов (Феамиду из романа Гелиодора, Габрокому из романа Ксепофонта Эфесского), испытывает на себе могущество Эрота и Афродиты.
Таким образом, в основных пунктах роман о Нине имеет
сходные черты с последующими любовными романами: повествование об отдаленных временах и идеальных героях,
внимание к внутреннему миру человека, показ его интимных
чувств, общность сюжетных мотивов.
1 1 8
Но, как всякому художественному сочинению, роману
о Нине присущи и свои специфические особенности. Своеобразие его проявляется в первую очередь в том, что главные
его персонажи — двоюродные брат и сестра 21 , они очень молоды (героиню такого возраста, как Семирамида, мы найдем
еще только в романе Лонга). Нин и Семирамида вступают
в действие романа уже помолвленными, и любовь их возникла
с детских лет, а не вспыхнула мгновенно, с первого взгляда,
как у героев других романов. В странствие отправляется один
Нин (в других романах в странствие отправляются оба героя).
Во всем этом можно видеть отличие от стандартной схемы
основного типа греческого романа, так же как и в том, что
действие здесь развертывается на историческом фоне и главный герой — историческое лицо. Последнее свидетельствует
о несомненной зависимости романа о Нине от эллинистической историографии. Вполне закономерно, что роман как
искусство не мог развиваться без преемственности представлений и понятий, так же как и изобразительных форм. По
найденным фрагментам, правда, трудно судить о мере и
способах использования в романе исторической традиции, но
все же, по-видимому, можно полагать, что изложение военных действий, например, или порядок размещения войсковых
сил были согласованы с исторической традицией. Тактика
Нина была типична для эллинистического времени, в недрах
которого и зародился роман: с флангов располагалась конница,
ближе
к
середине — легковооруженные
войска,
в центре — фаланга тяжеловооруженной пехоты, а перед фалангой на переднюю линию были выведены боевые слоны.
Введение в действие боевых слонов, которые играют важную
роль в боевых операциях, — это, конечно, анахронизм и несогласованность с традицией, ведь боевые слоны стали широко применяться только после войн диадохов. Может быть,
это заимствовано из Псевдо-Каллисфена, где рассказывается в битве Александра со слонами индийского царя Пора
(«Роман об Александре», III, 3).
Однако, не возвращаясь к ранее сказанному о связях и
зависимости романа о Нине от традиции, следует подчеркнуть
как главное то, что на нем не могло не отразиться время и
сама жизнь диктовала автору романа новое содержание и новые изобразительные формы. На традиции, таким образом,
ощутимо прорастало новаторство писателя. Это легко увидеть
21
Брат и сестра действуют как главные персонажи еще только в романе Антония Диогена, однако там они родные брат и сестра и связаны друг с другом лишь преследованием жреца Паапида, а странствия п приключения их носят самостоятельный характер.
1 1 9
в трактовке главных персонажей романа. Традиционному образу исторического героя автор рассматриваемого романа
придал новое обличье: славный полководец стал в романе еще и
пылким влюбленным, решительно отстаивающим свое счастье.
Введение любовного мотива в историческое повествование,
по-видимому, было продиктовано социальными условиями. Греция стояла на пороге кризиса, общественных импульсов для
развития литературы оставалось все меньше и меньше, политические идеи уступали место занимательной интриге,
интересу к внутреннему миру человека и его личным
эмоциям. Вместе с начинающемся упадком высокой литературы в I в. до н. э. получила развитие «низовая» литература.
И первые романы явились своего рода реакцией на классическую официальную литературу, недоступную рядовому читателю из-за обилия риторических прикрас и поэтических
тонкостей. Они имели все признаки народной литературы, которую представители официальной литературы долгое время
не признавали, считая ее лишь развлекательным чтением 22 .
Это непризнание нового рода литературы, возможно, в какой-то степени определило анонимность первых романов: и
романа о Нине, и романа об Александре, и «Истории Аполлония, царя Тирского». Как уже отмечалось, первые романы
были непременно связаны с исторической темой. Фиктивность
изображаемого лишь постепенно вытесняла в них историчность, вернее условную историческую стилизацию, оставляя
ее, в конце концов, в романах позднего времени в стороне.
Первый план занимает теперь не боевая слава и боевые подвиги героя как исторического деятеля, а личное счастье молодой четы. Любовная тема становится господствующей до
такой степени, что ею уже определяется ход политических
событий, судьбы любящих волнуют общественность.
Еще в романе Харитона (I в. н. э.) в действие введены
некоторые исторические лица и события происходят на историческом фоне, но уже в романе Гелиодора (III в. н. э.),
хотя и дана картина определенного исторического периода,
характер событий уже полностью фиктивен. Ну, а в романе
Лонга, близком уже психологическому роману, нет и намека
на историчность. Это чистый вымысел в изысканном одеянии
второй софистики 23.
22
23
О развлекательном характере такой литературы говорил Юлиан
в одном из писем, рекомендуя жрецам читать исторические сочинения о подлинных событиях, но не эротические ипотезы (переложения содержания театральных пьес) и тому подобное (т. 1, стр. 386,
7, изд. Hertlein'a).
Подобную схему развития романа намечает Р. Рэттенбери (указ.
соч., стр. 223 сл.), оговариваясь, впрочем совершенно резонно,
1 2 0
Таким образом, романное повествование типа «народной
книги», имевшее хождение среди не слишком-то чувствительного к тонкостям риторики читателя, правратилось в софистический роман, рассчитанный на изощренный вкус рафинированной публики.
Итак, Нин предстает перед читателем не только как отважный воитель, но и как нежный влюбленный. Из фрагментов читатель узнает, что Нин — человек долга и чести, но он
предельно предан своей любимой, что он смел и настойчив
в достижении своей цели, но в то же время скромен и целомудрен в отношениях с девушкой. Это уже герой, обладающий определенной индивидуальностью, живой образ с присущей ему окрашенностью, а не шаблонно-гипертрофированный
положительный герой, воспринятый из исторической традиции.
Еще более новым но сравнению с традицией оказывается
в романе образ Семирамиды, превращенной автором из полулегендарной, властолюбивой и жестокой царицы-гетеры в робкую, стыдливую молоденькую девушку, а затем в верную
любящую супругу, которая явилась, может быть, предшественницей типичной героини греческого любовного романа,
олицетворяющей собой благопристойность и высокую мораль.
Образ ее эмоционально насыщен. Переполненная чувствами,
она не осмеливается довериться Тамбе, ей мешают страх и
неумение высказать то, что она чувствует 24 . Автор вполне
рационально объясняет причину такого ее поведения: ведь
девушка воспитывалась в гинекее, вдали от мужского общества
и не могла еще овладеть искусством речи 25. К тому же девичья
застенчивость сковала ее уста, не позволила открыто сказать
о проснувшихся и волновавших ее чувствах.
Семирамида представлена ярким контрастом не только
Нину, решительному и настойчивому, но и Тамбе, проявившей себя в беседе с девушкой женщиной умной и отзывчивой.
Следует, впрочем, отметить здесь, что позднее, после состоявшейся свадьбы, в образе Семирамиды обнажаются и другие
24
25
на наш взгляд, что за неимением других романов, не дошедших
до нас (а их должно было быть немало), трудно рассчитывать
на точную и вполне логичную теорию всего жанра в целом.
Подобную трудность испытывает героиня другого романа, Хариклея
из «Эфиопики» Гелиодора, тщетно пытающаяся рассказать матери
о своей любви к Феагену (X, 18—21, 29, 33), однако ей мешают сделать это внешние обстоятельства, а не ее неумение.
Характерно, что в большинстве других романов женщины владеют
этим искусством не хуже мужчин; достаточно вспомнить ту же Хариклею или же Тарспю и Архистратиду из романа об Аполлонпн
Тирском, наделенных, кроме нравственных достоинств, умом и отмепным даром красноречия.
121
грани характера. Она предстает перед читателем уже в несколько ином свете. Это не робкая и нерешительная девушка
из сцены беседы с Тамбой, но женщина с развитым чувством
собственного достоинства и задетой гордости. Закравшееся
чувство подозрения в неверности Нина пробуждает в ней чувство ревности, она покидает его дом, однако ласка Нина успокаивает ее и убеждает в его любви и верности. По-видимому,
это была патетическая сцена, и не исключено, что она могла
послужить образцом для подобной же сцены ревности Синониды у Ямвлиха, тоже в плохо сохранившемся фрагменте.
В эмоциональных сценах, в пробуждении у героини различных аффектов: страха, стыда, позднее подозрения и ревности угадывается влияние на роман драматургии. Как и трагедия, роман стремится проникнуть во внутренний мир
женщины, раскрыть ее душу. Искусство изображения героев
в романе о Нине может, таким образом, свидетельствовать
о воздействии на него не только эллинистической историографии, но и трагедии.
Тема верности в любви — стержневая в греческом романе.
Моральная чистота, беззаветная любовь, стойкость чувств —
вот черты, определяющие облик главных его героев (ярко
звучит эта тема в романах Харитона, Гелиодора, в «Истории
Аполлония»). А Но и в романе о Нине вопрос о любви и браке
едва ли не основной. Любовь его героев представлена особенно
целомудренной и возвышенной. Об этом говорит сам Нин,
пылко влюбленный в свою Семирамиду и сохранивший ей верность в походах и войнах. Нин сетует на несправедливость
обычая, который запрещает любящим вступать в брак до определенного возраста, будучи убежден, что такой сугубо личный вопрос о человеческих отношениях может решить лишь
сама природа, а вовсе не принятый традицией обычай. В то же
время в речи Нина слышится мотив фатализма, мысль о бессилии людей перед превратностями судьбы.
И здесь, несомненно, есть отзвуки современности, тот актуальный подтекст, который сопровождает все романы, несмотря на давность или фантастичность изображаемых ими
событий. Черты действительной жизни проглядывают в романе о Нине и в том же недовольстве Нина условностями
обычая, и в зависимости юной четы от воли родителей (обрученные трепетно ждут согласия родителей на их брак, хотя
уверены, что этого же требуют интересы всего царства), и
в пассивном ожидании козней злой судьбы, вера в могущество
которой была закономерной и психологически мотивированной в ту эпоху, когда в обществе царила неуверенность в будущем, пессимизм и апатия. Мысль автора романа о Нине
течет в русле настроений времени — это очевидно. И все же,
1 2 2
думается, что в содержании романа скрывается своего рода
призыв к новому типу брачных отношений, основанных
на чувстве взаимной любви, к браку, в котором женщина занимала бы не подчиненное, а равноправное положение. Не случайно ведь Семирамида, заподозрив супруга в неверйости, покидает его дом с чувством оскорбленного достоинства.
В романе о Нине намечепа та основная этическая тема —
признание нравственной ценности человека, — линию развития которой продолжают авторы всех других греческих романов.
По-видимому, в этом первом романе были также применены
и некоторые из тех изобразительных средств, которые в дальнейшем совершенствовании жанра получили полноценное развитие уже в пору второй софистики.
Сохранившиеся фрагменты романа о Нине не могут дать
сколько-нибудь определенного представления о композиции
романа в целом. Можно только предполагать, что композиция
его была прямолинейной и последовательной. В романе еще
не было сложных повествовательных приемов (характерных
для романов Антония Диогена, Ямвлиха, Гелиодора и др.),
использованных в целях обострения увлекательности сюжета.
В стиле романа о Нине явственно проступают следы влияния риторики. От риторических упражнений идут экфраса,
этопея, речи. Даже по дошедшим отрывкам можно судить
о том, что в романе преобладали речи. В одной из сцен говорит Нин, в другой Тамба. Можно разделить предположение исследователей испорченных текстов о том, что -речи преобладали
и в других частях романа, например в патетической сцене
ревности Семирамиды, где говорит и Нин, и его супруга 26 .
Речь Нина написана в соответствии с правилами риторического искусства. По-видимому, такой же была и его речь
к воинам перед битвой (В III 32), от которой сохранилось
лишь самое начало. В речи привлекают внимание и обращения, и восклицания, и риторические вопросы, и другие украшения в духе риторической школы. Из стилистических фигур
встречаются анафора (А III 26—28; А IV 2—4), антитеза
(А II 36), гипербола (А IV 10), гепдиадис (А III 31), паропомасия (А III 21; А III 13; А II 9), зияние (А II 23;
А IV 8), многосоюзия, рифмующпеся окончания и др.
Вся колонка А отличается искусством построения по принципу симметрии и контрастного сопоставления бесед. В обеих
сценах, содержащих аналогичную ситуацию, легко увидеть
хиазм обращений героев к своим теткам: каждый обращается
к матери другого.
26
См. F. Z i m m e r m a n п. Указ. соч. — «Hermes», 67, 1932, S. 104—105.
123
Хиазм обращений переходит в параллелизм бесед. При этом
автор умело использует художественный прием контрастной
подачи материала, прием, нашедший себе широкое применение во всех последующих греческих романах. Если, например,
речь Нина пространна и расцвечена риторическими средствами, то ответ Деркеи даже не приводится, а лишь констатируется автором. Здесь красноречие Нина находит молчаливое сочувствие Деркеи. В другой сцене, напротив, красноречивому
сочувствию Тамбы
противостоит
выразительное
безмолвие Семирамиды. Монолог Тамбы — пример убеждающей речи, предусматривающей возражения, вызывающей на
разговор, также может свидетельствовать о влиянии на автора
романа правил риторической школы. Далее красноречию и
энергии Нина противопоставлено молчание девушки. И если
Нин достигает желанного результата обилием и убедительностью слов, Семирамида — молчанием, мимикой, жестами и
слезами.
На контрастном методе было, по-видимому, построено все
повествование романа. Яркая антитеза мысли видна, например, в речи Нина о законе природы, сближающем людей, которому противостоит закон, принятый традицией, тот, что запрещает брак до определенного возраста (А II 36).
Для романа с историческим сюжетом были характерны и
описания. В найденных фрагментах романа о Нине они есть:
в IV колонке фрагмента А — описание состояния Семирамиды,
во II и III колонке фрагмента В — описание подготовки
к битве и перехода через горы (В III 4 и В II 9). Правда,
здесь описания довольно расплывчаты и лишены какой бы то
ни было исторической конкретности и местного колорита, хотя,
казалось бы, места действия романа вполне определенны: царский дворец Нина в Ассирии (фр. А), Армения (фр. В), Колхида (фр. С). Упоминаются в романе и какие-то горные местности, реки, равнины, но все они не имеют названий. Поход
из Ассирии в Армению, сопряженный с большими трудностями, представлен в романе так, что все препятствия продвижению войск (холод и снег, высокие горы и реки) легко
устраняются: неожиданно подувший теплый ветер растопил
льды и помог войску благополучно, почти без потерь, перебраться на неприятельскую землю.
По-видимому, описания в романе о Нине служили не
столько элементом украшения стиля, сколько связующим средством движения сюжета.
^
Итак, симметричность построения сюжета, искусная расстановка персонажей и их речи могут свидетельствовать о некотором влиянии на роман риторики.
1 2 4
Художественные особенности романа о Нине, как и его содержание, показывают, что здесь уже фактически создан новый литературный жанр, хотя его технические возможности
еще не использованы в полной мере.
По сохранившимся отрывкам трудно составить ясное представление о языке и стиле всего романа о Нине, но все же
следует отметить, что стиль его, по-видимому, соответствовал
содержанию. Если в описательных частях он ровный, спокойный, лапидарный, то в эмоциональных сценах и монологах — патетический и украшенный различными художественными средствами речи, заимствованными из практики риторического искусства.
Язык романа о Нине — не чистый литературный эллинистический койнэ, но с ориентацией на аттический. В нем уже заметно стремление к воспроизведению особенностей аттической
речи. Ряд слов и выражений, например, из речи Нина встречается у Платона, Фукидида, Ксенофонта 27 . Это уже предвестие тех реставраторских тенденций, которыми проникнута
вся греческая литература II—III вв. н. э.
Вслед за открытием фрагментов романа о Нине с конца прошлого столетия последовал ряд новых открытий папирусных
фрагментов из греческих романов. Это отрывки из романов
о царевне Хионе, о Метиохе и Парфеноне, о Герпиллиде, о сыне
царя Сесонхосиса, о Каллигоне, об Анфии и Эвксене и др.
Здесь мы коснемся лишь нескольких, относящихся к романам более раннего времени отрывков, содержание которых
может быть установлено хотя бы в самых общих чертах.
Наиболее интересен отрывок из романа о Хионе, обнаруженный У. Вилькеном в 1898 г. в Фивах в небольшом кодексе,
состоящем из 6 листов пергамента. Это был палимпсест: под
коптским письмом X—XI вв. обнаружили греческий текст
VI—VII вв. Первые 4 листа содержали части из восьмой книги
Харитона, на последних двух были части неизвестного романа
о царевне Хионе. Вилькен 2 8 переписал наиболее легкие из
8 колонок текста, но не запомнил порядка, в каком они были
записаны. 6 отрывков погибли во время пожара в 1899 г.,
раньше, чем могли быть скопированными. Таким образом, сохранились копии с тех мест греческого текста, которые сделал
сам Вилькен. Это 3 колонки. Из них 1 и 2, внутренне связанные, находились на одном листе пергамента.
27
28
Р. Еништова, анализируя язык и слог части речи Нина, обнаружила
сходство некоторых метрических особенностей ее с греческой прозой
времени Демосфена (см. указ. соч., стр. 212—215).
U. W i 1 с k е п.—APF, 1, 1901, S. 255—264. Текст см. также у Циммермана (потерянный Фиванский кодекс).
1 2 5
Ситуация здесь примерно такова:
В I из фрагментов речь идет о каком-то совете, где
обсуждается вопрос о судьбе царства, которое должно перейти
в руки будущего супруга Хпоны (Т, 1—9). Отец хочет передать царство одному, Хнона же любит другого. Отец дает
дочери тридцатидневный срок для размышления и ответа
(I, 9—12). О каком совете здесь идет речь, можно лишь предполагать: либо это совещаются женихи Хионы (и тогда это
они устанавливают традиционный срок для ответа), либо это
совещаются царь и его приближенные.
Во II колонке говорится о молве, разносящей по городу
слухи об угрозе, связанной, по-видимому, с ультимативным
сроком. Все граждане только и говорят о предстоящей свадьбе,
все, и особенно местные женихи, взволнованы грубостью угрозы
претендента на руку Хионы (II, 9—19). Хиона узнает обо
всем от своей матери (II, 22—24).
В III колонке беседуют двое. Один из собеседников —
Хиона, другой, предположительно, ее возлюбленный. Они говорят о предстоящем прибытии какого-то Мегамеда. Не находя
средств к спасению, молодые люди помышляют о совместной
смерти.
Эта последняя^колонка сохранилась лучше других, потому
приводим ее текст полностью:
[. 1—18
«. .. Мегамеда ожидают прибытие, а мы до сих пор, пустив
в ход, как говорится, все средства, пичего но придумали для
своего спасения, да и Мегамед ие дал тебе никакого повода,
чтобы покинуть его. А потому подумай, что нам делать —
я в затруднении». Тогда сказала Хиона: «Я тоже ничего не
придумала, что бы могло нас спасти. Скажу я тебе только
одно: если мы не можем жить вместе... остается нам как
последнее средство вместе умереть. Теперь мы должны подумать, как это достойно сделать».
Здесь папирус обрывается, и дальнейшее развитие действия
остается неясным, как неясны и другие вопросы, связанные
с самими персонажами: кто такой Мегамед — любимый ли
Хионы или, может быть, ее нежеланный жених? Кто ее собеседник? Неизвестен и порядок следования трех фрагментов.
Из III фрагмента можно заключить, что истекает срок,
предъявленный Хионе, и что единственным путем к спасению
оказывается побег влюбленных, служивший началом всей дальнейшей серии приключений. Возникает предположение, что
эти фрагменты относятся к самому началу романа, к его завязке, создающей для любящей четы препятствия и мотивиГрующей их побег из дома.
1 2 6
Исследователи, занимавшиеся анализом текстов, давали самые противоречивые толкования спорных вопросов. Полемика
по этим вопросам занимает страницы статей У. Вилькена,
Р. Рэттенбери, Ф. Циммермана, Б. Лаваньини. Большинство
из них, за исключением последнего 2Э, придерживаются одного
мнения о порядке следования колонок, установленного У. Вилькеном, т. е. I, II, III, и почти все расходятся по вопросам их
интерпретации. Если одни (У. Вилькен, Р. Рэттенбери 30 ) считают собеседником Хионы ее отца, то другие (Ф. Циммерм а н 3 1 ) — ее возлюбленного. В отношении Мегамеда: одни
(Б. Лаваньини) считают его возлюбленным Хионы, другие
(Ф. Циммерман) думают, что Мегамед тот, за кого отец хочет
выдать Хиону. Р. Рэттенбери доказывает, что Мегамед не
может быть любимым Хионы, ссылаясь на слова из III колонки, подсказывающие, что он был нежелательным поклонником Хионы, чем-то с ней связанным.
То, что отрывки о Хионе в рукописи следовали непосредственно за романом Харитона, позволило некоторым исследователям 3 2 причислить их к этому роману. Но это лишь предположение. Наличие сходных мотивов в этих романах (роль
молвы, сватовство женихов к героине и др.) отнюдь не доказательство, так же как и подобие стилистических особенностей. Эти мотивы встречаются, например, в «Истории Аполлония, царя Тирского». Здесь можно лишь признать, что это
сочинение того же литературного типа, что и роман Харитона,
что это типичный любовный роман, написанный по стандартной схеме и в одно с Харитоиом время (I —II вв. н. э.).
Интересны фрагменты другого любовного романа о Метиохе
и Парфенопе, найденные в Египте в разное время. Всего найдено три фрагмента, условно обозначенных А, В, С 33 .
29
30
31
32
33
Б. Лаваньини полагает, что колонки I и III связаны между собой, и
описывает одну сцену: встречу Хионы с матерью в присутствии советников или рабов и решение вопроса о лучшем использовании
тридцатидневного срока, а колонка II следовала непосредственно
за III. См.: В. L a v a g n i n i . Eroticorum Fragmenta Раругасеа. Lipsiae. 1922, p. 92—94.
См.: R. R a t t e n b u r y . A new interpretation of the Cliione Fragments. - C1Q, XX, 1926, p. 181-184.
См.: F. Z i m m e r m a n n . Der Chione-Roman erneiit untersucht. —
«Aegyptus», 1931, S. 45—56.
W. S c h u b a r t , Einfuhrung in die Papyrus Kunde. Berlin, 1950, S. 76.
Папирус из Фаюма II в. п. э. (P. Berl., № 7927), впервые опубликованный в 1895 г. (см.: F. К г е b s, G. К a i b е 1, С. R o b e r t . —
«Hermes», 30, 1895, S. 144—150); берлинский папирус № 9588, составлявший часть того же свптка, что и предыдущий (см.: F. Z i mm e r m a n n . Aeg., 13, 1933, S. 53—61 и Aeg. 15, 1935, S. 277—281);
оксиринхскип папирус II—III вв. н. э. № 435 опубл. В. G r e n f e l l ,
A. H u n t . — РО, 3, 1903. См.: F. Z i m m e r m a n n . Griechische Roman — Papyri. Heidelberg, 1936, N° 6.
1 2 7
В первом из фрагментов содержится часть диспута о любви,
точнее, возражения Метиоха на чью-то предшествующую речь.
По-видимому, он опровергает популярное понимание Эрота
(стр. 1—6), отвергает традиционный и поэтический образ
этого божества и дает свое, рационалистическое объяснение
любви как «движения души» (xtv7]fia Siavotac) (стр. 28—29),
При этом споре, вероятно, присутствует и Парфенопа, к которой в конце своей речи Метиох обращается за поддержкой.
По-видимому, Метиох беседует с теми, кому довелось претерпеть могущество жестокого4 Эрота. Он пытается спорить
с ними, доказывая, что любовь не божество, но особое душевное состояние, которое можно преодолеть, что глупо и невероятно представление о вечном детстве Эрота, о его всесильном влиянии на души людей.
Поскольку восстановить содержание романа по дошедшим
отрывкам невозможно, предлагаем перевод части речи Метиоха.
Фр. А, стр. 6—29.
Только чудак, не имеющий и маломальского образования, верит
в древнюю сказку о том, что Эрот, сын Афродиты, — маленький крылатый мальчик, с луком за плечами и факелом в руке, и этим оружием он беспощадно ранит сердца молодых людей. Такое представление смехотворно, потому что прежде всего невероятно, чтобы со дня
рождения ребенок со временем не вырастал. Даже человеческое дитя
взрослеет зсоответственно поступи времени, а тот, кто причастен
божественной природе, как карлик, остается на той же самой ступени!
Это же абсурд. Более того, совершенно нелепо и то, что, если Эрот —
дитя, как может он странствовать по свету и воспламенять, по своему
желанию, сердца повстречавшихся ему? Утверждают также, что после
этого в сердцах влюбленных возникает нескончаемое дуновение, подобное жару огня. Вы это знаете, поскольку уже имеете опыт в любви;
я же еще не изведал этого и, может быть, никогда и не изведаю. Одно
лишь я знаю хорошо: Эрот — это движение души, которое сначала
возбуждается страстью, а затем усиливается привычкой.
Высокомерное отношение Метиоха к Эроту напоминает подобные чувства Габрокома из романа Ксенофонта Эфесского и
его рассуждения о любви (I, 1, 5). Возможно, что Метиох,
так же как и Габроком, в дальнейшем должен был испытать
всю силу презираемого им Эрота на себе самом. Этот отрывок,
изолированно взятый, мог бы рассматриваться как отрывок
какого-то философского диспута о любви, а не отрывок из
романа. Но дело в том, что имена Метиоха и Парфенопы
встречаются в ранее известной легенде любовного содержания,
в ней идет речь о том, что Парфенопа, которую пытались
обольстить многие мужчины, сохранила св^ю девственность,
а потом, «влюбившись во фригийца Метиоха, обрезала волосы,
осудив свое бесчинство, и, придя в Кампанию, поселилась
там» 34. Тема представляла собой прекрасный материал для
рассказа о том, как мстит Метиоху тот самый бог любви, которого он с таким пренебрежением отвергает, называя простым
«движением души».
Второй отрывок (P. Berl., 9588), несколько позднее присоединенный к первому, содержит ситуацию, весьма типичную
для фабулы любовных ромапов: Метиох, по-видимому, просит
руки Парфенопы, но отец ее не дает своего согласия; за Метиоха вступаются два человека. Текст отрывка сильно испорчен (сохранилось неполностью 12 строк) и плохо поддается
интерпретации.
Последний фрагмепт (РО 435) сохранился еще хуже, он состоит всего из нескольких испорченных строк.
Правда, принадлежность этого отрывка роману не доказана, хотя попытки предпринимались. Циммерман, например,
реконструируя текст, уверенно относит его к роману 35 . Речь
в нем идет о Парфенопе, попавшей в руки какого-то чужестранца. Жители города Керкиры одобряют хлопоты некоего
Демохара по договору с этим чужеземцем о выкупе девушки
за талант. Все заинтересованы в возвращении Парфенопы и
чьей-то предстоящей свадьбой. Может быть, имеется в виду
свадьба Метиоха и Парфенопы и отрывок принадлежит заключительной части романа. Однако все это лишь предположения.
Другие мотивы типичные для любовного романа, например
странствия по морю, морская буря, встречаются в отрывках из
романа о Герпиллиде 30 . Этот папирус опубликован в 1897 г.
Магаффи и на основании палеографических "данных отнесен
к середине II в. н. э. Текст фрагмента содержит рассказ влюбленного в Герпиллиду молодого человека о плавании их по
морю во время шторма. Возможно, что они спасаются от преследования. Они находят приют у каких-то людей и остаются
у них на день. Предсказание непогоды склоняет героя к решению переждать бурю, но по уговору капитана он решается
продолжить плавание. Он и Герпиллида плывут на разных
кораблях. Корабль рассказчика отплывает раньше. Разражается неистовая буря: корабль кидает из стороны в сторону,
день становится ночью, людей заливает волной. Герпиллида
со своего корабля тщетно зовет возлюбленного; он в отчаянии,
что не в силах помочь ей.
34
35
36
Комментарий Евстафия к Дионисию Периэгету, 357, 358; там же,
стр. 346; ср.: Geographi Graeci Minores, II, 280 (Muller), I, 158 (Bernhardy). См.: E. Rohde. Указ. соч., § 534, примеч. 2.
F. Z i m m e r m a n n . —Phil., 90, 1935, S. 194—205; он ж е : Neues
zum Metiocho-Parthenope Roman. — PO, 435; Aeg., 15, 1935, S. 277.
W. G r o n e r t . Reste eines unbekanten griechischen Romans. —
APF, 2, 1903, S. 366.
9
Античный роман
129
Ё этом отрывке примечательно то, что рассказ ведется от
лица героя (для романа это не совсем типично). Напротив,
описание бури — излюбленный мотив фабулы чуть ли не ка• ждого греческого романа.
Сходство некоторых мотивов с романом Харитона исследователи обнаружили в отрывках романа о Каллигоне и Эрасине,
также принадлежащих II в. н. э. Сюжет романа нельзя восстановить по двум незначительным отрывкам 37. Ясно лишь то,
что Каллигона взволнована дурными вестями из Сарматии, где
находится ее возлюбленной Эрасин. Беспокоясь о его судьб»е,
она приходит в палатку к Эвбиоту, преданному ей поклоннику,
скифскому полководцу. Эвбиот просит всех присутствующих
удалиться, давая понять им, что Каллигона получила плохие
вести из Сарматии. Каллигона плачет, проклинает день, когда
увидела Эрасина на охоте, упрекает Артемиду. Во втором
фрагменте описывается покушение Каллигоны на самоубийство. Она протягивает руку за кинжалом, чтобы покончить
с собой, но Эвбиот предотвращает попытку, заранее вынув
кинжал из ножен. Каллигона, истолковав это как страх за
собственную жизнь, приходит в отчаяние:
Фр. II,
стр. 33—42.
*
Ты, негоднейшин из людей, осмелился прикоснуться
моему кинжалу. Я не амазонка, и не Фемисто38, а всего
лишь эллинская женщина, однако не уступлю амазонкам
в отваге. Верни мне мой меч — иначе я убью тебя своими
руками!
Сцена жалобы героини, разлученной со своим возлюбленным, весьма характерна для любовного романа. Слова об охоте
легко сопоставить с тем местом в романе Харитона, где Артаксеркс хочет именно на охоте понравиться Каллирое (VI, 4).
Эвбиот напоминает Дионисия из романа Харитона. Интересно,
что имя Эвбиота встречается у Лукиана («Токсарид», 51, 52).
Возможно, что при написании своего скифского диалога Лукиан использовал сюжет скифско-босфорского романа 39 . Сходство с лукиановским Токсаридом видят в том, что оба сочинения исходят из местной легенды. Оба имеют аналогичные
пункты, иллюстрирующие путь, по которому легенда с романтическими возможностями была обработана в роман 40 .
37
38
39
40
Папирус находится в Каирском собрании папирусов (P. Cair,
№ 47992), опубликован в PSI, № 981.
По-видимому, какая-то скифская воительница.
М. H o s t o v t z e f f . Skythien und der Bosporus. Berlin, 1931, S. 99.
R. A a t t e n b u r y . Romance: traces of lost greek Novels. — В кн.:
J. P o w e l l . New Chapters in the History of Greek Literature. Oxford,
1933, p. 212-257.
1 3 0
Из отрывков более позднего времени (III—IV в. н. э.) можно
назвать отрывки, найденные в Оксиринхе. Из них один о царе
Дионисии, который в награду за доблесть получил пленную
царицу. Действие романа развертывается в какой-то восточной
стране, при дворе царя. В другом отрывке также проступают
черты исторического романа, где главное лицо — сын царя Сесонхосиса. Действие происходит в Египте. Царь хочет, чтобы
его сын вступил в брак, друг советует юноше покориться, происходит разговор отца с сыном. В этих отрывках, по-видимому,
сочетались приключения и исторического и любовного характера, как в романе о Нине и в романе Харитона. Третий отрывок романного происхождения о Главкете. В нем, как и в ряде
других романов (например, у Ямвлиха, Гелиодора), есть и
убийства, и привидения. Скачущему на коне Главкету ночью
является призрак молодого человека, лежащего под платаном
с красавицей-девушкой (по-видимому, они были вместе предательски убиты), и просит похоронить их. Испуганный Главкет
скачет прочь и до рассвета прибывает в какую-то деревню. Он
находит сарай и хочет там переночевать; внезапно по лестнице,
ведущей на чердак, спускается женщина. Здесь папирус обрывается 41.
Совсем недавно Р. Меркельбахом опубликованы еще два
отрывка из романов, найденные в период с 1941 по 1954 г.
Один из них 42 — часть романа о Нине, рассказывающий о походе войска Нина на берега Колхиды и о спасении потерпевших кораблекрушение (см. выше). Второй отрывок 43 — так
называемый «Речь волшебницы». Текст отрывка (всего
7 строк) еще не изучен. Содержание его приблизительно такое:
девушка, увидев во сне прекрасного молодого человека, влюбляется в него. Родители приглашают волшебницу, чтобы волшебными средствами освободить дочь от чар. Здесь использован новый по сравнению с другими романами мотив любви
во сне.
Перечислять здесь все найденные отрывки из греческих романов не представляется целесообразным, тем более, что плохая сохранность текстов не позволяет восстановить их содержание 44. Но можно с уверенностью сказать, что независимо
от состояния и объема текста каждый из вновь найденных
отрывков добавляет к уже известному о романе крупицу нового: иной раз утверждает спорное или, напротив, оспаривает
казавшееся прежде несомненным.
41
42
43
44
Опубликован в XI томе оксиринхских папирусов (№ 1368) в 1915 г.
PSI, № 1139, APF 16 (1956), S. 122-123.
Papyri Michaelidae. Inv. 5.
Обзор других отрывков см.: R. R a 11 с n b u г у. Указ. соч., стр. 247—
252.
131
СКАЗОЧНЫЙ РОМАН.
«ИСТОРИЯ АПОЛЛОНИЯ,
ЦАРЯ ТИРСКОГО»
Анонимный роман об Аполлонии Тирском, именуемый обычно
«Историей Аполлония, царя Тирского» (Historia Apollonii regis
T.yri), трудно отнести к какой-либо определенной разновидности греческого романа, поскольку границы видов этого литературного жанра весьма зыбки и условны.
Ло своему социальному происхождению и направленности
он примыкает к произведениям народной литературы, рассчитанным на понимание самых широких слоев населения среднего культурного уровня, таким, например, как «Роман об
Александре» Псевдо-Каллисфена. Тематически же «История
Аполлония» ближе подходит к группе романов любовного содержания, написанных в ранний период их существования, как
определенного литературного жанра, т. е. в I—II в. н. э.; таковы — анонимный, известный лишь по отрывкам, «Роман
о Нине», романы Харитона, Ксенофонта Эфесского. Ряд черт
и особенностей подтверя^дают близость этого романа вышеназванным.
И все же «История Аполлония» — сочинение не совсем типичное для ранних греческих эротических романов. Оно отличается своеобразным характером, позволяющим скорее определить его как роман-сказку.
Это любопытное сочинение неизвестного автора сохранилось
лишь в переложении на латинском языке. Его греческий оригинал утрачен.
Время создания романа в его первоначальном виде относится примерно к началу II в. н. э. Переложение его на латинский язык — более позднего происхождения, его окончательная
редакция относится к VI в. н. э.
132
Роман, состоящий из 51 главы, написан весьма популярным,
во многих отношениях даже примитивным языком и содержит
немало сюжетных несогласованностей и непоследовательностей, объясняемых, по-видимому, тем, что над ним работал не
один автор и не в одно время, а также равнодушием к реальным условиям места и времени, характерным для народной литературы.
Ввиду того, что «История Аполлония» — произведение мало
известное, а влияние его на литературу последующих времен
значительно, нам кажется не лишним подробнее остановиться
здесь на его основных сюжетных звеньях.
Роман начинается с рассказа о царе Антиохе, который
живет в преступной связи с родной дочерью. Антиох жестоко
преследует всех претендентов на руку прекрасной царевны,
предлагая им трудноразрешимую загадку и обезглавливая нерешивших ее. Молодому царю Тира Аполлонию удается отгадать загадку, в которой скрыта тайна Антиоха, однако разгневанный этим царь не только не выполняет обещания, но и
грозит Аполлонию смертью. Тирский царь вынужден скрываться. Взяв с собой запас продовольствия и много золота он
отплывает. Антиох посылает за ним погоню. Аполлоний достигает Тарса. Предупрежденный о грозящей ему смертной казни
бедным рыбаком, Аполлоний ищет убежища. Он просит некоего
Странгвиллиона, жителя Тарса, оказать ему гостеприимство.
Тот, однако, отвечает, что жители города сами терпят ужасный голод из-за неурожая и потому помочь ему не могут.
Аполлоний продает голодающим сто тысяч модиев хлеба по
низкой цене и вырученные деньги жертвует на нужды государства. Этим он спасает их от смерти. Благодарные жители
ставят ему на форуме статую. Затем Аполлоний направляется
в Пентаполис, чтобы там укрыться, но буря разбивает его
корабль и он вплавь добирается до берега. Снова ему оказывает помощь бедный старик, он делит с ним кров, еду и
одежду. Отправившись в город, Аполлоний попадает на гимнастические игры и состязается с царем Архистратом в игре
в мяч. Заинтересованный Аполлонием царь приглашает его
к обеду, где гость поражает всех своими музыкальными способностями и другими дарованиями. Дочь Архистрата влюбляется в Аполлония и переживает любовь как болезнь. Аполлоний остается в доме Архистрата учителем музыки. К Архистратиде настоятельно сватаются три жениха, знатные и богатые юноши. Они посылают ей письма и просят выбрать
одного из них. Царевна отвечает письмом, что выбирает
в мужья потерпевшего кораблекрушение. Следует забавная
сцена препирательств между женихами. Архистрат с радостью
устраивает свадьбу Аполлония и Архистратиды,
133
Получив известие о том, что Антиох убит молнией, Аполлоний отправляется с женой в Антиохию принимать, завещанное ему царство. Во время плавания у Архистратиды родится
дочь Тарсия, а сама она внезапно впадает в состояние, подобное смерти. Горе Аполлония неутешно. Царевну в наглухо заколоченном гробу бросают в разбушевавшиеся волны. Прибоем
гроб выбрасывается на берег Эфеса. Усилиями врачей мнимоумершая возвращена к жизни. Желая остаться верной мужу,
она находить приют среди жриц храма Дианы.
Аполлоний по прибытии в Таре отдает малютку дочь на
попечение Странгвиллиону и его жене Дионисиаде, обеспечив
ее всем, что подобает иметь царской дочери. Он оставляет
с ней кормилицу Архистратиды, чтобы та холила ее и растила,
а сам отправляется в Египет, где остается 14 лет. Тарсия
вырастает красивой, умной девушкой. Рядом с ней родная дочь
Дионисиады кажется еще безобразней. Обезумевшая от зависти
и злости Дионисиада замышляет убить Тарсию. Кормилица
Тарсии Ликорида, пораженная внезапной болезнью, перед
смертью открывает Тарсии ее происхождение и советует в случае обиды со стороны приемных родителей обратиться за
помощью к народу Тарса.
После смерти кормилицы ничто не мешает Дионисиаде
осуществить задуманное преступление, и она поручает рабу
А подстеречь Тарсию на могиле Ликориды, убить и бросить
в море. В последний момент убийца, смягчившись, позволяет Тарсии совершить последнюю молитву, но внезапно появившиеся пираты похищают ее и продают в дом сводника
в Митилене. Слезы и мольбы помогают Тарсии сохранить целомудрие. Первый ее посетитель, правитель Митилены Афинагор, поначалу искатель легких развлечений, проникается состраданием к девушке и сам становится защитником ее девичьей
чести. В это время в Митилену прибывает уже узнавший со
слов Дионисиады о якобы умершей дочери Аполлоний. В великой скорби он укрывается в трюме корабля и хочет умереть.
Случай помогает Афинагору устроить встречу Тарсии с Аполлонием. По просьбе Афинагора Тарсия пытается утешить Аполлония пением и загадками, но он отсылает ее, и Тарсия в слезах жалуется на свою несчастную судьбу. Происходит счастливое узнавание.
Афинагор, искренне полюбивший Тарсию, женится на ней.
Сводник получает по заслугам, он заживо сожжен, его пленницам дарована свобода. Аполлоний жертвует золото на восстановление городских степ. Вещий сон направляет его в Эфес,
где происходит второе узнавание — встреча с Архистра?идой,
матерью Тарсии. Разъединенные и гонимые судьбой члены семьи воссоединены. Аполлоний принимает, наконец, царство
134
%
Антиоха, награждает достойных, наказывает преступников,
в мире и счастье все доживают до старости.
Нетрудно увидеть, что в «Истории Аполлония» широко представлены мотивы и элементы, присущие греческому роману.
Налицо в нем скитания, кораблекрушение, нападение пиратов,
мнимая смерть, разлука любящих, наконец, победа над невзгодами, встреча и счастливый финал с непременным наказанием порока и награждением добродетели.
Некоторые черты «Истории Аполлония» особенно близко
напоминают роман Ксенофонта Эфесского о Габрокоме и Антии. Сходство этих двух романов отмечалось в научной литературе неоднократно 1 .
Общее для них обнаруживали как в главной теме (торжество истинной любви), так и в манере подачи характеров (их
деление на положительных и отрицательных), отмечали сходство эпизодов и ситуаций (покушение на убийство, неожиданное спасение, продажа героини своднику, заключительная
сцена узнавания в храме), а также ряд других мотивов (использование письма, вещий сон, жалость убийц к своим жертвам и др.).
Конечно, о непосредственном подражании автора «Истории
Аполлония» Ксенофонту или же наоборот вряд ли возможно
говорить с определенностью, поскольку греческий оригинал
романа об Аполлонии утерян, дата его написания неизвестна,
а потому соотносительные даты с романом Ксенофонта не
могут быть обозначены, хотя приоритет во времени романа
Ксенофонта более вероятен. Во всяком случае ясно одно: оба
сочинения в их первоначальной версии принадлежат одному и
тому же типу романа и относятся, примерно, к одному времени.
В «Истории Аполлония», таким образом, сохраняются признаки романтической литературы. В ней есть роковые случайности, неожиданные повороты судьбы персонажей и хода событий, различные драматические эффекты. Частое повторение
приключений устами самих героев, типичное и для других
романов, есть и здесь. Вспомним такие резюмирующие рассказы в эпизодах с узнаванием, где Тарсия и Ацоллоний повторяют уже изложенное ранее. Такое же повторение звучит
в устах кормилицы Ликориды, открывающей Тарсии имена ее
родителей. Традиционным мотивом любовного романа является
и мотив любви героини, переживаемой как болезнь.
1
Основные черты сходства романов суммированы Смитом (см.:
A. S m y t h . Schakespeares Pericles and Apollonius of Tyre. Philadelphia, 1898, p. 12) и Роде (E. R o h d e . Der griechische Roman und
seine Vorlaufer. Leipzig, 1900, § 412, 413).
135
И веб >ке атй Мотива й элементы получйли в «Историй
Аполлония» свое направление и звучание, подвергнувшись соответственным изменениям.
Вместе с тем в романе об Аполлонии привлекает внимание
множество сказочных мотивов и элементов.
К числу их прежде всего следует отнести по-сказочному
легкое овладение царствами. Ничем не мотивировано получение Аполлонием царства Антиоха, которое он принял лишь
14 лет спустя после получения известия о смерти Антиоха.
Возможно, что в оригинальной версии романа и было какое-то
объяснение ртому, пропущенное в латинском переложении.
Примечательно и то, что главные герои романа, цари и
царевны, сказочно красивы, а любовь их по-сказочному необыкновенна: «.. . Между супругами вспыхнула невиданная
страсть, удивительная нежность, несравненное восхищение
ДРУГ другом и неслыханная радость, свойственная верной и
постоянной любви» (гл. 23) 2. Такие прекрасные и добродетельные герои очень похожи на персонажей народной сказки.
Одним из любимых приемов сказки является и предложение главному герою трудной, почти неразрешимой загадки, которая обычно им разрешается, хотя обещанное далеко не
всегда выполняется. Чаще всего решение загадок — условие
для получения в жены царской дочери. Злой, коварный царь,
влюбленный в свою дочь, преследует отгадавшего загадку,
вынуждая его скрываться 3 .
Сказочное начало романа обусловливает и сказочное его
продолжение. Основное действие получает дальнейшее развитее от причиненного или задуманного зла: странствия и злоключения героя. А странствие тоже, как и в романе, традиционная основа композиции народной сказки.
В разбираемом романе-сказке Аполлоний странствует 14 лет,
в течение которых и происходят все события и приключения.
В начале действия Аполлоний скрывается, предупрежденный
об опасности стариком тирийцем Гелеником. Это тоже сказочный мотив.
Приключения Тарсии также начинаются с задуманного против нее зла и получают характер испытаний, через которые
благополучно проходит героиня: после несостоявшегося в последний момент убийства она попадает в руки пиратов, затем
к своднику, где встречается с Афинагором, а уже благодаря
ему с отцом. Нити сюжета сплетаются между собой, и ходы
2
3
Цитаты из романа приводятся в переводе И. Феленковской
(см.: «Поздняя греческая проза». М., 1961, стр. 339 сл.).
Этот распространенный сказочный мотив встречается во многих произведениях разных времен и народов (см.: Е. R о h d е. Указ. соч.,
§ 420, примеч.).
1 3 6
ЭРОТ Н А Д Е Л Ь Ф И Н Е .
Мрамор.
Ill—II в. до п. э.
Римская копия с греческого оригинала.
Эрмитаж.
основного действия следуют один за другим, осложняясь временами сопутствующими, но не связанными непосредственно
с ним побочными сюжетными линиями.
Такой распространенный мотив сказки, как злоумышления
и злодеяния завистливой мачехи против приемной дочери, есть
и в «Истории Аполлония», где в этой роли выводится воспитательница Тарсии Дионисиада, лживая, коварная, хитрая и
злая, как и подобает сказочной злодейке-ненавистнице.
Типично сказочен мотив противопоставления приемной красавицы дочери родной и безобразной дочери Дионисиады.
Сказочный характер носит сцена со сватовством знатных
и образованных юношей к Архистратиде, их соперничеством,
упрямым требованием ответа, спорами. Тема отвергнутых женихов характерна для комической народной сказки.
В этот сказочный мотав легко вплетается элемент, свойственный роману: женихи делают предложение в письмах, в которых сообщают свои имена и размеры приданого, и Архистратида отвечает письмом. В одном эпизоде, таким образом, соединяются элементы различных жанров. И это в «Истории
Аполлония» — явление самое обычное.
Кроме отмеченных романических и сказочных мотивов и
элементов, в романе есть ряд моментов, воспроизводящих некоторые характерные черты времени, в которое он был
написан.
В первую очередь к этим, так сказать, «современным моментам» можно отнести экономический мотив раздачи хлеба и денежных пожертвований городам и восстановление их.
В романе Аполлоний дважды оказывает помощь городам
Тарсу и Митилене, жертвуя им хлеб, деньги, отстраивая их
(гл. 10 и 47).
В этих эпизодах отражается экономическое состояние городов провинций времени империи II в. н. э. и политика, проводимая императорами и исполнительной властью на местах
в отношении пострадавших от неурожаев и других бедствий
городов.
Антонин Пий, например, в целях успокоения волнений
в Риме, вызванных задержкой поставок зерна, организовал на
свой счет раздачу муки, масла и вина беднейшему населению.
В других городах имели место продовольственные раздачи и
денежные пожертвования магистратов на городское строительство и постановку статуй 4.
Такого же характера была помощь Марка Аврелия малоазийскому городу Смирне, разрушенному землетрясением в 178 г.
Филострат рассказывает, что он восстановил этот город под
4
Н. А, М а ш к и н. История древнего Рима. М., 1948, стр. 450, 465.
1 3 7
впечатлением патетической речи Элия Аристида «Монодия на
гибель Смирны», в которой оратор умолял помочь отстроить
город 5 .
Политика пожертвований вызывалась, конечно, более реальными мотивами, чем простой благотворительностью. Эта политика подачек была борьбой за влияние, за привлечение на свою
сторону городского населения. К тому же потраченные средства с лихвой возвращали взимания налогов и пошлин.
В «Истории Аполлония» есть и другие моменты, приоткрывающие те или иные стороны реальной действительности.
Например, упоминания о сооружении на форуме статуй Аполлонию с благодарственными надписями за оказанную щедрую
помощь жителям Тарса и Митилены (гл. 10 и 47). Обычай
отливать и ставить на площадях медные статуи основателям,
восстановителям и благодетелям городов был широко распространен в то время.
Вот один из отрывков романа на эту тему: продав жителям
Тарса хлеб, Аполлоний «деньги, которые брал у граждан, тут
же пожертвовал на нужды их государства. Жители Тарса,
столь щедро облагодетельствованные Аполлонием, пожелали
воздвигнуть в его честь медную статую и поставили ее на
форуме. Аполлоний был изображен стоящим на колеснице
с плодами в правой руке; левая нога опиралась на модий, а на
подножии была высечена надпись: «Граждане Тарса приносят
эту статую в дар Аполлонию Тирскому за то, что он избавил
их от голода и оскудения» (гл. 10).
Следует отметить еще один современный момент в эпизоде
оживления эфесскими врачами Архистратиды, отражающий интеллектуальную жизнь общества, достижения медицины. Ведь
II век считается веком наивысших успехов медицинской науки,
которая еще со времени Августа и Адриана заняла одно из
первых мест, а медицинское образование поощрялось даже самими императорами. В 1 в. приобрел известность ученый-медик
Цельс, а во II в. в области врачебного искусства, общего и
специального, прославился Клавдий Гален. В это же время
особенное развитие получает практическая медицина, применение уже полученных теоретических знаний.
5
См.: Ф и л о с т р а т . Жизнеописания софистов, II, 9. В его же романе
«Жизнь Аполлония Тианского» есть подобные эпизоды с благодеяниями Аполлония. В одном, например, говорится о том, как в городе
Аспенде Памфилийском владельцы зерна спрятали его, чтобы выгоднее продать в. другом месте. Аполлоний заставил барышников выдать
зерно на рынок и тем спас население города от голода (I, 15). В другом эпизоде речь идет о помощи, оказанной Аполлонием эритрейцам,
на пашни которых делали набеги соседние племена и разоряли их,
обрекая население на голодание. Аполлоний добился того, что поля
были отданы в безраздельное пользование эритрейцам (I, 24).
138
Эпизод ожйвления подан в романе со множеством вполне
реальных и интересных даже с профессиональной точки зрения деталей врачебной техники.
Достаточно привести небольшой отрывок из глав, составляющих содержание этого эпизода, чтобы получить известное
представление о манере и ритме повествования, о стиле романа,
о характере подачи образов.
Вот этот отрывок. После вскрытия ящика с телом Архистратиды и прочтения письма Аполлония, найденного в ящике,
врач готовится ИСПОЛНРГТЬ свой долг — достойно похоронить
умершую — и приказывает сложить костер. «Пока его со всем
тщанием и усердием устраивали, пришел еще один ученик
врача, юноша по виду, но старец по уму. Увидев тело прекрасной девушки, которое собирались предать сожжению, он
спросил, глядя на своего учителя: «Что это за новая, не известная мне покойница?» Учитель ответил: «Ты пришел кстати,
ибо очень мне нужен. Принеси сосуд с благовониями и окажи
умершей последнюю почесть — умасти ее тело». Юноша принес благовония, подошел к ложу девушки, совлек с нее одежду,
окропил благовонным маслом и, растирая ее осторожной рукой,
почувствовал, что грудь ее скована оцепенением. Юноша был
поражен, ибо понял, что смерть девушки — мнимая. Он старается нащупать пульс, следит, раздуваются ли ее ноздри,
прикасается устами к ее устам, видит, что слабое дыхание
жизни борется с кажущейся смертью, и говорит: «Зажгите
вокруг нее четыре факела». После того как все было исполнено, он начинает осторожно двигать ее сложенные в оцепенении руки и растиранием заставляет уже остывшую кровь снова
течь по жилам.
Увидев это, юноша бежит к своему учителю и говорит:
«Учитель, девушка, которую ты считаешь мертвой, жива.
Чтобы ты скорее мне поверил, я восстановлю ее застывшее
дыхание». Взяв с собой людей, он отнес девушку в свою
спальню, положил на ложе, раздвинул полог; согрев масло, он
окунул туда шерсть и приложил к груди девушки; застывшая
от холода кровь благодаря теплу снова стала жидкой, и« возобновилось совсем не слышное прежде дыхание. После кровопускания она открыла глаза, впервые за долгое время глубоко вздохнула и сказала очень тихо, заплетающимся языком:
«Прошу тебя, врач, обойдись со мной должным образом:
я — супруга царя и царская дочь». Юноша, увидев, что сделало искусство и как ошибался его учитель, побежал на радостях звать его. «Приди, учитель, посмотри, чего добился твой
ученик!» Учитель вошел в спальню и, увидев живой ту, кого
считал умершей, сказал юноше: «Я признаю твое искусство,
хвалю умение, дивлюсь твоему усердию. Но выслушай меня:
139
я fie хочу, чтобы ты лишился благ, приносимых нашим искусством. Получи свою награду: у этой девушки есть деньги».
С э^гими словами он дал ученику десять сестерциев золота,
больную же велел лечить питательной пищей и тепло укутывать. Спустя несколько дней, узнав, что девушка эта царского
рода, он в присутствии своих друзей удочерил ее, и, так как
она слезно молила, чтобы никто не прикасался к ней, внял
ее мольбам и позволил удалиться к жрицам Дианы, которые
нерушимо блюли целомудрие» (гл. 26—27).
За сказочным мотивом оживления умершего угадывается
стремление человека к познанию законов природы, к проникновению в тайны жизни и смерти. Методы оживления Архистратиды показаны с удивительным правдоподобием. Они как
будто предвосхищают достижения медицины позднейших времен в области, оживления человеческого организма (после
установления факта «клинической смерти») 6 .
В отличие от приемов более древней сказки, процесс оживления происходит в романе без участия волшебных или каких-то таинственных сил, но производится служителями науки
и описывается с подробностями врачебной техники, в том
числе искусственного дыхания, массажа сердца, восстановления температуры тела растиранием, наконец, лечебного питания возвращенной к жизни.
Итак, «История Аполлония» представляет собой смешение
трех разнохарактерных мотивов: романтических, сказочных,
современных.
Отличительной чертой этого романа является и своеобразная двуслойность отражаемых им представлений и понятий.
В нем проступают разнородные элементы, указывающие на эту
его идеологическую двойственность: одни из них могут быть
отнесены к греческому оригиналу и его латинскому переводу
III в. н. э., другие, отмеченные влиянием христианства, возможно, привнесены в еще более позднее время, в VI в. н. э.
По сути дела, это сочинение — продукт переходного от античности к средневековью этапа, в котором причудливо сочетаются присущие этим разным по мировосприятию эпохам
концепции и элементы.
Однако такая кажущаяся несовместимость представлений
была, по-видимому, вполне закономерным явлением в сочинении, оригинальная форма которого восходит ко II в. н. э.,
6
Подобные эпизоды, за которыми скрывается тяга людей к познанию
неизвестного и которые как бы предвосхищают позднейшие научные
открытия, встречались и в других романах, в частности в «Романе
об Александре», где в рассказах о полетах Александра и его спуске
в морские глубины отражаются заветные мечты народа об освоении
воздушной и морской сфер.
1 4 0
а поздняя латинская обработка относится к V—VI вв. Это был
синтез различных культур и религий, столь характерный для
изменившейся идеологии общества переходного периода.
В языческую основу романа с течением времени вкрапливались христианские добавления. Роман, таким образом, пропитавшись различными понятиями и настроениями, получился
смешанным.
Если, с одной стороны, в нем находится ряд ссылок на языческих богов (при этом роль их весьма незцачительна и
условна): Нептуна, Аполлона, Луцины, Дианы, Манов, Эола,
Приапа и др., то с другой, в нем неоднократно встречается
упоминание бога единого. В отличие от других романов, желания и действия героев в этом романе связываются не только
с языческими представлениями о всесильной роли в судьбе
человека капризной богини Тихи («мы тоже люди, подвластные воле случая» — гл. 34; «повинуясь велению судьбы» —
гл. И и др.), но с волей единого бога.
По-видимому, первое представление позднее было вытравлено и заменено христианским упованием на могущественного
и единого бога («Что суждено богом, да сбудется», — восклицает Аполлоний в гл. 22).
Выражения deo volente, favente deo во множестве вариаций постоянно звучат в устах персонажей (гл. 13, 14, 17, 20,
21 и др.) 7 .
В романе звучат мотивы покорности уготованной человеку
свыше участи. Антиох поражен карающей ^молнией (гл. 24),
Убийца Теофил позволяет Тарсии помолиться перед смертью
(гл. 31). Это мотив чисто христианский н в других романах не
встречается. Следы позднейшей христианской обработки греческого оригинала заметны и в песне Тарсии, звучащей христианским утешением (гл. 41). Афинагор, поручая Тарсии утешить своим пением и игрой на лире Аполлония, говорит: «Это
поистине дело благочестия, за которое господь дарит людей
своими милостями» (гл. 40). Рыбак, отдавший Аполлонию половину своего плаща, — тоже христианский мотив (гл. 12) s .
Аполлония направляет в Эфес «ангелоподобное существо»
(angelico vultu), явившееся к нему во сне (гл. 48). Порой
соединение языческих элементов с христианскими встречается
7
8
Индекс религиозной терминологии см. в издании: A. R i е s е. Historia
Apollonii regis Tyri. Leipzig, 1893, Praef., IX—XV.
Здесь, впрочем, можно видеть не христианский мотив помощи ближнему, а просто сочувственное отношение автора романа к людям
из низов, что вполне естественно в сочинении, рассчитанном на массового читателя. О такой симпатии свидетельствуют и другие эпизоды, в которых раскрываются доброта, благородство, честность и
бескорыстие простых людей, Геленика и Ликориды.
141
в одной фразе, и это выглядит как-то искусственно. Например,
в сцене встречи в храме Дианы с женой Аполлоний восклицает: «Великая богиня Диана, ты устами ангела, явившегося
мне во сне, велела...» (гл. 48). Тем не менее подобное смешение было, по-видимому, вполне приемлемым для читателей
того времени и соответствовало их изменившимся взглядам на
жизнь.
Несмотря на сплетение в «Истории Аполлония» разнородных слоев, мотивов и элементов, основная мысль романа
выступает довольно отчетливо — это утверждение всепобеждающей силы добра, справедливости, высокой нравственности
и гуманности. Мысль эта сконцентрирована в патетической
сцене обращения Аполлония к народу Митилены: «Достойнейшие и благочестивейшие граждане, — сказал он, — приношу вам величайшую благодарность за честность, которая
порождает добродетель, мир и благополучие в государстве и
доставляет ему славу. Благодаря вам раскрылось, что смерть
моей дочери — обман, и скорбь по ней напрасна, благодаря
вам девственность не сдалась ни в каких испытаниях, благодаря вам единственная дочь вновь возвращена в отцовские
объятия. За столь великие заслуги я дарую вашему государству 100 золотых талантов на восстановление городских стен»
(гл.47).
Более полному звучанию этой главной темы способствует
и общий принцип построения романа, принцип контрастирования его частей и образов.
Композиция романа отличается некоторой усложненностью,
и потому необычностью.
В романе четко выделены три основные линии сюжета:
одна об Аполлонии и Архистратиде, вторая — об Афинагоре
и дочери Аполлония Тарсии, наконец, третья — о царе
Антиохе и его дочери.
Введение исторической фигуры царя Антиоха частично
может быть объяснимо требованиями традиции раннего романа, согласно которой вымышленному, и даже сказочному,
роману придавалась видимость действительной истории.
Историчность была одной из характерных черт первых романов вообще, их первоначальным жанровым признаком, будь
то «Роман об Александре» или роман об ассирийском царе
Нине, использующих в большей или меньшей мере исторический материал и относящихся к первым двум векам
нашей эры. Они, по-видимому, проложили путь развитию
приключенческого романа с любовным содержанием. От этих
романов и шла традиция введения в сюжет исторических лиц.
Антиох Великий в действительности был восточным царем
в 222—187 гг. до н. э. Однако в исторической традиции не на142
ходится каких-либо указаний о его преступной связи с дочерью
или о том, что его убила молния. Эти факты его жизни присочинены автором романа и составили своего рода пролог к его
основной части о совсем других, исключительно вымышленных
лицах.
Поскольку вводный рассказ об Антиохе и его дочери непосредственно не связан с ходом основного сюжета и может
быть опущен без существенного ущерба для содержания,
среди исследователей возникали мнения, что первоначальный
вариант романа не содержал истории Антиоха и что он позднее искусственно присоединен к основной, древней, части произведения. В таком неорганическом соединении разнородных
сюжетов винили, главным образом, латинского пересказчика,
якобы добавившего от себя историю об Антиохе 9 . Роде предполагает, что латинскому пересказчику необходимо было удалить из романа чисто языческий мотив оракула, якобы побудившего Аполлония к странствованию (как это было в романе
Ксенофонта Эфесского), и заменить его другим мотивом —
гневом Антиоха, принудившим Аполлония скитаться. Потому
этот эпизод, понадобившийся лишь для введения, и не разработан 10.
А. Веселовский, однако, возражая Роде и считая его предположение недоказанным, высказал соображение о том, что
неразвитость первой части «Истории Аполлония» объясняется
тем, что не в ней леяшт центр интереса, а также отчасти
искажением, забвением оригинала: «Когда Антиох убит молнией, мы узнаем, что его царство уготовано Аполлонию; это
повторяется не раз; однажды Аполлоний прямо называет
Антиохию отцовским наследием. Между тем, ничто в начале
повести не приготовляет нас к этим отношениям Аполлония.
Очевидно, в повести есть пробел, в котором эти отношения
были рассказаны, права Аполлония на антиохийский престол
предусмотрены. Если так, то появление в рассказе царя
Антиоха теряет характер кажущейся эпизодичности: он — не
только не постороннее лицо, но и необходимо было в древнем,
более цельном составе повести» п .
Нам представляется вполне допустимым предположение
о том, что история порочного царя Антиоха входила в первоначальный вариант романа и Даже составляла весьма существенную деталь общего композиционного замысла. По-види9
10
11
Е. R o h d e . Указ. соч., § 419; A. S m y t h . Указ. соч., стр. 15—17;
W. S. T e u f f e l . Geschichte der Romischen Literatur. Leipzig, 1890,
III, 489, 3.
E. R o h d e . Указ. соч.
A. H. В е с е л о в с к и й . История или теория романа? — В кн. «Избранные статьи». Л., 1939, стр. 49.
1 4 3
мому, у нее было прямое назначение: служить смысловым
контрастом основным сюжетным линиям и характерам. В роли
контрастирующего пролога она сообщала общему содержанию
особую эмоциональную напряженность и тем самым привлекала внимание читателя.
В романе противополагаются отношения отцов к дочерям,
чем особо подчеркивается сквозная его мысль — торжество
любви, целомудрия, доброты и гуманности, вера в победу
морально совершенной личности.
Весь роман по существу построен на контрастах. Так, начало его с необычными страстями и порочными отношениями
контрастирует с его концом — награждением верности и
добродетели. На фоне эпизодов вводной части (кровосмесительная связь Антиоха с дочерью, сцена с кормилицей)
особенно выделяются финальные его части (встреча Аполлония с дочерью, преданность кормилицы Тарсии, триумф целомудрия) — блестящая антитеза вступительным эпизодам.
Принцип противопоставления создавал и особый риторический эффект, будучи одним из средств художественной выразительности и некоторых других греческих романов (в «Романе об Александре», например, по этому принципу построены
образы главных героев: Александра Македонского и Дария).
Итак, композицию романа характеризует контрастирующая
симметричность составляющих его частей, эпизодов, а также
образов.
Такой принцип построения романа, повторяем, не был случайным или только формальным средством выразительности,
но именно он способствовал выделению главной темы.
Основные действующие лица романа (Аполлоний, Архистрат, Архистратида, Тарсия, Афинагор), соответственно его
смысловой направленности, наделены высокоморальными качествами, достойными удивления и восхищения. Индивидуальные черты и особенности этих персонажей, выписанные
кратко, но выразительно, выявляются через отношения и
поступки. Взаимосвязанные сюжетом положительные герои
действуют на протяжении всего романа.
Иначе подан образ Антиоха — главного отрицательного героя, наделенного чертами злодея из народной сказки.
Жестокий и вероломный царь, красавицу дочь которого
получить в жены можно, лишь отгадав хитроумную загадку, —
традиционный сказочный мотив. Кажется, этому персонажу
присущи все отрицательные черты и пороки. Это человек без
чести и совести, поступками которого руководит жажда власти
и необузданная жестокость. Ни одной смягчающей черты не
находит для него автор. Антиоху чуждо чувство раскаяния
в своей виновности; напротив, он дерзко и надменно бросает
144
вызов претендентам на руку своей дочери, задавая им загадку,
в содержании которой кроется эта самая его вина. И «если
кто-нибудь, умудренный в науках, находил решение загадки,
ему, словно и не было никакого уговора, отсекали голову и
насаживали ее на зубцы ворот» (гл. 3). Царь к тому же и
лицемерен: «Перед своими гражданами он притворялся благочестивым родителем, а в своем доме похвалялся тем, что он
супруг дочери» (гл. 3).
Несмотря на то, что Антиох появляется лишь в самом начале романа и не принимает участия в активном развитии
действия, он не является второстепенным персонажем и не
выпадает из общего строя повествования, но, напротив,
придает ему интонационную окраску, омрачая своей тенью все
происходящее. Обрисованный сгущенными мрачными красками, он тем самым как бы возвышает главных положительных героев, представленных на всех последующих страницах
романа.
Царь Антиох — прямая противоположность двум другим
царям, благородным и любящим отцам: Аполлонию и Архистрату.
Киренский царь Архистрат умен и добр, общителен и гостеприимен. Он прививает и своей дочери наилучшие моральные
качества доброты,
великодушия,
сострадания, чуткости.
Он друг дочери и гордится ее достоинствами. Идя навстречу
желаниям царевны, он соглашается на ее брак с любимым ею
Аполлонием, которому он великодушно помог после кораблекрушения. «Я тебе воистину сочувствую, ибо отцом меня тоже
сделала любовь», — говорит он ей (гл. 22).
В характере отношений Архистрата к дочери, в уважении
ее чувств просвечивает гуманистическая тенденция романа —
утверждение нового типа брачных отношений, основанных на
чувстве взаимной любви. Такое понимание брака, характерное
и для других греческих романов, было необычным для предшествующей эпохи и знаменовало собой известный сдвиг
в общественном сознании.
Образ главного героя романа — Аполлония отличается несколько большей сложностью и разнообразием. Молодой
царь — бесстрашный
искатель
приключений,
жаждущий,
несмотря на смертельную опасность, получить руку прекрасной дочери Антиоха. Он обладает живым и острым умом и не
случайно ему удается разгадать загадку Антиоха, а потом и
загадки Тарсии. Он образован: в его доме есть библиотека из
произведений философов и халдейских мудрецов, он искусный
атлет и одаренный актер. О нем говорится, что он «искушен
во всех искусствах и науках» (гл. 17). Аполлоний хороший
музыкант, он поражает всех своим искусством игры на лире:
\Q
Античный роман
145
«Осанка его была такова, что всем пировавшим показалось,
что перед ними не Аполлоний, а сам бог Аполлон. В наступившей тишине «взялся он тотчас за плектр и на пение дух свой
настроил». Мелодичные звуки его голоса слились с пением
струн. Все сотрапезники вместе с царем стали возносить
Аполлонию громкие хвалы: «Ничто не может быть лучше,
ничто не может быть сладостнее!» После этого юноша отложил
лиру и перевоплотился в комического актера, причем изображал различные действия безмолвно, только жестами и мимикой; затем преобразился в трагика и не менее прежнего
понравился и в этой роли; друзья царя согласно утверждали,
чяго ничего подобного им не приводилось ни слышать, ни
видеть» (гл. 16).
Аполлоний щедр и умеет быть благодарным за оказанную
ему помощь. Он — преданный муж, тяжело переживающий
потерю жены и не снимающий траура в течение 14 лет странствия. Он неутешен в своем горе, усугубленном известием
о смерти дочери; любящий отец «словно окаменел от горя»
(гл. 38).
Как Антиох — воплощение зла и порока, так Аполлоний сосредоточивает в себе чуть ли не все добродетели положительного героя. Он любим своим народом. После его исчезновения
из Тира «всех охватил ужас, отчаянные рыдания раздавались
повсюду. Любовь граждан к Аполлонию, была столь велика,
что народ на долгое время отказался даже от услуг цирюльников; отменены были зрелища, закрыты бани» (гл. 7). Аполлоний честен и прямодушен. В эпизоде пира у Архистрата,
слушая игру его дочери на лире, он откровенно высказывает
царю свои замечания: «Дочь твоя взялась за это искусство,
однако не научилась ему» (гл. 16).
В романе об Аполлонии есть одна особенность, отличающая
его от большинства других греческих романов: основные приключения в нем выпадают на долю женских персонажей, главным образом, Архистратиды, жены Аполлония, и их дочери
Тарсии. Сам же Аполлоний, по имени которого назван роман,
играет относительно малую роль в потоке приключений, которые претерпевают женские персонажи. Между тем именно он
составляет стержень романа, связующий и организующий
весь сюжет.
Итак, в центре внимания романа женские образы.
Дочь Антиоха, девушка редкой красоты, само совершенство,
не лишена понятий о чести и благородстве, но она слабовольна и нерешительна. Ее повергает в отчаяние поступок
отца, она обвиняет его в нечестии и ценой ^воей жизни задумывает смыть позор и спасти честь семьи. Однако, поддавшись уговорам рабски угодливой и трусливой кормилицы 7
т
малодушно смиряется со своей горестной участью и безропотно
покоряется воле отца.
Ее образ, так же как и образ ее отца Антиоха, противопоставляется другому образу молодой девушки — дочери Аполлония.
Тарсия выступает как воплощение моральной чистоты,
душевного благородства и твердости характера. Приключения
ее начинаются после смерти кормилицы и сразу приобретают
характер испытаний. После неудавшегося покушения на ее
жизнь она попадает в руки разбойников, которые продают ее
с торгов на рыночной площади. Девушку покупает сводник,
алчный и безжалостный, жаждущий заработать на ее красоте. Но и в доме сводника Тарсии, взывающей к лучшим чувствам ее посетителей, удается сохранить целомудрие. Тарсия
великодушна и добра. После встречи с отцом и матерью она
дарует свободу девушкам сводника, надсмотрщику и слуге
Дионисиады, внявшим ее просьбам о сочувствии и помощи. Она
образованна, красноречива, музыкальна. В свои 14 лет она
обладает недюжинным умом. «Удивляюсь, как ты в столь молодом возрасте обладаешь такой мудростью», — восклицает
Аполлоний, отвечая на ее загадки (гл. 42). Благоразумие и
благородство — вот что преобладает в характеристике дочери
Аполлония, которую не сломили и не озлобили тяжелые йспытания. Она полна готовности помочь страдающему человеку,
утешить его в горе песней, игрой на лире, загадками. «Я благодарен тебе за твой разум и благородство. А за желание меня
утешить я тебя вознагражу...», — говорит ей Аполлоний
(гл.41).
Такой же нравственно чистой и благородной представлена
в романе и мать Тарсии, Архистратида. Ее образ привлекает
возвышенностью чувств, юным обаянием и непосредственностью. Она отзывчива, добра, впечатлительна и эмоциональна.
Глубоко сочувствуя потерпевшему кораблекрушение Аполлонию, она стремится помочь ему. Музыкально одаренная, она
тем не менее без обид выслушивает замечания Аполлония
о своей игре на лире и даже просит отца взять его учителем
музыки. Ею овладевает всепоглощающая любовь к последнему, которую она переживает как болезнь. Такая любовь —
традиционный мотив греческого романа, но и сказки тоже.
«Царевна, не в силах долее терпеть любовные муки, совсем
ослабела, слегла и в бессилии не покидала своего ложа. Взволнованный внезапно напавшим на нее недугом, Архистрат созвал врачей. Те пощупали пульс, осмотрели девушку и не
нашли никаких признаков болезни» (гл. 18). Верная жена
своему мужу, Архистратида готова делить с ним опасности
морского плавания. Разлученная с ним, она, заботясь о сохра10*
147
нении своей чести, живет в храме Дианы как ее жрица. «Она
выделялась красивой наружностью и величайшим целомудрием, так что была богине милее всех остальных» (гл. 48).
Описания внешности в романе нет, но как героиня романасказки киренская царевна, конечно, прекрасна: ее красота
излучала такое сияние, что Аполлоний и Тарсия, увидев ее
в храме, приняли ее за богиню Диану (гл. 48).
По принципу контраста обрисованы и второстепенные женские персонажи, например, кормилицы дочери Антиоха и
Тарсии.
Если первая, угодливая, трусливая, малодушная, лишенная
чувства гордости и всякого понятия о чести, уговаривает дочь
Антиоха не перечить воле отца и смириться, то вторая — умная, честная, преданная Ликорида показана как настоящий
друг своей молодой хозяйке, она заботится о ее благополучии
и свято исполняет завет ее отца Аполлония «растить и холить»
девочку. Тяжело больная, на пороге смерти она находит силы
предостеречь Тарсию о возможности обиды со стороны ее
названных родителей, открывает ей имя настоящих родителей
и дает совет в случае беды обратиться за помощью к народу
Тарса.
Примечательны образы второстепенных персонажей, относящихся к категории положительных героев. Из них наиболее
интересен и значителен Афинагор.
В отличие от других, характер персонажа показан в развитии. На протяжении действия романа он заметно меняется.
Сначала перед читателем легкомысленный искатель развлечений, вдовец, намеревающийся купить понравившуюся ему
девушку. Сводник, однако, дает за нее большую сумму, и
тогда Афинагор решает, что ему выгоднее не покупать Тарсию; «Если я стану состязаться с ним, мне, чтобы купить ее
одну, придется продать многих. Я предпочитаю, чтобы
девушка досталась своднику, а когда он выставит ее напоказ,
я приду первым и задешево получу цветок ее девственности»
(гл. 33).
Перед нами здесь всего лишь расчетливый покупатель
товара, богатый повеса,
лишенный и тени сочувствия
к девушке.
После встречи с Тарсией Афинагор меняется. Тронутый
ее слезами и рассказом, он полон смущения и вспоминает
о благочестии, о том, что у него самого есть дочь и что ему
следует опасаться подобной же участи для нее. Он уступает
просьбе Тарсии и советует так же вести себя с другими посетителями. А сам он стал оберегать ее, как единственную дочь,
«он дал надсмотрщику много золота и поручил Тарсию его
попечению». Сочувствие перешло в нежность и настоящую
148
любовь. Движимый этими чувствами, Афинагор стремится
устроить встречу отца с дочерью. В конце, искренне полюбивший, он женится на Тарсии.
Как видим, образ этот менее статичен, чем другие. Привлекают внимание образы двух бедняков, оказавших Аполлонию бескорыстную помощь. Эти люди из низших слоев обрисованы светлыми штрихами. Эпизоды с их участием коротки,
но это удивительно живые и выразительные зарисовки, раскрывающие лишь некоторые стороны духовного содержания
их: чуткость и доброту. Бедный рыбак делится с Аполлонием
последним, что имеет, он делит с ним кров и еду, отдает половину своего ветхого плаща. Другой бедняк предупреждает
Аполлония о грозящей ему опасности, хотя и знает об указе
Антиоха, сулившем в случае поимки беглеца большие деньги.
Он даже отвергает вознаграждение за оказанную им дружескую услугу (гл. 12 и 8).
Интересны образы врачей. Они особенно правдивы и жизненны и, конечно, из всех наименее традиционны и шаблонны.
Врач, прочитав письмо Аполлония, вложенное в гроб с мнимоумершей женой, полон благородных намерений выполнить
его просьбу — оказать последнюю почесть умершей — и даже
хочет устроить погребение более щедро. Он заботится о пробудившейся от длительного сна Архистратиде, приказывает
кормить ее питательной пищей и тепло укутывать. Он удочеряет ее, но, уступая ее просьбе, разрешает ей уйти в храм
Дианы.
Характерна фигура ученика врача, «гоноши по виду, но
старца по уму», который терпеливо и настойчиво добивается
оживления Архистратиды, а добившись, искренне радуется
этому. Его искусство и усердие по достоинству оцениваются
учителем (гл. 26—27).
Из отрицательных персонажей выделяются нечестивый,
жестокий и алчный сводник Странгвиллион и его жена Дионисиада, обманувшие доверие Аполлония и отплатившие ему
злом за добро.
Дионисиада выступает в обличье злодейки-мачехи, хитрой
и вероломной, способной из чувства зависти убить приемную
красавицу дочь, чтобы в ее богатые уборы и одежды нарядить
родную уродливую дочь. Этому типично сказочному образу сопутствуют постоянные эпитеты: «злодейка», «преступница»,
«злейшая и ядовитая гадина».
Несколько сложнее обрисован Странгвиллион. Несмотря на
овладевшее им чувство ужаса и отчаяния от злодеяния жены,
он все же идет на сделку с совестью и прямое предательство,
трусливо покрывая убийствб. Кляня Дионисиаду, он малодушно подчиняется ей. Этот преступник из слабоволия — не
1 4 9
типичен для сказочной фигуры злодея. Он идет на соучастие
в преступлении, терзаемый угрызениями совести, чего со
сказочными злодеями не случается.
Нетрудно заметить, что автору «Истории Аполлония» присуще довольно одностороннее представление о человеческом
характере, который, в его понимании, может быть или только
хорошим, или только плохим. Ему еще чуждо понятие о противоречивости человеческой натуры, ее психологической
сложности.
. В романе нет полутонов и оттенков. Характеристика персонажей в нем кратка и определенна. Если положительные
герои обрисованы в светлых тонах, то отрицательные — лишь
сгущенными, темными красками. Это касается не только главных персонажей, но и второстепенных. Зловещей мрачной
фигуре Антиоха противополагаются чистота душевного мира
и благородство Архистрата, Аполлония, Афинагора; жестокости, алчности, лживости Дионисиады, сводника Странгвиллиона противопоставлены человечность, доброта, бескорыстие
старых рыбаков, кормилицы Тарсии, эфесских врачей.
Добро и зло, порок и добродетель — вот схема распределения ролей в романе-сказке, схема, естественно, предполагающая известные преувеличения и идеализацию в обрисовке
образов.
Впрочем, мы и не можем упрекать в этом составителя раннего греческого романа, еще слишком примитивного и неразвитого в художественном отношении.
Здесь следует лишь подчеркнуть особую манеру подачи
образов и приемов проявления характеров через внешние
отношения, действия и события, хотя сами эпизоды, обнаруживающие свойства персонажей, весьма традиционны: побег
и странствие, нападение пиратов, кораблекрушение, неожиданное спасение, счастливый конец.
Стиль и словесное оформление «Истории Аполлония» определялись как сказочной тематикой, так и социальной средой,
в которой она сложилась и для которой предназначалась.
Эта среда — широкие слои читателей среднего культурного
уровня.
Отвечая вкусам такой аудитории, малоискушенной в вопросах литературного мастерства, роман-сказка об Аполлонии
Тирском изложен с предельной и наивной ясностью народной
сказки. Он отличается также сжатостью фактического рассказа,
напоминающего сценарий, либретто, может быть, даже конспект какого-то более пространного повествования. Сюжетная
занимательность романа укладывается в рамках довольно примитивной художественной формы.
1 5 0
Манера изложения романа близка к сказочной. В чисто
сказочной повествовательной форме написаны, например,
начала глав: «Прошло несколько месяцев, а, может быть, даже
совсем немного дней...» (гл. И ) , или: «Спустя некоторое
время...» (гл. 19) и др.
Роману-сказке чужды описания. И если они иногда возникают на его страницах, то обычно оказываются тесно сплетенными с сюжетом, поясняя или иллюстрируя его. Картина
бури перед кораблекрушением, например, как бы предвещает
будущие несчастья Аполлония (гл. 11); разгулявшиеся морские волны, сопровождая рождение Тарсии и похороны мнимоумершей Архистратиды, оттеняют и как бы усугубляют
драматичность событий (гл. 25—26).
В «Истории Аполлония» нет описаний стран и народов, художественного приема, широко применявшегося в других романах (например, у Гелиодора, у Ахилла Татия, у ПсевдоКаллисфена). Этот роман беден впечатлениями путешествующего героя; а ведь он за 14 лет странствия многое видел и
многому мог подивиться, а затем рассказать об этом. Элемент
описания в романе сведен до минимума: «. .. Выйдя в открытое море, он достиг дальних и неизведанных частей Египта»
{гл. 28).
По-видимому, неизвестный составитель романа не отличался развитым воображением и не обладал навыком риторического искусства, свойственного писателям софистического
направления, хотя и он в некоторой мере испытал их влияние.
Изредка встречаются в романе краткие описания произведений искусств. Вот, например, описание памятника Аполлонию и Тарсии: «Аполлоний стоял, обнимая правой рукой
дочь, и попирал ногами голову сводника. Надпись же гласила:
«Аполлонию, восстановившему наши стены, и Тарсии, среди
тягчайших испытаний целомудренно сохранившей девственность, в знак глубокой любви на вечные времена поставил
этот памятник парод Митилены» (гл. 47).
Эти описания, несущие определенную смысловую нагрузку,
также включены в ход развития действия, которое развертывается динамично, но довольно ровно, не прерываясь вставными эпизодами, отвлекающими читателя
от
основного
сюжета. Действия героев изображаются в виде параллельных
сюжетных звеньев, развивающихся, однако, во временной последовательности. Рассказ об одном лице, приостанавливаясь,
уступает место новому ходу сюжета с участием другого
персонажа и обычно начинается словами «между тем»,
«пока»: «Пока в Митилене происходили такие события, Аполлоний после четырнадцатилетнего отсутствия возвратился
в Таре...» (гл. 37).
№
Для перехода от одного эпизода к другому применяются
мотивы кораблекрушения, нападения пиратов, вещего сна
и т. п.
Есть в романе довольно живописные зарисовки быта. При
эюм внимание уделяется даже отдельным деталям и частностям. Интересны и колоритны, например, картины пира с его
развлечениями во дворце Архистрата (гл. 14—16), игр и
состязаний в гимнасии (гл. 13), забавна бытовая сценка сватовства трех женихов к Архистратиде (гл. 19; 21), реалистично описание оживления киренской царицы эфесскими
врачами (гл. 26—27).
В «Истории Аполлония» элементы быта легко уживаются
с мотивами сказки.
Подобное смешение разнородных элементов наблюдалось
нами в другом раннем романе — «Романе об Александре», где
со сказкой причудливо сплетается история. По-видимому,
сращивание элементов быта или истории со сказочными чертами было специфической особенностью многих греческих
романов.
Сцены и эпизоды романа заключают в себе концентрированное действие, изобилуют разговорными оборотами. Событиями наполнена каждая глава. Насыщенность действием
и
живыми
диалогами
подчеркивает
народную
основу
романа.
Изложение событий приобретает особую динамичность благодаря диалогу, который в зависимости от обстоятельств меняет свою окраску: он то риторически приподнят, то лиричен,
то грубоват и обыден.
В мягком юморе дана, например,
сцена разговора Архистрата с женихами дочери, эмоциональны
и трогательны сцены узнаваний в трюме корабля и в храме
Дианы.
Своеобразие романа в том именно и состоит, что в диалоге
и языке персонажей сказываются индивидуальные черты и
особенности их характера. Речь Тарсии, например, эмоциональна п возвышенна, она как бы подчеркивает ее чистую
романтическую натуру. Патетична и наполнена соответствующим моменту настроением речь Аполлония. Обращение его
к Нептуну после кораблекрушения носит риторический характер, оно содержит обращение, восклицание, риторические
вопросы: «О, Нептун, владыка моря, вероломно обманывающий невинных, не для того ли ты спас меня от гибели, чтобы
жестокому Антиоху легче было преследовать сирого и
нищего? Куда мне идти? Куда направиться? Кто окажет
помощь незнакомому пришельцу?» (гл. 12). Риторически
окрашена и речь Аполлония на могиле Тарсии, где окаменевший от горя, он клянет свои глаза за то7 что не может плэ1 5 2
кать (гл. 38), а также исполненная радостй речь в трюке
корабля при встрече с дочерью (гл. 45). Напротив, речь
Архистрата уравновешенна, проста, полна достоинства и благоразумия. Проста и безыскусственна речь Геленика, обнаруживающая характер человека из народа, честного, бескорыстного, гордо отвергающего вознаграждение за услугу: «Не
бывать, повелитель, тому, чтобы я за такое дело взял награду.
Ведь у честных людей дружба не покупается за деньги»
(гл. 8).
В романе встречаются цитаты из Вергилия, что может свидетельствовать о влиянии его на автора «Истории Аполлония». Американская исследовательница романа Е. Хейт 1 2
считает, например, фрагменты гексаметров, описывающих
бурю на море, реминисценциями «Энеиды» (I, 81—156 и
VIII, 675—713). Внимание Архистратиды к Аполлонию напоминает гостеприимство, оказанное Дидоной Энею, так же
как и ее сострадание к нему. Описание возникающего чувства молодой девушки к Аполлонию иллюстрировано стихотворными строками из «Энеиды» (IV, 1, 4, 5, 12).
Другие исследователи указывают на сходство отдельных моментов романа с «Метаморфозами» Овидия и «Метаморфозами» Апулея 13.
Стиль и тон романа неоднородны. Однотонное течение фактического рассказа сочетается в нем с диалогами различной
настроенности. Прозаическое изложение порой перемежается
со стихотворными вставками (фрагментарные поэтические
строки с описанием морской бури, десять стихотворных загадок Тарсии, загаданных Аполлонию в трюме, чтобы утешить
его, и ее песнь).
Смешение прозы и поэзии говорит о том, что и народного
романа в какой-то мере коснулось влияние второй софистики,
выразившееся в использовании характерных для нее малых
жанров: стихотворений, загадок, писем.
Введение в текст романа писем отвечало литературным вкусам времени. Эпистолографический жанр получил широкое
распространение в ту пору и был очень популярен как в греческой, так и в римской литературе.
В романе упоминаются письма женихов Архистратиде,
приводится ее письмо-ответ, в котором она объявляет отцу
о своем выборе (гл. 19—20); есть в нем сопроводительное
письмо, вложенное Аполлонием в гроб с Архистратидой
12
13
Е.
p.
E.
S.
Н. Н a i g h t. More essays on the Greek Romances. New-York, 1945,
170—171.
К1 e b s. Die Erzahlung von Apollonius aus Tyrus. Berlin, 1899,
284-289.
1 5 3
С просьбой к нашедшему это письмо достойно похоронить
царицу (гл. 26).
Относительно стихотворных загадок Тарсии в научной литературе высказывалось предположение о том, что они — позднейшее добавление, заимствованное из коллекции загадок
Симфосия (конец V—начало VI в. н. э.). По мнению Смита 1 4 ,
это реминисценции популярных восточных сказок.
Следует, однако, заметить, что загадывание загадок нашло
широкое применение не только в литературе народов Востока,
но и в литературах Греции и Рима. О популярности загадок
у греков и римлян может свидетельствовать хотя бы сцена из
«Пира софистов» Афинея (X, 69—88), или сцена пира Тримальхиона в «Сатириконе» Петрония; встречаются загадки
у Гелиодора (I, 18). В загадочной форме часто выражались
оракулы и пророчества (вспомним пророчества в «Романе об
Александре», также выраженные с т и х а м и — I , 33).
Загадки в рассматриваемом романе предлагаются главному
герою дважды: в начале и в конце (гл. 1—2 и 42—43), в противоположных по смыслу частях. Загадка Антиоха, коварная
и хитроумная, задумана, чтобы губить людей; загадки Тарсии, житейские и забавные, напротив, имеют целью развлечь
и утешить страдающего и отчаявшегося Аполлония. И в том
и в другом случае загадки подчеркивают характер задающего
их: вероломство и жестокость Антиоха или же доброту и
мягкосердечие Тарсии.
Как видим, и здесь загадки, как письма и описания, служат
не столько украшающим элементом стиля, сколько определенным вспомогательным приемом обрисовки персонажей и в то
же время связующим звеном в развертывании действия романа.
Загадки как бы обрамляют содержание романа, соприкасаясь
с ним лишь в вводной части (загадки Антиоха) в качестве
элемента завязки и в конце (загадки Тарсии) в качестве
приема, приближающего развязку.
По-видимому, такая симметричность введения загадок в сюжет соответствовала задуманной схеме симметричного, контрастного построения всего романа. Не исключено, что в христианской версии загадки были видоизменены и переиначены,
а может быть даже целиком заимствованы из Симфосия 1 5 .
Латинская версия романа «История Аполлония» была распространенной книгой, рассчитанной на широкие массы читателей. Может быть, поэтому судьба этого романа оказалась бо14
15
A. S m y t h . Указ. соч., стр. 13.
%
P. J. Е п k. The romance of Apollonius of Tyre. — Mn. (Ser. IV), I,
1948, p. 222—237, где аргументируется заключение о существовании
христианской версии романа в VI в. и языческой латинской в III в.
1 5 4
лее счастливой, чем у других греческих романов: текст его
сохранился в 60 с лишним рукописях 16. Правда, между ними
наблюдаются значительные расхождения, свидетельствующие
о вольном обращении с текстом, характерном для анонимных
произведений народного характера.
Влияние романа на последующее время было довольно велико. Он стал одной из любимых книг средневековья и Возрождения, переводился на многие европейские языки. Известно большое количество подражаний роману в форме сказок,
саг, баллад, пьес (например, большая поэма Генриха фон
Нейштада — около 1300 г., стихотворные переложения Ганса
Сакса и др.) 17. К «Истории Аполлония» восходит сюжет
пьесы Шекспира «Перикл, принц Тирский» — драматизация,
выполненная с вариациями и изменениями 18. Латинская версия романа послужила основой для драмы-сказки К. Гоцци
«Принцесса Турандот».
16
17
18
Об изданиях, рукописях и последующей традиции романа см.:
A. S m y t h . Указ. соч., стр. 17—23; 23—60.
См.: Е. K l e b s . Указ. соч., стр. 325—511.
Об использовании Шекспиром источника и соотношениях с ним
см.: Е. Н a i g h t. Указ. соч., стр. 171—189,
ЛЮБОВНО-ФАНТАСТИЧЕСКИЙ
РОМАН. АНТОНИЙ ДИОГЕН.
ЯМВЛИХ
Среди греческих романов обособленную группу составляют
романы, в которых основная любовная фабула сочетается
с всевозможными фантастическими приключениями. Это романы
Антония Диогена «Невероятные приключения по ту сторону
Фулы» и сирийца Ямвлиха «Вавилонская повесть», относящиеся, примерно, к одному и тому же времени (II в. н. э.)
и обладающие рядом сходных между собой черт, как по
содержанию, так и по общей композиционной структуре.
Поэтому нам представляется позволительным рассмотреть их
если не вместе, то все же в некотором соотношении друг
с другом.
Действие обоих романов развертывается в полусказочных
странах и перенесено в отдаленное прошлое. Традиционный
сюжет скитаний влюбленных обогащен в них вводными эпизодами, осложняющими композицию. Невероятные фантастические события и обстоятельства, чудеса, магия, мистика и
вместе с тем индивидуализированное изображение внутреннего мира действующих лиц — вот элементы, из которых
складывается содержание этих необычных, но, по-видимому,
весьма характерных для своего времени произведений.
В обоих романах, несмотря на всю их фантастичность, найдется немало откликов на современность.
Оригиналы романов Антония Диогена и Ямвлиха до нас
не дошли, но известны по конспе^ивным пересказам византийского писателя, патриарха Фотия, относящимся к IX в.
и. э., да по ряду незначительных фрагментов и извлечений,
сохранившихся у разных авторов,
1 5 6
Время написания романов приходится на II в. н. э. Тяжелые условия существования в Римской империи создавали
благоприятную почву для развития всякого рода мистических
настроений и учений. Мистико-религиозные интересы являлись своеобразным пассивным протестом против существующего социального уклада жизни; «задавленные материальной
нуждой, бесправные и ревниво опекаемые императорской бюрократией люди теряли веру в собственные силы, общественные условия приводили их, таким образом, к отрицанию
культуры и даже самого смысла жизни, заставляли предпочитать мир идей и фантазий реальному миру» Это было время,
когда на фоне обостряющегося кризиса социальной системы,
кризиса и общего и идеологического, оживали старые примитивные религиозные верования, смешиваясь и перекликаясь
в то же время с идущими широкой волной с Востока религиозными учениями и культами. Религиозный синкретизм,
подготовленный еще в эллинистическое время, в период
I—II вв. н. э. распространился особенно широко 2 . Все более
усиливались религиозно-мистические настроения. Большую
популярность приобрели астрология, предсказывающая по
небесным светилам будущее человека, и учение о потустороннем мире. Философия все больше сливалась с религиозномистическими учениями и культами. Восприятие жизни как
серии случайностей, как чего-то подвластного лишь высшим
таинственным силам, интерес к магии и волшебству, вера
в сверхъестественное: чудеса, знамения, заклинания, вещие
сны, пророчества, призраки — все эти рейигиозно-мистические настроения захватили и художественную литературу.
В романах с фантастическим уклоном Диогена и Ямвлиха
они выступают особенно явственно, отражая состояние духовной и умственной жизни греко-римского общества первых
веков нашей эры.
Антоний Диоген
Поскольку Антоний Диоген признается писателем более ранним, чем Ямвлих, а его роман Фотий называет источником
романа последнего 3 , следует, очевидно, прежде рассмотреть
«Невероятные приключения по ту сторону Фулы». Тем более,
что он и по своим формальным особенностям, по-видимому,
1
2
3
В> С. С е р г е е в. Очерки по истории древнего Рима. М., 1938, стр. 549.
См. ниже статью М. Е. Грабарь-Пассек «Философский роман. Филострат. «Жизнь Аполлония Тианского», где освещается историческая
обстановка и идеологические течения этого периода.
Р h о t i i. Bibl. Cod. 166.
157
был проще романа Ямвлиха, отличающегося стилистической
изощренностью.
Кроме основного содержания романа Диогена «Невероятные приключения по ту сторону Фулы» (Та оттер BooXtjv атиата),
пересказанного константинопольским патриархом, отрывки его
сохранились в сочинении писателя III в. н. э. Порфирия
«Жизнь Пифагора» 4 . Эти отрывки пифагорейского содержания
(рассказ Астрея, ученика и последователя Пифагора, о своем
учителе) могли относиться ко времени распространения неопифагорейского учения, т. е. к I—II вв. н. э.—времени жизни
Антония Диогена. По-видимому, эти отрывки имели целью
популяризацию неопифагореизма.
Сравнительно недавно, в 1931 г., был найден еще один
отрывок из романа Диогена, также относящийся ко II в. н. э.
Этот небольшой фрагмент на папирусе (PSI № 1177), названный «Немая Мирто», — единственный образец, по которому можно получить хоть какое-то представление о романе
в его оригинальном виде 5.
Возможно, что роман Диогена о невероятных приключениях по ту сторону Фулы, в числе других сочинений подобного же типа, послужил материалом для пародии Лукиана на
безбрежную фантазию романистов, историков, географов 6 .
Об этом прямо говорит Фотий: «Источником и основой «Правдивой истории» Лукиана и «Метаморфоз» Лукия является, повидимому, именно эта книга» (§ 13).
О личности Антония Диогена мы почти ничего не знаем.
Исследователи, принимая во внимание ряд соображений, определили предположительно время его жизни II в. н. э. Имя
Фаустина, к которому обращается с письмом автор романа, да
и само имя автора — Антоний указывают на римский период,
упоминание же Порфирием (III в. н. э.) замыкает верхнюю
границу возможного времени жизни Диогена.
Составить представление о сочинении, не располагая его
подлинным текстом, трудно; и все же краткое содержание его
в изложении Фотия позволяет с некоторой долей условности
выявить характерные черты формы романа, а также его идейную установку.
Содержание «Невероятных приключений по ту сторону
Фулы» представлено в основном в виде записей аркадянина Диния, обращенпых к земляку Кимбу. В его рассказ о своих
приключениях и странствиях включены рассказы и других персонажей: Деркиллиды, Астрея, Асулида. Обрамлением основ4
Porphyrii opusculi. Vita Pithag<?rae. Ed. A.
§ 10—14.
5
См. ниже, примеч. 17.
6
См.: «Правдивые истории», I, 9; II, 29.
158
Nauck.
Lipsiae,
1886,
ного содержания служат письма самого автора романа: о ДНО,
посвятительное, обращено к сестре Исидоре, другое — к какому-то Фаустину, в котором Диоген и сообщает, «что он сочиняет книгу о невероятных приключениях по ту сторону Фулы
и что сочинение это он посвящает любознательной сестре своей
Исидоре» (§ И ) . В письме же к Исидоре Диоген выводит фигуру некоего Балагра, приближенного Александра Македонского, который якобы в письме к своей жене Филе, дочери Антипатра, рассказывает о найденных в захваченном македонскими войсками городе Тире саркофагах с начертанными на
них странными надписями, обозначающими срок прожитой
жизни умерших в летах и ночах. Он сообщает также о найденном близ надгробной насыпи кипарисовом ларце, внутри которого и хранились записи Диния, повествующие об удивительных приключениях по ту сторону Фулы, легендарного острова
на крайнем севере Европы. Письмо Балагра, таким образом,
представляет своеобразный пролог к основному содержанию
романа — рассказу Диния о том, «что либо он сам видел во
время странствия, либо слышал от других очевидцев» (§ 4) 7.
Итак, после долгих скитаний Диний прибывает на остров
Фулу, где встречается с Деркиллидой, бея^авшей с братом Мантинием из родного города Тира в поисках спасения от злого
египетского жреца Паапида. Жрец проник к ним в дом и обманом, с помощью волшебных средств принудил брата с сестрой
привести своих родителей в состояние, подобное смерти. Деркиллида с братом попадают на Родос, затем на Крит, к этрусскам и киммерийцам, у которых Деркиллида видела жителей
царства Аида, а давно умершая служанка Мирто была ее проводницей и наставницей. По возвращении оттуда Деркиллида,
уже без брата, оказалась на могиле Керила и Астрея. Из рассказа последнего она многое узнала о Пифагоре и отце его,
Мнесархе. Астрей рассказал ей и о себе и еще о том, что услышал от Филотида 8 . Далее Деркиллида рассказывает о жителях
Иберии, видевших ночью и слепых днем, о кельтах, артабрах,
астурийцах, о своих скитаниях по Италии и Скифии, о том, как
она снова попала в руки Паапида. После встречи с братом, поведавшем Деркиллиде о своих необычайных и чудесных странствиях, следует ряд совместных приключений брата и сестры.
Они пытаются бежать от Паапида, захватив его волшебную
книгу и травы. Оракул предсказывает об ожидавшем их возмездии за нечестие по отношению к родителям — отныне их
7
8
Отрывки из Фотия даются в переводе Н. Милыптейн («Поздняя греческая проза», М., 1961, стр. 171).
У Фотия рассказ Астрея опущен, но он сохранился в изложении Порфирия («Жизнь Пифагора», § 10—13).
1 5 9
жизнь будет чередоваться со смертью. Наапид преследует беглецов и насылает на них беду. Предсказание исполняется.
Влюбленный в Деркиллиду юноша Фрускан убивает Паапида,
но думая, что Деркиллида действительно мертва, пронзает мечом и себя. «Обо всем этом и многом другом, что он узнал от
Деркиллиды на острове Фула, Диний рассказывает аркадянину
Кимбу, искусно сплетая повествование в одно целое. Он говорит о похоронах Деркиллиды и Мантиния, об их тайном возвращении из могил, о любовных делах Мантиния и о том, что из-за
них случилось» (§ 7). На этом кончается 23 книга Диогена.
В последней, 24-й, книге Дииий продолжает рассказ о своих
необычайных скитаниях по странам, о возвращении в Тир, где
он встретился с Деркиллидой, ее братом и их пробудившимися
родителями. Этот рассказ искусно соединен с рассказом спутника Диния Асулида о том, как ему удалось избавить Деркиллиду и Мантиния от злых чар Паапида и пробудить их родителей.
Приключения, содержащиеся в рамках рассказа Диния,
весьма разнообразны: тут и бегство из дома, и преследование,
и скитания, встречи и расставания, мнимая смерть, прорицание
оракула, благополучный конец. Как видим, сюжет построен по
универсальной схеме греческого романа. Но, несмотря на наличие этих традиционных для любовного романа мотивов, преобладающая роль принадлежит в романе Диогена сказочно-фантастической тематике. По существу любовная тематика в «Невероятных приключениях» скрыта за кадром. Любовные
эпизоды в нем носят скорее сопроводительный характер,
не осложняя и не развивая сюжета. Они лишь присутствуют,
обозначаются и связывают элементы повествования. Отношения
Диния и Деркиллиды мало похожи на отношения влюбленных:
нет в них горечи разлуки, страданий, как нет и радостей свидания и любви. Чувства и переживания влюбленных тонут в стремительном потоке их удивительных приключений 9 . А ведь
Деркиллида, которая живет лишь ночью, рассказывает Динию
о своих приключениях, по-видимому, во время их ночных свиданий. Возможно, что в соответствии с этими «любовными ночами» роман делился на 24 книги 10. Прием рассказа о минувших испытаниях сходен с техникой повествования других авторов любовного романа, в частности Харитона и Ксенофонта.
Но сами влюбленные, Диний и Деркиллида, — не совсем типич9
Впрочем, это впечатление может быть вызвано неточным пересказом
Фотия, который, не уделив должного внимания эротическим элементам, изложил то, что ему казалось наиболее существенным в романе,
т. е. путешествия и приключения.
10
О. S c h i s s e l
v. F l e s c h e n b e r g . Novellenkranze Lukians. —
RF, I, 1912, S. 105.
1 6 0
пая для любовных романов пара. Они — два совершенно самостоятельных в своих действиях и приключениях персонажа.
Примечательно, что даже мотивы их скитаний различны и независимы друг от друга. Если Деркиллиду вынуждает к побегу
и странствию преследование Паапида (хотя причина его преследований неясна, но, по-видимому, она все же любовного характера), то Диний отправляется в путешествие по свету вместе
с сыном добровольно, в поисках знаний. Дальнейшим обоснованием скитаний героев служит прорицание оракула, которое и
побуждает их к странствиям.
Вскользь упомянуто в романе о каких-то любовных похождениях Мантиния, о влюбленном в Деркиллиду юноше Фрускане,
но внимание заостряется на фантастических путешествиях по
невиданным странам. В описании скитаний и необыкновенных
приключений и заключается главный интерес романа Диогена.
Целая серия событий и поступков персонажей лишь очень слабо
связывается между собой указанными выше излюбленными мотивами любовного романа. И получается, что основные для греческого эротического романа черты вытесняются здесь чертами,
присущими сказочно-фантастическому повествованию. Пристрастие к чудесному и необыкновенному выступает у Диогена
иа первый план.
Исходя из комментариев Фотия и замечаний самого Диогена,
можно предположить, что содержание для своего романа Диоген
заимствовал из сочинений предшествующих писателей, прежде
всего историографов и географов. По мотивам этих источников
он и составил свой роман, переработав их соответственно своим
намерениям. Фотий полагает, что Диоген ссылается на свидетельства своих источников в целях подтверждения достоверности описываемого: «Диоген... говорит, что если он и изображает невероятное или вымышленное, то располагает относительно очень многих рассказанных им чудес свидетельством
древних писателей, у которых он собрал этот материал, по его
словам, с большим трудом. В начале каждой своей книги он
указывает имена тех людей, которые еще раньше описывали
подобные чудеса, чтобы не показалось, будто его невероятные
повествования не подкреплены чужими свидетельствами» (§11).
Далее Фотий сообщает, что «Диоген упоминает о некоем Антифане, более древнем, чем он, писателе, который рассказывал
о подобных же чудесах» (§ 14).
Не исключено, что Диоген мог позаимствовать отдельные рассказы о чудесном у Ктесия, Онесикрита и других писателей
романической историографии. Авл Геллий 11 , например, сообщает, что, будучи в Калабрии и Брундизгти, он слышал много
11
См.:
«Аттические ночи», ТХ, 4, G.
11
Античный роман
161
чудесных историй о людях, видевших ночью и слепых днем,
рассказанных Ктесием, Онесикритом, Аристеем.
Для придания достоверности рассказам о невероятных путешествиях и приключениях Диоген пользуется историческими
именами, а также прибегает к приему документированного повествования: включения в текст писем Балагра и рукописи,
содержащей рассказ Диния, якобы найденной воином Александра Македонского.
Исторические имена Александра Македонского и его приближенных Гефестиона и Пармениона, Антипатра, философа Пифагора и его отца Мнесарха соседствуют с вымышленными персонажами: Деркиллида, Диний, Мантиний, Фрускап. Есть и
чисто сказочные образы: злой маг Паапид и верная служанка
Деркиллиды — Мирто. То же самое можно отметить в отношении названий стран: названия известных географических мест,
гор, морей и рек смешиваются с чисто вымышленными названиями несуществующих мест, в том числе и самого острова
Фулы, за пределами которого и происходят все невероятные
приключения. Так, например, говорится, что Диний, «пройдя
через Понт, дошел до Каспийского и Гирканского морей и гор,
называемых Рипейскими, и до устья реки Танаис. Затем, из-за
сильных холодов, повернули они к Скифскому океану и, наконец, направились на Восток и пришли к месту восхода солнца.
Потом, скитаясь в течение долгого времени и пережив множество разнообразных приключений, они прошли по берегу
наружного моря, окружающего землю» ( § 2 ) .
В романе рассказывается о полусказочных народах и странных животных. Деркиллида вспоминает, например, о стране
Иберии, где люди видят лишь ночью, о диких и глупых кельтах,
о лошадях, на скаку меняющих масть, о стране а р т а б р о в , «где
женщины воюют, а мужчины стерегут дом и исполняют женскую р а б о т у » 12. Она передает Динию и то, что поведал е й б р а т ,
« к о т о р ы й долго скитался по свету и мог теперь прекрасно
истолковать е й многие невероятные явления как у л ю д е й , так
и У Д р у г и х живых существ, а также рассказать е й многое касательно солнца, луны, р а с т е н и й и островов, предоставив е й тем
самым б о г а т ы й материал для чудесного повествования, которое
впоследствии она могла с о о б щ и т ь Динию» ( § 5 ) .
Три рассказа основных героев романа о своих скитаниях и
приключениях полны невероятных вымыслов. Диний сообщает
Кимбу о необычных вещах, увиденных им по ту сторону Фулы,
например, что «есть люди, которые могут жить в самых далеких арктических пределах, где ночь иногда продолжается це12
Ср. подобное описание воинственного племени амазонок в «Романс
об Александре» Псевдо-Каллисфена (II, 27).
162
лый месяц; бывает она и короче и длиннее месяца, и шесть месяцев, но не больше года». Далее он говорит о таких чудесах
п таких людях, «каких никто не только не видел и не слышал,
но даже и вообразить не мог», а сам он на луне увидел «такие
чудеса, которые превзошли все прежние фантастические истории» ( § 9 ) .
Сказочно-фантастические элементы переплетаются в романе
с религиозными и философскими элементами.
Как уже отмечалось, в I—II вв. н. э. в философии и религии
широкое распространение получили различные мистические
направления, в том числе неопифагореизм, легендарным проповедником которого считался Аполлоний Тианский.
Все это, в большей или меньшей степени, пашло свое отражение в романе Диогена. Даже то, что записки Дитгия найдены
в ларце, захороненном вместе с ним, сообщает повествованию
Диогена определенную таинственность и может свидетельствовать о влиянии на Диогена мистицизма неопифагорейской
школы. Об этом же говорит эпизод встречи Деркиллиды с умершей служанкой Мирто в подземном царстве.
Не случайно, по-видимому, включены в «Жизнь Пифагора»
Порфирия отрывки из сочинения Антония Диогена, в которых
идет речь о Пифагоре и его учениках, Астрее и Замолксе 13.
В одном из них Астрей, мифическая личность, олицетворяющая у греков астрономию 14, рассказывает о том, как однажды
во время своего путешествия Мнесарх, отец Пифагора, пашел
мальчика, лежащего под белым тополем и смотрящего прямо
на солнце. Ребенок держал в руке тростянку и пил росинки,
стекающие в нее с дерева. Мнесарх взял мальчика с собой,
дал ему имя Астрея и отвез домой, поручив его младшему из
сыновей — Пифагору. Пифагор и приобщил его к своему учению.
Далее у Порфирия излагается рассказ Диогена о путешествиях Пифагора по Египту, Аравии, Иудеи и воспринятых там
особенностях мистических учений (толкование снов, изучение
системы письма жрецов иероглифами и символами, учение об
очищении и переселении душ и приобщении к бессмертию,
принципы мироздания), рассказывается также об образе жизни
Пифагора (занятия, пение пеанов Фалеса и чтение стихов Гомера и Гесиода для успокоения души, танцы для упражнения
тела, прогулка в обществе друзей, вегетарианское питание)
и о чудесах, связанных с его именем.
Философские и религиозные элементы сопутствуют один другому в романе Диогена. Рассказ Астрея о философах Пифагоре,
13
14
Роде считает взятыми из Диогена следующие отрывки «Жизни Пифагора»: §§ 10—14; частично 36 и 44. См. указ. соч., § 253.
Е. R h o d e . Указ. соч., § 264, примеч. 3.
11*
163
Мнесархе, Замолксе перемежается с рассказами о магических
действиях египетского чародея Паапида, о пребывании Деркиллиды в подземном царстве и ее встрече с умершей Мирто,
о каре, постигшей Деркиллиду и Мантиния за нечестие по отношению, к родителям. Элемент языческой веры — справедливая
кара судьбы за моральный проступок — окрашивается здесь
мистикой; возмездие, возвещенное оракулом, выполняющим
в романе роль Тихи, совершается магическими действиями
египетского чародея, заколдовавшего Мирто, Деркиллиду и
Мантиния и их родителей. При этом показаны разные способы
черной магии Паапида: Мирто лишена речи, Деркиллида и
Мантиний днем мертвы и лишь ночью освобождаются из-под
власти жреца, родители их погружены в непробудный сон.
Здесь налицо сочетание разнородных, греческих и египетских, верований — религиозный синкретизм, столь характерный
для времени написания романа.
В романе много чудес, связанных, с одной стороны, с египетским жрецом Паапидом, с другой, с Пифагором и с Астреем.
В образе злого чародея Паапида отразилась антиегипетская
настроенность романа. Ведь именно в это время антагонизм
между египтянами и пифагорейцами был особенно острым.
В романе как бы противопоставляются два вида искусств:
одно — египетское, несущее зло (Паапид), другое — чудесное
искусство неопифагорейцев (Пифагор, Астрей, Замолкс), несущее людям добро. Рассказывается, например, о невероятных
свойствах глаз Астрея, изменением величины которых он мог
действовать на луну, вызывая увеличение или уменьшение лунного диска. Этим он разрешил спор о власти двух местных царей, «которые отныне царствовали попеременно, сменяя друг
друга, в зависимости от размеров луны. Поэтому-то и был так
рад народ Астрею и его спутникам» ( § 4 ) .
Интерес к астрологии отражен и в эпизодах, описывающих
чудеса за пределами земли, на луне 15.
Автору развлекательного сочинения Диогену не могли быть
чуждыми ни местные предания, ни фольклорные мотивы. Легенды о философе Пифагоре и его отце, об учениках самосского
философа Астрея и предсказателе Замолксе, по-видимому, имели
широкое хождение в устной передаче. Строки об Астрее и Замолксе, полуисторическом-полумифическом мудреце, почитавшемся у гетов богом, близко напоминают ареталогическую литературу о странствующих философах-проповедниках
(fteioiav&pa)7Tot)
типа Филостратовой «Жизни Аполлония ТианI
15
1 6 4
Мотивы астрологии и некромантии, отражающие влияния, идущие
с Востока, звучат и в романе Ямвлиха, а особенно в «Эфиопике»
Гелиодора (III, 16).
ского» 16. Правда, у Диогена философские элементы незначительны и так же, как и любовные, почти теряются среди множества удивительных фантастических приключений, связанных
с путешествием.
Как необычно содержание романа Антония Диогена, так необычна и его форма.
В отличие от прямолинейной композиции других романов,
композиция «Невероятных приключений» несколько усложнена: основной рассказ, занимающий 23 книги, ведется от первого лица, Диния, а уж в его рассказ вставлен рассказ Деркиллиды о себе и о том, что она услышала от Мантиния и Астрея,
а этот, в свою очередь, от Филотида. Обо всех этих необыкновенных приключениях, изложенных в записках Диния, Антоний
прочитал якобы в письме Балагра к Филе и написал об этом
книгу, сообщив о своем авторстве Фаустину. В последней,
24-й, книге вводится рассказ Асулида и продолжается рассказ
Диния, искусно соединяющего то, что он узнал от Асулида,
с тем, что он раньше сообщил Кимбу.
Роман, таким образом, состоит из вставленных один в другой
рассказов разных лиц, разлученных и затем вновь встретившихся, сюжетно довольно слабо связанных между собой. Лишь
временами сюжетные линии переплетаются, а в основном каждая из них, имея свой исходный момент, самостоятельна.
Письма же самого автора служат обрамляющим стержнем содержания романа, составленного из серии рассказов его персонажей.
Действие романа развивается, переходя'из уст в уста, хотя
рассказывает, казалось бы, один лишь Диний, главный персонаж. Основная сюжетная линия романа постоянно перебивается
вставными новеллами. Даже по изложению Фотия легко увидеть, что сюжетная структура и композиция романа дробная и
прерывистая, вобравшая в себя ряд эпизодов, вымышленных
или заимствованных из легендарных преданий, занимательных
и интересных, иной раз даже выпадающих из общей тематической и тональной целостности повествования (например, эпизоды, сохранившиеся у Порфирия).
По-видимому, сочинение Антония Диогена представляло собой в изначальном и оригинальном виде цикл самостоятельных
новелл, преимущественно фантастического характера, о невероятных путешествиях в различные части света и за его пределы — на луну и даже в царство мертвых, объединенных общим обрамляющим рассказом.
16
К. Керени так и определяет роман Диогена «путешествие-ареталогия», который имеет своей целью противодействие египетской религии (указ. соч., стр. 45, 239).
165
Подобное сочетание новелл получило еще большее развитие
и усложнение в композиции последующих любовных и сатирико-бытовых романов. Новеллы часто входят в роман в качестве необходимого структурного элемента. Вставные новеллы
имеются у Ксенофонта Эфесского (история Гиппотоя и Гиперанта), у Гелиодора (рассказ о Кнемоне и Демэнете), наконец,
в романе Апулея.
Эта традиция использования в романе вставных повелл уходит корнями в раннюю греческую историографию: вспомним
хотя бы историю об Абрадате и Панфее в «Киропедии» Ксенофонта Афинского, или новеллы в «Истории»
Геродота
(о перстне Поликрата, о спасении Ариона дельфином и др.).
Невозможно судить о стиле романа Антония Диогена по сухому, тезисному пересказу Фотия, который дает только перечень основных нитей этого, по-видимому, обширного и увлекательного фантастического повествования. Нам остается лишь
поверить Фотию, знавшему роман в оригинале, без подтверждения его похвалы анализом.
Вот что он говорит по поводу стилистических достоинств
романа Диогена: «Книги полны действия, слог их так ясен и
чист, что почти не нуждается в истолковании, только отступления от основного повествования не достаточно ясны. Способ
изложения у автора чрезвычайно приятен, он умеет так расположить свой материал и придать ему такую форму, что сказочные и невероятные события кажутся правдоподобными»
(§ 1 ) .
Впрочем, мы располагаем незначительным (всего лишь
в 29 неполных строк) фрагментом на папирусе 17 из романа
Диогена, который, являясь единственным образцом его писательской манеры, может хоть сколько-нибудь подтвердить вышеприведенное суждение о нем Фотия.
В отрывке содержится часть рассказа Деркиллиды о том, как
ее немая служанка Мирто, жертва злого жреца Паапида, пытается предостеречь ее и тем самым спасти от какой-то грозящей ей опасности. Деркиллида, заметив, что Мирто хочет ей
что-то сообщить, пытается узнать, в чем дело: «Я протянула
Мирто двустороннюю табличку, которую мы носим с собой
н школу, и сказала ей: «Ты молчишь; если и вправду ты не можешь говорить, так напиши, по крайней мере, на этой табличке
и
Описание фрагмента и комментарий к его тексту см.: F. Z i m ш е гm a n п. Griechische Roman—Papyri. Heidelberg, 1936, стр. 85—89;
F. Z i m m e r m a n п. Eine S#ene aus dem Antonios Diogenes. —
«Philologische Wochenschrift», 55, 1935. S. 474—480. Композиционнотехническое обоснование текста фрагмента дается в ст.: F. Z i mm e r m a n n . Die "А тс юта des Antonios Diogenes im Lichte des neiien
Fundes. — «Hermes», 71, 1936, S. 312—319.
JOB
то, что хочешь сообщить. Я прочту и напишу ответ». Служанка
обрадовалась (это выдал ее взгляд) тому, что скоро должна
получить удовлетворение за все, что претерпела. Она взяла
табличку, подошла к лампе, наскоро нацарапала грифелем то,
что было у нее на сердце, при этом писала очень мелкими буквами, чтобы уместилось побольше, и протянула ее мне. Одновременно она подала мне знак уйти. Я взяла табличку, однако
не вышла оттуда тотчас, а прежде ст^ла читать. На табличке
было написано следующее: «Госпожа, иди сейчас же к кормилице и дай ей знать об опасности, пусть она не остается в неведении, благодушная, и пусть также узнает о моем положении.
Иди же теперь, прежде чем явится ко мне Паапид, разделяющий со мной ложе, чтобы самой не пострадать от злобного
демона». Когда я это прочла, я хотела приготовиться...» 18
На этом текст обрывается.
В этих не полностью сохранившихся строках проглядывает
кусочек обыденной жизни с ее реалистическими чертами и деталями, приоткрывается какой-то уголок быта. По-видимому,
действие происходит в доме Деркиллиды, еще до того, как она
вместе с братом спасается бегством от преследований жреца.
По мнению исследователей этого фрагмента 19, содержание
его указывает на самое начало романа. Тогда, действительно,
представляется вполне логичной и оправданной и вторая встреча
Деркиллиды и Мирто, уже в царстве мертвых, несколько лет
спустя, когда верная и преданная служанка снова, как некогда
дома, в Тире, служит своей хозяйке наставницей и проводницей.
Остается неясным, почему Мирто оказалаоь немой. Вероятнее всего, она была заколдована злым чародеем. Паапид сблизился с ней, как явствует из фрагмента, чтобы затем подчинить
своей злой воле кормилицу и Деркиллиду. Потому-то так настойчиво звучит в коротком фрагменте призыв Мирто: «уходи»
(arcifh, строки 22 и 27). Но лишение речи не помешало ей жестами и мимикой дать понять Деркиллиде, что она хочет сообщить нечто важное, а затем и написать о грозящей ей опасности со стороны того же Паапида.
18
19
Перевод фрагментов сделан автором статьи.
По поводу принадлежности фрагмента Диогену в научной литературе высказывались довольно противоречивые мнения. А. Керте, например, сомневался в авторстве Диогена и предполагал, что по ситуации и тону отрывок относится уже к развитому любовно-приключенческому роману (APF, 10, 1932, S. 234). Напротив, Галлавотти
высказывался за принадлежность Диогену этого отрывка (Framento
di Antonio Diogene? —SI, 8, 1932, p. 247—257). К его мнению присоединился и Ф. Циммерман, считающий отрывок из начала «Невероятных приключений» драгоценным даром судьбы, позволившим
познакомиться с образцом подлинного романа Диогена (см. указ.
выше соч.).
167
Итак, роман динамичен, полон действия, ясен по изложению,
если не считать тех отступлений, о которых упоминает Фотий
(по-видимому, каких-то рассуждений в духе неопифагорейства
или описания явлений мистического порядка). Фотий отмечает
как достоинство умение Диогена придать невероятному видимость достоверного, хотя этот прием весьма характерен и для
других писателей-романистов. В оценке Фотия нет никаких указаний на наличие в романе Диогена каких-либо признаков
риторического искусства, свойственных романам софистического
направления: патетических речей, пространных описаний природы, вставных писем героев, стихотворных частей. Но едва ли
в нем в самом деле не было ничего из тех риторических красот,
что особенно отличало более поздние романы, хотя бы «Вавилонскую повесть» Ямвлиха, подобного же фантастического характера.
Такой художественный прием, как описание, несомненно, был
использован Антонием Диогеном в его фантастическом романепутешествии, самый сюжет которого предоставлял богатейшие
возможности для рассказа о далеких и неведомых странах и населяющих их народах. Можно предполагать, что в романе были
описания быта и нравов кельтов, киммерийцев, артабров, астурийцев, о чем вскользь упоминается в изложении Фотия
(§4-6).
Между тем, Фотий высказывает предположение, что сочинение Антония Диогена «Невероятные приключения по ту сторону Фулы» послужило источником и основой для других греческих любовных романов (Ямвлиха, Геллиодора, Ахилла Татия): «для образов самих героев, для истории их скитаний,
любви, похищений и опасностей образцами стали Деркиллида,
Керилл, Фрускан, Диний» (§ 13).
Зная роман в его подлинном виде («Прочтены 24 книги
Антония Диогена...»), Фотий, по-видимому, имел достаточно
веские основания для подобного высказывания.
И все же нам представляется более верным отделить роман
Диогена от группы романов, названных Фотием (исключение
составляет лишь Ямвлих), несмотря на наличие в нем внешне
сходных с этими любовными романами тематических и композиционных признаков. Отличие это явственно обозначается при
сравнении соотношения содержания и формы в сочинении
Диогена и сочинениях других романистов.
У Диогена главным было содержание романа: его острая сюжетная занимательность и необыкновенность, заложенная в нем
Мораль, а также и популяризация религиозно-мистических учений неопифагорейской школы.
Судя по замечаниям Фотия о стиле «Невероятных историй»,
забота об искусном изложении и изысканной форме сочинения
1 6 8
не отягощала автора и уж во всяком случае не превышала его
заботы о содержании сочинения. Что касается авторов поздних
романов, для них стилистическая усложненность и изощренность форм — фактор первостепенной важности.
Не имея романа Антония Диогена в оригинальной форме,
а лишь в пересказе IX в., вряд ли возможно судить о мировоззрении Антония Диогена, о его взглядах на те или иные стороны жизни, взглядах, которые должны были быть отражены
в характере и языке его персонажей, в манере их обрисовки.
К сожалению, в калейдоскопе событий и приключений, перечисляемых Фотием, характеры персонажей почти не улавливаются. Разве что можно выявить их отдельные, единичные
черты. Например, из положительных персонажей, Динию и
Мантинию, свойственны любознательность и любовь к путешествиям, Мирто — верность и преданность, Фрускану — пылкость и отвага, Астрею и Замолксу — мудрость. Из отрицательных персонажей выделяется фигура египетского жреца
Паапида, неслыханного злодея, коварного и хитрого чародея.
Какую цель преследовал Диоген, на какие слои читательской публики ориентировался — об этом можно лишь догадываться.
С одной стороны, кажется, что сплетение острых событий,
занимательных и фантастичных, было самоцелью и предназначалось для привлечения широкой читательской массы. Это может подтвердиться живым и простым стилем рохмана, о котором
говорит Фотий. Но, с другой стороны, роман мог быть рассчитан и на вкусы более образованной публики. Об этом свидетельствует введение в сюжет мало понятных для простого читателя
отступлений, так же как и рассказы о Пифагоре и его приемном
брате, мудреце Астрее и фракийском предсказателе Замолксе,
имевшие целью, по-видимому, пропаганду учения неопифагорейской философии. .
Наиболее ясной остается этическая установка романа Диогена: неотвратимость возмездия за совершенное, волей или неволей, зло и вознаграждение невиновности. Кара за нечестие
родителей, за невольное соучастие в преступлении постигла
Деркиллиду и ее брата. Не миновала кара и Керилла «за совершенное некогда преступление. Спасшись от прежних опасностей, он теперь (во время пребывания у астурийцев) был растерзан на куски» (§ 5). Бесчисленным злодеяниям Паапида
положил конец меч Фрускана ( § 7 ) .
В мотиве наказания за старую, уже забытую вину, также
сквозит пифагореизм.
Впрочем, мораль возмездия за зло и вознаграждения добра
присуща и другим романам сказочно-фантастического характера.
169
Как справедливо заметил Фотий, в сочинениях подобного
рода «есть две чрезвычайно поучительные особенности, на которых стоит остановить внимание. Первая заключается в том,
что всякий, совершивший какое-нибудь преступление, неминуемо подвергается заслуженному наказанию, даже если тысячу раз кажется, что ему удалось избежать его, а вторая —
в том, что многие невинные, подвергавшиеся большой опасности, не раз, вопреки ожиданиям, оказываются спасенными»
(§
14).
Ямвлих
Кроме «Невероятных приключений по ту сторону Фулы» Антония Диогена, до нас дошел другой роман, подобного же фантастического содержания: «Вавилонская повесть» Ямвлиха.
Этот роман написан сирийским писателем на греческом языке,
но, как и роман Диогена, он известен по пересказу патриарха
Фотия, да по незначительным отрывкам, сохраненным лексикографом X в. Судой 20 . В преобладающем большинстве эти
фрагменты состоят из одной-двух строк, и лишь два из них,
самые крупные и наиболее достоверные, могут дать самое минимальное представление об оригинале романа.
Всего, достоверно принадлежащих Ямвлиху, насчитывается
20 фрагментов. По сравнению с изложением Фотия ничего существенно нового они не дают 21 .
Мы не располагаем какими-либо определенными биографическими сведениями о Ямвлихе. О нем в сущности известно
не многим более, чем об Антонии Диогене. По изложению Фотия все же выясняются некоторые детали его жизни, сообщенные им самим. Родом Ямвлих из Сирии. Себя он называет
современником Арсакида и Ахеменида Соэма, которого в 164 г.
римляне сделали правителем Армении. Он сообщает, что был
воспитанником ученого вавилонянина и сумел предсказать
исход войны римлян с парфянами (в 165 г.). Вот что говорит
Фотий: «Писатель сообщает, что он и сам вавилонянин и знаток
магии, но сведущ и в эллинской образованности, что его цвету20
21
См.: Photii Bibliotheca. Cod. 94; S u i d а е. Lexicon, V, 87 ed. A. Adler.
Leipzig, 1938. Достоверно принадлежащие Ямвлиху отрывки также
напечатаны: R. Н е г с h е г. Erotici graeci. Leipzig, 1885, I, 217. Последнее издание всех фрагментов Ямвлиха, так же как и пересказ
Фотия, принадлежит Е. Хабрих (Е. Н a b г i с h. Iamblichi babyloniacorum reliquiae. Lipsiae, 1960).
О соотношении фрагментов с изложением Фотия см.: U. S с h n е id e r - M e n z e l . Jamblichos «Babylonische Geschichten». — В кн.:
F. A11 h e i m. Literatur und Gesellschaft im ausgehenden Altertum,
I, Halle, 1948, S. 48 ff.
170
щий возраст приходится на время Соэма, сына Ахеменпда,
потомка Арсаки, который царствовал, происходя от царственных предков, и все же стал членом сената в Риме, даже консулом, а затем снова был царем великой Армении; на его время
и пришелся расцвет Ямвлиха, как он сам говорит об этом.
Он упоминает, что над римлянами царствовал Антонин (Марк
Аврелий), когда Антонин, по его словам, послал Вера, главного полководца, брата и свояка, на войну с парфянином Вологесом, Ямвлих предсказал и начало и исход войны; Вологес
убежал за Евфрат и Тигр, а парфянская земля стала подвластной римлянам» (§ 10) 22. Таким образом, благодаря данным,
сообщаемым самим Ямвлихом, роман датируется с известной
достоверностью последней третью II в. н. э.
Название романа — «Вавилонская повесть», или «Вавилоника» — указывает на географическое место действия событий
и как бы подчеркивает связь его с преданиями древнего Вавилона. Впрочем, упоминание о вавилонском воспитателе могло
быть всего лишь вымыслом Ямвлиха, понадобившимся ему для
придания видимости вавилонской литературной традиции.
Действие романа происходит в отдаленном прошлом, в Вавилоне. Содержание его настолько запутано и сложно, что передать его можно лишь в самых общих чертах. Это нагромождение фантастических эпизодов, чаще всего любовно-авантюрного
характера, смешение ужасов, жестокостей, убийств, чудес, невероятных приключений. В романе множество действующих лиц,
судьбы которых сталкиваются между собой. Главные персонажи
романа — любящие супруги Родан и Синонида и вавилонский
царь Гарм, преследующий их. Кратко содержание «Вавилонской
повести» сводится к следующему. Гарм, не добившись любви
Синониды, сковывает ее золотой цепью, а Родана велит распять
на кресте. Супругам удается бежать, взбешенный Гарм приказывает отрезать носы и уши евнухам Даму и Саку, которым
была поручена казнь, и посылает их в погоню за беглецами.
Это завязка романа, состоящего из описаний побега супругов
и их преследования. Родан и Синонида испытывают самые невероятные приключения, спасаясь от преследований Гарма: они
скрываются в тайниках пещеры, отравляются пчелиным медом,
попадают в хижину людоеда-разбойника, сталкиваются с убийствами и самоубийствами, их одолевают необыкновенные
страсти. Несколько раз в романе встречается традиционный
мотив мнимой смерти: оживают те, кого считали мертвыми, живые принимаются за мертвых. Интрига осложняется путаницей,
создаваемой сходствохМ персонажей, различными недоразуме22
Перевод А.
стр. 185).
Н.
Егунова
(«Поздняя
греческая
проза».
М.,
19G1,
171
шшми и случайностями. Положение запутывает подозрительность и ревность Сиыониды. Подозревая в неверности своего
мужа, она покидает его. После долгих скитаний и необыкновенных приключений она выходит замуж за сирийского царя.
Узнав о ее свадьбе, Гарм посылает Родана полководцем против
сирийского соперника. Победитель Родан возвращает себе Синониду и становится царем Вавилона 23.
Такова в самых общих чертах основная тематическая линия
романа, состоящего из замысловатых и необыкновенных приключений действующих лиц самых различных социальных
слоев: царей и рабов, торговцев и врачей, стражников и палачей, разбойников, жрецов, земледельцев.
Каких только ужасов не найдешь в романе. В Сииониду, например, влюбляется призрак козла; спасаясь от преследователей, Синонида и Родан попадают в дом разбойника, преследователи сжигают дом, но беглецы спасаются, выдав себя за
призраков убитых разбойником людей; затем они укрываются
в пустой гробнице, из которой вышла мнимоумершая девушка.
Обстоятельства складываются так, что Синонида подозревает
Родана в измене и в порыве ревности пытается убить ни в чем
неповинную дочь земледельца, считая ее своей соперницей, ее
схватывают. По ходу событий Родан и отец Синониды принимают труп убитой рабом молодой женщины за останки Синониды. Отец вешается, Родан собирается также покончить
с собой, но его спасает дочь земледельца.
События подобного рода непрерывно и стремительно сменяются одни другими, отдельные эпизоды соединяются в один
общий рассказ, судьбы действующих лиц переплетаются и скрещиваются.
По-видимому, роман был довольно длинным. Данные о числе
его книг различны: по сообщению Суды, роман состоял из
39 книг, а изложение Фотия заканчивается 16-й книгой, завершающей действие победой Родана над сирийским царем и получением им вавилонского царства.
Если внимательнее приглядеться к построению сюжета «Вавилонской повести», можно почувствовать определенную задуманность композиции, на первый взгляд кажущейся раздробленной и рыхлой.
Роман четко делится на три части, каждая из которых
отмечена своим особым характером.
1-я часть посвящена совместным приключениям супругов-беглецов, вплоть до спасения их в храме Афродиты.
23
I
Ср. у Харитона в конце романа «Повесть о любви Херея и Каллирои» (VIII, 1) Херей также отнимает у другого свою супругу
Каллирою в войне.
1 7 2
2-я часть — вводная, она как бы разрывает сюжет, но в то же
время мотивирует введение в сюжет новых имен и ситуации,
побуждающих к новому действию.
3-я часть продолжает сюжет. Родан и Синонида разъединены,
и действие растекается по нескольким руслам. Внимание читателя привлекается скрещиванием сюжетных нитей 2 4 . Приключения главных героев переплетаются с приключениями других
персонажей. В романе можно наметить целый ряд таких тематических линий: Родан — Синонида — Гарм, Родан — дочь земледельца — Синонида, Тигр — Евфрат — Родан, Сетап — Синонида, Месопотамия — Зобар, дочь земледельца — Евфрат и др.
Роман Ямвлиха, как и роман Диогена, похож на сборник
пестрых рассказов, соединенных между собой особыми связующими звеньями (правда, у Диогена цикл рассказов заключен
в обрамляющую рамку, а у Ямвлиха рассказы последовательно
складываются в общее повествование).
Стержневая тема романа, бегство Сипониды и Родана от
Гарма, осложняется все новыми частностями, и развитие сюжета идет путем наслоений. Иногда это сделано искусно и
создает впечатление логической связанности событий, а порой
кажется весьма слабо соотнесенным с основным ходом действия романа. Связующие звенья побуждают к новому действию, дают предпосылку к новым приключениям. Но связь
событий в романе почти исключительно внешняя, последовательная во времени. Внутренней психологической связи между
ними нет, за исключением ревности Синониды, которая служит
психологическим обоснованием последующего развития действия.
В судьбы главных персонажей вплетаются судьбы вновь введенных, которые активно вторгаются в ход событий. Таковы,
например, Сорех, помогающий Синониде и Родану, или дочь
земледельца, возбудившая ревность Синониды и обусловившая
ее уход от Родана. Менее активны персонажи: Евфрат, Месопотамия, Сетап, Береника, но и они играют свою роль в движении
сюжета. Эпизоды с их участием служат различными основаниями для развертывания основной темы — бегство от злодея
и злоключения любящей четы. Эти эпизоды как бы притормаживают действие, повышая его напряженность и тем заинтересовывая читателя. Роман построен так, что в момент кажущейся развязки действие принимает вдруг неожиданный оборот
и действительная развязка оттягивается. Крайняя опасность и
24
Подобным же образом построен роман Диогена. Сначала приключения переживаются героями, Деркиллидой и Мантинием, совместно,
затем действие разветвляется и следуют уже раздельные приключения и главных и второстепенных персонажей.
1 7 3
нежданное спасение, напряжение и ослабление — вот схема
строения сюжета.
Мотив гонения традиционен для греческого романа. Он встречается у того же Антония Диогена, где Деркиллиду и Мантиния преследует злой жрец, а также в анонимном романе-сказке
«Истории Аполлония Тирского», где действию дает ход гнев
царя Антиоха.
Все эти романы объединяет, кроме общей линии фабулы,
лт сходство композиционного построения. Во всяком случае исходный момент у всех трех одинаков. Гнев гонит героев
к странствиям, навстречу злоключениям. Мотив гнева движет
сюжет и в других романах, однако в них скитания героев
обусловлены гонением со стороны богини судьбы и случая Тихи.
В указанных же выше романах и в романе Ямвлиха героев
гонят к странствиям сами участники действия, выполняющие,
таким образом, функцию Тихи 25.
При этом в романе Ямвлиха Гарм, как и в романе об Аполлонии Тирском Антиох, не принимает активного участия в ходе
действия, а между тем именно он является побудительной причиной действия и его основным связующим и направляющим
стержнем. В первой части, казалось бы, Гарм отсутствует,
находится как бы вне действия, за кадром. Тем не менее связь
его с действием не прерывается, а к концу романа заметно
активизируется и он становится непосредственным участником
всего происходящего.
Роману Ямвлиха между тем присущ ряд особенностей, отличающих его от других романов, и прежде всего то, что с самого
начала Родан и Синонида соединены узами брака, а уж затем
следует их разлука, для которой Ямвлих находит удачную психологическую мотивировку — Синонида покидает Родана в порыве ревности. Это, пожалуй, единственная психологическая
мотивировка дальнейшего развития действия: Синонида встречается с Сетапом, но в ответ на его притязания убивает его, ее
схватывают, ведут к Гарму, но, извещенный о ее поимке, Гарм
объявляет амнистию узникам, и Синониду по его указу освобождают.
Для романа Ямвлиха характерен мотив постоянной игры со
смертью, имитация ее, путаница живых и мертвых. Особенно
часты мотивы смерти в первой части романа. Но звучат они и
в третьей части: Родана и Синониду принимают за ожившего
Тигра, сопровождаемого Корой; Синонида убивает Сетапа; отец
Синониды кончает самоубийством, узнав о якобы умершей дочери; то же хочет сделать и Родан и т. д. Но здесь они связываАтся не столько с судьбой главных героев, сколько с судьбой
25
У Ямвлиха Тиха упоминается лишь раз (R. Hercher, II, стр. 65).
174
второстепенных. Характерным для этой части является нагромождение путаницы и недоразумений, переодеваний и смешения одних персонажей с другими. Сак приводит к Гарму
Евфрата вместо Родана. Родана принимают за Тигра, Месопотамию за Синониду. Ювелир принимает дочь земледельца за
Синониду. Путаница обыгрывается в различных ситуациях.
Этих мотивов путаницы и смешения персонажей нет в более
ранних романах (Харитона, Ксенофонта Эфесского, Антония
Диогена). Они встречаются лишь позже в романах Ахилла
Татия и Гелиодора. И это можно считать в некотором роде
новшеством Ямвлиха.
По сравнению с другими ранними романами у Ямвлиха
можно отметить более развитую композиционную технику 2 6 .
Композиция «Вавилонской повести» несколько отклоняется от
традиционной схемы. Примечательны экскурсы, введенные
как бы со стороны, но обычно непосредственно связанные с общим содержанием романа и стимулирующие дальнейшее его
развитие. Они служили удобным переходом к последующему
рассказу, а также замедляли его темп. Роман построен по принципу нарастания интереса: вначале идет простой, последовательно развивающийся по прямой линии рассказ с наслоением
приключений главных героев, затем он прерывается серией
вставных новелл, ассоциативно связанных с сюжетом и вводящих новые персонажи, наконец, следует многолинейное сплетение сюжетных тем и смешение персонажей. Гладкое простое
течение рассказа сменяется запутанным, многоплановым, прерывистым.
Интересна средняя часть романа, где действие разбавлено
и украшено рядом вставных рассказов. Подобные экскурсы мы
встречали и у Диогена, но у него они вводились устами самих
действующих лиц
(Астреем, Мантинием, Деркиллидой).
У Ямвлиха же экскурсы вторгаются в текст романа со стороны
и исходят от самого автора. В каждом из них Ямвлих преследовал определенную цель: по-видимому, он хотел позабавить
читателя, блеснуть изяществом слога. В одном из фрагментов
описывается, например, красота отрезанных волос Синониды,
которыми она доставала воду из колодца для себя и для Родана,
скрываясь в пещере: «Она отрезала себе волосы, они были
длинные, белокурые и пышные» 27.
Однако задача романа сводилась не только к развлекательности, но была в какой-то мере дидактическая. Ведь в экскурсах Ямвлих говорит и о себе, и о своем времени, вводит исторические имена, сообщает сведения о разного рода древностях,
20
27
См.: U. S с li n е i d с г - М е n z е 1. Указ. соч., стр. 48—93.
См.: R. II е г с h е г, I, 217; S u i d а е. Lexicon, I, 447, 13.
175
например, об обычаях и узаконениях палачей, об обычаях погребения людей, о мистериях Афродиты. В виде отступления
рассказывается о святилище Афродиты на островке, расположенном между Тигром и Евфратом, и о легенде, связанной
с этим местом. Вот эта занимательная новелла любовного характера в изложении Фотия: «Там у жрицы Афродиты было
трое детей — Евфрат, Тигр и Месопотамия, безобразная видом
от рождения, но превращенная Афродитой в красавицу; из-за
нее возник спор у трех ее поклонников и тяжба между ними.
Дело разбирал Бохор, наилучший из тогдашних судей. Судебная тяжба шла из-за того, что одному Месопотамия дала бокал,
из которого пила сама, другому — цветочный венок, сняв его со
своей головы, а третьего она поцеловала. На суде выиграл тот,
кто получил поцелуй, но от этого спор еще пуще разгорелся,
пока они не поубивали друг друга в пылу распри» (§ 8).
Отступление о капризной красавице, весьма забавное само по
себе, выполняет определенную функцию: оно вводит в действие
новое лицо, занимающее затем свое место в сюжете романа.
Не исключено, что рассказ о Месопотамии давал Ямвлиху повод к описанию ее красоты, как и рассказ об отрезанных волосах Синониды.
К новелле о Месопотамии Ямвлих дополнительно присоединил рассказ о «святилище Афродиты и о том, что женщинам,
посещавшим его, надо было во всеуслышание сообщать о снах,
виденных ими в храме; здесь же подробно рассказывается
о Фарнухе, Фарсириде и Танаиде — откуда и река Танаис — и
о том, что у живущих около этого места в области Танаида есть
мистерии Афродиты, учрежденные Танаидом и Фарсиридом.
На вышеупомянутом острове Тигр, поедая розы, скончался,
потому что в еще не распустившихся лепестках роз скрывалась
ядовитая мушка; мать мальчика, поворожив, убедилась, что сын
ее стал полубогом» ( § 9 ) .
Герои этой вводной новеллы расширяют действие романа и
продолжают его новыми осложнениями и путаницей. Родан
поразительно похож на Тигра и Евфрата. Мать скончавшегося
Тигра принимает Родана за своего ожившего сына, сопровождаемого Корой, а Евфрата схватывают слуги Гарма, принимая
его за Родана, и судят. На допросе он вынужден назвать Синоиидой свою сестру Месопотамию, ее схватывают и ведут
к Гарму. Узнав об обмане, Гарм приказывает Зобару обезглавить Месопотамию, но тот, напившись из любовного источника,
влюбляется в девушку, спасает ее и отправляется с ней к Беренике, уже воцарившейся над египтянами; там справляется их
^ свадьба. Евфрата же передают на казнь его родному отцу,
которого из жреца сделали палачом, они узнают друг друга,
сын спасается и вместо отца исполняет обязанности палача;
1 7 6
впоследствии Евфрата спасает дочь земледельца: он бежит,
переодевшись в ее платье, а она исполняет обязанности палача.
Подобного нагромождения нелепых и невероятных приключений с переодеваниями и недоразумениями не найдешь ни
в одном греческом романе. Здесь налицо весь реквизит занимательного любовно-авантюрного романа: преследования, злодейства, убийства, отравления, доносы, подкупы, мнимые
смерти. Есть в нем и призраки, и спрятанные сокровища, есть
и предсказания: Родану дважды предсказано быть царем над
вавилонянами (халдейским старцем и ласточкой, § 6 и 22).
В вводных рассказах, кроме сведений о себе, Ямвлих рассказывает об интересных вещах, касающихся разного рода древностей. Он рассуждает, например, о каких-то неизвестных магических действиях и заклинаниях, считая себя знатоком магии
и разносторонне образованным человеком: «... Рассказывает
о видах магии, о заклинаниях саранчи, львов и мышей; отсюда
название мистерий — от мышей, ведь магия мышей наиболее
древняя 28 . Он говорил о заклинателе градобития, заклинателе
змей, о вызывании умерших, о чревовещателе, которого, по его
словам, эллины называют Эвриклеем, а вавилоняне именуют
Сакхуром» (§ 10). Здесь же Ямвлих сообщает, что он и сам
вавилонянин. Эти два экскурса ассоциативно между собой связаны. В «Вавилонской повести» фантастические и мистические
мотивы причудливо сплетаются с мотивами эротического характера. Фотий, сравнивая роман Ямвлиха с другими греческими
любовными романами, отмечает, что он «отцдчается большей
скромностью, чем повесть Ахилла Татия, но все же не так
скромен, как изложение финикийца Гелиодора. Они все трое,
поставив себе почти что одинаковую цель, взяли предметом
любовные приключения, но Гелиодор делает это более возвышенно и благопристойно, Ямвлих уступает ему в этом, Ахилл Же
непристоен и бесстыден» (§ 1).
Антония Диогена тот же Фотий называет образцом Ямвлиха
(см. выше, стр. 168).
И это, как нам кажется, не лишено основания. Ведь роман
Ямвлиха, действительно, близко напоминает роман Диогена
«Невероятные приключения по ту сторону Фулы». При сопоставлении романов обнаруживаются определенные совпадения
некоторых мотивов. Здесь, разумеется, важно видеть не собственно тематические совпадения, а родство всей системы мотивов и их характер. Оба романа построены почти по однотипной
схеме и повторяют выработанные приемы любовного романа:
тут и бегство и преследования, странствования и удивительные
28
Фантастическая этимология, основанная
мыть и mysteriov — таинство.
12
Античный роман
на
созвучии слов
mys —
1.77
приключения, разлуки и встречи, опасности и нежданное спасение в момент крайней опасности. Не нарушен в них и основной
принцип этого вида литературы — герои после разных превратностей достигают благополучия, зло побеждается добром. Традиционен и мотив спасения в храме (ср. у Ксенофонта Эфесского в храме Солнца, в «Истории Аполлония, царя Тирского»
в храме Артемиды в Эфесе, у Диогена в храме Геракла,
у Ямвлиха в храме Афродиты). Все эти мотивы есть в романах
Ямвлиха и Диогена. Разве что отсутствует в них мотив кораблекрушения и морской бури, столь свойственных романной
литературе.
Вместо традиционного морского плавания герои Ямвлиха,
спасаясь от преследований, ищут пристанища то в пещере, то
на постоялом дворе, то в хижине земледельца, то в храме Афродиты. А герои Диогена путешествуют по всей земле, и под
землей, и даже за пределами земли.
Оба романа объединяет фантастичность сюжета и этическая
его направленность.
Впрочем, пожалуй, интереснее при сравнении подобных романов выделить то различное, что свойственно неповторимой
индивидуальности каждого из их авторов и потому именно и
характерное для него.
Прежде всего следует отметить, что в обоих этих романах
самое соотношение фантастических элементов с любовными
неодинаковое. Если в романе Диогена любовные элементы выражены недостаточно выпукло, то в романе Ямвлиха они преобладают. Эротике уделено в нем большое место, и он, без*
условно, а не с оговоркой, как роман Диогена, может быть
причислен к определенному типу греческого любовного романа,
хотя и насыщен таким количеством фантастических, несуразных выдумок, ошеломляющих читателя своей неожиданностью
и невероятностью, какого не найдешь ни в одном из греческих
романов. Гарм влюблен в Синониду, в нее же влюбляется
какой-то «призрак козла» п богач Сетап. Сама Синонида любит
Родана, но в порыве ревности и мести выходит замуж за сирийского царя. Зобар влюбляется в Месопотамию, которую должен
убить. Любви этой красавицы добиваются трое юношей. Раб
убивает свою возлюбленную, молодую госпожу и т. п. По-видимому, не случайна та роль, которая отведена в романе богине
любви Афродите. Из всех языческих богов в «Вавилонской
повести» упоминается лишь одна эта богиня — покровительница любви. Ее храм служит спасительным убежищем для гонимых влюбленных, о ее могуществе рассказывает приведенная в романе легенда о превращении уродливой Месопотамии
в красавицу, уделено внимание описанию мистерий Афродиты
и обычаев ее храма. Культ Афродиты вполне соответствовал
178
тематической основе романа — прославлению истинной любви —
и оправдывался ею.
При всей своей фантастичности роман содержит и некоторую
долю реальности. Есть в нем и любопытные бытовые подробности, жизненная правдивость которых пробивается сквозь
нагромождение фантастических эпизодов. Сквозь фантастику и
временную отдаленность действия в романе просвечивает живая жизнь города: тут и базар, и суд, и постоялый двор, и лавка
ювелира. Роман, хотя и слабо, отражает действительность, приметы современной жизни то там, то тут вкраплены в роман.
Современный мотив можно увидеть в жалобе войска аланов
на царя, который не выплатил им жалования, чем и вызвал их
недовольство. Во времена империи мятежи в армиях нередко
вспыхивали по разным поводам.
Приметы современности видны и в мотивах магии и волшебства, встречающихся в романе. Ведь в обществе времени
Ямвлиха усилился наплыв таинственных религиозных представлений, идущих с Востока. Вера в призраки, различное колдовство и чудеса была широко распространена. Правда, эти
мотивы у Ямвлиха играют меньшую роль, чем у того же Диогена, и необычные явления частично получают в его романе
рационалистическое, естественное объяснение. Следы чудесного,
сверхъестественного есть в рассказе о Месопотамии, или в эпизоде, где халдейский старец узнает, что девушка на погребальном ложе не мертва, а лишь погружена в глубокий обморок.
В другом эпизоде жрица храма, увидев Родана и Синониду,
верит, что это ее сын Тигр возвратился из 'царства мертвых
в сопровождении Коры.
Мотивы мнимой смерти и воскрешения часты в романе
Ямвлиха. Они сопровождают действие с самого начала и до
конца.
Эти мотивы говорят о связи греческого романа с ареталогической литературой, получившей большое значение в связи
с религиозными движениями первых веков н. э.29
Мы встречались с ними и в романе Антония Диогена: захоронение и выход из могил Деркиллиды и Мантиния, а также
смерть и воскрешение ее родителей. Ареталогический характер
носят чудеса, связанные с Астреем и Пифагором.
Новое у Ямвлиха, по сравнению с другими романами, то, что
двое влюбленных вместе умирают и воскресают, и даже надпись
на предполагаемой могиле Синониды Родан пишет общую для
них обоих.
Следует отметить, что в «Вавилонской повести» большую
роль играют животные, птицы, насекомые. Ряд зверей упомянут
29
К. К е г ё п у i. Указ. соч., 34.
12*
179
р, экскурсе о магии. В самом сюжете встречаются пчелы, мед
которых вызывает глубокий обморок. От этого обморока Сипониду и Родана пробуждает ворон. От пожара герои спасаются,
бросив в огонь ослов. Верблюд несет им сообщение о предательстве врача. Тигр умирает, съев ядовитое насекомое. Гирканская собака Родана поедает труп убитой Трофимы и ее убийцы.
Предсказание дают птицы. Такой повышенный интерес к миру
животных — своеобразное явление литературы времени римского владычества вообще, но в романе мы его видим главным
образом у Ямвлиха и у Ахилла Татия. И в этом также есть
примета современности.
В романе Ямвлиха ряд мотивов носит чисто сказочный характер. Таков, например, традиционно-сказочный, хорошо известный мотив сватовства трех женихов к Месопотамии, которым она дарила венок, бокал и поцелуй, и спор их, разрешенный судьей (вспомним в «Истории Агголлония, царя Тирского»
сватовство Архистратиды); однако Месопотамия остается свободной, чтобы сыграть свою роль в дальнейших перипетиях
романа. К другим сказочным мотивам относится мотив любовного источника, напившись из которого, Зобар влюбляется
в Месопотамию, мотив освобождения по царскому указу всех
узников в честь готовящегося свадебного торжества, а также
мотив найденного на лугу золотого клада.
Может быть, в основе некоторых эпизодов фантастического
романа Ямвлиха лежит народная традиция, заимствованная из
широко распространенных на Востоке легенд и преданий.
Из народной литературы могли быть заимствованы вставные
новеллы и рассказы. Ряд мотивов мог быть также взят и из
Геродота (например, рассказ о том, что Родан и Синонида
встретили на своем пути реку, чистую воду которой пили лишь
цари. См. Геродот, I, 188).
В романе «Вавилонская повесть» ощутимо веет восточным
колоритом, даже имена персонажей большей частью восточные
(Родан, Тигр и Евфрат, Зобар, Месопотамия, Фарнух, Фарсирид).
Некоторые образы героев даны в романе в гиперболической
манере сказочно-фантастического повествования.
Как и в других романах, персонажи романа Ямвлиха разделены на положительных и отрицательных. При этом главные
герои наделены, как и положено традицией, прекрасной наружностью, хотя описания их внешности и не приводятся, а есть
лишь указания на красоту. Одни из персонажей обрисованы
схематично, другие, напротив, наделены сильными страстями.
Такова, например, фигура царя Гарма, неистовая, неразделенная любовь которого к Синониде служит причиной всех бед,
преследований и убийств. Восточный царь свиреп и садистски
1 8 0
жесток; гнев его пе знает меры: Родана он распинает на кресте 30 ;
Синониду заковывает в цепи; стражникам, допустившим побег
узников, велит отрезать носы и уши; слуг, которые не смогли
задержать Синониду, он приказывает закопать живыми вместе
с женами и детьми; Сореха, помогавшего беглецам, приговаривает к распятию на кресте; Родана вторично велит распять на
кресте, а сам пляшет и ликует вокруг креста. Гарм не только
жесток, но он и лицемерен и коварен. Это типично сказочный
злодей, весь сотканный из пороков. Узнав о предстоящей
свадьбе Синониды и сирийского царя, он отменяет казнь Родана и посылает его полководцем против его соперника, но
замышляет против него зло: «Затаив вражду, Гарм относится
к Родану с притворной благосклонностью, он пишет тайное
письмо его подчиненным, приказывая убить Родана, если будет
одержана победа и захвачена Синонида» (§ 22). Жестокий царь
приказывает умертвить невинную Месопотамию, которую привели ему вместо Синониды, а узнав, что Зобар отвел ее к царице Беренике, чуть было ие объявил ей войну.
Примечателен в романе образ главной героини Синониды.
В отличие от других персонажей он наиболее живой и разносторонний, данный без всякой идеализации. Синонида — пылкая натура, беззаветно любящая своего супруга. Ее любовь
к Родану не похожа на трогательные и нежные чувства героинь
других романов. Это сильная и яркая любовь, не знающая прощения, выраженная в ее безумной ревности и толкнувшая ее
на ответную измену подозреваемому в неверности Родану.
Обуреваемая бешеной ревностью, вызванной недоразумением,
она настойчиво пытается убить свою «соперницу», дочь земледельца. Но, потерпев в этом неудачу, находит другой жестокий
способ отомстить ей, свято чтящей память своего мужа:
«Выйдя замуж за сирийского царя, Синонида возымела силу
сорвать на ней свой гнев, и приговорила ее стать наложницей
палача» (§ 20). Неукротимая ревность Синониды получает
в романе жизненное выражение и в то же время, как и гнев
Гарма, служит связующим звеном в цепи последующих событий. Интересно, что ревность, подозрительность, мстительность,
жестокость — это черты характера Синониды, проявляющиеся
лишь во второй части романа. Мы видим здесь развитие характера от простого к сложному. В начале романа Синонида предстает перед читателем как любящая жена, отвергающая ненавистного ей Гарма. В трудную минуту она проявляет решительность и находчивость. Это она спасает Родана от смерти, готова
делить с ним все беды и лишения. Скрываясь от преследователей в пещере, Синонида обрезала свои прекрасные, длинные
30
Мотив распятия на кресте есть у Ксенофонта Эфесского (IV, 6, 3).
181
волосы, чтобы ими доставать воду для питья. Она предпочитает
смерть встрече с Гармом и принимает яд, но Сорех тайком
заменяет его на снотворное зелье и проснувшаяся Синонида,
обнаружив подмену, пронзает себя мечом.
Образ Синониды овеян ароматом восточной сказки. Порывистость, темпераментность, мстительность, свирепая ревность
типичны именно для восточной царицы. Она, не задумываясь,
закалывает Сетапа, претендующего на ее любовь, с ножом
в порыве ревности кидается на дочь земледельца. Кажется, что
любовь заслоняет в ней все остальные чувства и даже заставляет ее забыть супружеский долг верности: она покидает
Родана и выходит замуж за другого. Однако в конце романа
Синонида все-таки возвращается к своему любимому Родануиобедителю. Ревность Синониды — отклонение от традиционного типа героини, которая в большинстве других романов сохраняет верность своему возлюбленному в любых обстоятельствах и в долгой разлуке (вспомним хотя бы Архистратиду из
«Истории Аполлония» или героев «Эфиопики» Гелиодора).
Верность любви, даже несмотря на вынужденную измену героини, — основная тема греческого романа, здесь она осложняется ревностью. Но от этого образ Синониды только выигрывает в своей жизненности.
В противоположность Синоннде Родан почти никак не очерчен, это безликая фигура. Ни о его уме, ни о его душевных
качествах читатель не вынесет ни малейшего впечатления. Вся
роль его фактически сведена к тому, чтобы связывать в единое
целое всех остальных действующих лиц.
Зато наделен многими добродетелями положительного героя
второстепенный персонаж романа Сорех. Он ловок, хитер,
храбр, он добр и предан друзьям. Недаром его прозвали Справедливым. На протяжении всего действия Сорех стремится помочь беглецам, Родану и Синониде, рискует собой ради их спасения. В конце концов, он все же схвачен слугами Гарма и приговорен к распятию, но его освобождают аланы, которым Гарм
не выплатил жалования, чем и вызвал их недовольство. Сорех,
найдя золотой клад, становится их царем, идет войной на Гарма
и побеждает его, символизируя торжество добра над злом.
К числу положительных персонажей романа, выделенных более выпукло, чем другие, относится образ дочери земледельца,
укрывшей в своей хижине Синониду и Родана. Ямвлих не дал
ей имени, называя ее просто «девушкой» (xopirj). Это красивая
женщина, любящая и верная жена, после смерти мужа в знак
печали о нем отрезавшая свои прекрасные волосы. Отзывчивая
и добросердечная, она по ходу романа дважды помогает сначала
Родану и Синониде, предупреждая их об опасности, затем Родану и Сореху, спасая их от покушения на самоубийство. Да182
лее она спасает Евфрата: переодетый в ее одежду, он бежит.
К тому же она храбрая женщина, не боится вернуться к месту
трагического убийства, свидетельницей которого она случайно
оказалась, чтобы отыскать спрятанные убийцей сокровища.
Моральная ценность человека и здесь, в образе дочери земледельца, выступает на первый план.
Каждый из основных персонажей имеет свою историю и служит причиной нового отклонения хода действия.
Остальные персонажи интереса не представляют. Все они лишены характера и индивидуальности, это лишь преходящие
фигуры, служащие внешнему движению сюжета.
Примечательно, однако, то, что в романе много отрицательных персонажей, принадлежащих к самым различным слоям
общества, среди которых царят жестокость, продажность, алчность наушничество, предательство. Таковы слуги Гарма Сак
и Дам, Монас, мастер золотых дел, врач, стражники и, конечно,
сам вавилонский царь — скопище всех пороков.
Несомненно, ближайшей целью романа было осуждение морального уродства человека и утверждение его нравственной
высоты.
Роман заканчивается, как и положено ему по традиции, победой главных героев и торжеством добра над злом. Родан и Сорех становятся царями, Гарм повержен. Мысль о непременной
наказуемости зла и порока, хотя и не высказана здесь прямо,
как в романе Диогена, проявляется весьма отчетливо между
строк на протяжении всего действия, иллюстрируется и подтверждается самим содержанием романа. По ходу повествования преследователи Родана и Синониды отравляются пчелиным
ядом, врач-доносчик тонет в реке, Дама предают смерти и его
казнит тот самый палач, которого он сам из жреца святилища
Афродиты сделал палачом, труп раба-убийцы растерзан собакой, наконец, побея^дец сам Гарм.
Верность в любви, преданность в дружбе, доброта, бескорыстие — вот что лежит в основе идейного содержания романа
Ямвлиха, прославляющего моральную чистоту человека и осуждающего его нравственные уродства.
При сопоставлении романов Ямвлиха и Диогена легко устанавливается общность их этического замысла. Следует, однако,
заметить, что характеры, призванные воплотить этот замысел,
очерчены в романе Ямвлиха более выпукло и колоритно, чем
в романе Антония Диогена. Конечно, в обоих романах нет и
речи о психологическом решении характеров, когда логика сюжета была бы обусловлена внутренней логикой характеров.
В них различные драматические ситуации не приводят в движение характеры. Напротив, герои чаще всего становятся , лишь
объектами приключений. Исключение составляет образ Сино183
ниды, в характере которой Ямвлих открывает все новые и новые грани, нарушая этим устойчивую традицию изображения
характера, выработанную фольклором, следы которого то тут,
то там обнаруживаются в романе. Образ Синониды многогранен
и противоречив, и он вовсе не соответствует той строгой нормативности нравственных состояний человека, которая была выработана фольклорной традицией и затем воспринята в сказочнороманной литературе.
• Следует отметить наличие в идеологическом содержании греческого романа прогрессивных с точки зрения общего литературного процесса тенденций. Это новая концепция человека как
психологической индивидуальности, новый взгляд на человеческие отношения, внимание к внутреннему миру среднего человека, моральная ценность которого определяется в романе отнюдь не его социальной принадлежностью, а достоинствами
иного порядка, в частности высоко моральными качествами
души: верностью и чистотой любви, преданностью и бескорыстием в дружбе. В романах I—II вв. мы встречаемся с подобными носителями положительных идеалов, людьми различного
социального положения и чаще всего среднего и низкого.
В «Истории Аполлония, царя Тирского» это кормилица Тарсии,
старые рыбаки — люди из простонародья, но также и люди более высокого социального положения (эфесские врачи), и даже
цари (Архистрат, его дочь, Аполлоний). В романе Антония
Диогена роль носителя высокой морали выполняют служанка
Мирто и пифагорейцы, в романе Ямвлиха выделяются в этом
плане Сорех, друг и помощник героев, и дочь земледельца.
Таким образом, в этих романах интерес перемещен к простому
человеку с его многообразными связями с живой действительностью. И несмотря на фантастичность и сумбурность, в них
все же звучат социальные мотивы нового отношения к самому
человеку, к его духовному миру.
Почти невозможно судить о художественных заслугах или
просто о художественной специфике романа, не имея его подлинника, а всего лишь краткий сухой пересказ, даже скорее
перечень событий. Сохранившиеся фрагменты могут дать самое
относительное впечатление о стиле и языке романа. Можно
сделать только одно заключение: в зависимости от характера
рассказываемого менялась, по-видимому, и манера изложения
Ямвлиха. Например, в некоторых фрагментах, особенно в описаниях, ощущается склонность автора, подверженного влиянию
софистической риторики, к языковой изощренности. Это и не
удивительно во II в., на который приходится расцвет софистического искусства. Ямвлих, очевидно, намеревался привлечь
внимание широких читателей не только необычностью и занимательностью содержания романа, но и удивить знатоков фор1 8 4
мального искусства утонченным словесным мастерством, считая
немаловажным фактором изящество внешней формы сочинения,
изысканность его слога. Фабула романа, кроме своего прямого
назначения, стала у Ямвлиха и средством показа риторической
техники. И от романа Диогена «Вавилонская повесть» Ямвлиха
отличается большей риторической окрашенностью: в ней встречались, вероятно, изящные экскурсы, и речи, и письма, и ученые рассуждения на различные темы, свойственные софистическому искусству. Пестрая смена событий, движущих действие, многолинейность и занимательность сюжета, уложенного
в довольно сложную, продуманную композицию, разнообразие
характеров, так или иначе доносящих до читателя этическую
направленность романа, — все это свойственно роману Ямвлиха,
на первый взгляд сумбурному и путаному.
Фотий высоко ценил слог и композицию Ямвлиха: «Слог
у Ямвлиха плавный и мягкий, а если местами и звучит резко,
то все же без какой-либо напряженности; он, так сказать, щекочит и нежит. Достоинствами своего слога и композиции,
стройностью повествования Ямвлих обнаруживает мастерство и
силу речи не только в игривых вымыслах, но даже и в самых
серьезных вещах» ( § 1 ) .
Эту похвалу Фотия автору «Вавилонской повести» мы вынуждены принимать на веру.
По-видимому, Ямвлих действительно был мастером слова,
писателем большого воображения, а может быть, и знаний. Для
нас он может представлять интерес как автор любопытного
образца романной литературы, затронутой уж£ влиянием софистической риторики, как писатель, внесший в этот жанр
какие-то черты художественного своеобразия, продиктованные
временем и его индивидуальностью.
Рассмотренные выше романы Антония Диогена и Ямвлиха —
своеобразные и весьма характерные литературные явления
определенной конкретно-исторической эпохи. Эти любовно-фантастические романы были, конечно), не единственными сочинениями подобного рода (о чем свидетельствуют фрагменты из
других романов), и, вероятно, не лучшими их образцами.
Но, если даже они не достаточно интересны и значительны
по своей социальной сущности и литературно-художественному
уровню, то все же они могут привлекать внимание как разновидности или боковые ответвления нового романного типа повествования, представленного всего лишь несколькими полностью сохранившимися образцами.
ИСТОРИЧЕСКАЯ ТЕМА
В ГРЕЧЕСКОМ РОМАНЕ
«РОМАН ОБ АЛЕКСАНДРЕ»
Почти все известные нам первые греческие романы так или
иначе связаны с исторической темой, хотя сюжет их и развивается чаще всего на условно-историческом фоне и мало
отражает действительность. История давала богатую основу
для вымысла, и ее романтическая трактовка становилась одним
из художественных средств составителей романов. Историческими именами украшены, например, вымышленные события
в анонимном «Романе о Нине», в романе Харитона. Тем более в таких сочинениях, как «Жизнь Аполлония Тианского»
Филострата или «История Александра Великого», некогда
приписываемая Каллисфену, имеется тесная связь с историей.
Последнее сочинение представляет значительный интерес не
только с точки зрения использования исторической темы
в беллетристике, но и как образец народной литературы первых веков нашей эры. Оно выделяется своим особым, на первый взгляд несвойственным .жанру греческого романа, характером и стоит как бы особняком, вне ряда тех прозаических
позднегреческих произведений, к которым принято прилатать
термин «роман» благодаря наличию в них ряда признаков,
допускающих такое условное объединение их в один жанр.
Тем не менее нам кажется возможным применить и к нему
наименование «роман», так как оно довольно близко подходит
именно к этому роду литературных произведений и в некоторых моментах представляет ему аналогию.
Не случайно это сочинение, или, как мы будем называть
его в дальнейшем, «Роман об Александре», стало предшественником и прототипом многочисленной романической литература о великом македонском завоевателе, создаваемой на
186-
протяжении многих веков во многих странах вплоть до пастоящего времени.
И, несомненно, есть в нем какие-то аспекты, сближающие
его с историческим романом.
Но, оговариваемся сразу, в нем заложены лишь самые начальные, далеко несовершенные формы и возможности исторического романа, развитого лишь много веков спустя. Черты
этого романа еще только едва намечаются в «Романе об Александре».
Роман повествует о жизни и подвигах Александра Македонского, великого полководца и завоевателя государств, освободителя народов от персидского ига. Сюжетную основу
его составляет судьба подлинного, а не вымышленного героя
истории, хотя содержание романа в большей своей части вымышлено, сложено из необыкновенных событий и положений.
История как таковая представлена в романе в своеобразном,
полусказочном обрамлении. Временами она смыкается с историографической традицией, летописными сказаниями историков Александра Македонского.
Действие романа развертывается на фоне исторических событий. Но историческая первооснова его местами едва различима в причудливых сплетениях диковинного и невероятного.
Специфическая особенность «Романа об Александре» в том
и состоит, что его содержание не стеснено условиями действительных событий и обстоятельств, переданных исторической традицией, но, основанное на исторических документах
и материалах, допускает свободное обращение с ними, отступление от них и прямой вымысел, порой произвольный и неоправданный, нарушающий правду исторически-конкретной действительности.
По-видимому, воспроизведение лишь самых общих контуров изображаемой исторической эпохи было прочно установившейся традицией, идущей от историко-беллетристической литературы.
Может быть, правильнее было бы назвать «Роман об Александре» беллетризованной биографией исторического лица, поскольку в нем в фантастической форме описаны жизнь и
приключения героя, а вымысел служит иным целям, чем
в историческом романе.
Развитый исторический роман ориентируется не на жизнеописание отдельных героев, а на воспроизведение решающих,
узловых исторических событий из жизни народа во всей их
сложности и противоречивости; он требует глубокого проникновения в самую сущность явлений исторической эпохи и
исходит из проверенных данных. Правдоподобный вымысел
187-
в русле достоверных исторических событий — вот его метод.
Отсюда его большое познавательное значение. Познавательная же ценность «Романа об Александре» отодвинута на задний план ради увлекательности сюжета.
Следует помнить, что соотношение правды и вымысла
в «Романе об Александре» еще не предполагает органической
связи романической выдумки с историческим материалом.
В нем нет еще исторической правды вымысла, т. е. вымысел
не имеет того познавательного значения в смысле истолкования и обобщения фактов, раскрытия ведущих интересов и настроений эпохи, показа исторического процесса в движении и развитии, которое он имеет в подлинном историческом романе.
Вообще вопрос о соотношении правды истории и художественной правды в античном произведении очень сложен и
требует специального изучения в теоретическом аспекте.
Здесь важно отметить, что в «Романе об Александре» вымысел служил, хотя и далеко не всегда, первоначальному
идейному замыслу автора, а значит помогал полнее и ярче
изобразить характер исторического деятеля. И это примечательно. Ведь сюжет «Романа об Александре» выступает не
только как история приключений и подвигов главного героя,
но и как история его характера. Характер Александра проступает сквозь цепь приключений постоянно и подчиняет
себе действие. Он выявляется через взаимоотношения с другими людьми, как с подлинными историческими лицами (Дарием, Птолемеем, Филиппом, Олимпиадой, Парменионом
и др.), так и с вымышленными персонажами в выдуманных
обстоятельствах и положениях (с Нектанебом, Кандакой,
амазонками, брахманами и др.).
Замысел романа первоначально был, по-видимому, вгсторико-биографический, если судить по сохранившимся названиям: 'AXeEavpou 7cpa?EIG; Bi'og 'AXe£av8pou TOO MaxeSovoc; Historia
Alexandri Magni («Деяния Александра», «Жизнь Александра
Македонского», «История Александра Великого»), но постепенно он дополнялся фантастикой, вполне оправданной в сочинении такого, наполовину исторического, наполовину сказочного, характера, каким и был рассматриваемый роман.
Такое смешение удовлетворяло вкусам рядового читателя.
Это была сюжетно занимательная литература, доступная ему
и по форме, простой и понятной, не обремененной тонкостями
риторического искусства.
Неизвестный автор романа, опуская те или иные исторические события, допуская анахронизмы, домысливая образы
и факты, не совпадающие с данными истории, не заботился
о документальной достоверности описываемых исторических
188-
событий, но хотел, по-видимому, в занимательной и доходчивой форме, привлекая на помощь вымысел, поведать широким читательским кругам об историческом деятеле, воспетом
народом, в художественных образах показать своеобразие
воссоздаваемой им эпохи, ее настроения и национальный колорит.
Прежде чем приступить к более подробному рассмотрению
романа, необходимо изложить, хотя бы в самых общих чертах, его сюжет.
Роман разделен на три части, или книги. Вот краткое содержание этих книг
Последний египетский царь Нектанеб, с помощью магических средств узнавший однажды, что его страной овладеют
персы, бежит из Египта, захватив золото и переменив платье,
в Македонию. Здесь, в Пелле, он приобретает славу искусного мага, влюбляется в Олимпиаду, жену царя Филиппа,
околдовывает ее и добивается ее взаимности. Олимпиада думает, что находится в связи с богом Аммоном, образ которого
принимал Нектанеб, являясь к ней на свидание. Филипп по
возвращении узнает, что у Олимпиады родится сын и верит,
благодаря чарам Нектанеба, что это сын бога. Александр еще
будучи отроком проявляет много мужества и разума: укрощает коня-людоеда Буцефала, побеждает на олимпийских
состязаниях в беге на колесницах, мудро отвечает послам Дария, требовавшим дань, мирит поссорившихся родителей
и т. д. Вступив на престол после смерти Филиппа, Александр
отправляется в освободительный поход против 'персов. Пройдя
ряд стран, Сицилию и Италию, где он подчиняет римлян, он
переправляется в Африку, посещает оракул Аммона в Ливийской пустыне и, получив его предвещание, основывает
город Александрию. После посещения Мемфиса, где египтяне
признают его сыном своего царя Нектанеба, который должен
был вернуться к ним по предсказанию оракула, Александр
отправляется в Сирию и завоевывает город Тир, не пожелавший сдаться ему. В битве у реки Пинара, Александр, разбив
персидские войска, обращает их предводителя, царя Дария,
в бегство. Затем, неожиданно прервав войну, он отправляется
в путешествие в Илион, где поклоняется героям Трои, затем
в Грецию, разрушает Фивы, не внимая мольбам певца Исмения пощадить город, но позднее вновь отстраивает этот город.
Вторая книга начинается с рассказа о народном собрании
1
Краткое изложение содержания романа дается по греческому тексту
последнего по времени и лучшего издания Кролля, в основу которого положена наиболее древняя версия романа — версия «А»:
W. К г о 11. Historia Alexandri Magni. Berlin, 1926.
189-
афштян, на котором Демосфен выступил с предложением
подчиниться Александру Македонскому. Победив спартанцев,
Александр возвращается в Азию. Здесь он предпринимает
военные действия против персов и переходит через Евфрат.
Между Александром и Дарием идет постоянная переписка.
По совету Аммона, явившегося Александру во сне, Александр,
переодевшись, отправляется в лагерь Дария, однако, будучи
узнанным, бежит. После новой битвы с персами он берет
в плен родственников Дария. Сам Дарий бежит, спасаясь от
преследователей, и попадает в руки двух своих сатрапов, замысливших убить его. Александр находит смертельно раненого Дария, великодушно оказывает ему помощь и обещает
жениться на его дочери Роксане. Убийц Дария он казнит.
Написав о своих намерениях Олимпиаде и матери Дария, он
женится на Роксане.
Последняя, третья, книга начинается с описания возмущения греческих войск, обращения к ним с увещательной речью
Александра и примирения. Далее рассказывается о походе
против индийского царя Пора и победе над ним. После посещения брахманов и беседы с ними на философские темы
Александр пишет Аристотелю о чудесах Индии и фантастических приключениях своего войска. Возвращаясь из Индии,
он под именем Антигона попадает во дворец эфиопской царицы Кандаки. Но царица узнает его по имеющемуся у нее
портрету. Александр вновь в опасности: младший сын Кандаки, женатый на дочери Пора, намерен отомстить ему за
смерть Пора. Кандака и ее старший сын Кандавл, жену которого Александр освободил из плена, спасают Александра, и
он с дарами возвращается. После переписки с фантастическими амазонками, заключив с ними договор, Александр
возвращается в Вавилон. Оттуда он пишет обо всем Олимпиаде и Аристотелю. Различные знамения предвещают близкую смерть Александра. Умирая, он оставляет завещание.
Тело его доставляется в Мемфис, а затем в Александрию.
Роман заканчивается перечислением основанных Александром городов.
Фабула романа сплетена из столь многих элементов, что
перечислять их здесь нецелесообразно. При последующем
анализе романа отдельные наиболее интересные его места и
элементы будут выделены особо.
Греческий текст «Романа об Александре» не дошел до нас
в своей первоначальной оригинальной форме, относящейся ко
II—I в. до п. э. На протяжении нескольких веков он подвергался различным изменениям, сокращениям, дополнениям,
или, как их обычно называют, редакциям, и лишь к III в. н. э.
принял свою более или менее законченную форму.
1 9 0 -
Текстуальная
греческая
традиция
романа
составляет
3 главные группы, которые обычно обозначаются исследователями: А, В и С. Эти рукописи различных редакций сохранены в Национальной библиотеке Парижа (А за № 1711,
В за № 1685, С за № И З ) . Из них редакция А, восходящая
к самой древней версии романа, для нас представляет наибольший интерес и при анализе романа принимается в данной статье за основу.
Название романа в этой версии: Bi'oc 'AXecdvopou t o o MaxeBovoc.
Оригинальный текст романа восстановить сейчас уже не
представляется возможным даже по этой наиболее древней
его версии, так как она дошла до нас не в своем первоначальном виде, а уже измененная, с сильно попорченным текстом (например, в I книге пе хватает текста от конца 41
главы до начала 44. Другие пробелы: II, 6, 18; III, 27, 28, 33) 2.
В такой-то мере помогают это сделать другие версии.
В частности латинская версия романа Юлия Валерия (начало IV в. н. э.), представляющая собой свободное, с некоторыми сокращениями, переложение греческого текста редакции А.
Близок к редакции А, а также к переводу Юлия Валерия
армянский перевод романа, относящийся к V в. н. э., и сирийский перевод 3 .
Эти три перевода, согласующиеся между собой больше,
чем с другими греческими текстами, дошедшими до нас,
позволяют исследователям контролировать путем сравнения
текстов текст версии А и восстанавливать по мере возможности
недостающие и попорченные ее части.
Версия В составлена не ранее IV в. н. э. В ней авторство
приписывается Каллисфену. Ряд добавлений отличает ее от
версии А: например, письмо к Олимпиаде и Аристотелю
(II, 23—41), рассказ о лагере Пора (III, 3) и др. Александрийский колорит повествования, характерный для версии А,
заметно затушеван в ней греческим.
Версия С представляет собой последующую, значительно
расширенную обработку рукописи В: письмо к Олимпиаде
превращено в ней в фантастический рассказ о чудесах
2
Хотя А. Аусфельд пытался путем отыскания противоречий в тексте
и исключения их выделить и восстановить оригинальное ядро романа, относящееся, по его мнению, ко времени Птолемея Эпифана
(A. A u s f е 1 d. Der griechischen Alexanderroman. Leipzig, 1907,
S. 2 4 3 - 2 4 8 ) .
3
См.: A. W a l l i s B u d g e . The History of Alexander the Great being
the Syriae Version of Ps—Callisthenes. Cambridge, 1889, p. 15—29.
Описание различных рукописных традиций см. также в кн.: F. М аg o u n . The Gests of King Alexander of Macedon. Cambridge, 1929,
p. 2 3 - 6 2 .
191-
Индии (II, 24—44), добавлены легенды о воздушном полете
Александра на крыльях птиц и его спуске в морскую
глубь (II, 38 и 41), посещение им Палестины и др.
По этим рукописям, главным образом по рукописи В, Мюллером было предпринято первое издание «Романа об Александре», последнее его издание, по рукописи А, сделано
Кроллем 4 .
Четвертая рукопись, так называемая Лейденская, — соответствующая в первых главах версии А, в последних — В,
'издана Мейзелем 5 .
Остальные рукописи относятся преимущественно к группе
В, которую называют ввиду ее распространенности vulgata
Псевдо-Каллисфена.
Роман претерпел на пути своего оформления многочисленные изменения, в нем угадываются следы разных эпох.
Основное его содержание в указанных рукописях, сходное
в главных фактах, различается в подробностях, в колорите
событий и преданий, а также в распределении материала.
Таким образом, рукописи романа не являются копиями
одного сочинения, но версиями, составленными в разное время.
Редакторы разных эпох придавали определенный тон своим обработкам романа, подчеркивая те или иные его стороны и
черты, составляющие для них конкретный национальный интерес.
Каждая эпоха, каждый народ приспосабливали роман
к своим потребностям. И александрийская эпоха, и эпоха римских завоеваний и, наконец, Византия наложили свои характерные отпечатки на редакции «Романа об Александре».
Полагают, что автором первоначальной записи, также как
и окончательной редакции римского времени, был какой-то
александриец, вышедший из народа. Ряд данных говорит
в пользу этого предположения (см. ниже). На эпоху римских
завоеваний тоже указывает ряд моментов (в I, 13, например,
цитируется Фаворин, современник Траяна и Адриана; характер метрической обработки отдельных кусков свидетельствует о последующем их добавлении в роман — куски песен
в I, 12, фрагмент поэмы Сотерика о фиванских развалинах
в I, 46, отрывок какой-то «Александриды» в 1,42 у Валерия).
В истории романа прослеживаются две основпые линии:
реальная биография и действия Александра Македонского и
предания, не считавшиеся с историческими фактами и полные
фантазии и чудес. Исторические свидетельства соединены
в нем с преданиями фольклорного характера.
4
5
К. М ii H e r . Pseiido-Callisllien. Paris, 1847. W. К г о 11. Указ. соч.
M c u s o l . Rao? У.at 7tpd£et<; '^Xe^tVjpou тои May.egovo?, 1871.
192-
Огромное количество полулегендарной литературы было
богатой основой для «Романа об Александре». «Нет человека,
о котором писали бы больше и противоречивее», — говорит об
Александре Арриан в введении к «Походу Александра».
По сути дела этот роман представляет собой фантастическое сплетение исторических сведений с полулегендарными
отрывками и вымыслами составителя, роман, в котором соединялись многочисленные варианты легенд об Александре и
литература в письмах, как подлинных, так и фиктивных.
Начиная с эпохи завоеваний Александра значительно возрос интерес греков к чудесному. Крепнувшие связи с народами Востока открывали все большие возможности для удовлетворения этого интереса. К этому времени увеличивается
число произведений смешанного, полуисторического-полуромантического характера и лишь позднее появляются первые
романы, в которых исторический элемент уже не играет
первостепенной роли, выполняя функцию фона, обрамления
повествования, или материала, придающего достоверность
рассказываемому.
Неудивительно, что наибольшее любопытство могли возбуждать сочинения о крупных исторических деятелях или событиях, написанные в увлекательной форме.
Эпоха завоеваний Александра Македонского предоставила
богатейший материал целому ряду писателей, избравших эту
эпоху темой для фактического освещения ее или же сюжетом
для совершенствования своего риторического искусства и
поэтического мастерства. К этому времени относятся первые
романтические рассказы об Александре. Александр-полководец
становится одним из центральных образов самых разнообразных сочинений, исторических и легендарных, и устных сказаний. О нем писали историки, его современники, участники
его походов 6. Восхваление началось уже в тех походных полевых журналах и дворцовых дневниках, которые велись
специально выделенными для этого людьми. Сочинения и
записи этих историков не сохранились, но известны благодаря их использованию более поздними писателями 7 . К ним
относятся
Аристобул, Онесикрит, Птолемей, Каллисфен,
Неарх и др. Все они отличаются более или менее выраженной
тенденциозностью; цель их — восхваление полководца. Поэтому сведения их мало объективны: одни события сильно приукрашены, другие, напротив, обойдены молчанием
0
«Scriptores rerum Alexandri Magni». Приложение к изданию Арриана
Мюллера.
7
См., напр., сообщение Плутарха о вымыслах Онесикрыта («Александр», гл. 46) и Лукиана («Как писать историю», гл. 40).
13
Античный роман
193
(например, сведения о жестокостях Александра). Историческое
сочинение Каллисфена, ученика Аристотеля и участника походов Александра, также было украшено всяческими чудесами. Может быть, поэтому и приписывался ему «Роман об
Александре» до тех пор, пока не было установлено, что он не
был его автором 8.
Позднее, приблизительно в 280 г. до н. э., Клитарх Александрийский, используя Каллисфена и рассказы, взятые
у других историографов и утерянные теперь, создал риторическую, лишенную чувства правды, историю об Александре
(в 12 книгах), которая и установила общепринятую традицию
преданий.
Тенденция в сторону историко-биографического романа, начавшаяся с истории Каллисфена, обрастая всевозможными
чудесными рассказами, нашла в Клитархе более полное выражение и, наконец, способствовала образованию романа
в том виде, как мы его находим в ранней версии, так называемого романа Псевдо-Каллисфена, корнями уходящего в эллинистический Египет.
По-видимому, источниками его были самые разнообразные
сочинения, известные и предполагаемые, письменные и
устные.
По поводу происхождения романа об Александре в научной
литературе высказывались различные соображения.
В наиболее раннем исследовании романа И. Цахера 9 выдвинуто мнение о происхождении его из собрания народных
александрийских сказаний.
Позднее Роде 10 , рассматривая роман как народную книгу,
признал основой его фиктивные письма Александра к Аристотелю и Олимпиаде о диковинных странах, фантастических
встречах и невероятных приключениях.
С критикой взгляда на роман как на народную книгу выступили Т. Нольдеке 11 и А. Аусфельд 12, считающие основой
романа текст какого-то греческого историка-александрографа,
воспринятый и затем искаженный позднейшими редакциями.
8
Каллисфен, попавший под подозрение в заговоре, умер в заточении
во время индийского похода Александра. Судя по сообщению Арриана («Поход Александра», IV, 9—10), он выступал с критикой действий Александра, его замашек восточного деспота, отступления
от македонских и общегреческих обычаев.
9
I. Z а с h е г. Pseudocallisthenes. Forschungen zur Kritik und Geschichle
der altesten Aufzeichnung der Alexandersage. Halle, 1867.
10
E. R о h d e. Der griechischen Roman und seine Vorlaufer. Leipzig,
1900, § 184-189.
11
T. No Id e k e . Reitrage zur Geschichte des Alexanderromans. Wien,
1890, S. 2—10.
12
A. A u s f e 1 d. Указ. соч.
1 9 4 -
Все развитие романа сводится ими лишь к искажению исторической традиции. Они приводят места совпадений отдельных мест «Романа об Александре» с исторической традицией
с целью доказать, что это сочинение не литературное, но
носит наполовину ученый характер 13.
Сравнения отдельных мест в романе, совпадающих с сообщениями и данными историков-александрографов: Арриана,
Диодора, Курция Руфа, Плутарха — то, что с большим знанием сделано Аусфельдом в его фундаментальном исследовании — интересны, но при анализе литературного произведения кажутся мало оправданными.
Со взглядами Нольдеке и Аусфельдом согласуется мнение
Кроля, который считает основой романа какое-то историческое
сочинение, следующее Клитарховой традиции. Однако этот
ученый в противоположность вышеназванным относит время
составления романа не ко времени Птолемеев, а к III в. н. э.
Он полемизирует с Аусфельдом и по вопросу о вставках,
считая их не позднейшими интерполяциями, а просто составными частями романа 14.
Рассмотрение «Романа об Александре» как переделки сочинений Клитарха п Каллисфена долгое время удерживалось
в научной литературе. Аусфельд, например, признавал основой
текста романа жизнеописание Александра, составленное Клитархом во II в. до н. э., позднее расширенное и дополненное
вставками. Он указывал и на другие источники: Неарха, Аристобула, Метродора, Мемнона, Ктесия, Гипсикрата 15 .
Соглашаясь с Аусфельдом относительно^ разновременности
возникновения отдельных частей романа, современные ученые в связи с новыми исследованиями и периодизацией историков подвергли сомнению его тезис о преобладающем влиянии Клитарха. Так, например, В. Тарн 1 6 убедительно опроверг приоритет Клитарховой традиции, проследпв влияние
традиции, начатой Клитархом, на Курция Руфа и Диодора,
13
14
15
16
ТТо считают ого художественным сочинением и другие исследователи. Напр., венгерский ученый К. Керени, признавая его историей
или ареталогией, заявляет, что к истории развития романа оно относится только из-за входящих в него новелл (К. К е г ё п у i. Die
griechisch-orientalische Romanliteratur in religion geschichtlicher Beleuchtung. Tubingen, 1927).
W. К г о 11. - RE, X, 1707-1726.
A. A u s f e l d . Указ. соч., стр. 28, 225, 243—248.
W. T a r n . Alexander the Great, Cambridge, 1948, p. 5—54 и 133—364;
его анализ исторической традиции, как нам кажется, может быть
принят безоговорочно, хотя идейная позиция автора в оценке македонского завоевателя, проникнутая тенденциями, оправдывающими
его захватническую политику этическими нормами эпохи, для нас
неприемлема.
13*
195
и показал, что роман в своей древней версии, считавшейся
ухудшенной версией Клитарховой традиции, содержит всего
лишь два следа от нее (II, 21, 22—6 и III, 4—14). Роман,
по его мнению, составлен из многих компонентов, не совпадающих один с другим по происхождению и датировке. Это
смешение идей, взятых из Египта, Вавилона, и традиции Клнтарха, зародившейся в Египте и впоследствии приписанной
Каллисфену 17.
Многие другие ученые (А. Шассан, Е. Шварц, Я. Людвиловский) 18 изучали связи, существовавшие между романом
и историографией, и представляли роман как ответвление последней.
Но, если одни исследователи признавали главными исторические источники, то другие высказывали мнение о существовании какого-то собрания писем, возможно, романа в письмах, вокруг которого и образовывался «Роман об Александре» 19.
Составитель романа, рассказывая об исторических событиях, естественно, не мог игнорировать данные исторической
традиции. Напротив, он строил роман, исходя из них (что
видно из ряда мест, общих с историческими, источниками),
но он был автором литературного произведения и отнюдь не
должен был воспроизводить заимствованные ситуации в их
исторической достоверности. Для него историческая правдивость составляла второй план, была как бы канвой, на которой переплетались причудливыми узорами нити вымышленного сюжета.
Поэтому метод исследователей, пытавшихся доказать исторический характер литературного сочинения, не приемлем.
Совпадения с историей неизбежны в романе, связанном
с историческими событиями, на мотивах которых и строится
собственно его ткань, воплощая в художественных образах
и вымышленных картинах авторский замысел.
Используя исторические источники, автор «Романа об
Александре» дал картину жизни и деятельности прославленного полководца, лишь в самых общих и грубых очертаниях
соответствующую действительной истории.
Но исторические события, затронутые в романе, наполнились совсем новым содержанием, соответственно намерениям
автора.
Вполне естественно, что для создания романа автор избирал преимущественно источники беллетристического харак17
18
19
В. Т а р ы . Эллинистическая цивилизация. М., 1949, стр. 263.
См. выше, в вводной главе.
См. R. M e r k e l b a c h . Die Quellen des griechischen A l e x a n d e r s
mans. Miinchen, 1954.
196-
тера; среди иих сообщения исторической достоверности играли второстепенную роль, уступая первую занимательным
выдумкам.
Кроме беллетризованной историографии следует отметить
другой не менее важный источник «Романа об Александре» —
эпистолографический.
В романе находится множество писем, как подлинно исторических, так и вымышленных. По-видимому, существовали
письма Александра, деловые и частные, подлинные и фиктивные, которые и послужили материалом для создания
будущего романа, будучи введены в него с большими или меньшими изменениями. Они могли существовать и самостоятельно, независимо друг от друга, и в собранном виде, объединенные в каком-либо сборнике. По содержанию письма
в романе часто связаны между собой.
Отсюда закономерно вытекает предположение, что существовало какое-то сочинение, может быть, и роман в письмах
об Александре 2 0 , из которого составитель нашего романа выбрал ряд писем и разместил их, совместив с общей сюжетной
линией своего романа.
Существование какого-то тематически определенного сборника писем подтверждается Двумя опубликованными в 1947 г.
итальянским ученым Пьераччони папирусами: флорентийским
и гамбургским, относящимся ко II—I в. до н. э.21
Флорентийский папирус содержит пять неподлинных писем
к Александру и письма о нем. Два письма Дария к Александру
находятся в письмах 1 и 3 папируса. Между" ними помещено
письмо воспитателя детей Дария, Полиэда, попавшего в плен
к Александру вместе с его семьей и сообщавшего о хорошем
содержании пленных у Александра. Письмо 4 флорентийского
папируса (Дария к Александру) совпадает с письмами в тексте
романа (II, 10).
Таким образом, в этом папирусе содержится отрывок сочинения об Александре в форме писем.
Возможно, писем было больше и все они составляли цельное по замыслу сочинение. Составитель романа использовал
их частично, не обратив внимания на смысловую последовательность их и на содержащиеся в них указания на другие
письма, не включенные им в роман. Значит «Роман об Александре» был создан позднее эпистолярного произведения об
Александре, отрывки которого находятся во флорентийском
20
R. M e r k e lb a c h . Ps.-Kallisthen und ein Briefroman uber Alexander. - Aeg, 27, 1947, S. 144—158.
D. P i e г а с с i о n i. Lettere del ciclo di Alessandro in un papiro egiziano.
Firenze, 1947.
197-
папирусе (отдельные выдержки из него есть и в гамбургском
папирусе).
Вывод немецкого
исследователя романа Меркельбаха 22
о существовании какого-то самостоятельного романа в пись' мах, описывающего подвиги Александра, представляется нам
заслуживающим внимания и достаточно
мотивированным.
Этот роман в письмах, по-видимому, и был одним из источников составителя романа об Александре.
Собрание писем датируется на основании Гамбургского
- папируса началом I в. до н. э. Именно на это время приходится расцвет эпистолярного жанра в греческой и римской
литературе и потому допущение Меркельбаха не вызывает
возражения, хотя оно и не в достаточной мере обоснованно.
Напротив, представляется вполне допустимым предположение этого ученого о том, что имелся какой-то сборник
писем об Александре, написанных разными лицами. Это
предположение сделано на основании различия тона двух
писем папируса, вошедших в «Роман об Александре» и других
писем, например, писем Александра к Аристотелю и Олимпиаде о чудесах, увиденных в дальних странах, удивительных происшествия^ и явлениях природы. Одни письма, составленные по принципу просопопеи 23 , носят риторический
характер, другие относятся к сказочной тератологической литературе в письмах и являются последним ответвлением
ионийской историографии.
Следует отметить, кроме вышеназванных, 'один чисто литературный источник, используемый в романе, а именно:
легенду о Нектанебе, пропитанную египетскими мотивами
волшебства, гаданий, магии. Исследователи признают эту легенду, рассказывающую о происхождении Александра от
египетского фараона Нектанеба (I, 1 — 13) древнейшей частью романа 24.
Может быть, составитель первоначальной версии использовал и какие-то незаписанные источники, предания и сказы
об Александре, зародившиеся и бытовавшие в народной массе
в устной передаче и переходившие из поколения в поколение
с соответствующими времени изменениями.
22
23
24
R. M e r k e l b a c h . Die Quellen des griechischen Alexanderromans.
Достойно внимания приведение автором новых папирусов и фиктивной корреспонденции Александра, частично используемых в романе.
Т. е. когда исторические лица говорят и действуют в соответствии
со своим характером.
A. Au sf e l d . Указ. соч., стр. 123—126; 237—242; Р. В. К и н ж а л о в. Политическая и социальная направленность повести «О жизни
Александра Македонского» (дисс.). Д., 1955, стр. 192—196.
198-
Народный элемент есть в рассказе о Нектанебе, в рассказах
о чудесах, виденных Александром на Востоке.
Автор романа мог воспользоваться восточными легендами
и сказками, имевшими в то время широкое устное распространение. Именно таким устным рассказам и сказаниям свойственна острая сюжетная занимательность.
Предания об Александре Македонском, возникшие в устной традиции, соединенные с литературными и историческими материалами и домыслами составителя, образовали
своеобразный полуисторический-полусказочный приключенческий роман о жизни знаменитого полководца.
Итак, основными источниками «Романа об Александре»,
известными или предполагаемыми, являются:
1. Историографические — история Александра, идущая от
Клитарховой традиции; при этом действительной истории
в романе уделяется еще меньше места, чем в сочинениях
Диодора и Курция, имеющих романтический характер. Роман
содержит ряд красочных картин и деталей, привлекающих
читателя занимательностью и обилием выдумки, характерных
и для беллетристической историографии.
2. Эпистолографические — действительные
исторические
письма, существовавшие самостоятельно или в собранном
виде, а также псевдоисторические, составляющие эпистолярный роман, в котором в последовательной сюжетной переписке
были описаны основные события жизни Александра и вымышленные письма Александра к Олимпиаде и Аристотелю
(II. 23—41 и III, 17), отзвуки устных народйых сказаний об
Александре.
3. Фольклорные материалы и сказания мистического и фантастического характера.
Кроме того, в роман позднее были добавлены небольшие
сочинения, относящиеся к эллинистическому времени: «Разговор Александра с гимнософистами» (III, 6) и «Завещание
Александра» (III, 30—33).
Все эти материалы, заимствованные и переработанные, при
этом часто с нарушением исторической последовательности,
были объединены каким-то александрийцем в целое сюжетно
связанное сочинение, в котором нашли свое место и его собственные то ошибочные и переиначенные факты и детали,
то чистые выдумки. О том, что это был выходец из народных
слоев, не слишком образованный, могут свидетельствовать его
путаные представления об истории и географии походов
Александра, а также, по-видимому, о классической литературе.
Мнения о составителе романа столь различны, что здесь
нет надобности их приводить, тем более, что прямых данных,
199-
подтверждающих те или иные предположения, не имеется.
Если одни исследователи настаивают на многочисленности
переделок романа разными лицами и в разное время, другие
это опровергают. Среди последних — Р. Меркельбах, диссер' тация которого об источниках романа представляет значительный интерес и кажется во многом убедительной в своих
доводах. Тем не менее предположение о различных переделках романа разными лицами, неизменно добавлявшими
в каждую эпоху что-то типичное для своего времени, тоже
имеет свои основания и не может быть отвергнуто.
Как бы то ни было, нам важно выделить одно: на основании данных гамбургского папируса установлено, что роман
начинает свое существование после I в. до н. э., и что он,
как и все первые греческие романы, носит народный характер.
В композиции «Романа об Александре» явственно выступает сочетание самых разнородных начал и разнохарактерных частей, почерпнутых из указанных выше источников,
с вымыслами самого автора. Элементы истории и сказки, ареталогии и приключений, биографии и путешествий — все находит в романе свое место.
Традиционных эпизодов в романе много: переход Александра через Евфрат (II, 9), посещение персидской усыпальницы (II, 18), преследование и поражение Дария, убийство
его и наказание убийц (II, 19—21), разговор Александра
с гимнософистами (III, 5—6), завещание Александра (III,
33) и др. Упомянуты или воспроизведены частично важнейшие события, встречающиеся у историков Арриана, Плутарха
и др.
Однако последовательность их часто переиначена: разрушение Фив, например, идет после битвы при Иссе (I, 41),
тогда как оно происходило двумя годами раньше, а посещение Александром святилища Аммона (I, 30) предшествует победе над Тиром (I, 35), в то время как в действительности
было наоборот.
Несогласованности с исторической традицией, различные
отступления от нее, на наш взгляд, очень интересны, так как
говорят о своеобразии «Романа об Александре», о различных
источниках его происхождения, о позднейших интерполя^ циях, наконец, о какой-то определенной тенденциозности автора.
В романе много несогласованностей и противоречивости, и .
не только в составляющих его частях, но даже в самой сю-.
жетной линии (Роксана, например, называется то дочерью
Дария — I I , 20, 22, то упоминается как бактриапка, дочь
Оксиатра — III, 23 и др.).
<•
2 0 0 -
Есть ряд противоречий в письмах, составляющих роман.
Вот некоторые примеры, Аусфельд считает их вставками 25 .
Письмо Александра к Олимпиаде и Аристотелю (II, 23—
41) повторяет уже изложенное ранее. В тексте версии А вторая книга кончается 22-й главой, рассказывающей об отправлении Александра в индийский поход, а 1-я глава третьей
книги говорит о самом походе. У Юлия Валерия конец второй
книги непосредственно примыкает к началу 3-й 2 6 .
Некоторые письма слабо связаны с текстом и иной раз расположены они достаточно произвольно: письмо, ранее написанное, например, следует за написанным позднее. Так, письмо
Дария Александру, в котором он обращается к македонскому
царю в последний раз с просьбой о возвращении семьи, захваченной в плен, и обещает ему много золота и все страны до
Евфрата, помещено во И, 10. А письмо, написанное после поражения Дария при Странге, т. е. при Гавгамелах, в котором
Дарий снова просит о том же, напоминая Александру о переменчивости человеческого счастья, во II, 17. По-видимому, это
письмо не на месте. Оно должно было быть помещено перед
письмом, изложенном в главе 10. Это было при Иссе, а не при
Арбеллах, так как после битвы при Арбеллах для Дария все
уже было потеряно и не оставалось надежд на какую-либо
переменчивость судьбы^ 7 .
Письма эти не вымышленные. Исторические источники подтверждают подлинность переговоров между Дарием и Александром 28 . Но, возможно, какая-то часть переписки утеряна.
Переиначен порядок переписки Дария с ГТором: письмо Дария с просьбой о помощи помещено во II, 19, а ответ Пора находится раньше — во II, 12.
То, что в роман включено множество писем и отрывки из
них, нисколько не удивительно. Ведь письма охотно использовались в историографической литературе для придания изложению исторического события большей живости и яркости
(см., например, в полуромантической истории Александра Македонского Курция Руфа). При этом они могли быть как подлинными, так и вымышленными. В «Романе об Александре»
ость и те и другие, всего 38 писем: переписка Александра с Дарием, письма Александра Олимпиаде, матери Дария,
См. A. A u s f е 1 d. Указ. соч., стр. 243—248. Вопрос о происхождении
вставок см. на стр. 177—187.
'•G В. Кроль в своем издании романа исключил этот отрывок, а Мюллер
взял главы 24—31 и 34—35 из версии С.
27
Ср. Д и о д о р, 17, 39, 1. Сравнение с Курцием и Аррианом также подтверждает вероятность перестановки писем.
23
См.: С. И. К о в а л е в . Переговоры Дария и Александра и македонская оппозиция. — ВДИ, 1946, № 3, стр. 46—56.
2 0 1 -
Роксане, Пору, амазонкам, переписка Дария с сатрапами,
письма Дария Пору и ответ последнего, матери Дария своему
сыну и др.
Часть писем, засвидетельствованных у историков, в частности и главным образом у Арриана, может считаться подлинными (например, письмо Дария Александру и ответ на
него во II, 14), другая часть писем — фиктивными. Арриан
считает таковыми письма Пармениона Александру с предупреждением против врача Филиппа, намеревающегося якобы
отравить Александра (II, 4), отрывок письма Александра
к Аристотелю о путешествии по Индии (III, 17) и др.
В композицию романа с течением времени входили элементы
разных эпох и занимали в нем свое место. При чтении его
явственно ощущается эта, порой механическая, связанность
отдельных кусков, свидетельствующая об их различном происхождении и выдающая последовательность временных наслоений.
Дополнением к первоначальному тексту А составителя римского времени является, например, описание греческого похода (I, 42—II, 6) 29, которое противоречит не только действительному маршруту полководца (покорение Греции после
Малой Азии), но и маршруту, изложенному в романе. После
греческого похода Александр остается на том же месте, что
и до него. Язык отрывка, отличный от языка других мест
(в речах афинских ораторов применены риторические фигуры), также указывает на то, что это вставка. Содержание
эпизода не передает действительных событий. Наперекор им
Демосфен представлен приверженцем Александра и защитником предложений его афинянам, в то время как история
свидетельствует об опозиционном настроении Демосфена, возражавшего против удовлетворения требований македонского
завоевателя.
Эпизод с гимнософистами, данный в «Романе об Александре» с изменениями, — тоже позднее добавление. Он
содержится в тексте Берлинского музея, изданном У. Вилькеном (№ 13044), датировавшимся II —I в. до н. э., и у Плутарха (гл. 64). По-видимому, папирусный отрывок представлял собой какое-то самостоятельное сочинение, которое было
включено в текст романа и переработано с некоторой тенденциозностью в духе романа: Александр мирно беседует с гимнософистами, задает им вопросы и удивляется их мудрым
ответам.
29
? Р З
Это определил уже Роде (указ. соч., стр. 198), а затем Аусфельд
(указ. соч., стр. 146—154). Кроль, напротив, признавал это место
подлинной частью сочинения (RE., X, 1711).
Из других вставок можно указать беседу Александра с учителем брахманов Диндимом (трактат о Диндиме, вставленный в рукопись А после эпизода с гимнософистами, обычно
приписывается Палладию — III, 7—16), завещание Александра (III, 33), отрывок с конца гл. 17 по конец гл. 19 второй
книги.
Наряду с традиционными историческими эпизодами в роман
вплетены новые, вымышленные эпизоды, порой довольно эффектные, такие как примирение Филиппа и Олимпиады, устроенное Александром после того как Филипп привел новую
жену Клеопатру (I, 22), месть Филиппа и Александра Павсанию (I, 25), приход переодетого Александра в лагерь Дария (II, 15) и во дворец эфиопской царицы Кандаки (II, 21—
24), битва со слонами Пора (III, 3) и др.
Эти вымышленные эпизоды служат в романе как, бы связующими звеньями между событиями. Таков, например, рассказ о смерти Дария и его последней воле о помолвке его
дочери Роксаны и Александра (II, 20—21).
Введение фиктивных данных для связи действительных
или же вымышленных событий — особый художественный
прием, присущий составителю «Романа об Александре».
Композицию романа отличает сплетение документальности
и художественного вымысла, сказочности и мистики.
Интересен в этом смысле эпизод основания Александрии,
в котором как в фокусе сосредоточены чуть ли не все элементы, характерные для композиции романа.^
Вот картина основания Александрии:
«Длину города Александр определил от так называемой
Пандисии до Гераклова устья, а ширину от Мендесия до малого Гермуполиса. . . Однако Навкратиец Клеомен и родосец
Динократ не советовали ему основывать такой большой город,
потому что не хватит людей для его заселения. И даже если
он будет заполнен, то торговцы не смогут обеспечить его
продовольствием. Да и жители в самом городе будут склонны
к раздорам, раз он так беспредельно велик. Ведь жители малых городов легко прислушиваются к добрым советам и занимаются полезными делами, между тем как множество разных племен, живущих в огромном городе, бывают даже незнакомы друг с другом. Александр,
уступая строителям,
предоставил им начертать план города в угодных им размерах. Они определили длину города от Драконта, лежащего
в нижней части Тафосирийской косы, до Агатодэмона, находящегося в низовьях Канона, а ширину от Мендесия до Эврилоха и Мелантия. Александр приказал местным жителям поселиться в тридцати милях от города, подарив им землю и
назвав их александрийцами. На главных подъездных путйх
2 0 3 -
оказались в ту пору Эзрилох и Мелантий, поэтому их названия сохранились.
Александр отнесся с уважением и к другим строителям
города, среди которых был навкратиец Клеомен, олинфиец
* Кратер и ливиец Герои, имевший брата по имени Гипоном.
Гипоном посоветовал Александру прежде чем закладывать основание города провести каналы, изливающиеся в море. Александр послушал его и отдал такой приказ. Подобных каналов
не было ни в одном городе. Каналы прозваны «гипономами» потому, что имя ливийца, предложившего их провести, было
Гипоном.
Поистине нет города больше Александрии; все ведь города
занесены на карты. Самый большой город Сирии, Антиохия —
8 стадиев и 72 фута, Карфаген в Африке — 16 стадиев 7 футов.
Вавилон в в варварских странах — 12 стадиев и 208 футов.
Рим — 14 стадиев и 20 футов. Александрия же — 16 стадиев
и 395 футов.
Когда Александр прибыл в эту местность, он нашел реки,
рвы и разбросанные тут и там деревни. Он увидел с суши какой-то остров в море и спросил, как называется остров. Местные жители отвечали: «Фарос. Там обитал Протей, а могильный
памятник Протея находится у нас, и мы чтим его обрядами
на одной очень высокой горе».
Его перенесли в так называемый теперь «героон» и выставили гробницу для обозрения. Принеся жертву герою Протею
и заметив, что его памятник обветшал за давностью лет, Александр, распорйдился немедленно восстановить памятник и нанести общие очертания города. Его пределы очертили, сыпля
муку. И слетающиеся птицы в с е . . . склевали и улетели. Недоумевая, что значит это знамение, Александр вызвал толкователей знамений и рассказал им о случившемся. Они же отвечали: «Этот город после своего основания будет питать всю
вселенную и повсюду будут рассеяны люди, в нем родившиеся.
Ибо птицы облетели всю вселенную».
Строить Александрию начали со Срединной площади, и место
это получило прозвание «Начало», так как оттуда началось
строительство города. Тем, кто там находился, всякий раз являлся змей, наводил на них страх, и они бросали работу.
Об этом было передано Александру. Он приказал на следующий
день поймать змея, где бы его ни обнаружили. Рабочие, получив такое распоряжение, одолели и убили страшное животное, чуть только оно появилось подле того места, что теперь
называется Стоя; а Александр приказал огородить там же
священный участок и предать змея погребению. А поблизости он велел развесить венки в память явления благого
божества.
2 0 4 -
Он приказал всю выбрасываемую при закладке фундаментов
землю не сваливать куда попало, а в одно место, и до настоящего времени там видна большая гора, которую называют Коприя. Заложив большую часть городских кварталов и составив
план, он начертал на нем пять букв: А, Б, Г, Д, Е. «А» означало — Александр, «Б» — басплевс (царь), «Г» — генос (род),
«Д» — Диос (Зевса), «Е» — ектис-е (основал) город на вечные
времена...» (I, 31, 32) 30.
В этом отрывке ясно видно как совмещаются в романе документальные черты (названия мест, имен, цифр) с чисто сказочными мотивами (появление змея) и мистическими элементами (знамения). Здесь же вырисовывается характер разумного
и энергичного основателя города — Александра.
В романе значительное место отведено различным пророчествам, прорицаниям оракулов, магическим действиям, вещим
снам — элементам, достаточно ясно воссоздающим колорит
эпохи.
Связанный со своей эпохой роман отражал религиозные верования современников, их обостренный интерес ко всему чудесному и сверхъестественному: к неведомым и сказочным
в их представлении дальним странам с диковинными народами
и фантастическими животными и растениями. Составитель романа и его читатели одинаково верили в богов, принимающих
любой образ и появляющихся в снах и видениях. В романе
сновидения часто руководят ходом действия (явление во сне
Александру Сараписа и его предвещания,^ явление Аммона
и др.).
Верования в могущество высших сил уживались в это время
с идущими с Востока мистическими культами, интересом к магии и волшебству.
Увлечение магией характерно и для времени империи Северов, к которой относят окончательное оформление романа.
Вот что говорит об этом времени Энгельс в книге «К истории раннего христианства»: «Это было время, когда даже
в Риме и в Греции, а еще гораздо более в Малой Азии, Сирии
и Египте абсолютно некритическое смешение грубейших суеверий различных народов принималось без всяких околичностей и дополнялось благочестивым обманом и прямым шарлатанством, время, когда виднейшую роль играли чудеса, экстазы, видения, привидения, гадания о будущем... и прочая
мистическая чепуха» 31.
В романе об Александре — обилие сказочных мотивов и разного рода мистических элементов. Явно мистический элемент
30
31
Дерев. А. Н. Егунова («Поздняя греческая проза». М., 1961, стр. 405).
К. М а р к с я Ф. Э н г е л ь с . Сочинения, т. XV J, стр. 416—417.
2 0 5 -
есть, например, в эпизоде предсказания смерти Александру
говорящими деревьями (III, 17). В другом эпизоде (III, 30)
смерть Александру предвещает чудо-младенец, получеловекполузверь, родившийся в Вавилоне с мертвой человеческой и
) живой звериной половиной.
Интерес читателя возбуждали картины жизни чужих,
иногда фантастичных, народов. Например, в письме Александра к Олимпиаде (III, 27) изображается сказочное племя амаот мужчин,
в зонок-воительниц, создавших свое, независимое
государство. Это красивые, рослые, сильные, остроумные и гордые женщины, необыкновенный образ жизни и нрав которых
описан ими самими в ответном письме к Александру (III, 25).
В качестве примера сказочно-фантастического описания оно
весьма характерно, а потому стоит привести его здесь целиком 32.
«Сильнейшие и правящие из амазонок Александру желают
здравствовать. Мы написали тебе для сведения до нашествия
на нашу землю, чтобы ты не возвратился бесславно. А письмом
нашим сообщаем тебе сведения о нашей стране и о нас самих,
ведущих суровую жизнь. Мы живем за Амазонкой рекой посредине. Окружность нашей земли простирается на год пути,
а река не имеет начала. Вход к нам один. Мы, живущие
здесь, — вооруженные девицы в числе 270 ООО; у нас нет ни
одного существа мужского пола, а мужчины живут за рекой,
владея тамошней землей. Мы ежегодно совершаем праздник
конеубиения, принося жертвы Зевсу, Посейдону, Гефесту,
Аресу в течение 30 дней. Те из нас, которые желают соединиться с ними, остаются у них на несколько дней; все рожденные дети женского пола вскармливаются ими, но по достижении семи лет они переводят их к нам. Когда неприятели
предпринимают поход на нашу землю, мы выступаем на конях,
в количестве 120 ООО, а остальные охраняют остров. Мы приходим навстречу к границе, а за нами следуют мужчины, выстроившись в тылу. Если которая из нас на войне получит рану,
то пользуется почетом вследствие нашей храбрости и, увенчанная, остается приснопамятною; если же которая падает на
войне защищаясь, то близкая ей получает немалую сумму денег. Если кто привезет на остров тело врага, то за это дается
в награду золото, серебро и пожизненное продовольствие.
Таким образом, мы ратоборствуем за нашу славу. Если мы одолеем неприятелей или они обратятся в бегство, то им остаются
на вечные времена стыд и позор; а если они победят нас, то
32
Перев. В. В. Латышева по изд. Майзеля (см.: ВДИ, 1947, № 3,
стр. 245—249). В редакции А описание несколько отличается от приводимого здесь.
2 0 6 -
окажутся победителями женщин. Итак, смотри, царь Александр,
чтобы с тобою не случилось того же. Подумай и отпиши нам —
и найдешь нашу рать на границах. Будь здоров».
В романе широко представлен мир диковинного, чудесного.
Сказочные черты проступают в описаниях невиданных стран
и населяющих их необыкновенных существ и народов, в описании их сокровищ и полученных от них даров. Характерны
в этом смысле, например, дары эфиопской царицы Кандаки
Александру: золото, слоновая кость, жемчуг, драгоценные камни,
черное дерево, слоны и т. п. (III, 18, 7—9), а также описание
дворца (III, 22), сокровищ Персеполя и Суз (III, 28, 3—12).
Расказ о путешествии Александра в страну Кандаки также
носит почти целиком сказочный характер (III, 21—24).
В рассказе об индийском походе Александра особенно много
сказочно-чудесных черт. Например, говорится о способе борьбы
со слонами Пора с помощью раскаленных медных статуй (III,
3, 3), или в эпизоде поединка Александра с Пором последний
представлен великаном, чтобы тем самым усилить торжество
победы над ним Александра (III, 4, 3).
Рассказ о Кандаке зародился, как полагают 33 , в народной
сфере. В романе он удачно помещен после эпизода с убийством Пора, которое мотивирует намерение мести Александру
сына Кандаки и, таким образом, служит причинной связью
сюжетно, казалось бы, несовместимых кусков.
Элементы чудесного есть и в описаниях второй книги, повествующих о событиях еще до индийского пдхода Александра.
На пути странствования Александру встречаются удивительные люди-полузвери (шестирукие, безголовые, с глазами на
груди, трехглазые, с собачьими головами, с птичьими туловищами и т. п. странные существа и чудовища), диковинные
земли, где царит или палящий зной, или сплошной мрак,
а земля, по которой идет войско, покрыта драгоценностями.
Сам Александр отваживается подняться в воздух на крыльях
огромных птиц и опуститься на дно морское в стеклянной камере 34.
Сказочный характер носит сама завязка романа. Египетский
царь Нектанеб, обладающий волшебными знаниями, узнав
о приближении вражеского флота к берегам Египта, готовится
33
34
Р. В. Кинжалов предполагает, что рассказ о походе Александра как
сына египетского фараона в Эфиопию связывается с египетской
исторической традицией: завоевательные походы египетских фараонов были одной из популярных тем египетской литературы
(см. указ. дисс., стр. 192—198).
Большая часть всех этих чудес содержится только в поздних редакциях романа: С и L.
207-
опасность посредством магических действий: наполнив
ванну и пустив туда восковые фигурки вражеских кораблей,
он произносит заклинания и фигурки тонут. В это же время
на море должны погибнуть и корабли врагов 35. Однако магия
'
в этот раз наталкивается на роковые обстоятельства: предательство богов по отношению к Нектанебу 36 . «Когда он пристально всмотрелся в ванну, то увидел, что судами варваров
управляют египетские боги. Поэтому, поняв, что царь Египта
• выдан предательством блаженных, Нектанеб обрил голову и бороду, чтобы изменить свой облик, и, положив за пазуху столько
золота, сколько мог унести, бежал из Египта в Пелузий»
отразить
(1,3)37.
Там Нектанеб создает себе репутацию астролога и чародея,
добивается расположения Олимпиады и предсказывает ей будущее: будто явится к ней бог, и родится у нее сын, и станет
он царем вселенной. Под видом Аммона Нектанеб сам является
на свидание к царице. Чтобы пе вызвать подозрений у возвращающегося Филиппа, он посылает Филиппу волшебный сон,
возвещающий о рождении у Олимпиады сына Аммона. Филипп
получает и другие предвещания о божественном происхождении сына Олимпиады (I, 8—10).
Рождению Александра сопутствуют удивительные явления
природы: гремит гром, сверкает молния, сотрясается земля.
Ребенок родится необыкновенный: глаза разные, один светлый,
другой черный, зубы черные, волосы — львиная грива (I, 12).
Однажды Александр, уже будучи отроком, просит Нектанеба
показать ему искусство гадания по звездам. Ночью они отправляются в поле, и Александр сталкивает Нектанеба в ров, желая проучить его за то, что тот, не зная, что может случиться
с ним на земле, хочет знать, что происходит на небе. Умирая,
Нектанеб говорит Александру, что его судьбой было погибнуть
от руки сына и открывает Александру тайну его рождения (I, 14).
Следы сказочности легко увидеть в рассказе о детстве Александра и его юности: обуздание им коня-людоеда Буцефала,
победа на олимпийских состязаниях в беге на колесницах, мудрый ответ послам Дария и т. д.
Фантазия в романе не ограничена какими-либо пространственными или количественными пределами. Войско Александра,
например, исчисляется в самых невероятных и совершенно
35
36
37
В древнеегипетской религии употребление восковых фигурок с магическими целями было широко известно.
Та же мысль о предательстве богов, перешедших на сторону врагов, выражена в I, 34 (3—5).
Египетский царь Нектанеб II действительно бежал из Египта, побежденный персами в 341 г. до н. э.
2 0 8 -
произвольных количествах и проходит невероятные расстояния
в своем сквозном победном марше по странам.
Это типичная черта сказочной гиперболизации.
При этом фантазия сочетается с фактами, засвидетельствованными историками. То же в описаниях исторических битв
и экспедиций, где вымысел, часто разрушающий историческую
правду, переплетается с достоверностью.
По-видимому, здесь сказывается влияние фольклора в том,
что невероятным событиям придается видимость исторической
действительности (для чего называются исторические имена и
места происшедших событий). Правда, география в романе не
отличается точностью, а некоторые события просто выдуманы,
как, например, переход Александра через замерзшую реку
Странгу, которая, пропустив его, вдруг оттаивает и поглощает
преследователей (II, 14—15) и многое другое.
Элементы сказочности и фантастичности, щедро рассыпанные в романе, подтверждают его народный характер.
Вдохновленный народным творчеством, «Роман об Александре» рассчитан на массового читателя среднего культурного
уровня, что в значительной степени и определило не только
его смысловое, идеологическое содержание, но и весь состав
поэтических средств, определивших его художественную форму.
Построенный на быстрой смене событий, увлекательных путешествиях по неведомым странам, смелых подвигах героя,
необыкновенных ситуациях, фантастических происшествиях и
поданный в популярном, доходчивом изложении, роман о знаменитом полководце, несомненно, мог привлечь внимание и
интерес широких кругов читателей.
Однако «Роман об Александре» не был лишь занимательным
чтением. За внешней занимательностью его сюжета и романтизированными зарисовками героев кроется его идеологическая
тенденциозность. Содержание романа, составленное из разнородных источников, вобрав в себя ряд уже выработанных традицией сюжетных схем и мотивов, тем не менее отражало,
хотя и в скрытом виде, современность. В нем можно выделить
несколько политических тенденций.
Прежде всего вспомним начало романа в первоначальной
версии, указывающее на его египетское происхождение. Оно
таит в себе определенный идейно-политический смысл.
Роман недвусмысленно связывает Александра с Египтом,
делает его сыном последнего египетского фараона Некганеба II, а не Филиппа. Происходя от Нектанеба, Александр
становится, таким образом, прямым наследником фараона, чем
и определяется его право на египетский престол в романе,
право, предварительно еще подсказанное оракулом Аммона
Филиппу (I, 8—10).
14
Античный роман
209
Когда египтяне после бегства Нектанеба стали искать своего
пропавшего царя и вопрошать богов, куда он скрылся, им было
дано предвещание:
«Бежавший царь снова придет в Египет, не постарев, а помолодев, и наших врагов — персов — он подчинит нам» (I,
34 ) 38 . Этот ответ египтяне написали на статуе Нектанеба
в Мемфисе, где ее прочитал впоследствии Александр.
Победа Александра над персами показана в романе как возвращение представителя царской династии на законный трон.
В желании автора представить Александра не завоевателем
Египта, а преемником египетских фараонов и законным правителем Египта сквозит определенная тенденциозность.
Как полагают исследователи, занимавшиеся этим вопросом,
в частности В. В. Струве 39, после второго персидского завоевания, в египетском народе сложились предания о будущем возвращении Нектанеба II на египетский престол. Вокруг Нектанеба складывались легенды, отразившиеся в памятниках народной литературы (например, в «Сне Нектанеба» 4 0 ).
Одна из легенд о возвращении царя отражена и в нашераромане 41.
В сцене у статуи Нектанеба, где Александр приносит жертвы
богам Египта, в нем признают наследника Нектанеба и посвящают его в фараоны (eveftpovaaav):
«По всем городам прорицатели встречали Александра, вынося изображения своих богов и провозглашая его новым
Сесонхосисом, владыкой мира. Когда он прибыл в Мемфис, его
посадили на трон в тронном святилище Гефеста и одели в пышное одеяние как царя Египта» (I, 34).
Александр, действительно победивший врагов Египта — персов, оказавший внимание местным культам, был принят
в Египте как освободитель египетского народа от владычества
персов.
Со временем в народе действительно могла возникнуть и затем развиться мысль об отождествлении Александра Македон38
39
40
41
По египетским представлениям, сын — воплощение отца, и значит
Александр — это Нектанеб, ставший молодым, призванный освободить египтян от поработителей-персов.
В. В. С т р у в е . У истоков романа об Александре («Восточные записки», т. I. Л., 1927, стр. 131—146).
В. В. Струве считает, что создание легенды обусловлено стремлением ее создателей объяснить причину гнева богов, обрушившихся
на Нектанеба (там же, стр. 139—141).
По мнению В. В. Струве, в народном сознании мысль о связи Нектанеба и Александра возникла в III в. до н. э. В «Демотической хронике» легенды о них переплетаются. На основании данных этой
хроники Струве указывает возможные причины возникновения легенды о возвращении Нектанеба.
210-
ского с тем Нектанебом, который, возродившись, должен был
освободить Египет от персов. Поведение Александра в Египте
способствовало этому. Ведь он вел себя на освобожденной земле
отнюдь не как завоеватель, напротив: приносил в Мемфисе
жертвы разным богам, в том числе Апису, в Александрии отвел
место для установления храмов Исиды Египетской (Арриан,
III, 1, 4 - 6 ) .
После основания Александрии Александр ходил к храму
Аммона за оракулом (III, 3—4); в Мемфисе он занимался устройством управления Египтом (Арриан, III, 5).
Таким образом, возникшее в народном сознании представление о возвращении нового Нектанеба, избавителя народа от
ига иноземцев, связанное с личностью Александра, отразилось
в романе в виде занимательной новеллы.
Легенда об Александре как о сыне последнего египетского
фараона, восходящая, по-видимому, ко времени Птолемеев,
служила своего рода идеологическим подкреплением и обоснованием традиционности и исконности владычества их династии
над Египтом.
Итак, в первоначальной редакции романа ощутимо выступает
тема египетского патриотизма, отчетливо звучит мотив освобождения Египта от персидского господства.
Роман начинается с восхваления египетских мудрецов;
большое место в нем отведено магии и астрологии (что особенно характерно для Египта), часто упоминаются александрийские культы Сараписа (I, 31, 33), Протея (I, 30, 32),
Исиды (I, 31) и др. С особенным предпочтением прославляется
основание Александрии Египетской. Оно окружено чудесными
знамениями и предсказано Аммоном (I, 30—33). Александрия
называется «столицей вселенной» (I, 34). Кроме того, много
внимания уделено в романе Птолемею: он выступает в качестве друга юности Александра (I, 17), как его помощник
(в эпизоде с Кандавлом, сыном Кандаки, он играет роль царя
по просьбе Александра — III, 19, 20), как один из его наследников (III, 32).
Первоначальный замысел романа, оправдывающий македонское владычество над Египтом, и в римскую эпоху сохранил
свою политическую заостренность, утверждая преимущественные права на Востоке греков, а не римлян. Эта концепция
льстила национальной гордости греков. В последующих редакциях романа особенно явственно ощущается эта политическая
тенденция — утверждение греческого владычества над Азией.
В соответствии с политическими тенденциями подобраны,
построены и освещены исторические эпизоды. В редакции В
опущены, например, подробности, которые могли бы унизить
греческую национальную гордость (в описании греческих
14*
211
событий, о взятии и разрушении Фив рассказано как бы мимоходом).
В неразрывной связи с греческо-егинетскими тенденциями
романа обозначается еще одна его тенденция, хотя и скрытая
под исторической оболочкой: противопоставить образ Александра Македонского, сложившийся в устных преданиях александрийского населения, тому образу, который использовался
императорами Рима в политических целях.
Таким образом, «Роман об Александре» отражает в завуалированной форме антиримские, оппозиционные к политике императорского Рима настроения александрийского народа.
Составитель романа, по-видимому, и сам из народа, хотел показать Александра народным героем, гуманным правителем и
борцом за свободу Египта, в противовес образу героя-завоевателя и покорителя народов, пропагандируемого римскими императорами.
Увлечение личностью Александра было особенно распространено при Каракалле и затем при Севере. Политика подражания
императоров Александру Македонскому преследовала определенные цели, связанные с их стремлением покорить весь Восток, и в частности, крупную восточную державу того времени — Парфию 42.
Культ Александра, служивший еще в период ранней империи своеобразным идеологическим оправданием римской захватнической политики на Востоке, получил в правление Северов
особенное распространение. Великий полководец античности,
завоеватель Востока, Александр Македонский, державший
в своих руках половину мира, был наиболее удобным образцом
для пропагандируемых захватнических планов императоров.
Он как бы утверждал законность покорения Римом других народов, поддерживал идею священного происхождения императорской власти.
В «Романе об Александре» просвечивает намерение автора
иначе преподнести образ Александра, выделяя его как основателя Александрии, гуманного борца за свободу Египта, устроителя Востока, т. е. совсем не так, как он использовался в императорских кругах. Александр вырисовывается в романе как
храбрый, умный, благородный, простой в обращении человек.
Это образ идеального правителя, народного героя, и в какой-то
степени даже испытателя природы, образ греческого покорителя резко отличный от римских завоевателей мира.
Образ Александра, таким образом, построен в соответствии
с патриотической задачей утверждения преимущественных прав
греков на влияние в восточных странах.
42
См.: Н. А. М а ш к и н . История древнего Рима. М., 1948, стр. 524.
212-
Характерен эпизод, рассказывающий о завоевании Александром Италии, далекий от исторической действительности, но
весьма красноречиво свидетельствующий о враждебной настроенности автора к римским завоевателям, о его желании принизить римлян перед греческо-египетским героем. Александр идет
в романе прежде всего в Италию, затем в Африку, через Карфаген к Аммону, затем через Александрию и Тир к Иссе и Кидну:
«. . . Он переправился в Сицилию, привел в повиновение непокорных и переплыл в Италийскую землю. Римские полководцы посылают ему через Марка Эмилия, полководца, венок
Капитолийского Зевса, перевитый жемчужными нитями, говоря: «Мы будем, Александр, ежегодно увенчивать тебя золотым венком в сто фунтов». Он, приняв выражение их покорности, обещал возвеличить их. От них он получает тысячу воинов и четыреста талантов. Они говорили, что дали бы ему и
больше, если бы не затеяли войну с карфагенянами. . .» (I,
26). Из Италии Александр прибыл в Африку, где вышедшие
ему навстречу полководцы стали умолять его избавить их от
господства римлян (I, 30).
Интересны и другие эпизоды, носящие антиримский характер. Вспомним, например, эпизод вступления Александра в Палестину (в версии С, II, 23), вступления мирного характера,
сравнительно с жестокостями Иудейской войны (66—71 гг.),
когда римлянами был разграблен, разрушен религиозно-политический центр иудейства Иерусалим. Характерно, что Александр не взял дани с иудеев, жертвуя ее их богу, в то время
как римляне при взятии Иерусалима обложили его налогом
в пользу Юпитера. А приношения даров и жертв храму от
иноземцев и иноверцев высоко ценилось иудеями 43.
Даже, казалось бы, такой незначительный момент, как простое сопоставление величины Александрии (16 стадиев 395 футов) и Рима (14 стадиев 20 футов) могло, по-видимому, с точки
зрения автора, принйзить Рим (I, 31).
Итак, основная политическая тенденция романа: а) египетский патриотизм и освобождение от персидского господства,
б) распространение греческого владычества над Азией, в) антиримские настроения.
Кроме того, в поздней версии романа звучат мотивы восточных религиозных культов, в частности, мотивы иудейского
вероучения. Явно иудаистический характер носит эпизод вступления Александра в Иерусалим, в котором рассказывается
о торжественной встрече Александра первосвященниками
иудеев и о принятии им их монотеистической веры «в единого
бога, сотворившего небо и землю и все что в них, и постичь
43
См.: Р. Ю. В и п п е р . Рим и раннее христианство. М., 1954, стр. 100.
2 1 3 -
которого никто не может». Александр говорит, что будет служить поистине великому единому и живому богу и принесенное ему иудеями золото отдает как дань богу богов (II, 23).
Этот мотив принятия веры в единого бога иудеев свидетельствует о распространении влияния иудейского мировоззрения
в Римской империи.
Иудейско-христианским характером отмечен и эпизод беседы
Александра с Диндимом, в котором выражено смирение Александра перед каким-то высшим предопределением и осознание им своего бессилия и невозможности избежать назначенной свыше участи (III, 16).
Несмотря на разнородность и эпизодичность, составные
части романа в своей совокупности все же связаны внутренним единством и целостностью общего, главного идейного замысла произведения.
Основная тема композиционно организует весь его сюжет,
а также и детали его художественного обрамления. На главном
герое сосредоточено все внимание, ему подчинены все другие
персонажи, выписанные более или менее ярко и четко разделенные на положительных и отрицательных. Характер Александра вырисовывается во взаимоотношениях с этими многочисленными персонажами. Конкретная историческая .действительность служит фоном, на котором строится повествование
о жизни македонского героя от рождения до смерти, его боевых действиях, его борьбе за достижение своих целей в различных жизненных обстоятельствах.
Деятельность Александра Македонского была в какой-то мере
положительной, хотя бы в том смысле, что не противоречила
исторически закономерному ходу развития, способствуя развитию греческой цивилизации, усилению процесса эллинизации
Азии. Характер его деятельности, сыгравшей на данном этапе
прогрессивную роль в исторической судьбе народов и определил тот положительный образ македонского царя, который мы
находим в «Романе об Александре».
Фигура Александра воспринимается читателем только как положительный образ. К этому, по-видимому, и стремился составитель романа, снабдивший своего героя множеством самых
лучших качеств. Образ построен с расчетом возбудить восхищение читателя нравственным и физическим обликом Александра. Отсюда и гиперболизированное изображение его возможностей и достоинств 44.
44
Может быть, здесь сказалось и влияние эллинистической традиции,
уходящей корнями в «Киропедию» Ксенофонта, где главный герой
также наделен всеми чертами идеального властителя. Но если образ
Кира обрисован в соответствии с требованиями «нравственного» кодекса греков (в который входили добродетели: мудрость, справед-
2 1 4 -
«Роман об Александре» написан о событиях, воспетых народом. Потому в нем и встречаются фольклорные элементы,
а в образе Александра проступают порой черты, близкие народу: непримиримость к врагам, выносливость, ловкость, даже
хитрость. Александр представлен таким, каким хотел видеть
народ своего героя, — героическим и человечным, великим и
в то же время простым.
В его характере преобладают, однако, героические качества.
Это идеализированный портрет доблестного полководца. Кажется, он обладает всеми добродетелями. Еще в юности он
отличается необыкновенным умом: «Александра все любили за
его ум и способности к военному делу» (I, 16). Здесь же приводится ответ его Аристотелю на вопрос, как он поступит со
своим учителем, когда получит наследство: «Ты расспрашиваешь о будущем, а можешь ли ты поручиться за завтрашний
день? Я дам обещание тогда — если захочу, — когда и время
и мой возраст сделают его выполнимым». Александр отличается ловкостью, выносливостью, силой: в 14 лет укрощает
Буцефала (I, 17), в 15 — побеждает на олимпийских состязаниях в беге на колесницах (I, 18), в эпизоде встречи с высокомерным царем Николаем проявляет умение владеть собой и неумение прощать оскорбления (I, 18). В 18 лет Александр отправляется на войну ради освобождения египетского народа от
ненавистного владычества персов (I, 25). Он честен, презирает
предателей и отвергает их помощь (I, 37), зато высоко ценит
храбрость и патриотизм врагов и даже приводит эти их качества в пример своим солдатам (II, 10).
В романе всюду подчеркивается благородство и гуманность
Александра: в обращении его с пленными врагами (I, 23—41,
42), в обхождении с врачом Филиппом, которого оклеветал
Парменион, затем наказанный Александром за ложное обвинение (II, 8), в обращении молодого победителя с умирающим и
побежденным Дарием, в заботе о его семье, в сохранении прежних национальных обычаев жизни покоренного им персидского
народа (II, 21). Благоразумие и великодушие Александра высоко ценят даже враги (I, 39), а послы Дария называют его
«великим и разумным» (I, 37). «Рассудительный», «разумный»,
«сообразительный» — эпитеты,
постоянно
сопровождающие
Александра. Александр рисуется добрым и великодушным (I,
37; I, 41; II, 9 - 1 0 ; II, 18; II, 2 0 - 2 1 ; III, 5 - 6 и др.), это человек высокой нравственности; он мирит своих родителей,
мстит Павсанию за смерть отца и защищает честь матери, восхищая своими поступками всех присутствующих (I, 22 и 24).
ливость, храбрость, благоразумие), то в обрисовке Александра
явственно ощущается помимо этого характерная для народной
сказки гиперболизация.
2 1 5 -
В романе подчеркивается преданность народа Александру и
его вера в своего предводителя (например, в картине прощания македонян с умирающим Александром, III, 32). Александр
решителен и храбр, он первый переходит Евфрат, вдохновляя
этим солдат, пренебрегает опасностью, отваживается на самые
рискованные предприятия, проводит ряд хитроумно задуманных
военных операций. Он непобедим в бою и отчаянно смел.
Он переживает самые невероятные приключения, но всегда находит выход из любого затруднительного положения, не пренебрегая воспользоваться иной раз и стратегическими хитростями (II, 9; И, 13; III, 3; III, 18 и др.) 45. Александр исполнен
чувства собственного достоинства и право судить о положении
дел обычно оставляет за собой, хотя и выслушивает советы и
замечания. Вспомним совет Пармениона относительно мирных
предложений Дария, который сказал, что, будь он Александром, он принял бы эти условия, и реакцию последнего: «И я,
если бы был Парменионом, воспользовался бы этим советом,
но я — Александр!» (II, 17).
Впрочем, Александр охотно прислушивался к советам, когда
дело касалось конкретных вопросов, например, строительства
Александрии (I, 31).
Идеализация облика Александра отчетливо проступает в романе. Автором опущены те моменты из жизни македонского завоевателя, которые свидетельствовали бы о его жестокости,
вероломстве, неумеренном гневе и резкости. А если некоторые
из них все же введены в роман, то в заметно затушеванном
виде, прикрытые какими-либо смягчающими и оправдывающими их обстоятельствами. Есть, например, в романе эпизоды
жестокого разрушения Тира и Фив (I, 35 и I, 46). Однако дело
в них представлено так, будто Александр наказал жителей
Тира за бичевание и распятие его послов, а разрушить Фивы
его побудили провокации безрассудных фиванцев. После разрушения Фив, желая поправить зло, нанесенное им, Александр
приказывает отстроить город заново. Значит, даже здесь он выступает не столько разрушителем, сколько созидателем.
Таким образом, историческая достоверность разрушается
ради идеи образа, ради общей смысловой настроенности романа.
В образе Александра тесно сплетаются действительные черты
характера обычного человека с чертами, присущими сказочному
герою. Он, например, нередко прибегает к помощи волшебных
сил, оракулов, предвещаний: при осаде Тира (I, 35), при обдумывании плана проникновения в стан врага» (II, 13) и др.
45
Историки Арриан (III, 10) и Курций (IV, 13) говорят, напротив,
что Александр мало пользовался подобными стратегмами, как он
сам называл свои хитрости.
2 1 6 -
Он идет в святилище Аммона, проверить истинность предсказания о своем отце, получает предсказание Сераписа о будущем
величии основанного им города Александрии, верит в неотвратимость судьбы. «Куда склонятся весы победы, зависит от вышнего промысла», — пишет Александр Дарию (I, 38). Еще пятнадцатилетним юношей он отвечает кичливому акарнанскому
царю Николаю: «Не кичись так, царь Николай, словно ты можешь поручиться, что и завтра будешь в живых. Судьба не
стоит на одном месте: весы наклонятся — и хвастунам конец» (I, 18). Александр чувствует тяготение над собой какой-то
высшей, таинственной силы и выражает покорность назначенной ему свыше участи. Здесь также ощущается живое веяние
времени с присущими ему чертами: религиозными верованиями
людей, их повышенным интересом к мистике и разного рода
чудесным явлениям, их смирением перед судьбой и неверием
в свои силы.
Некоторые исследователи, например Е. Хейт 46, сравнивают
Александра с эпическим героем Ахиллом, считая, что отдельные
сцены романа вдохновлены Гомером. Молодой победитель проявляет сострадание к старому умирающему Дарию, как Ахилл
к Приаму. Сходство этих двух героев подчеркивается эпизодом
посещения Александром могилы Ахилла в Трое и его чувством
зависти своему образцу, у которого был такой певец славы,
как Гомер. Хейт находит сходные черты у Александра и с Одиссеем: посещение им индийских священных пещер напоминает
ей спуск Одиссея в подземный мир.
Вряд ли можно согласиться с такой точкой зрения, искусственно соединяющей совершенно несоединимые произведения,
порождения разных и далеких друг другу эпох.
«Роман об Александре» — сочинение типичное для своего времени, отразившее в себе настроения общественной жизни и
особенности своей эпохи. Идеал героя в нем тесно связан
с конкретно-исторической действительностью и пронизан определенными, присущими ей идеологическими тенденциями.
Образ Александра строится через объективное, проявляясь
во внешних действиях и поступках, в многочисленных связях
с другими персонажами. Характер его статичен, лишен какого бы то ни было внутреннего психологического развития и
противоречий. Переживаниям, думам, размышлениям героя
внимания не уделяется.
Создавая образ Александра, автор использовал прием контрастного противопоставления его как положительного образа
другому, отрицательному, образу Дария.
46
Е. Н. H a i g h t .
p. 40—45.
More essays on Hie Greek Romances. N. Y., 1945.
2 1 7 -
Враг Александра, персидский царь Дарий, вырисовывается
хвастливым, высокомерным и в то же время слабым, чтобы
ярче оттенить величие и силу Александра и, наоборот, доблести
Александра преувеличиваются, чтобы принизить качества его
противника.
Контрастирующие характеры Дария и Александра прекрасно вырисовываются в их переписке. Дарий пишет Александру письмо в тоне приказа победителя, хотя он и не был
им. Не зная себе равного, этот «царь царей» обходиться
с Александром как с низшим, посылая ему оскорбительные
символические дары: «Твой возраст еще нуждается в воспитании и соске. Поэтому*я и посылаю тебе плеть, мяч и золото,
чтобы ты выбрал, что сам захочешь. Плеть, потому что тебя
надо воспитывать, мяч, чтобы ты играл с твоими сверстниками
и не соблазнял бы молодежь тем, что ей не по возрасту, словно
отъявленный разбойник, повергающий в смятение города. Ведь
даже если бы мужи со всей вселенной сошлись воедино, то и
тогда невозможно было бы сокрушить многолюдство персов.
Войска у меня так много, что его не исчислить, как песок,
а золота и серебра столько, что можно покрыть всю поверхность земли. Поэтому я и посылаю тебе ящик, полный золота: если у тебя нечем расплатиться, ты мог бы дать его товарищам по разбою, чтобы каждый из них счастливо убрался
на родину» (I, 36).
В ответ на насмешку и угрозу Дария Александр весьма
остроумно и с достоинством отвечает: « . . . Я уже познал тебя:
ничего ты не можешь, хотя и украшаешь себя прозваниями
богов и облекаешь себя их небесным могуществом здесь
на земле. Сам смертный, я иду на тебя, смертного. А куда
склоняться весы победы, зависит от вышнего промысла.
К чему ты пишешь нам о своих запасах золота и серебра? Для
того ли, чтобы, узнав об этом, мы еще храбрее стали воевать
с тобой, рассчитывая, что твое станет нашим? Если я нанесу
тебе поражение, я прославлюсь и сделаюсь великим царем
у варваров и эллинов — ведь я уничтожу великого царя персов Дария. А ты, если меня разобьешь, то ничего значительного не сделаешь — ведь ты разобьешь разбойника, как ты мне
писал, я же — царя Дария. Ты послал мне плеть, мяч и ящик
золота. Ты, конечно, послал мне это в насмешку, но я принял
твои дары как доброе знамение. Плеть я получил, чтобы
копьем и мечом сечь варваров и своими руками ввергнуть их
в рабство. Мячом ты возвестил мне, что я буду обладать вселенной. Ибо вселенная как раз подобна мячу, она — шарообразна. Великое знамение послал ты мне и в виде ящика золота: себе самому ты предрек подчинение — разбитый мною,
ты будешь платить мне дань» (I, 38).
218-
Мы видим, как сталкиваются два характера; эта черта, свойственная роману поздней формы, здесь лишь намечена. Интересно, как меняется Дарий. Если вначале он непреклонен,
горд, насмешлив, дерзок, диктует условия Александру и угрожает ему расправой (I, 36; I, 40; II, 10), то позднее, терпя
поражение за поражением, он смягчается и объятый страхом
склоняется перед Александром, поручает ему заботу о своей
семье, благословляет на брак с Роксаной. В своем последнем
обращении к Александру он уже сам говорит о непостоянстве
славы и всего земного: «Царь Дарий приветствует своего владыку. Прежде всего подумай о том, что ты рожден как человек. Этого достаточно, чтобы не стать надменным. Ведь и мой
предок Ксеркс, надменный и презиравший всех людей, будучи
чрезмерно жадным к золоту и другим вещам, предпринял
поход против Эллады, так плохо закончившийся. Чего ему
не доставало? Золота и других драгоценных камней или статуй — всего того, что ты и сам у нас увидел! Подумай поэтому
о непостоянстве счастья и сжалься надо мной, с мольбой стоящим пред тобой. Ради Зевса, покровителя мыслящих, и нашего общего родственного происхождения — ведь мы оба происходим от Персея — прошу тебя, верни мне мать, жену и детей. За это я обещаю тебе показать те сокровища в Миниаде, Сузах и Бактрах, которые мои предки скрыли в земле. Желаю, чтобы ты постоянно правил над персами, мидянами и
другими людьми. Да сделает тебя Зевс великим! Прощай!»
(И, 17).
Здесь снова сквозит мотив смирения человека перед беспощадной Тихой, а между строк проскальзывает авторское осуждение захватнической политики и неуемной жажды власти
и богатства.
Своеобразно представлен в романе Нектанеб: в его изображении чувствуется насмешка составителя ^романа. Поступки
фараона, превращенного в романе в ловкого обманщика, напоминают эпизоды любовно-плутовской новеллы. Весь рассказ
о Нектанебе носит несколько иронический характер, свойственный произведениям народной литературы. Тут и бегство
с переодеванием, и обман полюбившейся женщины, и гадания,
и видения, и, наконец, убийство — все то, что пользовалось
популярностью как интересное чтение и было способно увлечь
читателя. В эпизоде смерти Нектанеба устами Александра выражена насмешка над пророческими способностями фараона
(I, 13).
Основа «Романа об Александре» — внешняя фабула. Занимательность — неотъемлемая его черта. Отсюда п внешний
характер приключений, перекликающийся с довольно поверхностной, портретной, обрисовкой персонажей.
219-
Впрочем, мы и не вправе требовать от такого произведения,
каким был разбираемый роман, впитавший в себя черты истории, сказки, предания, глубокого проникновения в суть изображаемых явлений и раскрытия психологического облика героев. Ведь это произведение — всего лишь веха на пути
становления будущего исторического романа, далеко не полноценный образец романа как жанра, в котором едва намечены
отдельные признаки этого жанра.
Интересна одна особенность, отличающая «Роман об Александре» от других романов на историческую тему. Это почти
полное отсутствие в нем любовных мотивов, необходимых
в других греческих романах, построенных на историческом
сюжете, таких как анонимный роман об ассирийском царевиче Нине, дошедший до нас во фрагментах, или «Херей и
Каллироя» Харитона.
Между тем, он как бы предвосхищает эти романы и, несомненно, так или иначе, между ними есть какое-то сходство,
выражающееся хотя бы уже в том, что каждый из авторов
этих романов имеет дело с действиями исторического характера и идеализирует своих героев, нарушая историческую
традицию.
Однако если в «Романе об Александре» интимная сторона
жизни македонского завоевателя лишь слегка затронута и
вообще любовные мотивы и элементы в нем слабы и неразвиты, то, напротив, в романе об ассирийском полководце Нине
они выступают на первый план и составляют большую часть
содержания, обрамляя рассказ о военных подвигах героя.
(От этого романа, по-видимому, берет начало традиция введения в сюжет совместных или раздельных приключений
влюбленной пары, которая была впоследствии воспринята
почти всеми авторами любовных романов). А уже в романе
Харитона любовные мотивы и элементы преобладают над
историческими и, можно сказать, даже вытесняют их, оставляя им второстепенную роль фона, на котором развертываются
действия любовного характера.
В «Романе об Александре» есть, конечно, женские образы
(в нем выведены три женщины), и все же в нем нет оснований
для развития любовной интриги. По-видимому, автора шт
сколько не занимала интимная сторона жизни великого полководца, в его намерения входило лишь прославление исторического деятеля. Даже отношения Александра с Роксаной не
носят любовного характера, а похожи больше на политический
союз. Может быть, потому Роксана в романе — не бактрианка,
дочь Оксиарта, как в других источниках, а дочь Дария, что
брак с дочерью персидского царя служил прекрасной иллюстрацией миролюбивой и гуманной политики Александра,
220-
направленной па укрепление связей Греции и Персии 47 . Ведь
именно носителем идеи мира представлен в романе древний
завоеватель. Как ни парадоксально это, но с точки зрения
автора, оппозиционно настроенного к римским завоеваниям,
кажется вполне оправданной такая трактовка образа, противопоставляющая Александра как национального героя, освободителя. народов, тому Александру-завоевателю, который служил
интересам варварской политики римских императоров.
Значительное место в романе отведено Олимпиаде, матери
Александра. Все начало романа связано с ее именем. Она предстает перед читателем как красивая женщина, возбудившая
любовь Нектанеба, а позднее Павсания, верившая в могущество высших сил и потому поддавшаяся обману фараона. Она
вместе с тем и любящая мать. Недаром в отношении Александра к матери проявляются лучшие его моральные качества.
Он любит ее, мирит с мужем, мстит ее обидчику, сообщает ей
о своем намерении жениться на Роксане, делится как с другом
впечатлениями о своем необыкновенном путешествии в Индию.
Получив от нее письмо с жалобой на Антипатра, он спешит
защитить ее интересы.
Третья женщина, выведенная в романе, — царица Эфиопии
Кандака. Это лицо вымышленное, получившее свое имя, повидимому лишь в редакции римского времени. Эпизод с ней
введен с целью занимательности. В романе она называется
«потомком царицы Семирамиды» (III, 22, 15). Это властная,
красивая женщина, умная и благородная, царственно щедрая.
В художественной форме «Романа об Александре», в его
стиле явственно выступает существенный элемент жанра романа — соединение воедино разнородных начал. По сути дела
он представляет собой смешение повествовательного, полуисторического-полусказочного жанра, с его стилевыми особенностями, и эпистолярного жанра, которому присущи свои
характерные черты, в том числе и черты риторичности. В композицию «Романа об Александре» вплетены элементы фантастики, сказочности, преданий. Это сочинение отличается
многообразием ситуаций, введением эпизодов узнавания (на
пиру у Дария узнавание переодетого Александра одним из
слуг и узнавание Александра Кандакой).
Разнородность состава романа определяет и его языковые
средства. Слог его достаточно прост и даже примитивен, хотя
47
В действительности это был обдуманный политический ход, обеспечивающий Александру поддержку персов в походе па Индию. Стремясь создать смешанную македоно-персидскую знать, Александр
устроил целый ряд свадеб в Сузах македонян с персиянками
( А р р и а н , VII, 4).
221-
местами и не лишен некоторой риторичности. Ведь историческая беллетристика, оказавшая значительное влияние на развитие романа с историческим сюжетом, была в достаточной
мере риторизована, также как и эпистолярное искусство,
широко представленное в «Романе об Александре».
Слог романа представляет собой нечто среднее между слогом
исторической прозы и разговорной формой, свойственной
автору, вышедшему из народа. Предназначенный для широкой
аудитории роман носит на себе такие характерные признаки
фольклорного произведения как наглядность изображения,
контрастность характеристик героев, выделение главного героя,
пристрастие к рассказу о необыкновенных приключениях и
чудесах.
Народный характер слога выражен также в широком использовании прямой речи и диалогов. Все герои романа много
говорят и пишут друг другу, обнаруживая тем самым характерные свои особенности. При этом их речи не однотипны,
а разнообразны в зависимости от конкретных условий сюжета.
Такая индивидуализированная окрашенность речей персонажей весьма похожа на художественный прием «речевой
характеристики», применяемый
уже
в более
развитом
романе.
Особенно это касается языка Александра, всегда соответствующего его поступкам и настроениям. В зависимости от обстоятельств, он то насмешлив и ироничен, то энергичен и убедителен, то полон теплоты и мягкости, то, напротив, исполнен
чувства гнева и мести. Например, в эпизоде, где Филипп, по
наговору некоего Лисия, усомнившись в законнорожденности
Александра, пытался его убить, но, споткнувшись, упал,
Александр иронически восклицает: «Филипп стремился захватить Азию и перевернуть Европу, а сам не в силах ни шага
сделать» и бросается на присутствующих (I, 21). Здесь Александр выступает как мститель за нарушение брака и защитпик интересов своей матери.
В другой сцене, в кратком, но весьма выразительном ответе
сборщикам дани, пришедшим от Дария, ярко выражен твердый, непреклонный и волевой характер будущего завоевателя:
«Отправляйтесь в путь и скажите Дарию: «Когда Филипп был
один, он платил тебе дань, когда же родился у него сын
Александр, он перестал давать ее, и даже то, что ты раньше
получил, я отберу и потребую у тебя обратно, когда приду»
(I, 23).
Речь Александра порой довольно патетична и вдохновенна,
особенно там,
^де
Александру приходилось
убеждать,
обращаться с просьбой и т. д. Такие его речи часто окрашены
метафорами и сравнениями. Вот, например, образец его речи,
222-
обращенной к войскам, напуганным угрозами Дария. Она
сжата, но вполне убедительна:
«Мужи македонские, что вы так смущены этим письмом,
словно письмена и в самом деле имеют силу? Дарий пишет
из хвастовства, сам он вовсе не похож на написанное.
Бывают псы, которые уже не могут взять крепостью тела,
так они лают, точно лай свидетельствует о силе. Вот и
Дарий — на деле он ничего не может, а в письмах кажется
важной особой, — точь-в-точь как псы лающие. Но допустим
что написанное соответствует действительности: этим самым
становится яснее, с кем нам предстоит храбро воевать, чтобы
неожиданно не потерпеть поражения, а заслужить венки за
мужественную борьбу» (I, 37).
Умение Александра убеждать речью постоянно подчеркивается в романе: Александр «убедил граждан покориться и
отказаться от насилия» (I, 23). Здесь попутно отмечается и
миролюбие Александра. Александр то и дело обращается
с увещаниями то к Филиппу, призывая его осознать свои заблуждения, то к Олимпиаде, прося ее примириться с Филиппом (I, 22), то к своему войску, убеждая своей горячей речью
старых воинов следовать за ним в походе на варваров (I, 25).
Горячность и вспыльчивость Александра выражены в его
отдельных восклицаниях, сопровождающих различные действия и состояния.
В романе переплетаются монологи, диалоги, описания. Диалоги — характерная особенность первой части романа, состоящей из сказочных легенд и полуисторйческих преданий.
Обычно они коротки и просты по языку. Далее по ходу действия стиль романа несколько меняется; все большая роль
отводится рассказам о походах Александра, поэтому описания
битв приобретают здесь большее значение, чем диалоги. Рассказ об исторических событиях в некоторых местах отличается
сжатостью и сухостью, в других, напротив, он достаточно
красочен. Вот, например, описание одной из решающих битв
Александра с войсками Дария:
«Дарий и его двор, видя, что Александр ведет войско на
них, и думая одержать победу при помощи колесниц, снабженных серпами, поспешили занять фланговые позиции.
И с противоположной стороны онп поставили колесницы и
весь воинский строй. . . 4 8 он руководил фалангой, через нее
нельзя было проехать на конях, нельзя было и повернуть
обратно. Множество колесниц погибло, когда со всех сторон
осыпали стрелами возниц, другие жо колесницы рассеялись
по полю. Александр явился, когда их уже оставалось мало,
48
Текст
в
оригинале испорчен.
2 2 3 -
уравнял свое правое крыло с левым крылом персов — ведь
Александру довелось быть в этом строю — и7 сев на коня,
велел трубачам играть военный сигнал. Одновременно с сигналом трубачей подняли крик оба сошедшихся войска, и завязалась превеликая битва. Сражались изо всех сил, долгое
время упорно сопротивляясь на флангах; поражая друг друга
копьями, переходили с места на место; оспаривая друг
у друга победу, отходили то те, то другие. Александр и его
•воины оттеснили Дария и его окружающих и одолели персов
силою; в смятении они схватывались друг с другом в гуще
сражения, и многие пострадали от своих же соратников, многие и от противника. Ничего нельзя было разглядеть, кроме
коней, повергнутых на землю после гибели их седоков,
и в поднявшейся пыли уже нельзя было распознать ни персидского стрелка, ни македонского пехотинца или всадника.
Воздух стал мутным, земли не было видно под кровавой
грязью, и даже само солнце, скорбя о происходящем и не желая глядеть на столько мерзостей, затуманилось. Но вот произошел перелом в сражении, и персы обратились в бегство,
а вместе с ними и Аминта, сын Антиоха, который перебежал
к Дарию — раньше он был македонянином, он помогал ему
в делах управления страной.
Уже было под вечер. Дарий побоялся ехать на колеснице,
потому что его могли легко узнать издали. Ночью он добрался
до ущелья, оставил там колесницу и бежал верхом на коне.
Александр из честолюбия стремился захватить Дария и
преследовал его всюду, какой бы путь ему не указывали. Колесницу Дария, его вооружение, мать, жену и детей Александр захватил, преследуя его на протяжении шестидесяти
стадий. А самого Дария спасла ночь; имея к тому же на смену
еще одного свежего коня, он бежал» (I, 41) 49.
Батальная сцена, наглядная и живая, поданная в сжатом
и собранном стиле, не лишена между тем и некоторых эффектных риторических прикрас
(например, персонификации:
«солнце, скорбя о происходящем и не желая глядеть...»)
Замысел построения романа на историческом сюжете неизбежно обусловливал особенности повествования. Отсюда, например, неоднократно подчеркиваемая достоверность описаний. Впечатление правдивости рассказа создавалось благодаря широкому использованию различных документов эпохи,
засвидетельствованных историками: сообщение о военных
действиях и местах, где они происходили, указание маршрутов походов, приведение речей исторических персонажей. Таков, например, знаменитый диалог между Александром и
49
Перо», д. и
224
Егунова
(указ. соч., стр. 414).
Парменионом по поводу условий прекращения войны, предложенных Дарием (II, 17), подлинность которого признается
историками, так же как письмо Дария с просьбой вернуть ему
семью (II, 14) 50.
Зафиксирован историками факт болезни Александра, простудившегося в ледяной воде Кидна, а также то, что его
вылечил врач Филипп. Правда, в изложении обстоятельств
источники расходятся. В романе Парменион письменно предупреждает Александра опасаться Филиппа, якобы злоумышлявшего против него (II, 8).
Для придания рассказу эффекта историчности в текст романа широко вводятся письма, выполняющие в этом случае,
так же как и речи, функцию своеобразной исторической документации. Они, засвидетельствованные
историографами
Александра,
как бы подтверждают достоверность описываемого.
С тем же стремлением автора дать историческую картину
эпохи связано включение в число действующих лиц исторических персонажей: Дария, Олимпиады, Птолемея, Пармениона и др.
Разумеется, повторяем, все это лишь внешние, формальные
признаки исторического романа, воспроизведение лишь внешних примет описываемого времени. Ведь автор не пытался,
да и не смог бы проникнуть вглубь исторических событий и
оценить их.
«Роману об Александре» свойственна универсальная гибкость формы изложения, вбирающая в себя не только различные виды повествования (описания, письма, речи), но и
стихи.
Разговорная речь, присущая стилю романа, нередко чередуется с ритмизированной речью. Сжатая и простая речь, характерная для документальных частей романа и изложения
событий, прерывается порой стихотворными строками. Это,
большей частью, прорицания и оракулы (I, 30; I, 33; I, 47)
и небольшие цитаты из Гомера и Менандра (I, 33; II, 16;
III, 26). Изредка встречаются грамматические эффекты, например, в I, 32, где Сарапис называет Александру свое имя
в цифрах, или в I, 35 Александр видит сон, будто он раздавил
сыр
(торо?)—это предсказание разрушения города Тира
(Тирод).
Ритмизированная проза сменяет простой стиль в рассказе
об особо эмоциональных событиях, когда требуется передать
чувства скорби, благодарности, страдания, гнева и т. д. (так,
в сцене с умирающим Дарием использован холиямб — II, 20).
R0
См.: A]) p u n п, ТТ. 25, 2 п Д и о д о р , XVII, 39, 1—2; 54, 1—0.
15
Античный роман
225
Патетические моменты романа сопровождаются речами риторического характера. В уста героев влагаются сентенции,
увещания, риторические вопросы, восклицания и т. д.
Возможно, некоторые эпизоды испытали влияние второй софистики, такие как смерть Дария или эпизод разрушения
Фив, когда Исмений, фиванский певец, умоляет Александра
пощадить его город ради его славного прошлого. Призыв певца
выражен в волнующих холиямбах.
Таким образом, особенности художественной формы романа
целиком зависят от содержания тех сюжетных компонентов,
которые его составляют. Разнообразные по своему характеру
и самостоятельные легенды, письма, речи, описания, объединенные центральным персонажем, стали в романе отдельными
моментами и эпизодами жизни македонского царя. При этом
развитие действия в романе обусловливается причинной связью
этих моментов и эпизодов.
Правда, иной раз встречается несогласованность событий
и разрывы сюжетного хода, но в этом нарушении стройности композиции могли сыграть свою отрицательную роль
различные интерполяции и переделки, о которых шла речь
выше.
Все события в романе, как мы видели, сосредоточены вокруг Александра, который всячески возвеличивается, подвиги
его прославляются как имеющие общенародное значение.
Можно сказать, Александр не столько изображается в своем
конкретном облике, сколько прославляется. Отсюда и гиперболичность в обрисовке его.
Огромное значение имеют здесь традиционные изобразительные средства, присущие фольклорной литературе (весьма характерна обрисовка внешности Александра, наделение его
эпитетами: «разумный», «великодушный», «храбрый» и др.,
контрастное изображение героев).
Какими-либо особенными художественными достоинствами
«Роман об Александре» не отличается. Мало внимания в нем
уделено природе. Правда, детали конкретно-бытовой обстановки иногда выписаны довольно подробно (в описаниях дворцов, гробниц, обрядов, дардв и т. д.).
Значение его в том, что он, являясь типичным продуктом
разложения формы античной классической литературы, обусловленным начавшимся упадком античного общества, отражает в себе некоторые черты, характерные для позднегреческой прозаической литературы и представляет собой образец произведения массового потребления того времени.
Во всяком случае, «Роман об Александре» в качестве
своеобразного историко-повествовательного произведения, бесспорно, сыграл свою положительную роль в дальнейшем раз2 2 6 -
витии романа па историческую тему, наметив ему путь через
средневековый, далеко еще не совершенный, роман ко времени рождения его полноценной художественной формы
в XVII в.
Ведь создание позднейших разнообразных романов об
Александре Македонском шло через перевод и переделку
античной его версии, в соответствии с запросами времени.
В составе самого «Романа об Александре» есть ряд мест, носящих на себе следы переработок. Изменившиеся исторические условия, переход рассказа в другую социальную или
этическую среду, естественно, могли вызвать необходимость
переделки и обновления отдельных эпизодов.
Античный сюжет об Александре в форме, близкой роману, приспосабливался к характеру последующих обществ;
соответственно с этим менялись и содержание, и стиль
романа.
Традиция «Романа об Александре» получила, в отличие
от других греческих романов, значительное развитие в последующие времена, оказав определенное влияние на развитие литературного процесса. Это говорит о том, что в романе,
еще во многом незрелом и примитивном в формальном отношении, были заложены живительные и прогрессивные
тенденции.
Интерес к жизни Александра Македонского, возникший
в Александрии после его смерти и достигший кульминационного пункта в III в. п. э. при Александре G-евере, дал новый
толчок дальнейшим расширениям, обработкам и переделкам
старого позднеэллиттского романа Псевдо-Каллисфена. Кроме
перевода Юлия Валерия (TV в. и. э.), известна еще латинская
обработка романа архиепископа Леона Неаполитанского (X в.
н. э.) —так называемая «История о битвах Александра Македонского» и
«Александреида»
Вальтера де Кастильоне
(XII в. н. э.). Сказочная история об Александре на протяжении веков пользовалась большой известностью и успехом,
получив широкое распространение во множестве литературных
вариаций. Произведения о прославленном полководце слагались тт на Востоке и на Западе в серию романов — «александрий» и пользовались популярностью вплоть до XVIII в. Все
последующие версии основаны, главным образом, на греческой
версии Псевдо-Каллисфена. Переводчики романа добавляли
своему прототипу что-то специфически свое, соответствовавшее их индивидуальному пониманию идеи и образа, а также
своеобразию времени.
Для восточных народов тема об Александре Македонском
была пациопальиой и македонский герой не забыт там и до
настоящего времени. О нем существует цикл легендарных
15*
227.
сказаний. Роман распространился в персидской, арабской,
сирийской, армянской, эфиопской, коптской, малайской и других версиях.
Восточные поэты, пересказывая его по-своему, возвращали себе свое наследие, старый, идеальный образ, тип героявладыки, создавшийся на почве греческо-восточных отношений.
Таким образом, в этих средневековых романах и поэмах
Александр выступал в роли храброго и великодушного героя,
победить которого могла только смерть. Об Александре писали
такие крупные поэты средневекового Востока, как Фирдоуси
(«Шахнаме»), Низами («Искандер-наме»), А. Навои («Вал
Искандера») и др.
Персидская традиция, называя Александра Искандером,
представляла его героем своего национального эпоса. Фирдоуси приписывает тесное родство Александра с Дарием (будто
он был его братом) н, таким образом, победа Александра в его
сочинении нисколько не ущемляла национальной гордости
Персии.
Роман проник и на Запад, где был усвоен национальными
литературами Европы и также вызвал множество переводов и
подражаний как прозаических, так и стихотворных.
На средневековом Западе личность Александра увлекала
своим рыцарским характером. В средневековых «Александриях» Александр выступал в рыцарском обличье: совершал ряд удивительных подвигов: сражался со сказочными
существами, чудовищами, пытался взлететь в небо и опуститься на дно морское, побывал в диковинных землях и даже
в царстве мертвых. Это был герой сказочно-приключенческого
романа, но не исторический образ.
В XII в. возникли две французские метрические версии
Ламбера Турского и Александра Бернэ.
Французские версии легли в основу английских переработок
(King Alisander, XIV в. и «Роман об Александре» — переведен
в Шотландии в 1438 г.). Немецкими стихами изложили роматт
Л. Лампрехт (около ИЗО г.), Ульрих фон Эшенбах и Рудольф
Эмсский (XIII в.).
Уже в XVI в. было известно 90 обработок «Романа об Александре» на 24-х языках. Сейчас их насчитывается свыше ста
на 30-ти языках.
В древней России с XIII в. также были хорошо известны
сказания об Александре, называвшиеся «Александриями».
В 1861 г. Общество любителей древней письменности издало
факсимиле древней рукописи «Александрии» из библиотеки
И. И. Вяземского. Известны пять редакций русских «Алек2 2 8 -
сандрый», относящихся к XII—XIII вв.51 и русская редакция
сербской Александрии XV в.52
Переходя от народа к народу, сказание об Александре меняло свое лицо соответственно духу разных национальностей
и времен. Если для одних периодов Александр был образцом
властителя и завоевателя мира (в римской империи от Цезаря до Александра Севера), то для других (на Востоке) —
освободителем народов от ига поработителей и героем.
Что нового внес каждый народ в роман, как изменялась
концепция главного героя, каково влияние романа на последующую ново-европейскую литературу — вопрос сугубо специальныи и треоующии дальнейшего изучения 0<\
51
52
53
См.: В. И с т р и н . Александрия русских хронографов. М., 1893.
См.: «Александрия. Роман об Александре Македонском по русской
рукописи XV в.». М.—Л., 1965.
См. по этому поводу интересные примеры и наблюдения в кн.:
М. Е. Г р а б а р ь - П а с с е к. Античные сюжеты и формы в западно-европейской литературе. М., 1966, стр. 172—182; 213—228.
ФИЛОСОФСКИЙ РОМАН.
ФИЛОСТРАТ. «ЖИЗНЬ
АПОЛЛОНИЯ ТИАНСКОГО»
То литературное произведение, о котором будет идти речь
в данной статье, коренным образом отличается от всех «романов», подвергающихся разбору в прочих статьях настоящего
сборника: в нем нет ни страдающих влюбленных, ни разлученных, но хранящих верность друг другу молодых супругов,
ни похотливых рабовладельцев, ни пылких благородных пиратов и разбойников. Из других обязательных атрибутов романа в нем имеются только описания странствий по странам
далеким и малоизвестным, что дает возможность вводить
элементы фантастические. Основная же тема — повествование о жизни, продлившейся почти целый век, неопифагорейского философа Аполлония Тианского, странствующего мудреца и проповедника. Автором этого жизнеописания является
софист и ритор Филострат (см. ниже), приводящий немало
рассказов о сверхъестественных событиях и чудесах, а весь
тон изложения — иногда даже вразрез с намерениями автора,
пытающегося быть рационалистом, — ближе к восторженному
панегирику, чем к подлинным биографиям типа трудов Светония и Плутарха, так что причисление этого сочинения
к «романам» все же имеет некоторые основания, но, конечно,
с серьезными оговорками. Вернее, пожалуй, было бы характеризовать его как сочинение ареталогическое, как самое раннее
и почти единственное дошедшее до нас полностью языческое
«житие».
Хотя на протяжении почти двух тысяч лет, истекших
с того времени, которым принято датировать жизнь Аполлония (I в. тт. р.), несколько раз высказывались гипотезы, будто
Аполлоний — легендарная фигура, искусственно созданная
языческими софистами и риторами в противовес к все уси2 3 0 -
ливавшемуся во II и III в. н. э. христианству, эти гипотезы
подтверждения не получили. В настоящее время утвердилось
мнение, что Аполлоний — лицо реальное, по происхождению — малоазийский грек, верный последователь пифагорейства, философской школы, возникшей в Южной Италии,
в греческой колонии Таренте в V I I в. до н. э., почти угасшей
в эпоху эллинизма, но возродившейся уже в I в. до н. э.
И в самом Риме, и в его провинциях она стала пользоваться
успехом (так, ее приверженцем был Нигидий Фигул, ученый
римлянин, друг Цицерона), но от древнего пифагорейства ее
отличало основное направление интересов. Между тем как
сам полулегендарный основатель школы, Пифагор, и его ближайшие последователи уделяли много внимания и труда
чисто научным математическим исследованиям, неопифагорейское учение было в первую очередь религиозно-моральным
с значительными элементами восточного мистицизма. Наиболее видным представителем его и является странствующий
философ Аполлоний Тианский, заслуживший свою широкую
известность не каким-либо особым философским учением,
созданным или углубленным им лично, а своим образом
жизни, неуклонным и строгим выполнением всех заветов и
обычаев древнего учения Пифагора, своим бесстрашием при
тех преследованиях, которым подвергались философы в правление Нерона и Домициана, и, по-видимому, своим личным
обаянием. Его ученики и последователи, достаточно многочисленные, — особенно на его родине, в Малой Азии, — сохраняли память о нем и восхваляли его образ, постепенно становившийся все более идеальным и почти обожествленным.
Основные факты его биографии вкратце таковы: он родился
в начале I в. н. э. и происходил из состоятельной уважаемой
семьи города Тианы, лежащего в горной части Малой Азии,
в Каппадокии, у подножия хребта Тавра. Рано увлекшись
философией и аскетическим образом жизни, он провел свою
юность при храме Асклепия в городе Эги, прошел пятилетний искус молчания и всю свою дальнейшую жизнь до глубокой старости (по преданию он прожил более 90 лет и умер,
или таинственно исчез, уже в правление Нервы — между 98
и 100 г.) провел в странствиях. Наследство, оставшееся после
смерти родителей, он отдал своим братьям. В первую половину
жизни он посетил все восточные римские провинции и северную часть Индии, где беседовал с индийскими мудрецами
брахманами. По возвращении он побывал во всех крупных
городах Малой Азии, прошел со своими учениками всю материковую Грецию, отправился в Рим, где в это время правил
Нерон, и спасшись от грозивших ему преследований Тигеллина,
провел около года в Испании (Иберии). После смерти
2 3 1 -
Нерона он ненадолго вернулся в Грецию, оттуда переправился на Родос и в Египет, где встретился с Веспасианом,
уже готовившимся захватить власть. Поднявшись вверх
по Нилу, Аполлоний вел беседы с так называемыми гимнософистами, мудрецами — пустынножителями, и снова вернулся
на родину. В правление Домициана, преследовавшего и высылавшего из Рима философов, Аполлоний был вызван в Рим,
заключен в тюрьму и подвергнут суду, избегнув осуждения
(этот период его биографии наиболее изобилует чудесами).
Он уже глубоким старцем окончил свою жизнь в Греции или
в Эфесе, отказавшись поехать снова в Рим по приглашению
Нервы.
Итак, жизнь Аполлония, если отбросить в сторону все разукрашивающие ее фантастические вымыслы, а оставить
только ее фактическую канву, закончилась в последние годы
I в. н. э. Подробное же повествование о ней, данное Филостратом, датируется — и вполне надежно — началом III в. Поэтому прежде чем перейти в детальному анализу самого сочинения Филострата как произведения литературы художественной — как своеобразного «романа» — необходимо выяснить
вопрос, почему и зачем более чем через сто лет после смерти
Аполлония оказалось нужным и желательным выпустить
в свет его подробное жизнеописание, несомненно рассчитанное на широкие круги читателей благодаря своей беллетристической обработке и занимательности самого содержания.
Чтобы это объяснить, необходимо более внимательно ознакомиться с исторической обстановкой и идеологическими течениями конца II—начала III в. н. э.
Хотя правление Антонинов по существу и не было таким
«золотым веком», как это одно время было принято изображать, но все же относительное спокойствие в течение II в.
было установлено и во внешних, и во внутренних делах.
Однако уже при Коммоде, отнюдь не философски настроенном сыне императора-философа Марка Аврелия, власть начала расшатываться и после его смерти и кратких неурядиц
193 г. досталась крупному полководцу Септимию Северу,
римскому всаднику, но по происхождению африканцу, сумевшему на восемнадцать лет защитить и укрепить границы
государства. Между тем его вторая жена, Юлия Домна, дочь
Бассиана, жреца в храме Солнца в сирийском городе Эмесе,
прекрасно образованная, собрала вокруг себя блестящий круг
придворных, привлекая к нему писателей, риторов и философов. Уроженка Востока, она предпочитала представителей
греческой и восточной культуры, а пе исконных римлян старой зйкалки, — да таких оставалось уя*е и немного. И сама
императрица, и ее сестра Юлия Меса, были живо заинтсре2 3 2 -
сованы в философских и особенно в религиозных вопросах.
Относительно Юлии Месы даже сохранилось известие, что
она встречалась и диспутировала с Оригеиом, т. е. не избегала
и сношений с христианами. Государственный же римский
религиозный культ уже с I в. н. э. стал постепенно выливаться в чисто официальное формальное почитание императора как божества, и сами римляне придавали ему настолько
мало идейного значения, что упорство христиан, отказывавшихся бросить несколько зернышек на курильницы, стоявшие
перед статуями императоров, казалось им нелепым фанатизмом
В противовес этой внешне обязательной, но бездушной обрядности все шире распространялись и все глубже проникали
в толщу многоплеменного населения необъятной империи
мистические культы восточных и египетских богов — Кибелы
и Аттиса, Исиды, Сараписа, Зевса-Аммона и других чуждых
Риму божеств. Они постепенно сливались с греческими мистериями Деметры, Орфея и Диониса, имевшими — по новейшим
данным — тоже восточное происхождение, но более древними.
Мистерии, требовавшие особых обрядов при посвящении
в них («инициации») и обещавшие загробное блаженство,
привлекали тысячи тех, кто видел мало радостей в земной
жизни и пытался осмыслить ее и найти утешение в надежде
на жизнь иную. Чисто философский идеал счастья, даруемого мудростью, — идеал киников и стоиков — казался уже
малопривлекательным. Все большим успехом стали пользоваться и оракулы: вера в них, правда, 'была исконной и
в Греции, и в Риме, но почитание древнейших храмов стало отступать на задний план перед верой в многие новые святилища. Римские же обряды птицегадания, пророчеств при
жертвоприношениях тоже поддерживались скорее государственной властью, чем народной верой, что заметно даже в высказываниях Цицерона в его трактате «О гаданиях», т. е.
уже в I в. до н. э. Число почитаемых местных прорицалищ
росло, оспаривая первенство у древних оракулов Додоны и
Дельф. Стали славиться оракулы Трофония в Беотии, Асклепия в Арголиде, Аммона и Сараписа в Египте, а также многие храмы в Малой Азии.
Наряду с этими общепризнанными и в известной степени
государственными оракулами существовали сотни мелких святилищ, жертвенников, могил и пещер, где можно было вопросить то или иное божество о будущей судьбе. По городам и
селам бродило множество прорицателей и гадателей, снабжав1
См. письма Плиния Младшего, кн. X письмо 96 к Траяну.
2 3 3 -
ших своими предсказаниями всех, кто жаждал заглянуть
в будущее — в земной ли жизни или в загробном мире. Всю
эту обстановку, в которой смешивались подлинная наивная
вера, фанатизм, суеверие, легковерие, самовнушение и намеренное шарлатанство, изобразил в резком сатирическом
гоне Лукиан в «Перегрине Протее» и «Александре, или Лжепророке» (гл. 5). Апулей, обрисовав таинства Исиды в тоне
глубокого преклонения и почтения, не уклонился однако и
от некоторых насмешек над ее служителями, а бродячих
«жрецов», возивших с собой кумир «Сирийской богини», заклеймил не только как обманщиков, но и как развратников
и воров 2 . Этот процесс смешения, перекрещивания и слияния самых разнообразных культов, тайных учений и верований, обозначаемый в науке термином «религиозный синкретизм», все усиливался в течение I и II в. н. э. А рядом
с ним, неуклонно преодолевая сопротивление и гонения,
росло влияние сперва почти незаметных и вынужденных
скрываться христианских общин. Еще не узаконенные и
имевшие успех только в низших слоях населения, они к началу III в. уже могли стать серьезными противниками и
угрозой для беспорядочной неорганизованной языческой религиозной стихии. Именно в это время и возникла та первая
попытка каким-либо образом упорядочить этот хаос, создать
единое синкретическое религиозное направление и дать ему философское обоснование. Это явление получило в исторической
науке название «языческой реакции». Организованная впервые в краткое правление Северов, эта реакция явилась как бы
предшественницей последней схватки язычества с уже утвердившимся в IV в. христианством при императоре Юлиане.
Инициатором, поборницей и покровительницей этой первой
попытки и стала императрица Юлия Домна, а философским
учением, положенным в основу ее, стало пифагорейство
в его новой форме — пифагорейство, возродившее не столько
паучные математические и физические исследования древних
пифагорейцев, сколько культовые и бытовые черты их общин, легенда о которых сохранялась уже более семисот лег.
Только это философское направление могло в какой-то степени быть использовано для обоснования религиозного синкретизма. Рационалистические подлинно эллинские системы —
стоицизм и кинизм — не отвечали мистическим стремлениям
этой эпохи, а самое мощное религиозно-философское учение
III и IV вв. — неоплатонизм — еще не родилось.
2
См.: А п у л е й . Метаморфозы, VIII,
«Лукий, пли Осел», гл. 35—41.
2 3 4 -
24—30
п
анонимную
повесть
Ёыла ли попытка Юлии Домны слить разнородные языческие верования в острую форму неопифагорейства вызвана
только желанием объединить и упорядочить их или она была
направлена в основном против христианства, растущую
силу которого она могла предвидеть хотя бы из деятельности
Оригена, — по этому вопросу мнения ученых резко расходятся.
Но так или иначе, сведения о жизни и деяниях Аполлония
Тианского показались ей подходящим материалом для создания поучительного жизнеописания и идеального образа боговдохновенного языческого мудреца, поэтому и была по ее
личному желанию написана ее придворным ритором Филостратом «Жизнь Аполлония Тианского».
В литературе I —IV вв. и. э. род Филостратов занимает
своеобразное положение некоей «династии» писателей и
риторов: род этот происходил с исконно греческого острова
Лемноса, но его представители принадлежали к широкому
слою романизованных греков, о чем свидетельствуют даже их
полугреческие, полуримские имена. Первый из них, Филострат Вер, учитель риторики, жил в Риме при Нероне. Один
из его отпрысков (вероятно, внук) — Флавий Филострат II,
наиболее плодовитый писатель, и является автором «Жизни
Аполлония Тианского» и «Биографий софистов» (в 2-х книгах). Ему же приписывается, хотя и не достоверно, «Диалог о героях». Он родился в 270 г., учился и долго жил
в Афинах, — отчего некоторые позднейшие авторы называют
его «Афинским» — но впоследствии был'включен в кружок
приближенных императрицы Юлии Домны и переселился
в Рим, где ему и было дано поручение написать исчерпывающий труд об Аполлонии. Он посвятил ему много лет и закончил его, вероятно, уже после трагической смерти императрицы: в 217 г. Юлия Домна уморила себя голодом после
убийства ее сына Каракаллы Макрином, отправившим ее
в изгнание. В труде Филострата нет ни посвящения его императрице, ни вводного письма к ней, он только сообщает
о данном ею поручении. Возможно, этим же объясняется и
несколько особый характер VII и VIII книг его сочинения
(об этом см. ниже). Филострат дожил до половины III в.
(умер в 249 г. в правление Филиппа Аравитянина). Честь
литературной династии поддержали впоследствии его племянник и зять, Филострат III, автор известных «Описаний
картин» (первая книга), и его правнук Филострат IV, живший уже в IV в. и добавивший к труду своего деда вторую
книгу «Картин». Авторство сборника фиктивных, преимущественно любовных, писем приписывалось то Филострату II, то
Филострату III и остается неясным.
2 3 5 -
О поручении, полученном Фплоетратом II от императрицы,
об источниках и задачах своей работы он говорит сам в первых трех главах 1-й книги.
«Я собирал сведения о нем (об Аполлонии) частью в тех
городах, где его любили, частью в храмах, в которых по его
указаниям были вновь введены уже позабытые обряды, частью из рассказов о нем разных людей, частью из его собственных писем — а писал он их и царям, и ученым, и философам, элеянам и дельфийцам, индийцам, египтянам. Он писал о богах, об обычаях, о нравах, о законах; и тех, кто погрешал против них, он порицал. Более же точные сведения
я получил вот каким образом.
Был некий Дамид, человек, не лишенный образования, житель древнего города Ниневии. Он научился философии
у Аполлония и описал его странствия, участником которых,
по его словам, был и он сам, а также записал и его изречения, его беседы и все то, что он предсказывал. Запись этих
воспоминаний, доселе никому не известных, кто-то из родичей Дамида передал императрице Юлии. Так как я принадлежал к ее кругу — ведь она любила все науки об искусстве
слова и была их покровительницей, — она повелела мне обработать эти записи и позаботиться о том, чтобы они стали
изящнее, ибо у Ниневитянина изложение было ясным, но
неуклюжим. Я нашел также книгу Максима Эгийского,
собравшего все, что было известно о деяниях Аполлония
в Эгах.
Имеется и завещание самого Аполлония, из которого можно
видеть, сколь боговдохновенна была его философия. О Мойрагене, составившем о жизни Аполлония четыре книги, говорить не стоит — он многого не знал об этом человеке.
О том, как я собирал все эти разрозненные сведения и как я
старался согласовать их между собой, я уже сказал. Пусть
же мой труд принесет тому, о ком он написан, славу, а тем,
кто ищет знаний, — пользу, ибо они научатся тому, чего ранее не знали» (I, 2—3) 3 .
О достоверности этих сведений об «источниках» сочинения
Филострата исследователями не раз высказывались сомнения,
и даже сообщения о существовании их некоторые склонны
были приписывать только желанию Филострата придать
своему произведению характер научного, вернее, наукообразного труда. Однако все сочинение Филострата настолько явно
написано одной рукой, рукой искусного представителя второй
софистики, что точное выделение каких-либо источников
в нем невозможно и вопрос об их действительном или вы3
Перевод отрывков сделан автором статьи.
2 3 6 -
мышлением существовании для нас уже не имеет реального
значения. Нам приходится считаться только с трудом Филострата. Но нет, конечно, ничего невероятного в том, что
о человеке, который произвел большое впечатление на современников, действительно сохранились записанные кем-то
воспоминания. Едва ли можно расценивать указания Филострата на его источники как те фантастические «введения»
в романы «Чудеса по ту сторону Фулы» и «Подвиги Александра» Псевдо-Каллисфена с их рассказами о табличках,
найденных после землетрясения, и с тому подобными вымыслами.
Насколько же удалось Филострату выполнить свои две задачи: первую, поставленную перед ним Юлией Домной, —
обработать стилистически имевшиеся в его распоряжении
источники (если они действительно были налицо) и вторую,
которую наметил он сам, — согласовать между собой полученные из них фактические или легендарные данные из жизни
Аполлония? Первую задачу образованный и искусный ритор
выполнил успешно: он написал восемь объемистых книг
(каждая в среднем имеет не менее 40 глав; короче других
книга VIII — 31 глава, зато III и IV имеют 58 и 67 глав) языком изящным, хотя и не очень легким, умело чередуя описания городов и стран, рассказы о встречах Аполлония
с царями, вельможами и мудрецами, поучительные беседы
с учениками, религиозно-философские рассуждения, тесно
переплетая их со сказочными мотивами, чудесами и суевериями. Так что его произведение можно назвать если не
увлекательным (да и к какому из античных «романов» можно
с нашей точки зрения приложить этот эпитет?), то во всяком
случае занимательным и охватывающим огромный разнообразный материал.
Фактические сведения о жизни Аполлония распределены по
восьми книгам в следующем порядке.
I книга: рождение и юность Аполлония; изучение философии и пребывание в храме Асклепия в Эгах. Пятилетний
обет молчания. Путешествие в Ассирию и Вавилон.
II книга. Путешествие в Индию, встреча с царем Фраатом.
III книга. Аполлоний в Индии. Посещение брахманов и
беседы с ними. Возвращение в Малую Азию через Вавилон
и Ниневию.
IV книга. Аполлоний в Ионии и в Греции (в Трое, в Фессалии, в Фермопилах, в Коринфе, в Олимпии, в Спарте, на
Крите). Первое пребывание в Риме при Нероне, беседы
с консулом Телезином и с Тигеллином.
V книга. Путешествие в Испанию (Иберию). Смерть Нерона. Возвращение Аполлония в Грецию и поездка на Родос
2 3 7 -
и в Египет. Встреча и беседа с Весиасиаыом, Дионом Хрисостомом и стоиком Евфратом.
VI книга. Аполлоний в Эфиопии. Встречи и беседы с гимнософистами. Поездка к порогам Нила. Возвращение в Малую Азию.
VII книга. Вызов в Рим к Домициану. Аполлоний в тюрьме.
VIII книга. Суд над Аполлонием, подготовленная им апология, исчезновение из залы суда. Возвращение в Грецию,
посещение оракулов. Смерть Домициана, переписка Аполлония с Нервой. Легенды о смерти и о посмертных явлениях
Аполлония.
Что касается второй задачи — согласования между собой
всех собранных им, «разрозненных», по словам Филострата,
сведений, то ее ему решить не удалось. И прежде всего эта
внутренняя несогласованность, раздробленность обработанного Филостратом материала, отразилась на обрисовке самого
центрального образа его сочинения — на образе Аполлония.
Поэтому при внимательном чтении «Жизни Аполлония Тианского» невольно возникает вопрос: кем же считает сам Филострат того, кого он хочет прославить — философом, учителем нравственности и благочестия, провидцем, чудотворцем
или тайным политическим деятелем? Все эти черты имеются
в изображении Аполлония у Филострата, причем они не
сливаются в единый образ, а как бы перемежаются и переплетаются друг с другом.
Однако нельзя обвинять Филострата в том, что он не сумел создать целостный образ того, кого он хотел прославить.
К его времени это образ был уже окутан густым туманом
легенд, иногда противоречивших друг другу. Уже ходило
много рассказов о чудесных сновидениях, в которых Аполлоний являлся то тому, то другому лицу и давал советы и
указания. Его изображения ставились в молельнях, и Филострату было бы невозможно описать жизнь Аполлония таким
же сухим и деловым тоном, каким он написал «Жизнеописания
софистов». Ни задача, поставленная перед ним Юлией Домной,
ни материал, собранный им, не допускали такой чисто фактической трактовки этого образа. Привлечь и увлечь умы и
сердца своих современников Филострат мог только в том случае, если бы обрисованный им человек произвел впечатление
не только учителя, преподающего нравственные правила,
а мудреца и аскета, вдохновляемого свыше и вступающего
в общение с сверхъестественными таинственными силами
мироздания и поэтому в какой-то степени чудотворца.
Чтобы понять, в каких противоречивых суждениях об Аполлонии неминуемо должен был запутаться Филострат, надо
в общих чертах представить себе, в каких формах в эту эпоху
2 3 8 -
позднего, уже угасающего язычества мыслилась возможность
вмешательства сверхъестественных сил в земную жизнь рядового человека, каким именно силам оно могло приписываться,
каким образом можно было вступить с ними в соприкосновение и как оценивались те люди, которые якобы обладали этим
искусством и могли использовать его так или иначе.
Цель, ради которой считалось желательным вступать
в сношения с какими-либо сверхъестественными силами, была
в основном одна — получить предсказания о будущем. Но и
лица, через которых можно было получить эти предсказания,
и те «силы», которые их «давали», в представлении людей,
жаждавших узнать будущее и услышать ясное указание
свыше, как бы распадались на несколько категорий разного
достоинства. Одни провидцы и прорицатели пользовались
уважением и доверием. Они владели особой наукой, «мантикой», и назывались по-гречески «мантис», по латыни «vates».
Они имели доступ к высшим богам, их прорицания считались
достоверными, а сами они — людьми боговдохновенными,
любимцами богов, отчасти даже обладающими божественной
силой.
Другим понятием, пришедшим в Грецию и Рим с Востока,
было понятие «мага» и «магии». Уже с I—II вв. н. э. оно
в большинстве случаев носило оттенок отрицательный, а обвинение в пользовании «магическими» обрядами могло повлечь за собой суровую кару. Наиболее ярким свидетельством
этого является «Апология» Апулея. Он был вызван в суд по
обвинению в том, что он применил чары, чтобы жениться на
богатой вдове.
«Маг» не просто предсказывал будущее,
а якобы обладал особой силой, чтобы на него повлиять. Он и
обращался уже не к высшим богам, а к неким промежуточным существам, демонам или духам. Маг не подчинялся этим
духам, как «мантис» — богам, а мог, напротив, подчинить их
себе и использовать их силу и на добро, и на зло, причем
чаще именно на зло, во вред другим людям. И, наконец, термином, распространившимся в Греции уже во времена римского владычества и по всей вероятности вошедшим в употребление в связи с множеством восточных культов и обрядов,
часто экстатических тт оргиастических, был термин «гоэт». Он
происходил от глагола «гоэо»,— «громко кричать, вопить».
Сперва этим глаголом обозначался обычай «вопить» при погребении или сожжении умерших. Само это слово не означало ничего предосудительного, а профессия «плакальщиц»
или «вопленниц» считалась необходимой и отнюдь не заслуживавшей презрения. Но в ту эпоху, о которой идет речь,
под именем «гоэта» стали понимать уже нечто иное — колдуна или чародея, связанного только со злыми сверхъестест239-
венными существами и имеющего силу своими воплями и заклинаниями вызывать их н через них вредить людям. Обвинить кого-нибудь в том, что он «гоэт», было для него и
опасно, и крайне оскорбительно, поскольку именно к этой
группе причислялись обманщики и шарлатаны, выманивавшие деньги у легковерных бедняков и невежд за предсказания богатства и счастья.
Лишь немногие подлинно образованные люди решались
объяснять
возможность
предвидеть
некоторые
явления
природы знанием ее законов, а уменье разбираться в людях,
определять их характеры и предвидеть ход событий — житейским опытом и живым интересом к человеку и его поступкам.
Филострат, приступая к своей работе, как будто поставил
перед собой именно такую цель — доказать, что Аполлоний
был просто очень умным и наблюдательным человеком,
видевшим, как говорят, людей «насквозь». Многому он научился в молодости при храме Асклепия. Эти храмы были,
несомненно, хранилищами медицинских познаний. Он не был
несведущ и в объяснении явлений природы. Поэтому Филострат уже во вводных главах своего труда хочет защитить его
от сопоставления с «магами»: «Аполлоний жил не так уж
давно, хотя и не в наше время. Тем не менее люди не знают
о его истинной мудрости, которой он достиг здравым философским размышлением. Они хвалят его то за одно, то за другое, а некоторые, услышав, что он посещал вавилонских магов,
индийских брахманов и египетских гимнософистов (нагих
пустынников), считают его магом и возводят на него клевету,
будто он добился мудрости путем чародейства (буквально
«насильственным путем» — Biatcoc), но они делают это по
неразумию» (I, 2). Далее Филострат сравнивает Аполлония
с Эмпедоклом, Пифагором и Демокритом и напоминает, что
эти мудрецы, да и Платон, тоже ездилп в Египет и Персию,
встречались с магами, но никто из них не был обвинен в колдовстве. Об Анаксагоре, предсказавшем дождь, затмение
солнца и извержение вулкана, все говорили, что он предвидел это «благодаря своей мудрости», Аполлония же за такие
предсказания обвиняют в пользовании «магическим искусством» (там же).
На протяжении своего сочинения Филострат не раз возвращается к основному вопросу: каким способом Аполлонию удавалось видеть то, чего не видят другие, и не раз предсказывать
то, что потом действительно случалось. Иногда ему удается
найти рациональное объяснение «чуда». Так, воскрешение
в Риме умершей молодой девушки, которую уже несут на
костер, Филострат объясняет тем, что смерть ее была мнимой
(мнимая смерть — частый мотив античных романов), и она
2 4 0 -
была возвращена к жизни холодным ливнем, хлынувшим во
время погребальной процессии. Аполлоний же только заметил,
что капли дождя, попадая на лицо девушки, испаряются, т. е.
что она еще не окоченела и дышит (IV, 45). Филострат и
далее пытается провести четкую границу между прозорливостью и магией, но на абсолютно рациональном объяснении
дара предвидения (как в примере с Анаксагором) удержаться
не может и вынужден признать, что прозорливость Аполлония — дар богов. Наиболее подробно он излагает свой
взгляд на вещи в связи с политическими событиями —
смертью Виндекса и бегством Нерона — и уклончивым ответом Аполлония на вопросы его учеников, кому же теперь достанется власть. «Многим фиванцам», — говорит Аполлоний, и
Филострат поясняет, что именно он хотел этим сказать: «Он
сравнил кратковременное правление Вителлия, Гальбы и
Отона с властью фиванцев, тоже недолго господствовавших
в Греции» (V, И ) .
Несмотря на то, что такой ответ не заключает в себе никакого определенного предсказания, а просто сравнивает
неустойчивое политическое положение в Греции (V—IV вв.
до н. э.) с ожидающейся сменой властителей в Риме, Филострат считает нужным именно здесь точно установить различие между мудрой прозорливостью и магией: «Что все это
Аполлоний предвидел по божественному вдохновению и что
только по неразумию некоторые люди считают его гоэтом,
ясно уже из всего вышесказанного. Но обратим внимание
еще на следующее: гоэты, которых я считаю презреннейшими
людьми, похваляются, будто они могут изменить судьбу совершением разных обрядов над изображениями людей, варварскими жертвоприношениями, заклинаниями и применением волшебных мазей. Ведь многие из них, вызванные
в суд, сами в этом сознавались. Аполлоний же предвидел
лишь то, что было предначертано Мойрами, и предсказывал
то, что должно было произойти; а предвидел он все это не
с помощью заклинаний, и по откровению богов» (V, 12).
Возвращаясь несколько раз к этому вопросу, Филострат
упоминает и о том, как сам Аполлоний относился к магии и
мантике и кем он сам признавал себя. Полное равнодушие
Аполлония к чародейству и магическим обрядам он доказывает тем, что, увидев в Индии некоторые явления, необъяснимые, но не имеющие морального или философского значения
(например, самодвижущиеся треножники — III, 27), Аполлоний ничуть ими не заинтересовался и не стал расспрашивать
брахманов о причинах этих явлений. Там происходило и много
чудесных исцелений, но больных исцеляли брахманы, а не
Аполлоний (III, 38—40).
16
Античный роман
241
Глубокого интереса Аполлония к умепию предрекать будущее
Филострат отрицать не может, напротив, он указывает, что
Аполлоний сам нацравлял беседу именно на этот вопрос
(III, 42) и спрашивал главного брахмана Иарха о его мнении.
Иарх высоко оценивает этот дар. «Люди, любящие маитику, — говорит он, — при ее помощи становятся божественными (уподобляются божеству) и содействуют спасению других людей. Я считаю. . . их блаженными и обладающими той же
силой, как Аполлон дельфийский... А человек, обладающий
этим даром, должен хранить себя в чистоте, быть в душе
незапятнанным и не носить следов прегрешений в своем уме...
у него в груди как бы имеется свой треножник, и он будет
изрекать предсказания более ясные и правдивые...» Аполлоний, по признанию Иарха, может быть прорицателем, ибо
«его душа преисполнена эфира» (там же). Мантика, говорит Иарх, «оказывает людям много благодеяний, но самый
великий дар ее — искусство врачевания» (III, 44).
И далее — несколько неожиданно — искусство предвидения
иллюстрируется конкретными примерами медицинского прогноза и фармации: «Асклепий. . . составил и передал своим
сыновьям средства против различных болезней, указал ученикам, какие травы надо класть на влажные раны, какие на
твердые рубцы . . . какими лекарствами прекращают водянку,
останавливают кровь, лечат чахотку и другие болезни этого
рода. А противоядия, а употребление самих ядов при некоторых болезнях? Кто станет отрицать, что это заслуга мантики?
Ибо, если бы люди не предвидели будущего, они никогда не
решились бы примешивать смертоносные яды к целебным
средствам» (III, 44).
Ясно, что Филострат пытается даже здесь удержаться на почве до некоторой степени рационального истолкования мантики.
Однако в других беседах о «вещах неизреченных» шла речь
«об изучении звезд, о мантике, о предвидении, о жертвах и
молениях, угодных богам» (III, 41). Обо всем этом Аполлоний беседовал с Иархом наедине и якобы написал впоследствии «четыре книги об искусстве прорицания по звездам,
а также о том, какие жертвоприношепия подобают и угодны
тому или иному божеству». О первом сочинении упоминает
Мойраген. Ему Филострат не очень верит и прибавляет свое
собственное скептическое замечание: «Я полагаю, что вся такая наука о звездах и о предсказаниях по ним выходит за
пределы человеческой природы, и я не знаю, владел ли ей
кто-нибудь; но книгу о жертвоприношениях я сам видал во
многих храмах, городах и в домах людей ученых, и кто
мог бы отрицать, что она написана серьезно и в его пзящпой
манере?» (там же).
2 4 2 -
По возращении из Индии Аполлоний, по словам Филострата, все же не хотел, чтобы его считали прорицателем будущего: очень интересна сцена допроса его Тигеллином, в которую, однако, сам Филострат уже вводит некоторый элемент
чудесного. На Аполлония подал донос Тигеллину один из самых страшных его доносчиков, и Аполлоний был вызван
к нему. Когда Тигеллин развернул свиток с доносом, перед
ним оказался чистый лист, что его уже насторожило. Он решил допросить Аполлония наедине и спросил его, кто он.
«Аполлоний назвал своего отца, свой родной город и сказал,
для какой цели он ищет мудрости — чтобы познавать богов
и понимать людей. . . «А как ты берешь верх над демонами и
призраками?» — спросил Тигеллин. «Так же, как над злодеями
и нечестивцами» (IV, 44). Он сказал это, прибавляет Филострат, «издеваясь над Тигеллином: ведь именно Тигеллин был наставником Нерона в жестокости и разврате». На просьбу же
Тигеллина предсказать ему судьбу Аполлоний отвечает: «Как
я могу сделать это? Я ведь пе провидец» (мантис). На дальнейшие вопросы Тигеллина он тоже отвечает иронически:
«Почему ты не боишься Нерона?» — «Потому, что бог дал Нерону возможность быть страшным, а мне бесстрашным».
«Какого ты мнения о Нероне?» «Лучшего, чем вы, — ответил
Аполлоний, — вы полагаете, что он должен петь, а я, что
ему лучше молчать» (там же).
Правда, на требование Тигеллина представить залог и поручительство Аполлоний отвечает двусмысленной фразой: «Как
можно требовать залога от того, кого нельзя'заковать в цепи?»
Но такую фразу мог в переносном смысле сказать любой мудрец. Тигеллин понял ее по-своему, испугался и отпустил
Аполлония.
В более затруднительном положении оказывается Филострат,
когда речь идет о чудесах, якобы совершенных самим Аполлонием, и о приписывавшемся ему уменье видеть события, совершающиеся в данное время где-нибудь далеко (так называемом
даре «второго зрения»).
В малоазийских городах и в самой Греции сохранилось
такое великое множество рассказов о чудесных деяниях Аполлония, что обойти их Филострат не мог. Таков рассказ о том,
как Аполлоний предсказал чуму в Эфесе, а когда болезнь уже
разразилась, он нашел ее виновника, злого «демона», скрывавшегося в городе под видом старого нищего. Аполлоний велит
побить его камнями, вызвав этим удивление всех, кто знает
его человеколюбие. Когда же разгребают кучу камней, под ней
находят огромную мертвую черную собаку (IV, 4 и 10).
В Афинах Аполлоний исцеляет безумного и изгоняет из него
демона, который, выйдя из одержимого юноши, опрокидывает
16*
243
статую. Аполлоний прогоняет чудовищных «эмпуз», принимающих образ женщин (II, 4; IV, 25). Он по собственному
желанию может освобождаться от оков (VII, 38), внезапно
исчезает из зала суда (VIII, 5), проделывает за несколько
часов путь от Рима до гавани Дикеархии, который требует
около двух суток (VIII, 11—14). Он вызывает тень Ахилла и
ведет с ней беседу (IV, И —12), во время свидания с Веспасианом «видит», как горит Капитолий, и, наконец, уже находясь
в Греции после оправдания в суде, в момент убийства Домициана, прерывает свою речь и восклицает: «Убей тирана,
убей» (VIII, 36).
Итак, на протяжении своего повествования Филострат постепенно подпадает под власть собранного им материала и, поставив сперва перед собой задачу описать жизнь мудреца,
невольно переходит к описанию жизни чудотворца, продолжая,
однако, при каждом удобном случае опровергать все обвинения Аполлония в пользовании приемами магии.
Даже и в том случае, если бы Филострат решил не посчитаться с уже укрепившимся мнением об Аполлонии как о человеке, обладающем сверхъестественной силой, ему все равно
не удалось бы удержаться на чисто рациональной точке зрения, поскольку Аполлоний был последовательным и убежденным пифагорейцем, а само древнее учение Пифагора, которое
он пытался возродить, заключало в себе так много иррациональных тезисов, не допускавших притом ни обсуждения, ни
критики, что требовать как от самого Аполлония, так и от его
биографа учения, основанного на рациональных предпосылках, невозможно.
Неопифагорейство наследовало из древнего пифагорейства
не столько научное и философское учение — оно совершенно
чуждо математическим проблемам, — сколько религиозные обряды и быт. Философия его во многом элементарна. Представления о мироздании и о природе человека сближаются с космологией и антропологией стоиков, мысли о «частях души»
(«ум», «чувство» и «разум») — с учениями академиков и перипатетиков. Из подлинного же древнего пифагорейства неопифагорейцы сохранили самые иррациональные его моменты:
теорию переселения душ и веру в существование «духов» или
«демонов», которые являются как бы посредниками между богами (или единым высшим божеством, далеким от мира материального) и людьми. Эти демоны — души героев и души
людей, еще не вселившиеся в свое новое обиталище — в тело
какого-нибудь человека.
Впрочем, более подробно в «демонологию» неопифагорейцы
не вникали, этим занялись уже в конце III в. и в IV в.
неоплатоники. Но вера в возможность общения с этими суще2 4 4 -
ствами и особенно в переселение душ держалась прочно, причем человек, в котором жила душа кого-то, умершего уже
давно, якобы помнил об этой своей предыдущей жизни и мог
о ней рассказать.
Верил ли сам Филострат в эту важную для пифагорейцев
доктрину, сказать, конечно, невозможно, но он несколько раз
упоминает о ней как об одном из основных моментов верований Аполлония, строго следовавшего в этом отношении основателю школы Пифагору. Более того, он начинает свое
сочинение именно с этого положения: «Те, кто восхваляет
Пифагора, рассказывают о нем, что . . . он некогда в Трое был
Евфорбом и после смерти вернулся к жизни, — а умер он так,
как рассказал в своих песнях Гомер...» (I, 1). Предание
о переселении души троянца Евфорба, убитого Менелаем
(«Илиада», XVII, 43—60), в Пифагора Филострат мог найти
уже у своих предшественников: у наиболее близкого к нему
Диогена Лаэртского, а более подробно — если он пользовался
и латинскими источниками — у Горация («Оды», 1, 28 ст.),
Овидия («Метаморфозы», XV, 155—164) и Сенеки (письма
к Луцилию, 108).
В беседах Аполлония с брахманами эта тема разработана
более тщательно. Глава брахманов Иарх называет себя перевоплотившимся сыном индийского бога реки Ганга (III, 21),
а одного сильного и красивого юношу лет двадцати — перевоплощением героя троянской войны Паламеда (III, 22).
Потом Иарх спрашивает Аполлония, знает ли он, кем был он
в предыдущей жизни. Оказывается, что и сам Аполлоний и
Иарх знают, что он был рулевым на египетском торговом
корабле. Аполлоний считает свою предыдущую жизнь ничтожной и не заслуживающей даже упоминания — он совершил
в ней только один хороший поступок. Иарх опровергает его,
говоря, что быть искусным рулевым и спасать корабль от гибели в опасных местах — дело почтенное, но спрашивает,
какой же свой поступок высоко оценивает сам Аполлоний.
Иарх выслушивает его рассказ о том, как он спас свой корабль
от пиратов, обещавших ему огромную награду, если он поможет им ограбить судно, задержав его подольше в опасном
месте. Но Аполлоний обманул их, не польстившись на подкуп,
и отчалил раньше условленного времени (III, 23—24). Иарх
оценивает этот поступок не так высоко, как Аполлоний, и
использует его как материал для морализирующего рассуждения: добродетель состоит не в отказе от дурных поступков,
а в совершении добрых дел, т. е. она — свойство позитивное,
а не негативное.
Наконец, последнее упоминание о переселении душ носит
чисто сказочный характер. В Египте Аполлоний увидел руч245-
ного льва, К о т о р ы й ходил За оДним ниЩим, как собака, не ел
сырого мяса, но пил вино не пьянея. Этот лев стал ластиться
к Аполлонию, выпрашивая у него, как все думали, подачку.
Но Аполлоний сказал: «Лев просит меня, чтобы я сообщил
вам, чья душа живет в нем. Это — царь египетский Амасис...».
Когда лев услышал эти слова, он жалобно завизжал, опустился на колени и зарыдал, проливая настоящие слезы.
Аполлоний приласкал его и сказал: «Я думаю, этого льва
надо послать в Леонтополь и поместить там в храме. Ведь
не подобает царю, воплотившемуся в царственного зверя, бродить, как нищему». И жрецы, собравшись, принесли жертву
Амасису и, украсив зверя ожерельем и лентами, под звуки
флейт и песен увели его в глубь Египта (V, 43).
Вера в переселение душ не была общепризнанной в греческих религиозных культах, и уже на этой почве Аполлоний
мог войти в некоторые столкновения с более распространенными доктринами. Однако основной характеристикой Аполлония, на которой неоднократно настаивает Филострат, является то, что он — философ. Именно таковым признает его
даже христианский писатель Евсевий, от которого дошло
до нас его полемическое сочинение против Гиерокла (чье
сочинение не дошло), противопоставлявшего Аполлония
Христу. Правда, это сравнение и Гиерокл и Евсевий.проводили
по убедительной только для своего времени линии — по линии
совершения чудес. Но Евсевий, отрицая особую ценность чудес, приписываемых Аполлонию, пишет, что никто не отрицает репутации его как известного философа и учителя
нравственности. Поэтому интересно взглянуть, какое же философское учение Филострат находит у Аполлония и каким
образом он его излагает для просвещения читателей. И именно
эта сторона обнаруживает слабость то ли биографа, то ли самого Аполлония. Никакой философской системы, которую
Аполлоний излагал бы своим ученикам и последователям,
в «Жизни Аполлония» мы не находим.
Сам Аполлоний нигде не излагает своего учения в более или
менее систематическом порядке, хотя ему несколько раз предоставляется эта возможность. Наиболее удобным поводом для
этого является его путешествие к гимнософистам в Египте.
Эти «нагие мудрецы» встречают его не слишком приветливо
ввиду того, что до его приезда у них побывал враждебный ему
стоический философ Евфрат (о нем см. ниже), который
изобразил им Аполлония как мага и чудотворца, поклонника
индийских брахманов, притом уважающего их не за их
учение — о нем не говорится ни слова, — а за то, что они
якобы умеют подниматься в воздух и вдыхать душу в треножники и статуи. Гимнософисты утверждают, что они тоже
2 4 6 -
владеют всеми этими фокусами, но презирают их. Руководитель их Феспесион произносит длинную речь на эту тему
(VI, 10) и упрекает Аполлония, ссылаясь на известную
басню Продика о Геракле на распутье, в том, что он избрал
своей руководительницей не доблесть, а распущенность
(арет-rj, xaxta). Аполлоний в ответ произносит еще более длинную речь (VI, 11—12), утверждая, что перед ним уже
в юности стоял выбор только между различными философскими учениями, поскольку к дурному пути у него никогда
склонности не было.
Из всех же философских систем он избрал «тот несказанный
образ мудрости», которым некогда был побежден Пифагор.
Пифагорейское учение Аполлоний рисует как строгую суровую наставницу, не допускающую никаких уступок, а первоисточником мудрости Пифагора было учение индийских мудрецов, к которым Аполлоний и решил обратиться. И Пифагору, и брахманам он посвящает вдохновенный панегирик, но
об учении их в точном смысле слова не говорит ничего, ссылаясь лишь на то, что «учение Пифагора позволяет «говорить
загадками» (VI, 11). Так же характеризует в начале своего
сочинения школу Пифагора Филострат: «Все, что говорил
Пифагор, его ученики считали законом, а его самого чтили
как посланца самого Зевса. О делах божественных они должны
были хранить молчание, ибо они слышали много о божественных и неизреченных тайнах, которыми они не могли бы владеть, если бы ранее не узнали, что само молчание есть
речь» (I, 1).
Однако именно этот момент пифагорейства — и древнего, и в особенности возродившегося в неопифагорействе — обусловливает его неясность. Возможно, правда, что
некоторую долю этой неясности можно отнести за счет Филострата, не слишком глубоко вникающего в философию.
Тем более охотно рассказывает он об идеально чистом образе жизни Аполлония, о его презрении к богатству, к житейским благам и удовольствиям, о строгом соблюдении древнепифагорейских обычаев. Аполлоний проделывает пятилетний
искус молчания, но даже в это время умеет помогать людям:
он прекращает голод в городе Аспенде, усовестив жадных
купцов, прячущих зерно и вздувающих цены (I, 15); он спасает невинного, по судебной ошибке приговоренного к казни
(I, 24); он ходит босым или в плетенных из соломы сандалиях, не пользуется кожей или мехом убитых животных, носит только льняную белую одежду, придерживается строжайшего вегетарианства, с отвращением относится к кровавым
жертвоприношениям, а сам если и приносит жертвы богам,
то только плоды и печеный хлеб, но чаще просто возносит
247-
хвалу высшему божеству, особенно Солнцу при его восходе
п в полдень. Но он признает и сжиганье благовонных зерен
на огне и наблюдает, «в какую сторону направляется пламя,
где оно меркнет и какими языками оно вспыхивает» (I, 31).
Вина, даже пальмового, сам Аполлоний не употребляет, хотя
оно — продукт растительный, но ученикам не запрещает умеренно пользоваться им, если их угощают (II, 7).
Интересные сведения дает Филострат об отношениях Аполлония с представителями других философских направлений,
наиболее распространенных в его время, — с киниками и стоиками. Эти отношения далеко не всегда дружелюбны.
Правда, сообщения Филострата о высказываниях Аполлония
по их адресу нельзя принимать на веру как подлинные мнения Аполлония: весьма возможно, что Филострат вкладывает
в его уста полемику со стоиками и киниками, которая порой
обострялась в течение II в. н. э. и живо интересовала кружок
образованных людей, собравшихся вокруг императрицы.
Наиболее благожелательно Аполлоний, как несколько раз
говорит Филострат, относился к киникам, хотя их учение
ни в какой мере не совпадало с неопифагорейством. Но, возможно, их суровый образ жизни, равнодушие к житейским
удобствам и наслаждениям вызывали его симпатию. Один
из упорных и суровых киников, Деметрий, встретил Аполлония в Коринфе и стал его горячим приверженцем: «Он питал
к нему такое же чувство, как Антисфен к Сократу» (IV, 25).
Его же Аполлоний рекомендовал как советника молодому
Титу, еще не ставшему императором (VI, 31—33). Наконец,
Деметрий вместе с верным Дамидом сопровождал Аполлония,
вызванного на суд в Рим, и с волнением ожидал исхода суда,
когда Аполлоний отправил его в Дикеархию, не желая, чтобы
его друзья присутствовали при его судебном процессе.
Такие же дружеские, хотя и не столь близкие, отношения
связывали Аполлония с Дионом Хрисостомом. Вызванный
вместе с ним к Веспасиану, еще колебавшемуся, принимать ли
ему императорский титул, Аполлоний, даже разойдясь с ним
в мнениях, не изменил отношения к нему (Дион советовал
Веспасиану восстановить республику, Аполлоний — стать императором, но не таким, как его предшественники). Дион же
был настолько огорчен этим расхождением, что попросил Веспасиана «примирить его с Аполлонием, которому я осмелился
возражать» (VI, 38). Если вспомнить, что впоследствии, при
воцарении Домициана, Дион стал вести жизнь бродячего
кипического философа, то становится ясным, что взаимная
симпатия Аполлония и Диона основывалась на том, что они
оба одобряли если не киническую доктрину в целом, то кинический образ жизни.
2 4 8 -
Напротив, приверженцы стоического учения были Аполлонию чужды. Главным представителем их в романе Филострата
выступает Евфрат, который на том же совещании у Веспасиана
проникается завистью к успеху Аполлония, но не примиряется
с ним, как Дион, а в течение многих лет преследует его нападками, клеветой и доносами и даже якобы подсылает к нему
убийц, Аполлоний же упрекает его в жадности и стяжательстве. О том, что вражда между ними действительно была
острой, Филострат упоминает вскользь в своих «Жизнеописаниях софистов», в биографии Диона. При этом в «разногласиях, недостойных философского образа мыслей», он упрекает
здесь не только Евфрата, но и самого Аполлония («Жизнеописания софистов», I, 7). Порочить же своего героя в «Жизни
Аполлония» Филострат, конечно, не решается и приписывает
всю вину Евфрату. В сборнике писем Аполлония (не достоверном) имеется ряд писем к Евфрату, весьма недоброжелательных. Напротив, их младший современник, Плиний Младший, отзывается об Евфрате в восторженном тоне (Письма,
кн. I, 10).
К римскому стоику Музонию Руфу Аполлоний относится
иначе, с глубоким уважением, а Филострат называет его «человеком, уступающим (в молодости) только Аполлонию» (IV,
35). Музоний, заключенный Нероном в тюрьму и высланный
им впоследствии на каторжные работы по прорытию Истма,
сохранял свое достоинство и здесь, и там. На предложение
Аполлония помочь ему во время пребывания в тюрьме он ответил холодным отказом (IV, 46). Возможно, что Аполлонию
повредила в глазах твердого стоика Музония его репутация
чародея, а кинику Деметрию, выразившему ему свое сочувствие по поводу его тяжкой участи землекопа, закованного в цепи,
Музоний, «ударив киркой о землю, с насмешкой ответил:
«А тебе было бы приятней видеть меня играющим на кифаре,
как Нерон?» (V, 19).
Не слишком благожелательно отношение Аполлония и
к представителям общепризнанных культов, несмотря на то,
что он не только не избегает посещения храмов (особенно храмов Аполлона и Асклепия), но бывает во многих местных святилищах и не отрицает никаких форм поклонения богам, кроме
кровавых жертвоприношений. По-видимому, его религиозный
принцип — широкий синкретизм. Только поклонение египетским богам вызывает его критику и даже некоторую иронию
за то, что многие из них изображены со звериными головами
(VI, 19). Он противопоставляет им прекрасные образы олимпийцев, созданные Фидием и Праксителем, и восхваляет «фантазию, которая является более мудрым творцом, чем подражание». Он порицает поклонение «коршуну, сове, волку или
2 4 9 -
собаке», которое заставит забыть о достоинстве подлинных
богов.
В отношении основных традиционных культов и оракулов
он тоже самостоятелен и смел в своих суждениях и поэтому не
всегда в ладах с жрецами официально признанных святилищ.
> Так, один жрец отказывается принять его в члены Элевсинских
мистерий как «мага» и Аполлоний, не вступая с ним в пререкания, говорит, что он все же будет принят его преемником,
имя которого он называет. И действительно, через несколько
лет, после возвращения из первой поездки в Рим, его посвящает в мистерии именно тот, чье имя он назвал. Его недоброжелателя уже нет в живых (IV, 18). Такое же столкновение
происходит у Аполлония уже в глубокой старости с жрецами
храма и оракула Трофония. Они обвиняют его в магии и,
разумеется, оказываются неправы. Божество принимает Аполлония к себе вопреки их воле (VIII, 19).
В большинстве научных историко-литературных исследований, посвященных произведению Филострата, главное внимание
уделялось раскрытию философских взглядов Аполлония, его
религиозного и этического учения, связи его с древним пифагорейством и соотношению неопифагорейства с христианством.
По-видимому, мало освещен — вернее, почти совсем не освещен — вопрос о том, каковы политические воззрения самого
Аполлония, как их изображает Филострат. Между тем, эта сторона характеристики Аполлония очень важна и — что главное — очерчена у Филострата значительно яснее, чем его философское учение, хотя всегда как бы мимоходом.
Выше шла речь о разногласиях между Аполлонием и сторонниками стоицизма. Эти разногласия, возможно, носили не чисто
личный характер. Космополитизм, являвшийся одним из основных тезисов учения стоиков, был Аполлонию чужд. Аполлоний — отнюдь не гражданин мира, он прежде всего убежденный греческий патриот. Везде, где он может, он защищает
своих греческих земляков и восхваляет свою родину. Узнав
о печальной судьбе греческой колонии Эритреи, возникшей
в пределах вавилонского царства из поселка задержанных Дарием греческих пленников, Аполлоний обращается к царю Вардану с единственной просьбой, отказавшись от всех прочих
милостей, которыми его осыпает царь: он просит помочь эритрейцам, постоянно терпящим голод и нужду из-за набегов
разбойничьих горных племен и плохой охраны границ
(II, 23 и 36).
Во время пребывания Аполлония в Индии у брахманов он
вступает в резкий спор с надменным индийским царьком, обрисованным вообще в отрицательных тонах. Этот царек с презрением отозвался о греках, назвав афинян «рабами Ксеркса»
250-
(Ill, 31). Аполлоний иронически спрашивает его, есть ли у него
самого рабы п случалось ли ему обращаться в бегство от их
преследований. После негодующего ответа царька («беглым
бывает только раб, и притом негодный, господин же не может
бежать от того, кого ок имеет право подвергнуть пытке и выпороть») Аполлоний делает вывод: «Значит Ксеркс, по твоему
мнению . . . был рабом афинян и, как негодный раб, бежал от
них. Побежденный в морском сражении . . . он на одном единственном корабле обратился в бегство . . . я считаю его несчастнейшим из людей. Если бы он погиб от руки греков, разве
не заслужил бы он величайших похвал? Кому воздвигли бы
греки более роскошную гробницу? . .» Индиец со слезами
раскаивается в своих необдуманных словах и ссылается на те
клеветы, которые возводят на греков египтяне, что подтверждает и глава брахманов Иарх.
Со своими учениками Аполлоний посещает все греческие
города Малой Азии, останавливается около Трои и кургана
Ахилла (к этому моменту приурочен фантастический рассказ
о его ночной беседе с тенью Ахилла) и проходит пешком всю
материковую Грецию от Фессалии до Лаконики. Восторженную
речь он произносит в Фермопилах: «Он едва не заключил
в объятия надгробие Леонида спартанского, настолько он преклонялся перед этим мужем .. . услышав, что его спутники
спорят о том, какое место в Греции лежит выше всех, он, поднявшись на холм (очевидно, подразумевается надмогильный
курган), сказал: «Вот это место я считаю надвысшим; те, кто
пал здесь за свободу, сделали его равным Эте и вознесли выше
многих Олимпов» (IV, 23). Древняя Спарта и методы ее сурового воспитания пользуются его одобрением. Он иронизирует
над вавилонским царем, который хвастается неприступностью
стен Экбатаны. «А вот город лакедемонян, — говорит он, — выстроен без всяких стен» (II, 39 и VI, 20).
На защиту греческих интересов Аполлоний встает и в более
поздних письмах к Веспасиану, которому он сам в Александрии
посоветовал взять императорскую власть в свои руки. В этих
письмах он даже вспоминает с одобрением о враждебном ему
в свое время Нероне. Филострат приводит текст трех писем:
«Аполлоний приветствует императора Веспасиана. Ты обратил
Грецию в рабство и, думая, что ты выше Ксеркса, забыл о том,
что тем самым стал ниже Нерона». «Если ты настолько возненавидел греков, что их из свободных сделал рабами, зачем тебе
мое присутствие?» (в ответ на приглашение Веспасиана
в Рим). И наконец: «Нерон, шутя, освободил греков, а ты, не
шутя, поработил их» (V, 41).
Аполлонию не чужд и более узкий местный патриотизм, любовь к родному городу Тиане и даже к своему роду и семье.
2 5 1 -
;
В сборнике его писем (как было сказано, не вполне достоверных) имеются письма, свидетельствующие о том, что эта
черта считалась для него характерной. Так, в письме 47-м Аполлоний заверяет городской совет Тианы, что он всю жизнь радеет о прославлении своего родного города; в письме 55-м он
просит своего брата, недавно овдовевшего, опять жениться,
«воссоздать наш дом» и не дать роду угаснуть; в письмах же
71-м и 72-м он выражает свое недовольство частой заменой греческих имен римскими.
В письме 71-м укоряет ионян: «Вы утратили все заветы
предков. Они, пожалуй, не приняли бы вас в семейные усыпальницы, ведь вы стали им чужими. Вместо прежних имен
героев, полководцев и законодателей, вы носите имена каких-то
Лукуллов, Фабрициев и Луциев; а я предпочел бы имя Мимнерма».
Письмо 72-е адресовано брату Аполлония Гестиэю: «Наш
отец Аполлоний был сыном Менодота — это имя сохранялось
в трех поколениях; а ты вдруг захотел называться Лукрецием или Луперком. От кого же из них ты ведешь свою родословную? Ведь постыдно носить имя того, на кого ты ничуть не
похож».
Если эти письма и не принадлежат самому Аполлонию, то
они во всяком случае показывают, каким ревностным патриотом он запечатлелся в памяти современников и потомков.
Как же относился этот эллинофил к римскому владычеству
над своей родиной?
Близкий к императорскому двору Филострат не мог вложить
в уста своего героя слишком резкие выступления против римлян и должен был изобразить его миролюбивым и снисходительным (IV, 40 и III, И ) . Но индийскому брахману Иарху он
приписал достаточно ядовитую насмешку над греками, покорными римским властям. «По вашему мнению, — сказал индиец
со смехом, — справедливость состоит лишь в том, чтобы не
совершать несправедливых поступков. Таково, мне кажется,
мнение всех греков . . . египтяне говорили мне, что те правители, которых вам присылают из Рима, всегда держат над вашими головами топор, даже еще не зная, предстоит ли им
управлять злодеями; а вы, если только они справедливостью
не торгуют, считаете их вполне справедливыми» (III, 35).
Такой резкий отзыв о методах римского управления провинциями, хотя и данный вскользь — беседа сейчас же переходит
к критике греческих мифов, — тем не менее показателен.
О наилучшей форме правления вообще Аполлоний не говорит
почти ничего. Преклоняясь перед героями древней Греции,
он — и тем более его биограф Филострат — не представлял
себе, чем был греческий полис. Слишком долго уже по всему
252-
тогдашнему кругу земель утвердилась единоличная форма
правления. И когда на совещании у Веспасиана Евфрат с точки
зрения стоического космополитизма высказывается за возвращение к римской республике, которой он тоже себе уже не
представлял, Аполлоний советует Веспасиану стать императором, но быть не тираном, а хорошим правителем (I, 35, 36).
Однако исходя из этой чисто субъективной оценки, форму
правления нельзя ни одобрять, ни порицать. Аполлонию пришлось это испытать на себе, когда после благосклонных к нему
Веспасиана и Тита престол занял Домициан. Нерона и Домициана Аполлоний называет греческим термином «тиран», но
уже в современном смысле слова, т. е. подразумевая под тираном жестокого и дурного правителя. Филострат довольно прозрачно намекает и на участие Аполлония в двух заговорах.
Когда Нерон приказывает всем философам покинуть Рим, Аполлоний не возвращается на Восток, а переезжает в Иберию. Там
он встречается тайно с префектом провинции Бэтики, который
приходит к нему «без всяких знаков отличия и лишь с немногими спутниками» и получает от него рекомендательное
письмо к Виндексу, подготовляющему восстание против Нерона (V, 10). При свидании с Веспасианом в Александрии
Аполлоний говорит уже открыто о своей помощи Виндексу
(V, 95).
Столь же враждебен он Домициану, который, подозревая его
в сношениях с Нервой, вызывает его в Рим и отдает под суд.
Хотя уличить его в этом не удалось, а рассказ Филострата
о его тюремном заключении и поведении в суде густо опутан
сетью легенд, Аполлоний, несомненно, все же состоял в какой-то связи с врагами Домициана, и его поразившее всех
«второе зрение» в момент насильственной смерти Домициана
могло объясняться и вполне реальным обстоятельством — участием в заговоре и знанием о точно назначенном сроке убийства (VIII, 26).
Борьба свободолюбивых людей против тирании была излюбленной темой риторических декламаций, и опытный ритор
Филострат мог использовать ее в своем произведении для прославления своего героя. Но между тем как в образцах декламаций, дошедших до нас (контроверсиях и суазориях Сенеки
Старшего,
Псевдо-Квинтилиана,
Аристида,
Полемона и,
возможно, многих других, нам неизвестных), эта тема разрабатывалась на исторических эпизодах из давнего прошлого,
Филострат искусно вплетает ее в свое повествование о временах более близких, поддающихся сравнению с его эпохой.
При этом он высказывает и в общей форме мысль, что
философия всегда была враждебна тирании, а философы, если
не практическими, то теоретическими, борцами за свободу.
2 5 3 -
В первый раз он как бы мимоходом бросает эту мысль, сопоставляя Аполлония с Пифагором и говоря, что они оба «поставили себя выше тираний» (I, 2). Ту же мысль он вводит
не раз в беседы Аполлония с его учениками и, наконец, посвящает ей первые четыре главы VII книги, в которых дает
,обзор отношений между философами и «сильными мира сего».
Все поборники философии удостаиваются его похвалы, но
Аполлоний превосходит их всех своей смелостью: он выступал
не против отдельных мелких правителей полисов или провинций, а против владык всего мира — Нерона и Домициана. При
внимательном чтении книг VII и VIII можно заметить, что их
тон и композиция несколько отступают от спокойного повествовательного стиля прочих книг, не чуждающихся пи анекдотов, ни шуток. Они более дидактичны, с одной стороны (так,
в VIII книгу включена огромная апология Аполлония, которую,
по словам Филострата, Аполлоний приготовил для произнесения в суде), с другой — переходят часто в тон чистой ареталогии и панегирика. Именно эти особенности их и позволяют
высказать некоторую гипотезу относительно их цели и значения
в сочинении Филострата.
Филострат на много лет пережил свою покровительницу и
закончил заказанное ею сочинение весьма возможно уже после
смерти не только ее, но и Каракаллы, и Элагабала, явивших
в себе более чем ясно образы таких «тиранов», против каких
устами Аполлония ратовал Филострат. Он наяву насмотрелся
на то, до чего мог дойти неограниченный римский император,
превзошедший жестокость и безумие Нерона и Домициана.
И невольно встает вопрос: не написаны ли тирады против
тирании для воспитания юного Александра Севера, внучатого
племянника Юлии Домны, одаренного и хорошо образованного?
Если Филострат сохранял какие-то отношения с домом Северов,
то для него было естественно направить свои усилия на последнего представителя этого рода и внушить ему любовь
к философии и к ее идеальному представителю — Аполлонпю.
Александр Север оправдал возлагавшиеся на него надежды
(конечно, ему не было суждено их осуществить): он пытался
быть хорошим правителем и — что для нас всего важнее —
воспринял не только преклонение перед Тианским учителем,
но и идею религиозного синкретизма. По сообщению его биографа Лампридия он имел в своей молельне изображения Аполлония, . . . Христа, Авраама и Орфея («История императоров»
Александр Север, гл. 28).
В течение III и IV вв. слава Аполлония не угасала. Поддерживаемые общераспространенной верой в чудеса, сновидения
и гадания, рассказы о нем пользовались успехом. Вописк, биограф императора Аврелиана, повествует о том, как Аполлоний
254-
явился Аврелиану во сне и запретил разрушать осаждаемый
им город, причем — забавная деталь — Аполлоний говорил на
латинском языке, чтобы император его понял. В число «хранителей-гениев» включает Аполлония еще и Аммиан Марцеллин, о нем помнят Лактанций, Августин и Аполлинарий Сидоний, но в рассказы византийских писателей он входит уже
только как волшебник и чародей. Впрочем, дальнейшая судьба
самого Аполлония не является предметом нашего исследования, нас интересует его «роман-житие», написанное Филостратом.
Этот роман заслуживает гораздо более тщательного изучения,
нежели то, какое можно дать в общем очерке. Пестрота и
богатство его мотивов почти неисчерпаемо. Биография ареталогического характера, географические сведения — частично
заимствованные, частично вымышленные или ошибочные, —
фантастические приключения и «чудеса», морализирующие
беседы, притчи и анекдоты — все это переплетается в причудливый узор. Особую тему могла бы составить систематизация
взглядов Аполлония (или, может быть, было бы вернее сказать, Филострата?) на красноречие, изобразительное искусство,
театральные представления, на древнюю греческую литературу
и на многое другое. Известный интерес с филологической точки
зрения представляет и язык «Жизни Аполлония Тианского»,
заключающий в себе разнородные элементы: разговорные обороты, аттицистические архаизмы, философские термины. Надо
надеяться, что эта работа привлечет к себе внимание современных исследователей и что «роман» Филострата будет выведен
из того незаслуженного забвения, которому он подвергается
уже с половины прошлого века.
ОТ ГРЕЧЕСКОГО РОМАНА
К РИМСКОМУ.
АРИСТИД. ВАРРОН
В числе жанров, подготовивших появление романа, многие
исследователи называют новеллу.
Новелла была давно известна в греческой литературе. В виде
вставных эпизодов она широко представлена в сочинениях
греческих историков. Повествование об исторических деятелях
и событиях нередко прерывается разного рода отступлениями,
содержащими рассуждения на ту или иную тему, анекдоты,
сказки, народные предания, рассказы о «чудесных» явлениях,
имеющие мало отношения к основной теме сочинения. Примером сочинения с отступлениями новеллистического характера
может служить «История» Геродота. Так, она включает, например, рассказ о спасении Ариона дельфином (I, 23—24),
0 детстве Кира (I, 108—121), о кольце Поликрата (III, 39—
43) и т . д. Иногда отступлений было так много, что основное
повествование превращалось лишь в своеобразное для них
обрамление. Источником многих из этих рассказов служило
устное народное творчество, и, таким образом, они представляли собой литературную обработку устных народных рассказов. С. И. Соболевский 1 отмечает особую ценность отступлений именно такого характера, так как, по его мнению, они
доказывают существование фольклора в древней Греции доэллинистического периода.
К эпохе эллинизма, когда новелла становится самостоятельным жанром, она, сохранив свои основные
жанровые
признаки — четкий сюжет и занимательность, претерпевает
известные изменения. В частности, на ней сказалась общая
1
«История греческой литературы», т. II. М.—Л., 1955, стр. 65.
256
тенденция развития литературы в эту эпоху, выразившаяся
в «снижении» тематики. Новелла оказалась очень подходящим
жанром для передачи бытовых и любовных историй, завоевывающих в ту пору свое право «гражданства» в литературе.
Она показывала жизнь частного человека в разных его связях
с жизнью, изображая более углубленно, чем это делала предыдущая литература, его психологию и переживания. При этом
она предпочитала, по-видимому, план любовно-эротический или
комико-сатирический. Не случайно некоторые исследователи
(в частности, Э. Роде) сближают новеллу с новой комедией.
Основным источником эллинистической новеллы также, повидимому, был фольклор, но фольклор уже более «низкого»
рода, ранее в литературу не допускаемый, — фольклор мелкого
и среднего городского люда. Считается несомненным факт
восточного влияния на новеллу. В его пользу говорит возникновение новеллы прежде других областей Греции в Ионии,
географически наиболее близкой к Востоку.
Аристид
От времени, которое считается временем становления новеллы
как жанра, история сохранила нам имя автора книги новелл —
Аристида из Милета, жившего, как принято считать, во II в.
до н. э. От его новелл до нас дошли лишь незначительные
фрагменты в латинском переводе историка Сизенны, которые
грамматик IV в. Харисий приводит в XIII главе второй книги
своего сочинения «Ars grammatica» 2.
2
«Grammatici latini». Lipsiae, 1857, rec. R. Keil. Фрагменты же, помещенные К. Мюллером под именем Аристида из Милета в IV томе
сборника фрагментов греческих историков (F. Н. G. Lps., т. IV, 1851,
р. 320 sq.), по-видимому, не имеют ничего общего с автором милетских рассказов.
В свое время (во второй половине XIX в.) помещение этих фрагментов под именем Аристида Милетского вызвало широкую полемику среди исследователей, которая привела к почти единодушному
выводу, что они принадлежат какому-то другому Аристиду —
см. заметку О. Яна (О. Jahn) в RhM, 9, 1854, стр. 628—629. Однако
попытки отыскать в дошедшей до нас литературе новые фрагменты
из Аристида продолжаются. Недавно Антонио Мазарино в книге
«La Milesio е Apuleo» (Turin, 1950) высказал предположение, что
неприличное место из романа Апулея (X, 21) есть не что иное, как
фрагмент из Аристида. Он пришел к этому выводу на основании
изучения главного манускрипта «Метаморфоз» (Laurentianus, 29, 2).
По его мнению, этот фрагмент. (X, 21), помещенный внизу 66 листа
рукописи, является интерполяцией и принадлежит Аристиду. А. Мазарино предлагает добавить его к тем 10 фрагментам, которые
сохранил Харисий и которые обычно помещаются в бюхелеровских
изданиях Петрония как фрагменты одного из предполагаемых источ17
Античный роман
257
Сохранившиеся фрагменты мало что могут нам сказать.
О характере новелл мы скорее можем судить по упоминаниям
о них у позднейших писателей (Овидия, Апулея, Лукиана,
Плутарха, Эпиктета, Арриана, Тертуллиана) и по вставным
новеллам у Петрония, Апулея и Лукиана, вероятно, близким
новеллам Аристида, а может быть, и прямо заимствованным
у него. Действие рассказов Аристида, по-видимому, всегда
происходило в Милете, отчего они и получили название «милетских» —MtX-qaiaxoc, milesia. Можно думать, что форма сборника была до известной степени традиционной, т. е. это был
сборник рассказов с обрамляющим диалогом. Ведущую роль
мог играть в нем сам Аристид, рассказывающий свои новеллы,
либо они могли быть вложены в уста нескольких участников
диалога 3 .
Во всяком случае, в этом, новом для античности, виде литературы неизбежно должны были столкнуться элементы нового
и старого: нового — романического или бытового — содержания и старой — диалого-риторической — формы. Популярность
рассказов Аристида стала причиной возникновения особого
жанра «милетских» рассказов, вероятно, преимущественно любовного или сатирического содержания. Это явствует из всех
имеющихся у нас упоминаний как о самом Аристиде, так и
вообще о приобретшей нарицательность «милетской манере».
Наиболее ранним из сохранившихся свидетельств об Аристиде нужно считать свидетельство Овидия. Во второй книге
своих «Скорбных стихотворений» он упоминает Аристида
дважды (413 сл. и 443 сл.):
Junxit Aristides Milesia carmina secum
pulsus Aristides nec tamen urba sua est. . .
Vertit Aristidem Sisenna, nec offuit illi
historiae turpis inseruisse jocos 4 .
«Скорбные стихотворения» Овидия относятся ко времени его
ссылки (8—18 гг. н. э.). Вторая книга написана вскоре по прибытии Овидия в Томы и адресована Августу.
3
4
ников «Сатирикона». Гипотеза А. Мазарино подверглась критике
(см., напр., заметку JI. Германна в Latomus, X, 1951, стр. 359).
Ср. с формой диалогов Лукиана «Две любви» и др.
Цит. по: P. Ovidi Nasonis Tristium libri, V. Oxonii, 1889. В стихе 413
имеется разночтение — crimina. В русском переводе А. Фета (О в ид и й . Скорби. М., 1893), принявшего чтение crimina, стихи звучат так:
Восприял у себя Аристид прегрешенья Милета,
Не был меж тем Аристид городом изгнан своим...
Не повредил перевод Аристида Сизенне, когда он
В повествованье свое грязные шутки вставлял...
258-
Причины ссылки Овидия неизвестны. Вероятно, ему вменялась в вину «безнравственность» его произведений и его поведения. Сам Овидий считал свою ссылку несправедливой.
В упомянутой книге он пытается оправдать свою литературную
деятельность, призывая на помощь авторитеты прошлого. Аристида он называет в числе писателей и поэтов, вольно трактовавших любовные темы. Сюда попадают Катулл, Кальв, Галл
и другие поэты.
Овидий обращает внимание Августа на то, что даже такой,
по-видимому, считавшийся особенно фривольным, автор, как
Аристид и его латинский переводчик Сизенна, ничуть не пострадали за вольности в своих произведениях.
При крайней скудости сведений об Аристиде свидетельство
Овидия является, пожалуй, самым содержательным, поскольку
у других писателей он упоминается только главным образом
как ходячий пример нескромности в литературе.
Первые из упомянутых строчек второй книги «Скорбных
стихотворений» (ст. 413—414) дают возможность сделать
какие-то предположения относительно формы сочинения Аристида, другие (ст. 443—444) содержат сообщение о его переводе на латинский язык историком Луцием Корнелием Сизенной.
Большинство исследователей (и в их числе Э. Роде) видело
и видят в слове junxit (соединил) из стиха 413 (при любом
чтении — carmina, или crimina) доказательство того, что сочинение Аристида представляло собой сборцик рассказов, а не
цельное произведение с единым сюжетом. Вместе с тем высказывались предположения (П. Монсо, К. Бюргер), что под
названием jAiXTjoiaxa существовал не сборник рассказов, а роман
эротического содержания, действие которого происходило
в Милете. Доводами в пользу этого предположения были аналогия названия fuXijaiaxa с названиями греческих романов (например, ecpeataxa) и единственное число слова historiae во второй цитате из Овидия.
Возражая одному из сторонников этой точки зрения
(П. Монсо), А. И. Кирпичников 5 исходит из убеждения, что
для эротического романа тогда еще не наступило время. Кроме
того, по его мнению, слово junxit ясно указывает на сборник,
и все другие упоминания об Аристиде (например, Лукиапа)
подтверждают это мнение. Что же касается единственного
числа слова historiae, то, как он утверждает, провинциальные
писатели нередко давали название «истории» сборникам своих
анекдотов 6 .
5
6
А. И. К и р п и ч н и к о в . Греческие
Харьков, 1876.
Griechische Prosaiker, 1867, S. 74.
романы в
новой
17*
литературе.
259
Э. Роде 7 обстоятельно опровергает мнение другого ученого,
К. Бюргера 8 , считавшего Аристида автором романа, в котором
описаны Milesia crimina.
Роде подвергает критике его толкование текста Овидия.
Он объявляет несостоятельным оба объяснения первых двух
стихов Овидия (413—414), которые дал Меркель и к последнему из которых присоединился Бюргер. По одному толкованию смысл строчек Овидия таков: Milesiis criminibus, quae
descripsit, suum crimen adjecit Aristides.
Т. е., если под словом crimina подразумевается эротическая
распущенность (ахоХаат^ата) милетцев, то, следовательно,
стихи 413—414 надо понимать так: к милетским преступлениям
(или распущенности), которые он описал, Аристид присоединил собственные. По другому толкованию, смысл стихов 413—
414 заключался в следующем: Аристид принял на себя Milesia
crimina тем, что рассказал их от себя. Возражая против того и
другого объяснения, Роде предлагает прежде всего secum отнести не к Аристиду, а к Milesia crimina. Как он утверждает,
ссылаясь на примеры из других латинских авторов (Силия
Италика, Плиния и др.)» secum нередко равно по значению
inter se. Правда, употребление secum в значении inter se присуще больше разговорному языку (sermoni cotidiano), но здесь
оно заменяет менее удобное в стихе inter se. Milesia crimina же
могут означать литературные пустячки, легкие, фривольные
милетские рассказы.
Таким образом, слова junxit Aristides Milesia crimina secum
означают, что подобные crimina связал между собой Аристид.
Доказательство односюжетности и цельности сочинения Аристида Бюргер усматривал, кроме того, в единственном числе
слова historiae (ст. 444), а также в том, что на латинский язык
его перевел историк Сизенна. Роде, возражая ему, указывает
на то, что термин historia никогда не служил техническим термином романа, а обозначал произведения другого рода. Единственное число, скорее всего, по мнению Э. Роде, подразумевает
сборник, т. е. собранные в одно целое рассказы. Термином
historia часто называли сборники разных работ или сведений
вроде historia naturalis Плиния Старшего, communis historia
Лутация, xaiv-f] tcrcopta Птолемея, тгаугаЗатгт] 'ютор£а Фаворина,
irotxtX-f] laxopta
Элиана и т. д. Кроме того, слово historia могло
прийти к Овидию из перевода Сизенны с греческого. Подтверж7
8
Е. R o h d e . Zum Griechischen Roman. — RhM, 48, 1893, S. 125—139.
K. B u r g e r . Der antike Roman vor Petronius. — «Hermes» 27, 1892,
S. 345 sq. В этой статье К. Бюргер пытался доказать существование греческого реалистического романа до Петрония, ссылаясь па
существование новеллы (по его мнению, Петроний взял новеллу
о матроне из Эфеса из греческого сборника).
260-
дение своего мнения о том, что inX-rpiaxa — это роман, Бюргер
видел и в начальных словах «Метаморфоз» Апулея, где Апулей
обещает «сплести» свой роман «на милетский манер»: at ego
tibi sermone isto Milesio varias fabulas conseram. Но, по мнению
Роде, под sermo Milesius Апулей подразумевает не композицию,
а манеру рассказа, т. е. sermo, qualis esse solet Milesiarum.
Строки Овидия об Аристиде по сей день привлекают внимание исследователей, пытающихся дать свой вариант толкования текста и извлечь из него какие-то новые сведения.
Однако наиболее правдоподобные толкования и вытекающие
из них выводы близки к выводам Роде 9 .
Свидетельство Овидия о переводе Аристида Сизенной, что
само по себе говорит о популярности «милетских» рассказов
в Риме, — единственное прямое свидетельство об этом факте.
Однако косвенные намеки на то, что римский политик, историк
и оратор Луций Корнелий Сизенна, автор истории жестоких
сулланских времен, имел отношение и к более «легкой» литературе, мы можем уловить в произведениях его младшего современника Цицерона и писателя II в. н. э. Марка Корнелия
Фронтона.
Эту мысль вполне допускает та характеристика Сизенны,
которую дает ему Цицерон в своем трактате «Брут». В § 228
Цицерон говорит, что это был «человек ученый, преданный
благородным наукам, говорящий на хорошей латыни, знающий
толк в политике и не лишенный остроумия».
Далее, упомянув без особой похвалы о его «Истории», Цицерон (в § 260) характеризует Сизенну как оратора. Цицерон
иронически замечает, что Сизенна любил выдавать себя за
реформатора обыденной речи и считал, что говорить хорошо —
это значит говорить необычно. В подтверждение Цицерон рассказывает анекдотическую историю о любви Сизенны к необычным словам.
Замечание Цицерона об остроумии Сизенны (в § 228) и
рассказ о его лингвистических интересах (особенно о том, что
он считал себя реформатором обыденной речи — в § 260)
вполне согласуются с представлением о переводчике Аристида,
для которого могло пригодиться и остроумие, и интерес к повседневной речи. Она наверняка проникла в рассказы Аристида 10. О внимании Сизенны к выбору слов говорит Фронтон
9
10
См.: L. Р е р е. Milesio е Sibaritiche al tempo di Ovidio. — GIF, XI,
1958, p. 317—326.
Любопытно, что Цицерон, который хорошо знал Сизенну (вместе
с Гортензием принимавшего участие в процессе Верреса), довольно
подробно характеризует его в своем «Бруте», но нигде прямо не говорит ol его переводе Аристида. Консерватор по своим литературным
взглядам, отрицающий лирику и не признающий комедии, Цицерон,
2 6 1 -
(в письме к Марку Цезарю — IV, 3, 2), чье свидетельство
о Сизепне вообще перекликается со свидетельством Цицерона.
Отмечая, что лишь немногие писатели отваживались на этот
усердный труд — тщательные поиски слов, Фронтон перечисляет некоторых из них и добавляет: «Кроме того, ты найдешь
еще нескольких писателей, очень разборчивых в выборе слов
в отдельных случаях: Новий Помпоний и другие писатели
того же рода — в деревенских, шуточных и забавных сценах,
Атта — в разговорах женщин, Сизенна — в игривых разговорах
(in lascivis), Луциллий — в том, что относится к искусству и
делам».
Упоминая об «игривых разговорах» в сочинениях Сизенны,
Фронтон вполне мог иметь в виду его перевод рассказов Аристида. Вопрос о том, вставил ли Сизенна эти рассказы в свою
историю, или они существовали в его переводе отдельной книгой, решить трудно. В пользу первого предположения говорит
традиция. На ту же мысль наводит и второе двустишие Овидия
(.. .пес offuit illi historiae tnrpis inseruisse jocos). Скорее всего,
это так и было.
Никаких новых фактических сведений об Аристиде другие
упоминания о нем не дают. Они лишь подтверждают то, что
можно извлечь из строк Овидия: Аристид собрал и соединил
в одно целое рассказы из жизни обитателей Милета, носящие
игривый характер.
Свидетельство Лукиана («Две любви», I) подкрепляет предположение о том, что Аристид не придумывал сам своих рассказов, а записывал то, что слышал, облекая услышанное в литературную форму.
Герой лукиановского диалога «Две любви» Ликин просит
своего собеседника Теомнеста рассказать ему какую-нибудь
любовную историю. Он напоминает ему, что уже слышал от
него сегодня такие рассказы и получил большое удовольствие:
1 «... Больше всего порадовало меня сегодня утром милое
лукавство и приятная убедительность твоих нескромных повестей, так что я чуть было не счел себя Аристидом, который
слишком увлекся Милетскими рассказами...» 11
Другой писатель II в. п. э., Апулей, начиная свое повествование о необыкновенных приключениях юноши Луция, превратившегося в осла, — роман, в котором сказка переплетается
11
конечно, считал недостойным для римского политика, историка и
оратора, каким был Сизенна, такое занятие, как перевод фривольных рассказов Аристида, а упоминание об этом переводе в числе
его работ — умалением его достоинства.
Л у к и а н из С а м о с а т ы . Избранное. М., 1962, стр. 370. Перев.
Г. Ошерова.
262-
с реальностью и эрфгика с сатирой, — заявляет: «Вот я сплету
тебе на милетский манер разные басни, слух благосклонный
твой порадую лепетом милым, если только соблаговолишь ты
взглянуть на египетский папирус, написанный острием нильского тростника» («Метаморфозы», I, 1) 12.
Апулей еще раз вспоминает о милетских рассказах, называя
себя дальше Milesiae conditorem — «составителем» или «сочинителем милетского рассказа» (IV, 32). Как уже говорилось,
кое-кто из исследователей склонен был видеть в словах Апулея,
автора романа, доказательство того, что MiAT]aiaxa Аристида —
тоже роман. Однако Роде был, по-видимому, прав, утверждая,
что Апулей, говоря о «милом лепете на милетский манер» и
называя себя Milesiae conditorem, имел в виду главным образом характер рассказа. Этими словами он как бы обещал читателю произведение занимательное, остроумное и игривое —
в духе рассказов Аристида. «Метаморфозы» действительно насыщены эротикой и блещут выдумкой и остроумием — чертами,
которыми, как мы думаем, были наделены милетские рассказы
Аристида. Правда, начальные слова «Метаморфоз» наводят на
мысль, что Апулей, говоря о разных баснях, которые он сплетет «на милетский манер», имел в виду не только игривый
характер романа и вставных новелл, но и самый факт соединения многих новелл в одном произведении. Однако отсюда
вовсе не обязательно делать вывод (как это сделал К. Бюргер),
что MiXTjaiocxa — это роман.
Отзывы и упоминания об Аристиде далеки от полноты
и говорят нам о нем
очень
мало. -Однако помимо
тех немногих сведений, которые они содержат, они интересны
также тем, что показывают отношение к Аристиду разных
писателей и в разное время — на протяжении от I в. до н. э.
до III в. н. э.
Языческие авторы (такие, как Лукиан и Апулей) радовались веселым и фривольным рассказам Аристида, но писатели
с мировоззрением, близким христианскому, иногда их же современники, осуждали его.
Серию отрицательных отзывов о милетских рассказах хронологически открывает Эпиктет. Философ-стоик конца I—начала II в. н. э., проповедник-моралист, он, подобно Сократу,
сам ничего не писал. Его беседы были записаны его учеником — греческим писателем и историком Флавием Аррианом.
Из восьми книг «Рассуждений» Эпиктета, где излагается его
философия, до нас дошли только четыре. Эпиктет видит истинную сущность человека в его духовности и считает, что дух
12
А п у л е й . Апология, Метаморфозы,
М. А. Кузьмина и С. П. Маркиша.
Флориды.
М.,
1956.
Перев.
2 6 3 -
человека должен неотрывно совершенствоваться в упорной
работе над собой.
В 9-й главе IV книги «Рассуждений», названной «К впавшему в бесстыдство», Эпиктет упрекает своего ученика в том,
что тот явно предпочитает Аристида и Евнона ранним греческим стоикам Хрисиппу и Зенону и вместо того, чтобы восхищаться Сократом или Диогеном, восхищается теми, кто губит
и совращает многих людей 13. Таким образом, в глазах Эпиктета Аристид был писателем, чтение которого считалось предосудительным и вредным.
То же отношение к Аристиду и у Плутарха (Красс, 32).
Из его рассказа явствует, что книга Аристида пользовалась
скандальной репутацией и бросала тень на того, кому она принадлежала. Плутарх упоминает о ней в биографии Красса,
в главе, где рассказывается об устроенном парфянами в честь
своей победы над Крассом шутовском шествии.
Сурена, главный после царя парфянский вельможа, переодел
одного из пленных римлян, похожего на Красса, в парфянское
женское платье, научил его откликаться на имя Красса и,
посадив на лошадь, устроил унизительную для римлян процессию. В таком виде она прибыла в Селевкию, где в это время
находился парфянский царь Ород II. А там «Сурена. . . собрав
селевкийский совет старейшин, представил ему срамные книги
«Милетских рассказов» Аристида. На этот раз он не солгал:
рассказы были действительно найдены в поклаже Рустия и
дали повод Сурене поносить и осмеивать римлян за то, что они,
даже воюя, не могут воздержаться от подобных деяний и
книг.
Но мудрым показался селевкийцам Э з о п и , когда они
смотрели на Сурену, подвесившего суму с милетскими непотребствами спереди, а за собой ведущего целый парфянский
Сибарис 15 в виде длинной вереницы повозок с наложницами.
Все в целом это шествие напоминало гадюку или же скиталу:
передняя и бросавшаяся в глаза его часть была схожа с диким
зверем и наводила ужас своими копьями, луками и конницей,
а кончалось оно — у хвоста походной колонны — блудницами,
погремками, песнями и ночными оргиями с женщинами. Достоин, конечно, порицания Рустий, но наглы и хулившие его за
«Милетские рассказы» парфяне — те самые, над которыми не
13
14
15
'Appiavou tcov 'Етс1%т7]т0и 5t<zxpi(3a)v (Epicteti dissertationes ab Arriano digestae). Lipsiae, 1916.
Имеется в виду басня Эзопа, где говорится, что каждый человек
несет две сумы — спереди и за плечами: первая полна чужими пороками, а вторая — собственными.
Сибарис — греческий город на юге Италии, жители которого — сибариты — славились своей изнеженностью и развращенностью.
264-
раз царствовали Арсакиды, родившиеся от милетских и ионийских гетер» 16.
Упрекая парфян в лицемерии, Плутарх тем не менее и сам
считает, что Рустий, увлекшись во время похода чтением милетских рассказов, безусловно, достоин порицания.
У одного из шести писателей «Истории императоров», Юлия
Капитолина, жившего приблизительно столетием позже Плутарха, авторство «Милетских рассказов» или даже просто знакомство с рассказами типа милетских упоминается в числе
пороков наряду с обжорством и пьянством (Альбин, 11, 8;
12, 1 2 ) .
Рассказывая о нравах императора Клодия Альбина, правившего во времена Коммода и Сепитимия Севера, историк передает слухи о том, что Альбин был алчен, расточителен, прожорлив. Противник Альбина Север изображал его пьяницей,
драчуном, любителем женщин. Как бы венчая эту характеристику Альбина, историк добавляет: «Некоторые приписывают
ему «Милетские рассказы», пользующиеся немалой славой, хотя
написаны они посредственно» (11, 8) 17. Далее, продолжая рассказ об Альбине, историк сообщает, что после убийства Альбина при Лугдуне Север написал сенату письмо, где упрекал
сенат в особом расположении к Альбину и нелюбви к нему.
Явно желая очернить и окончательно развенчать Альбина
в глазах сената, Север пишет: «Еще больше огорчило меня то,
что большинство из вас считало долгом восхвалять его как
образованного человека, тогда как он до самой смерти занимался какими-то старушечьими побасенками, вращаясь между
милетско-пунийскими рассказами своего Апулея и литературными забавами» (12, 12).
Помимо скептического отношения к милетским рассказам и
Апулею как к литературе как бы низшего сорта, которое, повидимому, объясняется влиянием официальных нравственных
догм, в первом отрывке обращает на себя внимание замечание
о славе, которой все еще пользуются рассказы Аристида, а во
втором — тот факт, что сочинение Апулея названо милетскопунийскими рассказами. Характеризуя таким образом произведение Апулея, Капитолии, возможно, имел в виду известные
нам слова самого Апулея, определившего свой роман как сочинение «на милетский манер». Но так или иначе слова Капитолина объединяют под одной рубрикой Аристида и Апулея,
подчеркивая сходство их произведений. Аристид прославился
как автор рассказов с эротическим содержанием, и все жившие
16
17
Плутарх.
Сравнительные жизнеописания, т. II. М., Изд-во
АН СССР, 1963, стр. 263. Перев. В. В. Петуховой.
Цитаты из Юлия Капитолина даются в перев. С. П. Кондратьева. —
ВДИ, 1958, № 1, стр. 265.
2 6 5 -
после него писатели-прозаики, в сочинениях которых эротическая тема занимала значительное место, уже в древности связывались с его именем.
Еще одно упоминание о милетских рассказах встречается
у христианского писателя и богослова конца II—начала
III в. н. э. Тертуллиана, который в одном из своих сочинений,
критикуя официальную церковь за распущенность и ратуя
за аскетическую строгость нравов, упоминает «милетские
сказки» в нарицательном смысле — как символ легкомыслия и
развращенности (De anima, XXIII).
Таким образом, писатели-сатирики, язычники Лукиан и
Апулей, относились к Аристиду с симпатией и любовью единомышленников. Философ-стоик, аскет Эпиктет (конец I—начало
II в. н. э.), моралист Плутарх, один из писателей истории императоров Юлий Капитолии (конец II—начало III в. н. э.), христианский писатель того же времени Тертуллиан отзываются
о нем уже с явным осуждением. Может быть, отношение
к рассказам Аристида как к чему-то предосудительному, возраставшее по мере усиления влияния христианства и проникновения духа лицемерия и ханжества в разные области идеологии, явилось одной из причин, почему эти рассказы не дошли
до нас.
Сборник эротических новелл Аристида рассматривают иногда
как один из источников «Сатирикона» Петрония, поскольку
эротическая тема занимает у последнего значительное место.
Приходится ограничиться только предположением относительно того, чем еще Петроний обязан Аристиду. Так, может
быть, эротическая тема у Аристида решалась, как и в «Сатириконе», скорее в ироническом или сатирическом, чем романтическом плане. На эту мысль наводит проникнутая иронией
новелла о матроне из Эфеса, взятая Петронием, как предполагают, из Аристида.
Кроме того, Аристида и Петрония мог сближать и своеобразный «демократизм» в выборе объекта и средств художественного изображения: показ низов общества, народный юмор
и выдумка, живая образная речь — т. е. те черты, которыми,
как думают, отличались новеллы Аристида и которые роднят
их и с «Метаморфозами» Апулея.
Варрон
Из жанров — предшественников античного романа одним из
наиболее близких к римскому сатирическому роману, в частности к Петрониеву «Сатирикону», считается обычно жанр
«менипповой сатуры». «Мениппова сатура» представляет со2 6 6 -
бой вид диатрибы, т. е. беседы на морально-философские
темы, в которой автор обращается к публике, спорит с воображаемым противником, пересыпая свой рассказ поговорками, шутками, цитатами из поэтов.
Корни диатрибы уходят в фольклор, в устные народные
поэтические сказы, что вообще характерно для многих эллинистических жанров (идиллия, новелла). Основатели кинической школы Антисфен и Диоген придали диатрибе сатирический характер. Излагая положения кинической этики, они
сопровождали их остроумной шуткой или сатирическим выпадом в адрес философского противника. Жанр диатрибы сами
греки относили к области «серьезно-смешного»: серьезные
истины для легкости восприятия облекались в юмористическую форму.
Образцов менипповой сатуры не сохранилось, и точно неизвестно, какой она была в первоначальном виде. Имеются
лишь произведения, о которых принято говорить, что они
написаны в стиле, или в жанре, менипповой сатуры (сатира
Сенеки на смерть Клавдия, диатрибы Лукиана). По форме
они представляют собой смесь стихов и прозы, отчего и получили название сатуры (от satura — смесь). Позднее понятие
смеси расширилось, и это была уже не только смесь стихов
и прозы, но и смесь всякой тематики и даже смесь языков:
латинского и греческого (о чем свидетельствуют фрагменты
из Варрона).
Родоначальником литературного жанра, названного его
именем, был киник Менипп из Гадар в Палестине, живший,
вероятно, в III в. до н. э. Произведения Мениппа до нас не
дошли. Судить о них мы можем лишь по отзывам позднейших писателей, по сохранившимся у них незначительным
фрагментам и заглавиям, а также на основании сведений
о его римском последователе Марке Теренции Варроне 18.
О жизни Мениппа рассказывает Диоген Лаэртский 19 в VI
книге своего сочинения о философах, где он приводит жизнеописания и учения последователей Антисфена. Там говорится, что Менипп был рабом родом из Финикии. Купив
фиванское гражданство, он сделался ростовщиком и сильно
разбогател, а разорившись, покончил жизнь самоубийством.
Давая характеристику Мениппу и его сочинениям, Диоген
пишет, что он не представляет собой ничего серьезного, а его
18
Все основные фактические данные о Варроне и Мениппе содержит
вышедшая еще в прошлом веке книга И. В. Помяловского «Марк
Деренций Варрон Реатинский и Мениппова сатура» (СПб., 1869).
19 о^Ьоьс, Aaepxiou (piXooo<po<; iozopia, т)-теер1 pfcov, So-ftiaxcov %al anotpdeyi±dT(i>v TO)V ev cpiXoooyia evSoTupjcavTiov 0t8X(a 5exa. L i p s i a e , 1833, v
с.
VIII,
§
99-101.
I
' '
267-
сочинения наполнены множеством насмешек. Диоген ошибочно называет Мениппа современником Мелеагра, жившего
в начале I в. до и. э. Комментатор Вергилия грамматик
М. Валерий Проб (I в. до н. э.) говорит, что Менипп жил
задолго до своего последователя Варрона. Лукиан в своих
диалогах изображает его современником Птолемея Филадельфа и Антиоха, да и сам Диоген приводит отзыв о Мениппе философа Ермиппа, жившего до 200 г. до и. э.
Диоген же перечисляет сочинения Мениппа — их приписывается ему 13: Nexuia, AiafHjxai, шуточные послания от лица
богов; обращения к физикам и грамматикам и к исчадию
Эпикура с комическим и насмешливым оттенком (VI, 101);
сочинение под названием Aioyevig терabis — продажа Диогена
(VI, 29). Афиней приводит отрывки из двух сочинений Мениппа: Euproaiov—пирушка и 'ApxeatXaos—Аркесилай (может
быть о философе-платонике). Лексикограф Свида приписывает
Мениппу комедии.
Произведения Мениппа, насколько можно судить, носили ярко выраженный насмешливо-сатирический характер.
Менипп смеется над богатством, знатностью, философами,
пародирует поэтов.
В римской литературе последователем Мениппа был разносторонний и очень плодовитый писатель I в. до н. э. Марк Теренций Варрон Реатинский (116—28 гг. до и. э.).
Среди многочисленных трудов Варрона есть сочинение под
названием Saturae menippeae, состоящее, по свидетельству
Иеронима, из 150 книг. При этом каждая сатура соответствует книге. Если верить Цицерону, современнику и другу
Варрона, «менипповы сатуры» были написаны Варроном
в юношеском возрасте. Это явствует из той характеристики
«менипповых сатур», которую Цицерон в трактате «Учение
академиков», написанном между 46—44 гг. вкладывает в уста
самого Варрона (I, 2): «Однако в тех давнишних моих сочинениях, которые я, подражая Мениппу, но не переводя его,
спрыснул известной долей веселости, чтобы их легче могли
понять люди не слишком ученые, привлеченные к чтению
некоторой приятностью, много примешано из самих глубин
философии, многое сказано в форме рассуждения...»
В том же трактате «Учение академиков» Цицерон еще раз
(в I, 3) говорит о том, что Варрон в своем произведении, где
он использовал почти все поэтические размеры, во многих
местах принимался за философию, но лишь в той степени,
чтобы побудить к занятию ею, а не в той, чтобы научить.
Марк Валерий Проб в комментарии к Вергилию (ad. Verg.
bucol., p. 14) объясняет, почему Варрон был назван Мениппейским: «... не по имени учителя, жившего гораздо раньше,
2 6 8 -
но HO сходству таланта, потому что он придал своим сатурам
отделку разнообразием стихотворений» 20.
Таким образом, судя по приведенным выше цитатам, Варрон в «менипповых сатурах» пытался популяризировать греческую философию, придав ей занимательную форму, которую он позаимствовал у Мениппа. Следует отметить, что как
в первой цитате из Цицерона, так и в цитате из Валерия Проба
сходство Варрона с Мениппом усматривается главным образом
в форме: оба писали смесью из прозы и различных поэтических
размеров.
С. И. Соболевский в статье о Варроне 2 1 также говорит
о том, что сходство между Варроном и Мениппом ограничивалось формой. По его мнению, Менипп только осмеивал
философов (как это явствует из Лукиана и сохранившихся
заглавий сатур Мениппа), а Варрон в легкой форме предлагал определенный философский идеал. Однако сходство Варрона
с Мениппом, бесспорно, не ограничивалось только формой. Варрон, насколько это можно судить по фрагментам и сохранившимся заглавиям сатур, обязан Мениппу еще и тематикой,
а также тем, что для части своих сатур он позаимствовал
у Мениппа его насмешку, ту самую насмешку, с которой
начался путь сатуры к сатире.
Из Геллия (II, 18) видно, что «менипповы сатуры» Варрона назывались также киническими. Кроме того, у комментатора Вергилия Валерия Проба есть ссылка, где сказано:
«. . . V a r r o in Cynicis. . .» (In Verg. buc., p. 18). Вряд ли сатуры Варрона получили название киничейсих только за то,
что они по форме соответствовали сатурам киника Мениппа.
Скорее всего здесь имелся в виду и их насмешливо-сатирический характер. В пользу насмешливого характера «менниповых сатур» Варрона говорят и эпитеты, которыми наделяли
его позднейшие писатели. Например, Тертуллиан называл
его «римским киником» и «Диогеном римского слога».
Любопытно отметить, что Варрон — писатель-энциклопедист,
автор сочинений на исторические, грамматические, экономические, философские, историко-литературные темы, был тем
не менее назван Мениппейским (Валерий Проб, Симмах) —
по юношеским сочинениям, написанным в подражание
Мениппу. По-видимому, и при жизни Варрона, и в более
поздние времена из всех его сочинений «менипповы сатуры»
пользовались наибольшей популярностью.
Ни одна «мениппова сатура» Варрона не дошла до нас пол20
21
Ссылки на Валерия Проба даются по изд.: М. V а 1 е г i i P г о b i. In Vergilii bucolica et georgica commentariis. ed. R. Keil. Halls, 1848.
«История римской литературы», т. I. М., 1959, стр. 243.
269-
ностью. Фрагментов же сохранилось значительное количество — 591 из 96 книг. Однако они слишком коротки, чтобы
по ним можно было представить себе всю сатуру целиком,
хотя такие попытки и делались. Отрывки из «менипповых
сатур» Варрона приводят Макробий, Харисий, Диомед, Присциан, но больше всего этих отрывков сохранил грамматик
IV в. Ноний Марцелл, который, по всей вероятности, имел
перед собой уже не самого Варрона, а извлечения из него.
Сохранившиеся отрывки из
менипповых сатур представляют интерес и со стороны содержания, которое необычайно разнообразно, и с точки зрения лексики и метрики.
В них немало поговорок и афоризмов, имеются заимствования из Менандра, Плавта, Пакувия, Энния, Луциллия и других поэтов. Много ссылок на греческих и римских авторов.
В способе изложения угадываются черты то диалога, то рассказа. Часть отрывков носит дидактический, часть — насмешливый характер. В дидактических восхваляется знание, литературная и ученая деятельность провозглашается лучшим
путем для достижения славы, излагаются какие-то философские взгляды, прославляется старина и т. п. В отрывках,
носящих насмешливый характер, содержится насмешка над
богами, порицание безнравственности, роскоши, обжорства,
корыстолюбия и т. п. Есть отрывки описательного характера.
Таким образом, мениппова сатура Варрона была действительно настоящей смесью и отличалась разнообразием не
только формы, но и содержания.
Некоторые ученые — Вален, Риббек, Ризе пытались воссоздать из сохранившихся отрывков что-то связное, однако
эти попытки были малоуспешны 22.
И. В. Помяловский в своей книге приводит большую часть
фрагментов в переводе на русский язык 2 3 . Вот как выглядят,
например, два отрывка из сатуры под названием Cycnus,
rcepl таср^с (Лебедь, о погребении), в которой были, по-видимому, рассуждения о смерти и погребении:
1) Почему Гераклит Понтийский, предписывающий сжигать мертвых, более разумен, чем Демокрит, предписывающий сохранять их в меду? Когда бы народ последовал ему,
го пропади я, если бы мы могли купить чашку медовой соты
за сто динариев.
2) Наконец, если одежды, которые ты носишь, нужны, то
для чего ты их рвешь? Если же они не нужны, то для чего
ты их носишь?
22
23
Такие попытки приведены у И. В. Помяловского (указ. соч.,
стр. 219—221, 246—247 и др.) и у Т. Моммзена («История Рима»,
т. III. М., 1941, стр. 510—511).
И. В. П о м я л о в с к и й . Указ. соч., стр. 227—267.
270-
А вот отрывки из сатур на сугубо житейские темы, одна
из которых называется «Сатура, где говорится об обязанностях супруга» (Satura, quam de officio mariti scripsit —
I, 17, 14), а название другой содержит провербиальное выражение, означающее, что следует соблюдать меру при пьянстве
(Est modus matulae, тар! fji(b]<;).
1) Недостатки жены надо или искоренить, или переносить;
кто уничтожает порок, тот делает более сносной жену; кто же
его переносит — делает себя лучше.
2) Никто не пил ничего приятнее вина; его изобрели для
лечения болезней; это сладкий источник веселости; это связь,
соединяющая пирующих.
В сатуре под названием Bajae осмеивается разврат, господствовавший на курорте в Байях. В отрывке из нее
говорится, что «не только замужние становятся общим достоянием, но даже старухи молодеют и многие отроки становятся девушками».
От сатуры под названием E6p.evt8e? 24 сохранилось 49 отрывков. Некоторые из них свидетельствуют о том, что сатура
могла иметь диалогическую форму. Например:
I. Ну же, Стробил, брось морщить лоб.
II. Напротив, с певцом Писием и с Флорой ты объедаешься
и шумишь.
III. Теперь твоя шкура поела вязовых батогов. Ты продолжаешь? Ну же!
В следующей сатуре, по-видимому, высмеиваются среди
прочего и философы.
XV. Наконец, ни один больной не грезит о чем-нибудь
непотребном, чего бы не сказал кто-нибудь из философов.
XXVI. Чужестранец, что ты удивляешься, что Сарапис
лечит за деньги? Ну и что же? Как будто Аристотель не
лечит за столько же.
Некоторые стихотворные
отрывки
напоминают
стихи
древних римских комиков; другие содержат заимствования из
Менандра, из Плавта. Вообще, частые цитаты и реминесценции из римских драматургов, и в частности из комиков, —
характерная черта менипповых сатур Варрона. У менипповой
сатуры, бесспорно, есть точки соприкосновения с комедией.
В X книге «Образование Оратора» (I, 85) Квинтилиан относит Луциллия, Горация и Персия к одному роду сатуры,
а Варрона считает представителем и основателем другого рода
сатуры, которую он называет древнейшей. Такое разделение
Квинтилиана, которое считалось малопонятным, дает, по мне24
Г. Буассье (Etude sur Marc Т. Varron, p. 71) считает, что «Эвмениды» Варрона были пародией на Эсхила.
271-
пию И. Помяловского 25 , повод подозревать, что сатура Варрона
имела драматическую форму. В пользу этой гипотезы Помяловский приводит следующие доводы: если считать, что
сатура Варрона имела драматическую форму, становится
понятным отделение Варрона от Луциллия и Горация; кроме
того, в отрывках Варрона до нас дошли следы разговорной
формы, от которой легко перейти к драматической. Свои
соображения Помяловский подкрепляет ссылкой на Ливия,
который дает описания первого вида сатур, имевших драматическую форму. Все это, естественно, весьма проблематично,
однако если учесть, что фрагменты менипповых сатур дают
основание подозревать известное разнообразие формы, то,
может быть, среди них были и сатуры, имеющие драматическую форму. Одно бесспорно: если говорить о видах римской
сатуры и сопоставлять сатуру Варрона с сатурой Луцилия и
Горация, то мениппова сатура, конечно, имеет более древнее
происхождение и стоит ближе к народному творчеству, чем
более молодая, более «литературная» сатира Луцилия и Горация.
Кроме того, следует подчеркнуть, что несмотря на разнообразный характер «менипповых сатур» Варрона, среди которых были сатуры и серьезно-моралистического, и насмешливого характера, понятие «мениппова сатура» в истории литературы прочно соединилось с представлением о произведении
насмешливо-сатирического плана. А если говорить о ее традиции в литературе и понимать ее широко, то «Сатирикон»
Петрония, который с точки зрения формы можно воспринимать как развернутую мениппову сатуру, продолжил именно
эту, сатирическую линию менипповой сатуры, т. е. стал ее
преемником не только с точки зрения формы.
25
И. В. П о м я л о в с к и й . Указ. соч., стр. 162 сл.
САТИРИКО-БЫТОВОЙ
ПЕТРОНИЙ
РОМАН.
Если число дошедших до нас произведений греческой повествовательно-художественной прозы, так называемых греческих
романов или фрагментов из них настолько значительно, что
мы можем даже говорить о каких-то разновидностях внутри
самого жанра, то из всех произведений римской литературы
к этому жанру могут быть отнесены всего два: «Сатирикон»
Петрония и «Метаморфозы» Аггулея.
«Сатирикон» принадлежит к оригинальнейшим творениям
не только античной, но и всей мировой литературы. Число
проблем, встающих при его изучении, огройно, начиная с вопроса о том, каким временем датировать произведение и кого
считать его автором и кончая различными толкованиями
отдельных мест или слов текста. Среди самых важных
проблем, помимо упомянутой проблемы авторства и хронологии, — проблема определения жанра произведения и его генезиса, проблема отражения в «Сатириконе» современной Петронию реальности, вопрос об идейной концепции автора, о его
литературных взглядах, вопросы
литературных аналогий,
художественного мастерства писателя, вопросы языка и стиля.
Исследователи не обошли своим вниманием ни одну из
проблем. Несмотря на это, многие из них, в том числе самые основные проблемы хронологии и жанра, до сих пор
остаются открытыми. Во всяком случае дискуссии по их
поводу, начавшись почти три столетия назад, продолжаются.
Решению многих вопросов препятствует и то, что от большого, по-видимому, произведения сохранилась лишь его
част^: фрагменты из 15-й, 16-й и, может быть, 14-й книги 1 .
1
Полагают, что гл. 20 относится к 14-й книге.
13
Античный роман
273
Эти фрагменты дошли до нас вместе с отрывками из других
авторов в рукописях, относящихся не ранее, чем к IX—
X вв. н. э.2
Первое издание фрагментов из Петрония (Codex Bernensis) увидело свет в Милане в конце XV в. Более полный
текст, так называемая скалигеровская копия (Codex Leidensis), был издан в Лейдене в 1575 г. Самая полная рукопись
Петрония (Codex Trauguriensis), содержащая значительную
часть «Пира» (гл. 37—78), была найдена в 1650 г. в Трогире
(Tragurium, итал. Trau) в Далмации и издана в Падуе
в 1664 г.3 Полагают, что текст «Пира» был обнаружен
в Англии и переписан для Поджо в 1423 г.4
В 1692 (или в 1693) году француз Нодо, дополнив «Сатирикон» собственными вставками, опубликовал в Париже
якобы полный текст романа с французским переводом,
сославшись на рукопись, найденную в Белграде в 1656 г.5
Подделку вскоре обнаружили, так как она мало помогала
выяснению различных трудных мест и противоречий в сохранившемся тексте и содержала довольно много нелепостей
и анахронизмов.
Однако вставки Нодо и поныне сохраняются в некоторых
изданиях и переводах, поскольку они до известной степени
помогают связать в одно целое дошедшие до нас во фрагментарном виде главы «Сатирикона». С соответствующей
оговоркой и подстрочным, где это нужно, комментарием сохранены они и в русском издании Б. И. Ярхо 6 .
«Сатирикон» имел, по-видимому, большой объем, ибо
даже то, что дошло до нас (141 неполная глава), представляет собой весьма значительный кусок. Опираясь на
гипотезу Ф. Бюхелера, предположившего, что 15-я книга
начинается с 26-й главы, Р. Гнейнце вычислил, что объем
«Сатирикона» мог доходить до 880 страниц 7 . Бюргер 8 и
2
3
4
5
c
7
8
По манускриптам Петрония одной из основных работ считается работа: С. B e c k . The manuscripts of the Satiricon of Petronius Arbiter,
described and collated. Cambridge. Mass., 1863. См. также предисловие к изданию Петрония Ф. Бюхелера: «Petronii Arbitri satirarum
reliquiae». Berlin, 1862, p. XI—XIII и предисловие к изданию Петрония К. Мюллера: Petronii «Arbitri Satiricon». Miinchen, 1961, p. VII—
XXX TX
A. C l a r k . - С И , XXII, 1908, p. 178.
S a b b a d i n i . — Rivista di Filologia, XLVIII, 1920, p. 27.
О Петронии Нодо рассказано у Петрекэн («Manuscrit de Belgrad
ou de Nodo») в кн.: «Nouvelles recherches historiques et de critiques
sur Petrone». Paris, 1869.
П е т р о н и й А р б и т р . Сатирикон. M.—JI., 1924.
«Hermes», XXXIV, 1899, S. 495.
«Hermes», XXVII, 1892, S. 346.
274-
Параторе 9 полагали, что роман состоял приблизительно Ш
6 книг. Э. Марморале, исходя из характера содержания и
композиционных особенностей
«Сатирикона», предполагал,
что Петроний разделил свое сочинение не на книги, а на
эпизоды. Слово «НЬег» в рукописях означает не книгу,
а просто часть произведения, эпизод, которых могло быть
несколько в одной книге 10.
Самое полное название сохранившейся части произведения дает рукопись XV в., найденная в Трогире: P e t r o n i i
А г Ь i t г i. Satyri fragmenta ex libro quinto decimo et sexto
decimo n .
Во всех манускриптах автор романа называется Петроний
Арбитр. Это прозвище подтверждают позднейшие ссылки и
отзывы, в которых, без сомнения, речь идет об авторе «Сатирикона» (Теренций Мавр, Фульгенций Планциад и др.)Макробий (конец IV — начало V в.) в комментариях ко
«Сну Сципиона» (I, 2, 8) говорит о нем как о романисте,
который, как и Апулей, описывал страдания влюбленных.
При этом Макробий первенство в этом деле явно отдает
Петронию. Сидоний Аполлинарий (V в. н. э.) упоминает
Петрония в одном ряду с Цицероном, Титом Ливием и Вергилием (Carm., XXIII, 145 сл.), которых он называет eloquii.
Другие три стиха из Сидония Аполлинария (Carm., XXIII,
155—158) с упоминанием Петрония можно понимать в том
смысле, что Петроний в латинском приапическом романе
оказался на уровне греческих произведений того же рода.
Византийский писатель VI в. Иоанн Лрд, к величайшему
сожалению тех исследователей, которые отрицают сатирическую направленность произведения Петрония, называет его
в числе сатириков (De magistrat., I, 41): Турн, Ювенал, Петроний 12.
Кроме этих отзывов, у грамматиков и схолиастов II —
VII вв. —- Теренциана Мавра, Сервия, Диомеда, Иеронима,
Присциана, Фульгенция и других, — вместе с упоминанием
имени Петрония встречаются отдельные стихи, слова и
выражения, заимствованные у Петрония и свидетельствую9
10
11
12
Е. Р а г a t о г е. La Satiricon di Petronio, v. I. Firenze, 1933, p. 149.
E. M а г m о г a 1 e. La questione petroniana. Bari Laterza, 1948, p. 40.
Большинство современных издателей (Эрну, Параторе, Мюллер)
вполне обоснованно предпочитают заглавие «Satiricon». Последнее,
шестое, издание Бюхелера — Хереуса (1922) сохраняет заглавие
«Satirae» (об этом см. подробнее у Э. Марморале — указ. соч.,
стр. 30 сл.).
А. Колиньон (A. C o l l i g n o n . Etude sur Petrone. Paris, 1892, p. 20),
отказывающийся трактовать произведение Петрония как сатирическое, замечает по этому поводу, что ошибки тех, кто видит сатиру
в произведении Петрония, уходят в античность.
1 8 *
275
Эти фрагменты дошли до нас вместе с отрывками из других
авторов в рукописях, относящихся не ранее, чем к IX—
X вв. н. э.2
Первое издание фрагментов из Петрония (Codex Bernensis) увидело свет в Милане в конце XV в. Более полный
текст, так называемая скалигеровская копия (Codex Leidensis), был издан в Лейдене в 1575 г. Самая полная рукопись
Петрония (Codex Trauguriensis), содержащая значительную
часть «Пира» (гл. 37—78), была найдена в 1650 г. в Трогире
(Tragurium, итал. Trau) в Далмации и издана в Падуе
в 1664 г.3 Полагают, что текст «Пира» был обнаружен
в Англии и переписан для Поджо в 1423 г.4
В 1692 (или в 1693) году француз Нодо, дополнив «Сатирикон» собственными вставками, опубликовал в Париже
якобы полный текст романа с французским переводом,
сославшись на рукопись, найденную в Белграде в 1656 г.5
Подделку вскоре обнаружили, так как она мало помогала
выяснению различных трудных мест и противоречий в сохранившемся тексте и содержала довольно много нелепостей
и анахронизмов.
Однако вставки Нодо и поныне сохраняются в некоторых
изданиях и переводах, поскольку они до известной степени
помогают связать в одно целое дошедшие до нас во фрагментарном виде главы «Сатирикона». С соответствующей
оговоркой и подстрочным, где это нужно, комментарием сохранены они и в русском издании Б. И. Ярхо 6 .
«Сатирикон» имел, по-видимому, большой объем, ибо
даже то, что дошло до нас (141 неполная глава), представляет собой весьма значительный кусок. Опираясь на
гипотезу Ф. Бюхелера, предположившего, что 15-я книга
начинается с 26-й главы, Р. Гнейнце вычислил, что объем
«Сатирикона» мог доходить до 880 страниц 7 . Бюргер 8 и
2
3
4
5
6
7
8
По манускриптам Петрония одной из основных работ считается работа: С. B e c k . The manuscripts of the Satiricon of Petronius Arbiter,
described and collated. Cambridge. Mass., 1863. См. также предисловие к изданию Петрония Ф. Бюхелера: «Petronii Arbitri satirarum
reliquiae». Berlin, 1862, p. XI—XIII и предисловие к изданию Петрония К. Мюллера: Petronii «Arbitri Satiricon». Miinchen, 1961, p. VII—
XXXIX.
A. C l a r k . — CR, XXII, 1908, p. 178.
S a b b a d i n i . — Rivista di Filologia, XLVIII, 1920, p. 27.
О Петронии Нодо рассказано у Петрекэн («Manuscrit de Belgrad
ou de Nodo») в кн.: «Nouvelles recherches historiques et de critiques
sur Petrone». Paris, 1869.
П е т р о н и й А р б и т р . Сатирикон. M.—JI., 1924.
«Hermes», XXXIV, 1899, S. 495.
«Hermes», XXVII, 1892, S. 346.
274-
Параторе 9 полагали, что роман состоял приблизительно из
6 книг. Э. Марморале, исходя из характера содержания и
композиционных особенностей
«Сатирикона», предполагал,
что Петроний разделил свое сочинение не на книги, а на
эпизоды. Слово «ПЬег» в рукописях означает не книгу,
а просто часть произведения, эпизод, которых могло быть
несколько в одной книге 10.
Самое полное название сохранившейся части произведения дает рукопись XV в., найденная в Трогире: P e t r o n i i
А г b i t г i. Satyri fragmenta ex libro quinto decimo et sexto
decimo n .
Во всех манускриптах автор романа называется Петроний
Арбитр. Это прозвище подтверждают позднейшие ссылки и
отзывы, в которых, без сомнения, речь идет об авторе «Сатирикона» (Теренций Мавр, Фульгенций Планциад и др.).
Макробий (конец IV — начало V в.) в комментариях ко
«Сну Сципиона» (I, 2, 8) говорит о нем как о романисте,
который, как и Апулей, описывал страдания влюбленных.
При этом Макробий первенство в этом деле явно отдает
Петронию. Сидоний Аполлинарий (V в. н. э.) упоминает
Петрония в одном ряду с Цицероном, Титом Ливием и Вергилием (Carm., XXIII, 145 сл.), которых он называет eloquii.
Другие три стиха из Сидония Аполлинария (Carm., XXIII,
155—158) с упоминанием Петрония можно понимать в том
смысле, что Петроний в латинском приапическом романе
оказался на уровне греческих произведений того же рода.
Византийский писатель VI в. Иоанн Л#д, к величайшему
сожалению тех исследователей, которые отрицают сатирическую направленность произведения Петрония, называет его
в числе сатириков (De magistral, I, 41): Турн, Ювенал, Петроний 12.
Кроме этих отзывов, у грамматиков и схолиастов II —
VII вв. — Теренциана Мавра, Сервия, Диомеда, Иеронима,
Присциана, Фульгенция и других, — вместе с упоминанием
имени Петрония встречаются отдельные стихи, слова и
выражения, заимствованные у Петрония и свидетельствую9
Е . P a r a t o r e . La Satiricon di Petronio, v. I. Firenze, 1933, p. 149.
E. M a r m о r a 1 e. La questione petroniana. Bari Laterza, 1948, p. 40.
Большинство современных издателей (Эрну, Параторе, Мюллер)
вполне обоснованно предпочитают заглавие «Satiricon». Последнее,
шестое, издание Бюхелера — Хереуса (1922) сохраняет заглавие
«Satirae» (об этом см. подробнее у Э. Марморале — указ. соч.,
стр. 30 сл.).
12
А. Колиньон (A. C o l l i g n o n . Etude sur Petrone. Paris, 1892, p. 20),
отказывающийся трактовать произведение Петрония как сатирическое, замечает по этому поводу, что ошибки тех, кто видит сатиру
в произведении Петрония, уходят в античность.
10
11
1 8 *
275
гцие о существовании
«Сатирикона». Теренциан Мавр
(II в. н. э.) в своем сочинении «De metris» 13 наделяет Петрония эпитетом disertus и, говоря об анакреонтических размерах, замечает, что их часто употреблял Петроний u . Disertus
Петроний мог быть назван Теренцианом за стилистическое
мастерство, проявившееся у Петрония необыкновенно широко — ив прозе разного стиля, и в многочисленных речах, и в поэтических вставках. Кроме того, свидетельство
Теренциана Мавра, который берет Петрония в соотношении
с новыми поэтами, может, по мнению некоторых исследователей 15, служить подтверждением традиционной даты жизни
Петрония.
Все эти отзывы и упоминания, свидетельствуя об известности Петрония Арбитра в античности, не сообщают нам,
к сожалению, никаких сведений о его жизни. Полное отсутствие каких-либо данных об авторе «Сатирикона» принудило исследователей прибегнуть к догадкам. Большинство
из них склонно отождествлять автора романа с тем Петронием, которого Тацит изобразил в 17, 18—20-й главах XVI
книги своей «Летописи».
В главе 17-й он сообщает о смерти Петрония вместе с другими представителями сенатской оппозиции: «.. .В течение
нескольких дней погибли один за другим Анней Мела, Аниций Цериал, Руфрий Криспин и (Г.) Петроний» 16.
В главе 18-й Тацит рисует яркий образ арбитра изящества (elegantiae arbiter) — законодателя хорошего вкуса при
дворе Нерона:
«Говоря о (Г.) Петронии 17, следует вернуться несколько
назад. День он посвящал сну, ночь — делам и жизненным
наслаждениям. Других приводят к славе старания, его же —
13
14
15
16
17
Grammatici latini, v. VI, rec. R. Keil, Lipsiae, 1857, p. 399.
В сохранившемся тексте Петрония анакреонтических размеров не
встречается, так что Теренциан либо ошибался, либо имел перед собой более полный текст Петрония, где эти размеры могли быть.
Е. С a s t о г i n a. Petronio ei poetae novelli. — GIF, 1,1948, p. 213—219.
В так называемом Codex Mediceus Тацита здесь стоит ас Petronius.
В связи с этим возникло предположение, что «ас» появилось по
ошибке вместо «с». Многие издатели (в том числе Везенберг, Орелли,
Гальм) следуют этому чтению. Другие (Ниппердей, Ив. Мюллер,
Хаазе), ссылаясь на Плиния (Н. N., XXXVII, 8, 20) и Плутарха
(de discr. amic. et adulat., 35), где упомянут консуляр Петроний
с преноменом «Тит», ставят «Тит». В рукописях «Сатирикона» преномен отсутствует. В новейшем издании (1960—1962) Е. Кестермана здесь стоит «Тит». В оксфордском издании 1907 г. («The annales
of Tacitus edited with introduction and notes Henry Furneaux» —
2 тома) — «Гай».
Якоб и Ниппердей здесь вовсе опускают преномен. В оксфордском
издании и изд. Кестермана стоит «Гай».
276-
бездеятельность; он не считался забулдыгой и мотом, как
другие, проживающие свое состояние, но отличался утонченнной роскошью. Чем вольнее были его слова и дела, чем
яснее он обнаруживал свое легкомыслие, тем охотнее все это
принималось за простоту души (simplicitas) 18.
Однако будучи проконсулом, а вскоре за тем консулом
в Вифинии, он показал себя дельным и умелым в исполнении обязанностей. Затем опять погрузившись в пороки
или в подражание порокам, был принят в число немногих
приближенных Нерона в качестве арбитра изящества (elegantiae arbiter), так что Нерон не считал ничего ни приятным, ни роскошным, пока не получал одобрения от Петрония. Отсюда зависть Тигеллина по отношению к сопернику,
превосходившему его в науке наслаждений. Поэтому он
воспользовался жестокостью властителя, которая у этого
последнего пересиливала все прочие страсти, обвинив Петрония в дружбе со Сцевином 19, подкупив раба, запретив защиту и сковав большую часть прислуги Петрония.
Случайно Цезарь в это время отправился в Кампанию, и
Петроний, проехав до Кум, был там задержан. Он не мог далее выносить колебаний между страхом и надеждой. Однако
он не сразу расстался с жизнью, но приказывая то открывать, то вновь перевязывать вскрытые жилы, разговаривал
с друзьями, но не о серьезных вещах и не затем, чтобы заслужить похвалу своему мужеству. Он не хотел слушать ни
о бессмертии души, ни философских рассуждений, а только
легкомысленные песни и легкие стихи. - Одних рабов он
щедро наградил, других наказал плетьми. Возлег за пиршественный стол, затем заснул, чтобы придать насильственной
смерти вид случайной.
В завещании своем он не льстил, подобно многим погибающим, ни Нерону, ни Тигеллину, ни кому-либо из
власть имущих, но перечислил в нем все бесчинства власти18
19
Тацит употребляет слово simplicitas, характеризуя нрав своего Петрония. Автор «Сатирикона» употребляет (в CXXXII, 1—5) то же
слово simplicitas для характеристики своего произведения, прославляющего простоту нравов: «Что вы, наморщивши лбы, в лицо мне
уперлись, Катоны, и осуждаете труд, новый своей простотой?»
(дерев. Б. И. Ярхо). Употребление simplicitas в сходном значении
у Тацита и в «Сатириконе» — один из аргументов в пользу идентификации Петрония Тацита и автора «Сатирикона». См., напр.:
Н. B o g n e r . Petronius bei Tacitus. — Hermes (1941), S. 223—224.
Богнер констатирует идентичность смысла слова simplicitas у Тацита и Петрония и предлагает рассматривать цитируемое место
(CXXXII, 1—5) как оправдание, которое Петроний дает своей манере, и как его программу.
Один из участников заговора Пизона («Летопись», XV, 53—56, 59—70).
277-
теля, называя нмена разделявших его разврат мужчин и
женщин и описывая все новые виды разврата, а затем
послал его Нерону за своей подписью. Он сломал свое
кольцо с печатью, чтобы оно не могло быть использовано
для чьей-нибудь гибели 20.
Недоумевая, каким образом узнали о его ночных проделках, Нерон заподозрил Силию, небезызвестную благодаря
своему браку с сенатором, осведомленную обо всех распутствах Нерона, а также связанную близостью с Петронием.
Она была наказана изгнанием за то, что якобы из личной
ненависти не умолчала о том, что видела и чему сама подвергалась» 21.
Хотя Тацит ничего не говорит о литературной деятельности Петрония, образ, нарисованный им, совпадает с тем
представлением об авторе «Сатирикона», которое создается
при чтении романа 2 2 . В дискуссии об авторе и датировке
«Сатирикона» этосовпадение— один из аргументов в пользу
авторства тацитовского Петрония.
Еще в XVII в. было высказано мнение (Питу, Юст Липсий), что «Сатирикон» мог возникнуть только при Нероне,
но приблизительно с конца XVIII в. эта уверенность сменяется скептицизмом, а в XIX в. начинается активный пересмотр вопроса. Роман стали относить то к более позднему, то
даже к более раннему, чем эпоха Нерона, времени. Были
исследователи, которые склонялись к мысли, что «Сатирикон» создан в эпоху Августа. Нибур же, например, считал,
что «Сатирикон» написан во времена царствования Александра Севера; другие исследователи относили его к эпохе
Константина. Однако к концу XIX — началу XX в. возобладало прежнее мнение, что роман — продукт эпохи Нерона
и автор его — Петроний, описанный Тацитом. Эту точку
зрения поддерживали издатель Петрония Ф. Бюхелер, такие
крупные ученые, как Т. Моммзен, Г. Буассье и др. Главный
аргумент сторонников этой точки зрения — сам роман, содержание которого, по их мнению, явно отражает эпоху
Нерона. Описанные Петронием люди и обстоятельства,
нравы и быт, образ мышления представителей различных
слоев населения воссоздают картину жизни Италии второй
20
21
22
Т. е. для составления подложного документа. См., напр., «Летопись»,
XVI, 17, где говорится о подделанной записке Лукана.
Перев. Б. И. Ярхо (с незначительными изменениями). См. предисловие к его изданию «Сатирикона», стр. 17—18.
Характеристика Петрония у Тацита перекликается также с сообщением Плиния Ст. (II. N., XXXVII, 8, 20) о консуляре Тите Петронии,
который, умирая, разбил драгоценную вазу, чтобы она не досталась
Нерону.
278-
половины I в. н. э. О том же говорит освещение затронутых
в романе проблем культуры, главным образом, риторики и
поэзии; многочисленные литературные намеки, пародии,
параллели, реминисценции и литературные вкусы автора.
В предисловии к изданию Петрония Ф. Бюхелера 2 3 со
всей решительностью сказано: «Как люди, обстоятельства,
нравы, литературные занятия и вообще весь склад человеческой и гражданской жизни, какой тут описывается, так и
язык, и техника размеров не совпадает ни с каким другим
временем, кроме нероновского».
В статье В. Кроля о Петронии в энциклопедии ПаулиВиссова 24 еще с большей решительностью заявлено, что все
попытки поместить Петрония в более раннее или позднее,
чем эпоха Нерона, время не представляют уже никакого
интереса. В. Кроль ссылается при этом на Э. Параторе, который обстоятельно рассматривает этот вопрос в I томе своего издания «Сатирикона» 25.
Э. Параторе по ходу рассмотрения различных точек зрения
на Петрония у Тацита приводит, между прочим, цитату из
введения к изданию Петрония А. Эрну, где отмечены те моменты в тацитовских главах, которые могут вызвать сомнения в справедливости идентификации Петрония Тацита с автором «Сатирикона» и где вместе с тем указаны совпадения,
заставляющие все-таки склоняться к такой идентификации.
Прежде всего, говорится там, в рассказе Тацита нет ничего, что напоминало бы о «Сатириконе». Слишком легко
сформулированная и принятая гипотеза о' том, что завещание Петрония, составленное в его последнюю ночь, — это и
есть «Сатирикон», давно и справедливо отвергнута 26 . Сам же
рассказ Тацита не лишен неправдоподобия. Действительно,
трудно представить себе человека, обессиленного потерей
крови, со вскрытыми венами, на пороге смерти нашедшего
среди других занятий время написать обстоятельный рассказ
о дебошах принцепса и его окружения. Но наряду с этими
сомнительными моментами в рассказе Тацита есть совпадения, которые заставляют задуматься. Прежде всего совпадение даты: «Сатирикон» — роман о времени Нерона —
23
24
25
26
F. В и с h е 1 е г. Предисловие к указ. изд., стр. V.
W. К г о 11. Petronius Arbiter. — RE, RI, Hb, 37, 1937, S. 1201—1214.
E. P a r a t о г е. Указ. соч., т. I, стр. 1—30.
Гипотеза, отождествлявшая «Сатирикон» с упомянутым у Тацита
завещанием Петрония, где описаны flagitia principis, слишком очевидно несостоятельна. Существовала также гипотеза Штудера, который предполагал, что Петроний послал Нерону фрагмент из «Сатирикона». Однако Ф. Риттер (F. R i 11 е г. Zwei Werke des Petronius
Arbiter. — RhM, 1843) убедительно доказал, что завещание и «Сатирикон» не имеют между собой ничего общего.
279-
написан современником. Анекдоты, имена исторических персонажей относятся к этой эпохе или к той, которая ей
непосредственно предшествовала.
Пародийные поэмы на Нерона и Лукана «Взятие Трои»
и «О гражданской войне» могли представлять интерес только
для современников, так как пародии быстро становятся не
только неинтересными, но и непонятными.
Еще одно совпадение: Петроний носит когномен «Арбитр»,
и консуляр Тацита был назван друзьями «elegantiae arbiter».
Это совпадение усиливается, если свидетельство Тацита о простоте и непринужденности (simplicitas) своего героя сблизить с суждением, которое автор «Сатирикона» устами
Эвмолпа выносит о своем произведении (CXXXII, 1—5):
«Что вы, наморщивши лбы, в лицо мне уперлись, Катоны, и
осуждаете труд, новый своей простотой» и т. д.
Не допуская, чтобы пародия на Лукана могла быть написана Петронием после смерти поэта, А. Эрну (по его мнению,
это
было
бы
непростительной низостью) высказывает
предположение, поддержанное Параторе, а именно: «Сатирикон» был написан до заговора Пизона и его жертв, т. е.,
по-видимому, в то время, когда Петроний был еще в фаворе.
По мнению большинства ученых, упомянутых совпадений
вполне достаточно для того, чтобы допустить идентификацию
жертвы Нерона с автором романа. Однако до последнего времени находятся исследователи, которых не убеждают эти соответствия, а отсутствие в «Сатириконе» точных указаний на
время действия 27 побуждает выдвигать иные гипотезы о времени его написания.
Так, в 1948 г. вышла книга Э. Марморале 28, где он на основании анализа языка «Сатирикона» приходит к выводу, что
произведение Петрония относится не ранее, чем к концу
II — началу III в. и. э. Появление этой книги Марморале
было тем более удивительным, что в своей ранней работе он
защищал традиционную дату написания «Сатирикона» 29.
27
28
29
Весьма возможно, что Петроний намеренно избегал в романе точных указаний на время действия. Он мог сделать это из цензурных
соображений и отнюдь не из излишней предосторожности.
Е. V. М а г m о г а 1 е. La questione petroniana. Bari Laterza. 1948.
E. V. M a r m о r a 1 e. Petronio. Napoli, 1936. Главным противником
Э. Марморале был тогда У. Паоли, который решительно отрицал принадлежность «Сатирикона» к эпохе Нерона и на основании упомянутого в гл. LXX manumissio per mensam (т. е. предоставление
рабу свободы через приглашение его к своему столу), которое вошло
в силу позднее, относил его к эпохе между концом II и концом
III в. н. э. (U. Е. Р а о 1 i, L'eta del Satiricon. — SIFC, 1937; U. E. P а о 1 i.
Ancora sull'eta del Satiricon. — RFIC, 1938).
( Гипотеза Уго Паоли относительно manumissio per mensam нахо-
280-
Вторая книга Э. Марморале вновь всколыхнула утихнувшие
было страсти вокруг петрониевского вопроса. Ему пришлось
выдержать активную полемику, в которой одним из основных
его противников на этот раз был Э. Параторе 30. После выхода
в свет книги Э. Марморале вновь увеличился поток статей,
приводящих новые аргументы как в пользу, так и против традиционной даты. Несмотря на то, что преобладающее большинство ученых теперь, как и прежде, стоит за традиционную
дату написания «Сатирикона», Э. Марморале отнюдь не одинок в своем убеждении относительно поздней даты 3 1 .
Интересно заметить, что среди работ, посвященных датировке «Сатирикона», довольно большую часть составляют
статьи, в которых делается попытка провести параллель между
тем или другим персонажем Петрония и реальным лицом,
жившим в то время, какое автор считает временем написания
«Сатирикона» 32.
Попытки угадать, кто стоит за тем или иным персонажем
Петрония, начались уже с появления первых изданий «Сатирикона». Было высказано немало догадок и предположений, от
30
31
32
дила поддержку (A. B i s c a r d i . Petronio, LXX—SIFC, 1938). Э. Марморале поддерживал тогда Дж. Фунайоли (G. F u n a i о 1 i. Е апсога
sull'eta di Petronio. — SI, 1938).
E. P a r a t o r e . Petronio nel III Secolo. Paideia. Ill, 1948; Параторе
поддерживали: A. M a j u r i . Petroniana. — PP, III (1948); R. B r o w i n g . The date of Petronius. — GR, 1948; N. T e r z a g h i . Ancora
sull'eta di Petronio. — AFC, 1947—1949; P. G r i m a 1. La date du Satiricon. — REA, 1951 и др.
Так, Уотмаут (Whatmought. — CPh, XVII, 1949) склонен признать
точку зрения Марморале, или JI. Пепе (L. Р е р е. Petronio cognosce
l'epistolario di Plinio. — GIF, XI, 1958), который на основании сопоставления двух мест из Петрония и Плиния Мл. (CXV, 6 и XV,
20, 19) .приходит к выводу, что Петроний следовал Плинию, и, следовательно, «Сатирикон», не мог быть написан в эпоху Нерона.
Или Ранкайоли (С. R а п с a i о 1 i. II diminutivo е l'eta di Petronio. —
GIF, XIV, 1961), который исходя из анализа уменьшительных имен,
приходит к мысли, что Петроний жил во II в. н. э. См. также:
Г. П у з и с . Вопросы римского романа «Сатирикон» («Acta Antiquae»,
XIV, 1966, fasc. 3—4, s. 375—381), где утверждается, что Петроний
жил не раньше Домициана.
См., напр., ст. П. Грималя (G г i m а 1. Note a Petrone. Satiricon,
XXVI. — RPli, 1941), где высказано предположение, что прообразом
раба Трималхиона Карпа послужил раб-фаворит Нерона по имени
Каргг, известный из эпиграфики или ст. Вердьера (R. V е г d i ё г е.
La Triphaena du Satiricon est-elle Junia Silana? Latomus, XV, 1956),
который, сопоставляя характеры Трифены Петрония и Юнии Силаны Тацита, приходит к мысли, что Петроний писал свою Трифену
с реального персонажа. См. также ст. Роуэлла (Н. Т. R о w е 11.
The gladiator Petrait and the date of Satiricon. — TAPhA, LXXXIX,
1958), где утверждается, что гладиатор Петраит, упомянутый
в гл. LII и LXXI «Сатирикона», — знаменитый гладиатор эпохи
Нерона.
281-
весьма правдоподобных до самых смелых. Стоит в связи
с этим вспомнить Нодо, который предположил (в предисловии
ко 2-му изданию своего Петрония, вышедшему в 1736 г.), что
под именем ритора Агамемнона Петроний изобразил Сенеку,
под именем кротонской красавицы Киркеи — упомянутую
Тацитом Силию и что изобразив в карикатурном виде действия жрицы Приапа Энотеи и колдуньи Проселены, он высмеял
суеверия, которым был подвержен Нерон, а в лице Эвмолпа —
стихоманию, которой страдал Нерон. Вообще же чертами характера Нерона Петроний, по мнению Нодо, наделил трех
своих персонажей: Трималхиона, Эвмолпа и Полиена-Энколпия. Список подобных параллелей и догадок можно продолжить, однако, как бы ни было соблазнительно видеть под
маской персонажа Петрония то или иное реальное лицо, вряд
ли этот метод аргументации в пользу той или иной даты
можно признать наиболее убедительным 33.
Гораздо убедительнее выглядят работы, доказывающие принадлежность «Сатирикона» к эпохе Нерона на основании анализа общей картины действительности и разных ее сторон —
экономической, юридической и социальной, изображенной
в произведении 34 . Тем более, что для работ о Петронии вообще
характерно, что почти ни одна из них, какой бы теме она ни
посвящалась, не обходит вопроса о хронологии «Сатирикона» 35.
Событием в области петрониеведения стала вышедшая в
1954 г. книга Дж. Баньяни 3 6 , нашедшего новые аргументы
в пользу традиционной даты. Книга Дж. Баньяни вызвала
широкий отклик и высокую оценку большинства ученых 3 7 .
33
34
35
Совершенно прав в этом случае Грималь (P. G г i m а 1. Sur quelques
noms propres de la Cena Trimalchionis. — RPh, 1942), который высказывает убеждение, что черты реализма в романе настолько смешаны
с вымыслом, что было бы неправильно искать исторических персонажей под масками героев Петрония.
См., напр., ст. Шнура (Н. С. S h n u r . The economic background
of Satiricon
«Latomus», XVIII, 1959), где традиционная датировка
подтверждается анализом экономической ситуации, изображенной
Петронием.
См., напр., ст. Кабаниса (A. C a b a n i s . A footnote to the Petronian
question. — CPh., XLIX, 1954), который сближает рассказ о матроне
Эфесской с евангельским рассказом о положении во гроб Христа,
замечая, что это предположение не идет в разрез с мнением о том,
что Петроний жил при Нероне. См. также кн. В. Джаффи
(V. Gi a f f i. Petronio in Apuleio. Torino, 1960), где автор, проводя
сопоставление текста Апулея и Петрония, утверждает, что поздняя
дата Марморале должна быть исключена.
t ?.a£nani- Arbiter of elegance.
A study of the life and works
ol C. Petronius. University of Toronto Press, 1954.
См., напр., рец. Эрну (A. E r n o u t . — RPh, Т. 29, fasc. II, 1955),
282-
Она состоит из трех основных глав, первая из которых посвящена исследованию даты и авторства «Сатирикона», вторая —
дате, цели и авторству «Ltidus de morte Claudii» и третья —
биографии Петрония, составленной с использованием новых
гипотез и аргументов. Работу заключает экскурс — о вульгарной латынп, о римской литературной пропаганде и т. д. Наибольшую ценность и интерес представляет для нас первая
глава — о дате и авторстве «Сатирикона» (стр. 3—24).
Дж. Баньяни прямо начинает с заявления, что нынешнее
состояние петрониевского вопроса может быть признано только
неудовлетворительным 38 . Он, что вполне естественно и привычно, связывает вопрос о времени написания «Сатирикона»
с авторством Петрония, упомянутого Тацитом, которое, по его
мнению, следует признать неизбежным, если вопрос о дате
решен в пользу эпохи Нерона 39. С небольшой долей вероятности он допускает, что автором «Сатирикона» мог быть и
другой Петроний, например, Петроний Нигер 40.
Дж. Баньяни заключает дату написания «Сатирикона» в
рамки между 58 и 212 гг. н. э. и строит свои доказательства
путем постепенного сближения этих дат. 58 г. он выбирает потому, что «Сатирикон», содержащий пародию на Лукана, не
мог быть написан раньше, чем стала известна его поэма
«О гражданской войне», а 212 г. — потому, что место в «Сатириконе» LXII, 4 41 едва ли могло быть написано после конституции Антонинов 212 г.42
Датировку романа Баньяни связывает также с датировкой
lex Petronia de servis, запрещавшего хозяину -по собственному
произволу бросать раба на съедение звёрям. Независимо
от «Сатирикона» он доказывает, что lex Petronia был утвержден Петронием Арбитром или Г. Петронием Нигером между
38
39
40
41
42
Бэссета (Е. L. В a s s е t. — CPh, LT, янв.—окт. 1956), Роуэлла
(Н. Т. R о w е 11. - AJPh, XXVII, янв. 1956) и др.
G. В a g n a n i. Указ. соч., стр. 3.
Там же, стр. 24.
Там же, стр. 23. Гипотеза о Петронии Нигере как авторе «Сатирикона» не нова. Она фигурировала в старых работах, встречается и
теперь. См., напр., ст. Роуза (К. F. R о s е. The author of the Satiricon.— Latomus. XX, 1961). который утверждает, что Петроний,
изображенный Тацитом — это Петроний Нигер, консул 62, арбитр
изящества и автор «Сатирикона».
.. . malub civis Romanus esse quam tributarius — бывший раб, соотпущенник Трималхиона, говорит смеющемуся над ним Аскилту, что
он предпочитает родиться рабом, который может со временем стать
римским гражданином, чем свободнорожденным провинциалом, обреченным на вечную уплату данп Риму.
Constitulio Antoniana 212 г. даровала права гражданства провинциалам.
283-
60 г. н. э. и концом царствования Нерона. Опираясь на аргументы, которые, по мнению рецензентов, нелегко опровергнуть,
Дж. Баньяни заключает время написания «Сатирикона»
в окончательные рамки между 58 и 65 гг. Более того, он уточняет и эту дату, предполагая, что «Сатирикон» мог быть написан для развлечения Нерона и его близких по поводу
Неронейи 60 г.43 В своих доказательствах Баньяни обращает
внимание и на тот факт, что картина нравов, изображенная в «Сатириконе», также наводит на мысль об эпохе
Нерона 44 .
Тацит не упоминает о литературной деятельности Петрония,
но уделяет биографии Петрония целые две главы (18 и 19) —
в два раза больше, чем Лукану. По мнению Дж. Баньяни,
Тацит делает это потому, что Петроний был для него литературной фигурой 45 . Однако, на наш взгляд, Тацит уделил
Петронию две полные главы скорее всего потому, что описанный им Петроний был интересен сам по себе, как яркая
личность, как любопытный характер, как человек с драматической судьбой. Был или не был он писателем, — этот факт
вряд ли так уж много значил для Тацита и вряд ли много
прибавлял Петронию в его глазах.
Выход в свет книги Дж. Баньяни отнюдь не закрыл самый
больной из петрониевских вопросов — вопрос хронологии и
авторства, поскольку работы с противоположной точкой зрения продолжают появляться 46.
В тех немногих работах русских ученых — историков и
филологов — о Петронии, к которым относятся статьи
в историях античной литературы, изданных до революции и
в советский период, вступительные статьи к русским изданиям «Сатирикона» (прежде всего Б. И. Ярхо и А. Пиотровского к изданию Ярхо), и еще несколько работ общего и частного характера (И. Гревса, М. Покровского, В. Клингера
и др.) принадлежность «Сатирикона» к эпохе Нерона, так же,
как авторство Петрония, упомянутого Тацитом, признавались
наиболее вероятным.
И. М. Гревс в своих «Очерках из истории римского землевладения» 47 дает описание крупного домового хозяйства
43
44
45
46
47
G. В a g n a n i. Указ. соч., стр. 25.
Там же, стр. 11.
Там же, стр. 25.
См., напр., ст. Бруньоли (G. В г u g п о 1 i. L'intitulatio del Satiricon. — RCCM, III, 1961), где на основании сопоставления имени Петрония у Тацита с названием манускриптов утверждается, что отождествлять обоих Петрониев нельзя.
И. М. Г р е в с . Очерки из истории римского землевладения. — ЖМНП,
сент. 1905 г., отд. II, стр. 42—93.
284-
эпохи наибольшего экономического расцвета Римской империи, основываясь на данных Петрония по аграрной истории
I в. н. э., в частности, на данных о хозяйственной организации и состоянии Трималхиона. Он отмечает, что в образе
Трималхиона дан классический тин богача-вольноотпущенника первого века империи, важная социальная фигура,
сыгравшая свою историческую роль. Гревс подчеркивает, что
нет никакого сомнения в значении «Пира Трималхиона» как
исторического памятника, как источника сведений о быте, нравах и состоянии римского общества того времени.
Ярхо в предисловии к своему изданию «Сатирикона» высказывается в пользу традиционной даты, опираясь на различные
«реалии» и историко-литературные соображения: на характер
литературных цитат и упоминаний, на литературные вкусы
автора, на присутствие в «Сатириконе» модных тем Неронова
времени, на литературные параллели, в частности, особенно
многочисленные, с Марциалом, что можно объяснить схожестью жизненного материала, служившего первоисточником
для обоих писателей 48.
Действительно, есть основания предполагать, что Петроний
дал в «Сатириконе» картину жизни низов Италии I в. н. э.,
эпохи так называемого «рах гошапа» — внешнего процветания
и глубокого внутреннего социального кризиса Римской империи.
В «Сатириконе» нашел отражение рост экономического и социального значения провинций, деградация знати и возвышение
вольноотпущенников, которые были в то время одной из опор
императоров, в частности Нерона — в его борьбе с сенатом.
«Сатирикон» откликается на злободневные для середины I в.
проблемы культуры: критикует постановку образования в риторических школах, приучающих к пустому фразерству и не дающих никаких практических навыков, высмеивает непомерно
разросшийся дилетантизм в поэзии, полемизирует на злободневные для того времени литературные темы и т. д. К этому
можно добавить еще, что отдельные сцены из «Сатирикона»,
его атмосфера заставляют вспомнить об атмосфере в Римской
империи во времена Нерона, о его вкусах и пристрастиях, известных из Тацита или из биографии Нерона, написанной
Светонием.
Однако как бы ни казалось соблазнительным считать эти выводы о дате и авторстве «Сатирикона» окончательными, они
тем не менее остаются только гипотезой. Окончательное же
решение вопроса о дате «Сатирикона» до новых открытий и находок, по-видимому, невозможно, хотя это отнюдь не исключает возможности возникновения на этот счет новых гипотез.
48
Б. И. Я р х о. Предисловие к указ. изд., стр. 15—17.
285-
*
*
*
То, что дошло до нас от «Сатирикона» — выдержки из XV и
XVI книг (согласно заглавию манускрипта из Трогира),—
представляет собой ряд мало связанных между собой эпизодов,
рассказывающих о скитаниях и приключениях компании молодых людей без определенных занятий и с сомнительным
прошлым.
Эти люди, получив образование, но не имея ни денег, ни
твердых моральных устоев, ведут паразитический образ жизни.
Гонимые случаем, они скитаются по свету, высматривая, где
можно поживиться за чужой счет. Главный герой — Энколпий,
от лица которого ведется рассказ, по его же собственным словам «избег правосудия, обманом спас свою жизнь на арене,
убил хозяина» (гл. LXXXI, 5—6), «совершил предательство,
убил человека, осквернил храм» (гл. СХХХ, 8—10). Его товарищ Аскилт — «молодой человек, погрязший во всяческом сладострастии, по собственному признанию достойный ссылки»
(гл. LXXXI, 8—9). Им сопутствует мальчик Гитон — предмет
их страсти и раздора. Скитальческая жизнь, ссоры и примирения, встречи и расставания составляют сюжетную канву произведения, обнажающего изнанку быта низших слоев римского
общества.
Место действия часто меняется; в сохранившихся отрывках
приключения героев происходят на юге Италии, в Кампании.
Определить точно, что это за graeca urbs (гл. XXXI), в котором происходит действие первых из сохранившихся частей
романа и в котором живет Трималхион, — невозможно. Петроний не дает никаких данных, передающих местный колорит и,
может быть, рисует этот город намеренно неопределенно, выделив в нем его родовые черты, типичные для города определенной категории: это колония римских граждан на юге Италии,
приморский город, по-видимому, крупный торговый центр.
Намеренная или ненамеренная неопределенность Петрония
дала ученым пищу для догадок по этому поводу и создала
вопрос в петрониеведении.
Догадки концентрируются в основном вокруг трех городов:
Неаполя, Кум и Путеол, при этом большинство исследователей
высказываются за Путеолы, хотя и за него пет абсолютно бесспорных данных 49.
49
Т. Моммзен считал, что это
Grabschrift. — «Hermes», XIII,
de la societe romaine». Paris,
а Путеолы. JI. Фридлендер
1906, предисловие, стр. 8—10)
286-
были Кумы («Trimalchios Heimat und
1878, S. 106). Э. Тома («Petrone envers
1902, p. 46) думает, что это не Кумы,
(«Petronii Cena Trimalcliionis». Lipsiae,
также высказывается за Путеолы.
На наш взгляд, не так уж важно, изобразил здесь Петроний
именно Кумы или Путеолы, или просто дал обобщенный образ
южного приморского торгового города, шумного и грязного,
с притонами и храмами, рынком и пинакотекой, с дворцами
типа дома Трималхиона и постоялыми дворами, города, населенного самым разным людом, начиная от разбогатевшего вольноотпущенника, мнящего себя местным царьком, до бездомных шарлатанов и преступников. Важно, что, изображая этот
город, Петроний шел от жизни, от реальности, от того, что
успел увидеть и познать его наблюдательный глаз и острый ум.
Поэтому его относительная географическая «неопределенность»
не имеет ничего общего с географической неопределенностью
греческого романа, который своим местом действия обязан
воображению и фантазии автора, пытающегося уйти от реальности.
Сохранившиеся главы «Сатирикона» по содержанию можно
разделить на три большие части, каждая из которых включает
в себя по нескольку эпизодов. Первая часть объединяет события, происшедшие с главными героями — Энколпием, Аскилтом
и Гитоном — до того, как они попали на пир к Трималхиону.
Вторая часть включает главы, посвященные описанию «Пира»
(гл. LXXVII—LXXVIII). К третьей относятся события, происшедшие с героями после пира. Главные из них — это знакомство Энколпия с Эвмолпом, события на корабле, приключения в Кротоне.
«Сатирикон», вернее то, что от него осталось, начинается
с речи Энколпия, которую тот произносит в школе ритора Агамемнона в незнакомом для него и его спутников — Аскилта и
Гитона — приморском городке Кампании. Энколпий нападает
на постановку обучения в тогдашних риторических школах, которые приучают юношей к пустому разглагольствованию на
отвлеченные темы («про пиратов, торчащих с цепями на морском берегу, про тиранов, подписывающих указы детям обезглавливать собственных отцов, да про дев, приносимых в жертву
целыми тройками...» — гл. I), а не дают полезных для жизни
знаний. Это обучение, по мысли Энколпия, приносит только вред
истинному красноречию, и юноши уходят из школ «дураки
дураками» (stultissimos). Агамемнон, соглашаясь с Энколпием
и одобряя его слова, сваливает всю вину на родителей, которым не терпится поскорее увидеть своих недоучек на форуме.
Дж. Баньяни (указ. соч., стр. И) не высказывается твердо ни
в пользу Путеол, ни в пользу Кум. Он справедливо замечает, что
здесь главным образом важно то, что Петроний имел в виду изобразить торговый город Кампании. Он не согласен ни с мнением
о том, что graeca urbs — это вымышленный город, ни с тем, что
название * его намеренно скрыто.
2 8 7 -
Родители, по его словам, не требуют от риторов, чтобы они давали своим ученикам глубокие и систематические знания, питающие истинное красноречие; им нужен лишь внешний блеск
и напыщенность.
Риторам, жалуется Агамемнон, поневоле приходится «бесноваться среди бесноватых» (cum insanientibus furere) и, чтобы не
остаться без учеников, преподавать то, что правится мальчишкам. Свою речь Агамемнон завершает стихотворной импровизацией в духе Луциллия, в которой звучит призыв обратить свой
ум к труду и высоким мыслям.
В насмешливом, ироническом «Сатириконе», где автор никогда прямо не заявляет о себе и своей позиции, серьезный тон
и искренний пафос — редкость. Прорвавшись на страницы
Петрония, ои обычно тут же обрывается шутовством или
фарсом. Иногда же сквозь шутовскую форму вдруг проглядывает серьезная заинтересованность или озабоченность чем-то
Петрония. Так, дискуссия об упадке красноречия, содержащаяся в начальных главах «Сатирикона» (гл. I—V), несмотря
на то, что она имитирует форму явно неоднократно высмеиваемых Петронием школьных риторических диспутов и декламаций и вложена в уста вряд ли вызывающих симпатии автора
персонажей, бесспорно говорит об искреннем интересе Петрония к вопросам риторического обучения и состоянию ораторского искусства в его время 50. Мысли Петрония о причинах
упадка красноречия, о воспитании ораторов и видах красноречия перекликаются с аналогичными мыслями Квинтилиана
(X кн. «Воспитания оратора») и Тацита («Диалог об ораторах» ). Общим источником для всех был, по-видимому, Цицерон.
А. Колиньон, проведя сопоставление текстов, находит в этих
речах 51 довольно многочисленные параллели с контрверсиями
Сенеки Старшего. Шенбегер 52 же убежден, что Петроний здесь
больше обязан Цицерону. В главе III и начале главы V Петроний, по его мнению, цитирует «Pro Caelio» Цицерона п делает
оттуда заимствования. Такие противоречивые суждения об
одном и том же месте из «Сатирикона» не случайны. Петроний,
широко используя прием имитаций, никогда не бывает до конца
верен одному автору, одному стилю. Взяв за основу стиль
одного, он вкрапливает туда элементы стиля другого, окрашп-
50
51
52
Нельсон (Н. L. W. N e l s o n . Ein Unlerriclitsprogram aus Neronischcr
Zeit. Amsterdam, 1956) даже считает, что Петроний в этих главах
(I—V) провозглашает новую программу образования, в которой риторика, в смысле общей культуры, должна занимать первое место.
А. С о 11 i g n о п. Указ. соч., стр. 75.
J. К. S c h o n b e r g e r . Zu Petron с. V. — PhW, 1929, S. 1199—1200.
2 8 8 -
вая все это еще своей собственной интонацией и создавая нечто
совершенно оригинальное.
В первом же эпизоде «Сатирикона» обращает на себя внимание то, что он завершается стихотворным резюме, вложенным
в уста Агамемнона. Этот момент имеет принципиальное значение для художественной манеры, избранной Петронием
в своем произведении. Дело в том, что по традиции «мениппей 53, в русле которых создавался «Сатирикон», Петроний
украсил свое произведение стихотворными вставками. В них он
воспроизводит стиль, манеру, метры латинских поэтов-классиков. Вплетаясь в ткань повествования, эти стихотворные
вставки придают ему живость и разнообразие, нарушая вместе
с тем эпическую плавность рассказа и сообщая ему известную
условность. Разумеется, Петроний далеко не бездумно вставляет в свое прозаическое повествование стихотворные фрагменты. Выбор поэта всегда согласуется в том или ином плане
с ситуацией и характером изображаемого и несет на себе определенную смысловую нагрузку. Упомянутое выше нравоучительное резюме в духе Луциллия, метрически представляющее
собой сочетание холиямба с гекзаметром, кроме того, может
быть, отражает появившийся уже в I в. и. э. интерес и вкус
к старым поэтам. Далее можно будет видеть употребленные
в соответствии с контекстом имитации в стиле Вергилия, Овидия, Горация и других римских поэтов. Нет почти ни одного
стихотворного жанра и соответственно размера, в котором
Петроний не попробовал бы свои силы: здесь и эпос, и эпиграмма, и элегия, и описательные фрагменты.'
Следующий за эпизодом с риторическим диспутом ряд разнохарактерных эпизодов и сцен первой части «Сатирикона» говорит о неистощимой изобретательности, широкой литературной
образованности и остроумии Петрония, которыми он не перестает удивлять до последней из сохранившихся строчек своего
необычного произведения.
Ссора между Энколпием и Аскилтом из-за коварного Гитона,
любимца обоих, — первый в сохранившихся главах «романный»
эпизод: ревнивая ссора двух соперников в любви, разлад в романическом треугольнике, сложившемся где-то в не дошедшей
до нас части «Сатирикона». Эта сцена дана Петронием в пародийно-ироническом освещении, как и все другие «романические» эпизоды «Сатирикона». Во время ссоры оба героя награждают друг друга весьма выразительными эпитетами вроде:
«женоподобная шкура, чье самое дыхание нечисто», «гладиатор
поганый», «отброс арены», «ночной грабитель».
53
См. статью о менипповой сатуре в настоящем сборнике.
19
Античный роман
2 8 9 -
При характеристике большей части петрониевских эпизодов
и образов чаще всего напрашиваются определения: гипербола,
гротеск, буффонада, бурлеск и т. п. Однако иногда у него среди
ярких, почти фантастических по выдумке и изобразительным
средствам, эпизодов и сцен встречается скромная бытовая зарисовка, которая поражает своей реалистичностью и точным
психологизмом.
Прием контраста — вообще любимый прием Петрония,
используемый им широко и в разных вариантах: рассуждения
на высокую тему прерываются у него площадной бранью; описание дикой оргии чередуется со спокойной бытовой зарисовкой, изящная латынь соседствует с латынью народной. Большинство речей Петрония построено по принципу контраста
патетической формы и «низменного» содержания, что вызывает
комический эффект. Так соседствуют в первой части «Сатирикона» сугубо реалистическая бытовая сцена торгов на рынке
(гл. XII—XV), когда Энколпий с Аскилтом на рынке пытаются сбыть с рук неизвестно как попавший к ним в руки
богатый плащ и заполучить свою старую рваную тунику, в которой зашит кошелек с золотом, и следующая за ней почти
фантастическая сцена оргии в гостинице с участием жрицы
Приапа Квартиллы (гл. XVI—XXVI).
Поведение участвующего в торге крестьянина, нашедшего
тунику, женщины, потерявшей плащ, мужиков — зрителей и
наших героев передано правдиво и убедительно. Во время торгов Энколпий предлагает Аскилту попробовать получить тунику
через суд, на что Аскилт отвечает стихами, носящими характер
моралите в духе Варрона и обличающими продажность судей:
«Что нам поможет закон, где правят лишь деньги, да деньги,
там, где бедняк никого не одолеет в суде» (гл. XIV).
В следующем эпизоде, главным действующим лицом которого является жрица Квартилла, впервые в сохранившихся
главах упоминается о проступке, совершенном Энколпием и
Аскилтом, нарушившими таинство Приапа. Это событие осталось за пределами дошедшей до нас части «Сатирикона». Вероятно, именно оно стоит за словами Энколпия templum violavi
(СХХХ, 8—9) 54. По-видимому, этот их поступок и послужил
причиной всех бед, которые преследуют героев «Сатирикона»
на протяжении всего романа. Как одну из таких бед воспринимают герои «Сатирикона» и визит Квартиллы в гостиницу. Под
видом искупительной церемонии Квартилла устраивает оргию
с питьем сатириона — возбуждающего любовного питья. Оргия
завершается «свадьбой» Гитона и маленькой служанки Квар54
О различном толковании этого места см. примеч. к изд. Б. И. Ярхо
(стр. 63).
290-
тиллы Паннихис, которую с иронической торжественностью
организует Квартилла.
В этом эпизоде интересен яркий образ жрицы — женщины
с властным и необузданным характером. «Стыдно отвергнутой быть; но быть самовластной — прекрасно», — провозглашает она свой девиз (гл. XVIII). Сентенции в духе народной
литературы (в частности, мима), наподобие упомянутой, —
характерная черта стиля «Сатирикона». Они могут рассматриваться как свидетельство связи «Сатирикона» с этой литературой. Показательно их наличие в игривых сценках, тематически и стилистически близких миму. Нельзя не заметить,
что и в этом эпизоде чисто «зрелищного» типа, каких будет
много в следующей части «Сатирикона» — «Пире Трималхиона» проявилась характерная черта Петрония: его любовь
включать даже в самые фантастические сцены сугубо реалистические бытовые зарисовки и детали. Здесь — это эпизод с рабами-сирийцами, неудачно пытавшимися в тот момент, когда
все уснули, стянуть со стола флягу с вином (гл. XXII).
Таким образом, уже в первой из сохранившихся частей «Сатирикона» обнаружились наиболее характерные черты художественной манеры и стиля Петрония: смесь стихов и прозы,
приемы пародии, имитации, контраста, т. е. черты, свойственные по преимуществу произведению сатирическому.
.
*
*
*
Следующая часть романа, его перл, как единодушно отмечают исследователи, — пир Трималхиона — занимает 51 главу
из 141 сохранившейся (XXVII—LXXVIII).
Пир Трималхиона, извлеченный из «Сатирикона», имеет самостоятельную художественную и познавательную ценность.
К тому же, сравнительно с другими частями «Сатирикона», он
хорошо сохранился и отличается композиционной завершенностью 55.
Описание пира у разбогатевшего вольноотпущенника вводит
нас в мир низших слоев римского общества I в. н. э. — в мир
вольноотпущенников и плебеев. Петроний рисует яркую картину их быта и нравов, вводит в круг их интересов. Мы слышим
их болтовню, живой и образный язык, пересыпанный послови55
Не случайно «Пир» часто издавали отдельно. Классическим считается
издание «Пира» JI. Фридлендера с переводом на немецкий язык, богатейшим комментарием и сопроводительными статьями — «Petronii
Cena Trimalchionis». Lipsiae, 1906 (2-е изд.). Из сравнительно новых
изданий можно назвать издание П. Перроша («Le festin de Trimalchion». Paris, 1939), В. Б. Седгвика («The Cena Trimalchionis of
Petronius». Oxford, 1950 —2-е изд.).
19*
291
цами и поговорками 56, яркими сравнениями и метафорами, который являет собой единственный в римской литературе образец вульгарной латыни.
За личностью рассказчика — Энколпия мы угадываем иногда
и самого автора — образованного аристократа с изысканным
вкусом, относящегося к «художествам» выскочки Трималхиона
то с откровенной издевкой, то со снисходительной иронией.
По богатству изобразительных средств и разнообразию художественных приемов рассказ о пире у Трималхиона — самая
яркая часть «Сатирикона».
«Пир» построен очень искусно. Он воспроизводит рамку
и некоторые другие композиционные детали, типичные для
так называемого сократическо-платоновского диалога, ведущего свое начало от древнего жанра симпосиев. Перед нами
не авторское описание пира, а рассказ о нем одного из его
участников. Рассказ, как и положено, начинается с повествования о дороге на пир, с описания дома хозяина. Некоторые
разговоры гостей с их невежественным и наивным философствованием, попытку Трималхиона завязать литературный
разговор можно рассматривать как пародию на философскую
и литературную тематику платоновского диалога. Приход незваных гостей — Габинны и Сцинтиллы — тоже один из мотивов диалогического жанра (так называемый мотив axX-rjeos).
С платоновским диалогом Петрония роднит и мастерское изображение гостей — сотрапезников, каждого из которых он наделил оригинальным характером. Разумеется, Петроний
использует элементы жанра философского диалога, как и
большинство жанров, о которых он вспоминает в «Сатириконе», в пародийном плане. Он как бы низводит серьезный
диалог с небес на землю, взяв отдельные детали его формы и
наполнив их самым пестрым содержанием: безграмотными
разговорами хозяина и его невежественных гостей, «мимическими» и шутовскими сценками, анекдотами и т. п., имеющими разные жанровые истоки. На примере «Пира» хорошо
видны характерные черты петрониевской пародии: она редко
56
JI. Фридлендер в своем комментарии к «Пиру» отыскивает к этим
пословицам параллели в новых языках, привлекая для этого немецкий, итальянский и славянский фольклор. М. М. Покровский
в статье «Petrone et le folklore russe» (Доклады АН СССР, 1930)
приводит к некоторым из этих пословиц русские эквиваленты. Это
делает и Б. И. Ярхо в комментарии к своему изданию. И. Холодняк
предпринял попытку в своем переводе «Пира Трималхиона» (П е тр о н и й. На ужине у Трималхиона. М., 1900 — приложение к т. XVIII
«Филологического обозрения» за 1900 г.) вообще русифицировать
Петрония и передать все латинские пословицы в тексте русскими
эквивалентами. Б. И. Ярхо (указ. изд., стр. 13) справедливо считает
эту попытку ненужной.
292-
бывает у него слишком явной, и он никогда не следует в ней
до конца одному жанру.
Бесспорна, на наш взгляд, связь «Пира Трималхиона» и
с ужином у Назидиена, описанным в 8-й Сатире II книги
сатир Горация. Сатира в диалогической форме передает рассказ о роскошном ужине у чванливого богача Назидиена,
отравляющего гостям аппетит хвастливыми комментариями
к каждому блюду. Гораций едко высмеивает тщеславие хозяина и лицемерие гостей. Петроний следует за ним в своей
критике нравов, но дает гораздо более широкую и развернутую
картину пира, чем Гораций 57 . Петроний вообще многим близок Горацию — автору сатир, и прежде всего своей тонкой
язвительностью и глубокой иронией, но это — вопрос, заслуживающий специального рассмотрения, как и вообще вопрос
о Петронии-сатирике.
Таким образом, связь с Горацием проявляется и по линии
сатиры и в пределах традиций жанровой формы диалога и
симпосия. Но, как уже говорилось, Петроний никогда не
остается в рамках одного жанра. Многие эпизоды пира по
своей живости и сценичности напоминают сцены из новой
комедии или мима. Вообще пир изображен Петронием так
ярко и наглядно, так зрительно ощутимо, что он весь кажется
грандиозным спектаклем.
Бродяги присутствуют на этом своеобразном спектакле как
зрители, пользуясь случаем набить себе желудок и посмеяться над невежеством хозяина и гостей. В развитие основной сюжетной линии «Сатирикона» — скитания бродяг —
«Пир» не вносит ничего нового. Участие их в событиях на
пиру — минимальное. «Пир» ничего не добавляет и к раскры57
Жанровую n тематическую связь «Пира» Петрония п 8-й Сатиры
II книги Горация отмечали Ф. Бюхелер (в предисловии к изданию
1862 г., стр. X) и А. Колиньон (указ. соч., стр. 255 сл.). Действительно, здесь можно найти немало сходных моментов: например,
как и Трималхион, Назидиен заставляет ценить кушанья и сопровождает их объяснениями (Гораций, II, 8, 63 и 92—93 — Петроний,
XXXVI, 1, 19 и XLVII, 1, 8); эпизод с падением балдахина у Горация можно сравнить с падением акробата у Петрония (Гораций,
II, 54 —Петроний LIV, LV), а место из гл. LV, где Трималхион
импровизирует в дистихах, — с восклицанием Назидиена, завершающим эпизод с балдахином (Гораций, II, 8, 59—63). На этом обеде
начинаются разговоры, как и у Трималхиона (Гораций, II, 8,
82—83) и т. п.
Но особенно, на наш взгляд, здесь важно отметить связь Петрония с Горацием именно по линии обличения нравов. В связи с этим
следует упомянуть статью Ревз (J. Re v а у. Horaz and Petron. —
CPh, 1922, p. 202—212), который, исходя из убеждения, что «Сатирикон» — это сатира по мотивам и тенденциям, усматривает связь
«Пира» Петрония с ужином у Назидиена именно по линии сатиры.
2 9 3 -
?ию их характеров. Словом, «Пир» вполне можно рассматривать как вставной эпизод, эпизод, являющийся украшением
«Сатирикона», но к судьбе героев отношения не имеющий.
Главная фигура на пиру — сам хозяин, бывший раб, разбогатевший вольноотпущенник Трималхион. Через повествование о пире, которое начинается с описания дома Трималхиона и заканчивается рассказом самого Трималхиона о своей
жизни и сценой мнимых похорон, перед нами проходит вся
жизнь Трималхиона, мальчиком купленного на невольничьем
рынке, и благодаря собственной ловкости и смекалке достигшего теперь богатства и силы.
По сатирической традиции Петроний наделяет хозяина
«Пира» именем, уже дающим ему определенную характеристику (Трималхион — значит «трижды противный») 5 8 . Внешний облик Трималхиона вполне соответствует его имени.
Впервые наши герои встречают Трималхиона в бане, куда,
по римскому обычаю, они зашли перед пиром. Лысый старик
в красной тунике и сандалиях играет в мяч с кудрявыми мальчиками. Один из рабов, стоя возле него, держит корзину с зелеными мячами, другой — серебряный горшок, с помощью которого Трималхион тут же справляет свою нужду 5 9 .
Последовав за носилками, на которых важно возлежит в ярко-алой тунике Трималхион, герои попадают к нему в дом.
Описание дома, изобилующего нелепыми украшениями,
бьющей в глаза ненужной роскошью, свидетельствует о неве58
59
Имя Trimalchio — семитического происхождения; malchio соответствует греческому ат]от}<; — противный; tri-malchio — трижды противный. Аналогичный нашему Трималхиону персонаж Марциала в III,
82 также назван Малхионом. Более подробную этимологию этого
имени см. в изд. «Пира» JI. Фридлендера (указ. соч., стр. 209).
См. также пояснение к имени в изд. «Пира» Э. Марморале (указ.
соч., стр. 2).
Похожая картина встречается и в упомянутой выше эпиграмме Марциала (III, 82), где изображен двойник Трималхиона — Малхион.
Это далеко не единственная параллель Марциала с Петронием, они
довольно многочисленны. Объясняются эти тематические совпадения
со сходной авторской оценкой, по-видимому, тем, что и Петроний,
и Марциал — сатирики-бытописатели, жившие к тому же приблизительно в одно время. На совпадения с Марциалом указывают
многие исследователи. Так, Маркези (С. М а г с h е s i. Petronio
е Martiale. Atheneum, 1922, p. 278—280) считает, что, хотя Марциал
и не упоминает Петрония, но вдохновляется им (особенно в III, 82
и IV, 42): см. также ст. Вайнрайха (О. W e i n r e i c h . Martial,
XI, 43, Petron, 140, 5 und Pariser Zauberpapyrus, 326. — RhM, 1928,
S. 112) и Ульмана (В. L. U l l m a n . Apophoreta in Petronius and
Martial. — CPh, 1941, p. 346—355), который идентифицирует apophoreta из кн. XIV Марциала и подарки, упомянутые в гл. LVI, 7—10
«Пира Трималхиона» Петрония.
294-
жестве и наивном тщеславии хозяина. Они видят привратника
в зеленом платье с вишневым поясом, чистящим горох на
серебряном блюде; говорящую сороку в золотой клетке; стену
дома, на которой добросовестный художник изобразил этапы
биографии Трималхиона, его постепенное возвышение: от
невольничьего рынка, где он был куплен, до высокой эстрады
по соседству с Фортуной, держащей рог изобилия, и Парками,
прядущими золотую нить, которая символизирует великую
будущность.
Невежественный Трималхион хочет казаться приобщенным
к наукам и искусствам. Он разыгрывает из себя мецената,
приглашает на пир образованных бродяг, с которыми не раз
пытается завести «литературные» разговоры. Полагая, что
знание Гомера — эталон образованности, Трималхион расписывает на темы гомеровских поэм стены своего дома
(гл. XXIX); хвалится,
что читал Гомера в детстве
(гл. XLVIII); посреди обеда актеры-гомеристы по желанию
хозяина читают отрывки из «Илиады» (гл. LIX) и т. д.
Церемония трапезы начинается с омовений: рабы с пением
омывают гостям руки и ноги, после чего они занимают свое
место за столом. Разодетого, обвешанного драгоценностями и
ковыряющего в зубах серебряной зубочисткой хозяина вносят
под музыку на крошечных подушечках. Блюда, подаваемые
гостям, одно диковиннее другого, сопровождаются шутками и
прибаутками слуг, комментариями хозяина и обставляются соответствующим реквизитом. Поэтому каждая сценка, связанная с подачей очередного блюда, сама по хебе представляет
оригинальное зрелище, помимо того, что она входит составной
частью в то грандиозное представление, каким является в романе «Пир» у Трималхиона.
Например, прежде чем подать кабана, перед ложами гостей стелют ковры, на которых изображена охота, а в триклиний выпускают лаконских собак. Режет вепря охотничьим
ножом огромный бородач в охотничьем плаще. Когда он ударяет вепря ножом в бок, оттуда тотчас же вылетает стая
дроздов. Их быстро ловят стоявшие наготове птицеловы и раздают гостям.
«Вот какие отличные желуди сожрала эта дикая свинья», —
комментирует сценку шуткой в своем духе Трималхион
(гл. XLI).
А вот сценка, разыгранная Трималхионом и поваром, будто
бы забывшим выпотрошить свинью (гл. XLIX): изобразив
гнев, Трималхион притворился, что собрался наказать повара
за забывчивость. Повар разделся и приготовился принять наказание, но Трималхион, как бы поддавшись просьбам присутствующих, смягчился и потребовал у повара немедленно
295-
300-
выпотрошить свинью у всех на глазах. Тот полоснул свинью
ножом, и из прореза градом посыпались жареные колбасы.
Или сценка такого рода. Во время похвальбы Трималхиона
своим серебром один из рабов роняет чашку. «Живо, — крикнул Трималхион, обернувшись, — наказывай сам себя, ибо ты
ротозей». Раб уже разинул рот, чтобы умолять о пощаде, но
Трималхион перебил его: «О чем ты меня просишь? Советую
тебе попросить самого себя не быть ротозеем».
Сценки, наподобие упомянутой, явно заранее предусмотренные 60, перешли в «Сатирикон» из «низменных» народных жанров типа мима, вытеснившего в I в. и. э. все другие драматические жанры. Природа комизма подобных сцен родственна
комизму народных зрелищ. Широкое участие в этих сценах
рабов также может служить доказательством их близости
миму, персонажами которого были рабы и люди низкого положения. Петроний, безусловно, знал мим и вполне мог
использовать для своего «Сатирикона» его интриги и стиль
(сентенции с претензией на мудрость в легкомысленных ситуациях, шутки и каламбуры, игра слов вроде игры с именем
раба Карпа в гл. XXXVI или игра с синонимами имени раба
Диониса (Вакх—Либер) в гл. XLI и т. п.). На связь с мимом
указывают и стихотворные вставки в тексте «Пира». Две из
трех вставок, приходящихся на описание пира в гл. XXXVI
и LV), имитируют, а может быть, и прямо цитируют мимографа Публилия Сира, имя которого здесь упоминается
(LV, 5).
Помимо «номеров», связанных с угощением, число которых можно умножить, (гл. XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI,
LXX и др.), на пиру дают представление любимые Трималхионом фокусники (LIII) и артисты-гомеристы, разыгрывающие сцены из «Илиады». Трималхион сопровождает их представление объяснениями, по своему обыкновению все перепутав (гл. LIX).
В промежутках между зрелищами «схоласты» вступают в
разговор с соседями по столу. Этот диалог между гостями
едва ли не самая интересная часть «Пира». Именно он позволяет проникнуть в психологию вольноотпущенников, увидеть
их характеры, узнать их жизнь и круг интересов. На изображении Петронием вольноотпущенников — бывших рабов сказалось до известной степени традиционное для античной
литературы вообще, а римского аристократа в частности, высо-
60
Именно так воспринимает пх и Э. Марморале (Pelronio, LII, 4 —
OIF, XII, 1959, p. 42), предлагая рассматривать мельчайшие детали
пира как заранее подготовленный спектакль и ссылаясь в качестве
доказательства на поведение раба в анализируемом месте.
комерно-презрительное к ним отношение. Однако в эту традицию Петроний вносит новое: насмехаясь над их невежеством,
грубостью, низменными инстинктами, он в то же время признает их силу и жизнеспособность, зная, что большинство из
них достигло богатства собственной ловкостью и упорством.
Один из соседей Энколпия по столу рассказывает ему с гордостью о богатстве и могуществе Трималхиона («земли у Трималхиона — соколу не облететь, денег — тьма тьмущая. . . он
любого из здешних балбесов в рутовый лист свернет» —
гл. X X X V I I ) . Этот же сосед по столу рассказывает о соотпущенниках Трималхиона, которых, как он говорит, тоже «остерегись презирать». У одного «800 000 сестерциев, а ведь вырос
из ничего: недавно еще бревна на спине таскал», а другой «уже
видел в глаза собственный миллион, — но свихнулся, не знаю,
есть ли у него хоть один свободный от долгов волос»
(гл. X X X V I I I ) .
Еще один сотрапезник, Селевк, сожалеет об умершем Хрисанфе (гл. X L I I ) , а его товарищ Филерот, ругая Хрисанфа,
говорит, что нечего его жалеть: «С почетом жил, с почетом
помер.
начал с одного асса и готов был из навоза зубами
деньги вытаскивать, а кончил тем, что оставил сто тысяч и
все деньгами. . . был он груб на язык, злоязычен — свара, а не
человек. Куда лучше был его брат: друзьям друг, хлебосол,
щедрая рука» (гл. XL1II).
Гости Трималхиона любят пофилософствовать. Селевк замечает по поводу неожиданной смерти Хрисанфа: «Все мы ходим
точно раздутые бурдюки; мы меньше мухи, потому что и
у мухи есть свои добродетели — мы же просто-напросто мыльные пузыри» (гл. X L I I ) .
Дама сетует на быстротечность жизни («Что такое день?
Ничто, — не успеешь оглянуться — уже ночь. Поэтому нет
ничего лучше, как из спальни прямо переходить к триклиний» — гл. X L I ) . Не у всех вольноотпущенников жизнь складывается так
счастливо, как у Трималхиона. Ганимед
жалуется на дороговизну («ныне хлеб кусаться стал»), на продажность эдилов («эдилы... с пекарями стакнулись... а бедный народ страдает»), сожалеет о добром старом времени
(«в те поры хлеб не дороже грязи был») и о людях, которые
были львы, не чета теперешним («ныне народ: дома —
львы, на людях — лисицы» —гл. X L I V ) . Он же рассказывает
о декурионе Сафинии, который был «перец, а не человек.
Когда шел, земля под ним горела! .. Когда вел дело на
форуме, голос его гремел, как труба»... С особым значением
Ганимед подчеркивает демократизм Сафиния («А как любезно
отвечал на поклон? Всех по имени звал, ну, словно один из
нас» — XLIV). Богобоязненный Ганимед — редкое явление
2 9 7 -
в «Сатириконе» 61 — видит причину всех бед в неверии.
«Никто, — говорит он, — небо за небо не считает, никто постов
не блюдет, никто Юпитера в грош не ставит...» (там же).
В противоположность брюзге Ганимеду Эхион-лоскутник,
любитель гладиаторских игр, утверждает, что «лучше нашей
родины нельзя было бы найти, если б люди поумней были»,
ибо нигде нельзя увидеть на праздниках таких превосходных
гладиаторских игр: «гладиаторам будет дано первостатейное
оружие; удирать — ни-ни; сражайся посередке, чтобы всему
амфитеатру видно было» (гл. XLV). Тот же Эхион осуждающе
рассказывает о некоем Гликоне, который отдал своего казначея зверям за то, что тот «забавлял» его жену («Ну и Гликон!
Грошевый человечишко — отдает зверям казначея. Это значит
ставить себя на посмешище. Разве раб виноват? Делает, что
ему велят» (там же).
С особым удовольствием во время этой беседы смакуются
пикантные подробности жизни того или иного упоминаемого
лица. Так, например, про недавно умершего Хрисанфа, которому было больше семидесяти лет, Филерот с восторгом говорит, что он «до последних лет был распутником — ей-богу! —
даже собаки в доме не оставлял в покое. И к тому же преизрядный мальчишечник — вообще, на все руки мастер».
Полупрезрительное,
снисходительно-покровительственное
отношение невежественных, но разбогатевших вольноотпущенников к людям образованным, но неимущим, таким, как
ритор Агамемнон, отражает бедственное положение в Римской империи того времени неимущих людей интеллигентных
профессий 62.
Обращение Эхиона-лоскутника к Агамемнону (гл. XLVI)
говорит об этом достаточно красноречиво: «Почему же ты,
наш записной оратор, ничего не говоришь? Ты не из наших и
потому смеешься над речами бедных людей. .. Мы знаем, что
ты от большой учености свихнулся. Ну что же из того? Уж
когда-нибудь тебя уговорю приехать ко мне на виллу. . . найдется, чем перекусить... Потом и ученик тебе растет — мой
парнишка».
61
62
Знаменитая фраза Квартиллы — «Наша округа полным-полна боговпокровителей, так что бога здесь легче встретить, чем человека»
(гл. XVII) — отражает религиозный скептицизм «Сатирикона».
То, что говорит Ф. Энгельс в «Бруно Бауэре» (К. М а р к с ,
Ф. Э н г е л ь с , Сочинения, т. XIX, стр. 306—311) о жалком положении неимущих свободных в провинции, о философах, которые были
или просто зарабатывающими на жизнь школьными учителями,
или же шутами «у богатых кутил», можно в какой-то степени
отнести и к положению таких петрониевских персонажей, как ритор
Агамемнон или поэт Эвмолп (см. жалобы Эвмолпа в гл. LXXXIII—
LXXX1V).
2 9 8 -
А вот как Эхион рассказывает об учителях сына: «... Учитель его слишком уж стал самодоволен, не сидит на одном
месте. Приходит и просит дать книгу, а сам работать не
желает. Есть у него и другой учитель, не из очень ученых, но
зато старательный.. . Он каждый праздник обыкновенно приходит к нам и доволен всем, что ему ни дай».
Рассуждая о сравнительной ценности наук, где литературе
отводится, естественно, последнее место, он выражает желание, чтобы сын его обучался праву: «Занятие это хлебное.
В литературе он уже достаточно испачкался (satis inquinatus
est)».
Ну, а лучше всего, по мнению Эхиона, какое-нибудь ремесло: «...отдам (его), например, в цирюльники, в глашатаи,
или, скажем, в стряпчии. Это у него одна смерть отнять
может». Заключает Эхион свою речь снисходительным признанием, что «наука — это клад, а искусный человек никогда
не пропадет».
Поскольку пародия едва ли не главный художественный
прием Петрония, то невольно начинаешь видеть ее в «Сатириконе» всюду. Речь же Эхиона, своеобразным способом восхваляющая науку и знающих людей, которым, пожалуй, «не
поздоровится от этаких похвал», кажется не только пародией
на школьные декламации в пользу знаний, но и заставляет
вспомнить цицероновскую речь «за Архия» в защиту литературы. Может статься, что речь Эхиона в какой-то степени
является тонкой насмешкой и над ставшей хрестоматийной
речью Цицерона.
Если Эхион бравирует своим невежеством, насмехаясь над
ученым, но нищим Агамемноном, то считающий себя образованным Трималхион сочиняет стихи в духе Публилия Сира
(гл. LV), хвалится своей библиотекой (гл. XLVIII) и
рассуждает на тему о том, какое самое трудное занятие
после литературы (по его мнению — лекаря и менялы —
гл. LVI).
Соотпущенники Трималхиона и он сам не стыдятся своего
рабского происхождения и своего прошлого. Напротив, они
гордятся тем, что смогли добиться многого благодаря собственным усилиям. Один из них говорит смеющимся над ним
Аскилту и Гитону: «Сорок лет я был рабом... однако во
всем старался угождать хозяину.. . чей ноготь стоил дороже,
чем ты весь» (гл. LVII).
Теперь же, говорит он, «человеком стал, как все люди. . .
Никому медного асса не должен. . . Землицы купил и деньжат
накопил, двадцать ртов кормлю, не считая собаки. Сожительницу свою выкупил.. . А родиться свободным так же легко,
как сказать «пойди сюда» (там же).
299-
В разгар пира, пустив к столу челядь, Трималхион, в восторге от собственной щедрости, заявляет: «И рабы — люди:
одним с нами молоком вскормлены, и не виноваты они, что
участь их горькая. Однако, по моей милости, скоро все
напьются вольной воды» (гл. LXXI) 63.
Без всякого стеснения Трималхион сообщает гостям историю своего возвышения («четырнадцать лет по-женски был
любезен своему хозяину. . . и хозяйку ублаготворял тоже»
(гл. LXXV); с гордостью говорит о том, какое упорство и
какую смекалку ему пришлось проявить, чтобы достичь всего
того, что он теперь имеет (гл. LXXVI). «Был лягушкой, — заключает он, — стал царем» (qui fuit rana, nunc est rex —
LXXI I, 2). He без тщеславия сообщает ои и о том, что некий
Скавр — по-видимому,
знатный
римлянин — предпочитает
останавливаться у него, хотя у его отца есть превосходное
поместье около моря 64.
Помимо разговоров на житейские темы, в промежутке
между бесконечными фокусами с переменой блюд сам Трималхион и его гости рассказывают друг другу анекдоты и
сказки. Сюда относится анекдот о небьющемся стекле 65, рассказанный самим Трималхионом (гл. LV), и рассказы Никерота и Трималхиона о волке-оборотне (гл. LXI—LXII) и
ведьме (гл. LXIII) 66.
Прежде чем начать свою историю, Никерот с опаской оглядывается на ученых бродяг, боясь, как бы его не засмеяли.
03
64
6rj
66
В этих словах — насмешка над одним из положений популярной
в то время философии Стой, демагогически проповедующей равенство всех людей: Ср.: «Servi sunt». Immo homines. «Servi sunt».
Immo contubernales. «Servi sunt». Immo humilis amici» и т. д. ( S e n e c a . Epist., 47).
П. Вейн. (P. V e y n e . Vie de Trimalchion. Annales (Economies, Societes. Civilisations), 1961, II,* p. 213—247), анализируя биографию
Трималхиона с точки зрения экономической и социальной, правильно
отмечает, что Трималхион не стыдится быть вольноотпущенником,
что он один из принцев этого класса, но даже, будучи принцем
класса, — он, по римским канонам, остается не более как выскочкой.
Анекдот Трималхиона о небьющемся стекле упоминается также
у Плиния Старшего (II. N., XXXVI, 195) и Кассия Диона (57, 21, 7),
которые относят его ко времени Тиберия. Поскольку Трималхион
передает его как рассказ о прошлом, то этот факт обычно используют в качестве доказательства принадлежности «Сатирикона»
к эпохе Нерона.
Легенды об оборотне и ведьме очень древнего происхождения. Ученые отмечают, что они имели хождение у разных народов и нашли
свое отражение во многих произведениях, корни которых уходят
в фольклор (см.: М. S e h u s t e r . Der Werwolf und die Heven. Zwei
Schauermarchen bei Petronius. — «Wiener Studien», 1930, S. 149—178).
Пережиток суеверия, который отражен в рассказе об оборотне, зафиксирован в XX в. (М. J o h n s t o n . Der Werwolf in Calabria. —
CW, XXV, 1932, S. 183).
300-
Однако и броДягй, и Трималхион с Полной верой относятся
к его рассказу и дрожат от страха. Суеверия, сменившие веру
в богов, одинаково властны над образованными и невеждами.
Пир, затихнувший было во время рассказов об оборотне
и ведьме, разгорается с новой силой после прихода каменщика
Габинны с женой Сцинтиллой (гл. LXV)- Трималхион требует себе кубок побольше и, выслушав рассказ Габинны
о том, как их принимали в том доме, откуда они пришли,
приказывает вновь накрыть стол. Тем временем женщины —
Фортуната и Сцинтилла — хвастаются друг перед другом нарядами и украшениями, домовитостью и хозяйственностью и
жалуются на проказы мужей.
Эпизод с приходом Габинны и Сцинтиллы, их встреча
с Трималхионом, поведение женщин, выхваляющихся друг
перед другом, принадлежит к тем реалистическим зарисовкам
Петрония, в которых он поражает своей жизненной наблюдательностью, верностью бытовым деталям, психологической
правдой (сцена торгов, эпизод с рабами-сирийцами и т. п.).
Заключительные страницы «Пира» посвящены описанию
очередной оргии, происходящей на этот раз в бане, во время
которой Трималхион рассказывает свою жизнь (гл. LXXV-LXXVII). Рассказ логически завершается сценой мнимых
похорон Трималхиона. Эта нелепая сцена достойно венчает
описание пира (гл. LXXVIII). Под оглушительный рев труб
Энколпий, Аскилт и Гитон убегают из этого «дома чудес».
Если начальные главы сохранившихся^ частей романа не
слишком изобиловали событиями и ритм их был достаточно
умеренным, если на пиру у Трималхиона наши герои вообще
присутствовали как зрители и развитие основной сюжетной
линии — их скитаний — как бы приостановилось, то последняя, третья часть «Сатирикона», отличается крайней насыщенностью событиями, развивающимися интенсивно и со все
большим накалом страстей. Именно в этих главах наиболее
явственно проступают его «романные» признаки, здесь с особой силой звучат эротические мотивы произведения. Ситуации, в которые попадают герои, и события, с ними происходящие (приключения на море, кораблекрушение, любовный
эпизод с Киркеей и Полиэном), — типично «романного» характера. Эпизоды этой части «Сатирикона» — ее греческий колорит, греческие имена (особенно истории Полиена и Киркеи),
новелла о матроне (явно греческого происхождения), повествовательная техника и художественные приемы, применяемые здесь Петронием, настойчиво заставляют вспомнить о греческом любовно-приключенческом романе. Петроний, по всей
видимости, знал греческий любовный роман и намеренно
использовал определенные его элементы в своем «Сатири301-
коне», как всегда, по-своему, т. е. в пародийном плане и
с насмешливой целью. Яркие, открыто сатирические краски,
преобладавшие в описании пира у Трималхиона, сменяются
здесь глубокой иронией, которая достигает своей высшей степени — сарказма — в главах, где описываются последние эпизоды в Кротоне (приход Филомены с детьми к Эвмолпу
и история с завещанием — гл. CXL и CXLI). Переживаниям
Энколпия, которых особенно много в этой части «Сатирикона»
и которые также усиливают ее «романный» колорит, ирония
придает комический оттенок.
Однако говоря о характере этой части «Сатирикона»,
нельзя ограничиться замечанием, что она связана с греческим любовным романом, хотя роман, пожалуй, — главный из
тех жанров, о которых здесь вспоминает Петроний. Ибо здесь,
даже, может быть, больше, чем в других своих частях, произведение оправдывает свое название «смеси»: смеси стихов и
прозы, смеси элементов разных жанров, приемов, стилей.
Здесь больше, чем в предыдущей части, стихотворных вставок, при этом две из них — очень значительные. Это поэма
о гражданской войне (295 стихов) и поэма о гибели Трои
(65 стихов); на эту часть «Сатирикона» приходятся также две
вставные новеллы: об уступчивом мальчике и о матроне
Эфесской; приключения на корабле и события в Кротоне содержат немало коллизий и сцен, напоминающих коллизии и
сцены новой комедии или мима.
Все события, происшедшие с героями после пира у Трималхиона, можно сгруппировать вокруг трех мест действия: города, где живет Трималхион и где наши герои оставались еще
некоторое время после пира, корабля Лиха и Трифены, на
который Энколпий с Гитоном попали, связавшись с поэтом
Эвмолпом, и города наследников — Кротоны.
Первая сцена после пира — очередная ссора Энколпия
с Аскилтом из-за Гитона — выглядит, как верно замечают
некоторые исследователи, пародией на суд царя Соломона.
Противники, взявшись за меч, решают добыть свою долю
мечом. Однако, тронутые мольбой Гитона, они соглашаются
кончить дело миром, и Аскилт предлагает Гитону самому
выбрать себе «брата». Гитон выбирает Аскилта. Отчаянию
Энколпия нет предела. Те изобразительные средства, которыми Петроний рисует это отчаяние, красноречиво говорят
о его ироническом отношении к переживаниям своего героя. Так, например, достойно венчают эпизод ссоры четыре
дистиха о вероломных друзьях и ненадежности дружбы, два
из которых — в духе Овидия и два — в духе мима
или комедии
(характерное
для
Петрония
сочетание).
Дистихи сразу снимают кажущийся драматизм ситуации.
302-
Комический эффект производит и речь Энколпия, которую он
произносит на берегу моря, мучительно переживая измену
Гитона и свое одиночество. Речь построена по обычному для
Петрония контрасту между патетической формой и «низменным» содержанием. Она начинается со страстного возвышенного обращения («Ужели не поглотит меня, расступившись,
земля или море, жестокое даже к невинным?..»), содержит
нецензурную брань по адресу соперника в любви и самого
предмета любви («молодой человек, погрязший во всяческом
сладострастии», «зад его разыгрывался в кости», «он... словно
блудница, все продал за единую ночь»...) и завершается
клятвой Энколпия отомстить обидчикам (гл. LXXXI) 67.
Подпоясавшись мечом и подкрепившись пищей, как он сам
замечает, «плотнее обыкновенного», дабы не иссяк его воинственный дух, Энколпий отправляется на поиски обидчиков.
Любопытный эпизод этой части «Сатирикона» — сцена
в местной пинакотеке, куда случайно забредает пребывающий
в тоске и обиде Энколпий. Эта сцена сопоставляется обычно
с началом романа Ахилла Татия «Левкиппа и Клитофонт»
(I, 2, 5). Описание произведений искусства — один из видов
софистической прозы — вообще нередко встречается в греческих романах. Но Петроний никогда не воспроизводит имитируемые или пародируемые ситуации в точности, поэтому здесь
вместо подробного описания картин — лишь упоминания
о них, которые служат поводом для очередных ламентаций
Энколпия. При виде любовных картин, он, конечно, вспоминает о своем горестном положении и в 'страстном монологе
изливает свою зависть к богам, чью любовь не омрачало соперничество.
Тут же в пинакотеке Энколпий встречает старого и нищего
поэта Эвмолпа, с которым будут связаны теперь все остальные события романа. Эвмолп удивительно сочетает в себе
одновременно черты бездарного поэта и неистового рецитанта,
известного нам из эпиграмм Марциала и сатир Ювенала. Петроний рисует образ, по-видимому, достаточно типичный для
времени расцвета дилетантизма в поэзии и широкого
распространения рецитаций. Эвмолп сначала по привычке горестно сетует иа жалкое положение литераторов: «Любовь
к творчеству еще никого не обогатила»... (гл. LXXXIII); «Превозносите сколько угодно любителей литературы — они все67
Эта речь Энколпия наряду с речью Аскилта в гл. IX и письмом
Энколпия из гл. СХХХ — источники сведений о прошлом главного
героя «Сатирикона» и его дружков. Именно здесь Энколпий говорит
о себе: «Effugi judicium, harenae imposui, hospitem occidi» — слова,
которые заставляют ученых путаться в догадках относительно того,
что за ними стоит.
303-
таки будут казаться богачу дешевле денег (гл. LXXXIV). Свои
сетования Эвмолп подкрепляет сатирическими стихами (6 гекзаметров) об упадке красноречия в духе Марциала или Ювенала.
Потом, узнав о беде Энколпия, тут же рассказывает ему в утешение происшедшую с ним в Пергаме историю. Этот рассказ
Эвмолпа получил в петрониеведении название «новеллы об
уступчивом мальчике» (гл. LXXXV—LXXXVII).
Новелла об уступчивом мальчике могла быть навеяна Петронию рассказами типа «Милетских рассказов» Аристида, или
восточными сказками типа сказок «Тысячи и одной ночи».
Исследователи неоднократно отмечали факт влияния на Петрония восточных моделей 68. Может быть, заимствованный оттуда
сюжет получил у Петрония пародийное преломление, так как
вместо обычного в таких сказках предмета любви — девушки,
у Петрония фигурирует мальчик. Новелла наглядно демонстрирует мастерство Петрония-рассказчика. Она неплохо сохранилась — лакуна не нарушает ее композиционной стройности, которую создает, в частности, удачное повторение рефрена «спи,
или я скажу отцу» (aut dormi, aut ego jam dicam patri) в середине и конце повествования. В том, что вначале эту фразу
говорит мальчик, а затем учитель, проявились особое мастерство и стилистическая изысканность Петрония.
После новеллы Эвмолп произносит высокопарную речь, полную сожалений о прошлом расцвете и жалоб на плачевное состояние современного искусства. Речь Эвмолпа о причинах
упадка искусства (гл. LXXXVIII) — одно из тех мест в «Сатириконе», где, как мы можем подозревать, Петроний, высказывает свои взгляды на литературу и искусство. Кроме этой речи
Эвмолпа, к ним относятся: дискуссия о красноречии в I—
VI главах, включая стихотворение в духе Луциллия; некоторые
места из LXXXIII—LXXXIV глав, где Эвмолп жалуется на
жалкое положение литераторов; рассуждения Эвмолпа о трудностях поэзии, предшествующие поэме о гражданской войне
(гл. LXVIII). Все остальные замечания об искусстве разных
лиц носят иронический характер (например, разговоры Трималхиона о литературе в LIV главе). Как это доказывает отношение Петрония к старым поэтам и ораторам (гл. I—III, LXVIIII,
CXVIII), вкусы его в основном классические. Мы видим у него
традиционное восхваление старых времен и негодование против
современной коррупции, в которой Петроний видит одну из
причин упадка искусства (LXXXVIII гл.). Однако Петроний
не остался в стороне от современных ему литературных веяний.
Это сказалось, в частности, в том," что «новый» стиль и разго08
Напр.: F. D o r n s e i f f . Petron und 1001 Nacht. Symbol Osloensis —
XVIII, 1938, S. 50—66.
3 0 4 -
ворная латынь проникли в его произведение. После речи
Эвмолп, остановившись перед картиной о гибели Трои, декламирует поэму на этот сюжет (гл. LXXXIX).
Поэма в 05 сенариев под названием «Troiae lialosis» является переложением содержания 255 стихов (от стиха 13 но
267) II песни «Энеиды», где рассказывается история троянского коня. По мнению А. Колиньона 69, который считает, что
Вергилий был наиболее любимым и наиболее, если можно так
сказать, имитируемым в «Сатириконе» поэтом, поэма никак не
может быть пародией на Вергилия. Петроний не пародирует
ни идеи, ни стиль, ни метры Вергилия, а лишь использует многие его выражения. Поэма, как считает А. Колиньон, не может
быть насмешкой и над Эвмолпом, осмелившимся соперничать
с великим поэтом. Скорее это школьное упражнение на заданную тему, появление которого в «Сатириконе» диктуется требованиями жанра «смеси». Петроний пытается модернизировать
Вергилия (гекзаметры «Энеиды» переведены в сенарии, сюжет
трактован на манер трагедий Сенеки). По его словам, Петроний
«луканизировал» Вергилия, как несколько дальше, в «Поэме
о гражданской войне», он так же «вергилизировал» Лукана.
Некоторые ученые (например, Гейдель) уверены, что Петроний имеет здесь в виду поэму Нерона «''AXtoaic [Xtou», которую, по свидетельству Светония (Нерон, 38), Нерон нел во
время пожара Рима. А. Колиньон возражает ему на том осноjaHmr, что мы не имеем поэмы Нерона, чтобы сравнить.
На наш взгляд, модернизированная трактовка старого сюжета, утрированный старый эпический стиль может представлять собой одновременно насмешку над сторонниками и старого, и нового стиля, ироническую попытку примирить их
вкусы. Это абсолютно в духе художественной манеры Петрония — соединять, часто с насмешливой целью, разные манеры,
стили, формы. По всей видимости, Петроний не случайно выбрал
сюжет о Трое: вероятно, он был модным сюжетом в Риме тех
лет. Но это не значит, конечно, что поэму Петрония надо рассматривать непременно как пародию на поэму Нерона, которую
мы не знаем. Однако мы можем видеть здесь даже просто
в самом факте выбора этого сюжета — намек на Нерона и притом насмешливый, хотя бы потому, что поэма Петрония не может служить эталоном хорошего вкуса.
Во время громкого чтения этой поэмы собравшаяся публика
(совсем по Марциалу) 70 награждает поэта камнями. Тот воспринимает такое поведение публики как привычное. Взяв
с Эвмолпа слово больше не декламировать (опять совсем по
69
70
A. C o l l i g n o n . Указ. соч., стр. 133
Ср. эпиграммы Марцилла, III, 44 и др.
2Q
Античный роман
сл.
305
Марциалу), Энколпий идет с ним обедать (гл. ХС). Далее следует возвращение Гитона (гл. XCI), фарсовые сцены с попыткой к самоубийству — сначала Энколпия, потом и Гитона, в которых орудием служит заведомо тупая бритва (гл. XCIV) 7I ,
скандал и драка на постоялом дворе (гл. XCV), приход Аскилта,
разыскивающего Гитона, который, прячась, повисает под кроватью, уцепившись руками за сетку, подобно Одиссею под
брюхом у барана (гл. X C V I I I - X C V I I I ) .
Особого драматизма достигают дальнейшие события, которые
разыгрываются на корабле. Чтобы избавиться от преследований
Аскилта, Энколпий принимает предложение Эвмолпа и вместе
с Гитоном всходит на корабль, плывущий в Тарент (гл. С—
GXV). На корабле выясняется, что он принадлежит богатым
тарентинцам — Лиху и Трифене, с которыми у Энколпия с Гитоном давняя вражда. Перебрав все способы спасения, беглецы
решают изменить внешность — побрить головы и поставить на
своих лбах знаки клейменых рабов. Однако с помощью явившегося Трифене во сне Приапа (гл. CIV) обман раскрыт, и Лих
обрушивается на них в страшном гневе.
Здесь Петроний также использует мотивы, обычные для греческого романа: вещий сон, узнавание и др. Вместе с тем некоторые сцены на корабле дают повод подозревать в качестве
источника опять же мим или комедию: например, история с переодеванием и страх быть обнаруженным. Это подтверждает
живая и остроумная речь Гитона (гл. CII), написанная в ритме
и манере кантика. Разыгравшаяся здесь риторическая дуэль
между Эвмолпом и Лихом, предметом которой служат плешивые головы Энколпия и Гитона (гл. CVII), представляет
собой нечто среднее между имитацией суда и пародией на
школьные риторические состязания. Она завершается элегидиарием на плешивых — своеобразной пародией на распространенный в то время жанр стихотворений на случай.
Дуэль ораторов венчает драка, в которой принимают участие
нее плывущие на корабле. Во время свалки Гитон и Энколпий повторяют фарс с попыткой к самоубийству (гл. CVIII).
Драка кончается перемирием по инициативе Трифены. Держа
в руке оливковую ветвь, она произносит восемь гекзаметров,
которые в соответствии с драматизмом событий являются пародией на высокий стиль (гл. CVIII). После чего Эвмолп составляет мирный договор, применяя в нем, для большей торжественности, архаический язык судебных формул (гл. CIX).
71
Ср. с аналогичной сценой у Ахилла Татия (III, 21). У Петрония
она повторяется дважды (гл. XCIV и CVIII). Эту сцену исследователи обычно считают одной из тех, которыми Петроний (а может
быть, и греческий роман) обязан миму.
306-
Во время устроенной после этого трапезы Эвмолп, к величайшему удовольствию матросов, рассказывает новеллу о матроне
из Эфеса (гл. CXI—CXII). Принято считать, так как доказать
это невозможно, что новелла о матроне взята Петронием из
«Милетских рассказов» Аристида. Варианты этой новеллы
можно найти у многих народов 72. Рассказ о матроне полон
цитат и реминисценций из «Энеиды» (преимущественно из
IV книги). Ситуация и коллизии напоминают историю Дидоны
и Энея. Служанка, например, так же склоняет свою госпожу
к солдату, как Анна — Дидону к Энею 73.
Новеллу отличает лаконичность, изящество стиля и легкая
ирония.
Сюжет этой пикантной новеллы очень прост. Некая эфесская
матрона, отличавшаяся, по словам Петрония, «столь великой
верностью, что даже из соседних стран женщины приезжали
посмотреть на нее», когда умер ее муж, решила уморить себя,
оставшись в склепе возле тела умершего без еды и питья. Усилия родных, знакомых и даже, как замечает Петроний, городских властей, отговорить ее от этого решения ии к чему не привели, и весь город был потрясен таким «блестящим примером
истинной любви и верности».
На пятые сутки этого бдения некий солдат, охранявший неподалеку трупы распятых на кресте разбойников, заметил свет
в одном из склепов и, решив полюбопытствовать, что там происходит, увидел плачущую женщину редкой красоты, мертвое
тело, служанку и все понял. Он принес в склеп свой скромный
обед и предложил женщинам разделить с ним трапезу. Первой
сдалась служанка. Вдова, поскольку «всякий охотно слушает,
когда его уговаривают есть или жить», тоже позволила сломить
свое упорство. Ну, а далее «вы, конечно, знаете, — лукаво
говорит Петроний, — на что нас часто соблазняет сытость».
Атакуемая воином и вторящей ему служанкой, вдова потерпела
полное поражение. Счастье солдата и «верной» матроны продолжалось до тех пор, пока с одного из крестов не исчез труп.
Победоносному воину грозило наказание, и он уже почти отва72
73
Существует монография М. Е. Гризебаха («Die Treulose Witlwe».
Stuttgart, 1877), где исследованы ее источники и эквиваленты. В римской литературе есть басня Федра на ту же тему «Вдова и Воин»
(см. Федр Б а б р и й . Басни. М., 1962, стр. 62). Иногда считают, что
она навеяна «Сатириконом» (L. H e r m a n n . La matrone d'Ephese
dans Petrone et dans Phedre. — BAGB, 1927, p. 20—57). Но весьма
возможно, что источником и того, и другого послужил, в конечном счете, реальный факт и возникшая на его основе устная
легенда.
Вейле (W е h 1 е. Observationes criticae in Petronium Bonn, 1861,
p. 46) предлагает видеть здесь легкую пародию па классическую
историю любви Энея и Дидоны.
25 Античный роман 3 0 7
>кйЛСя покарать себя сам, собственным мечом. Мо рассудительная вдова решила иначе: «Я предпочитаю повесить мертвого, —
сказала она, — чем погубить живого».
И, таким образом, на место похищенного трупа разбойника
было повешено тело мертвого мужа. «А на следующий день, —
завершает новеллу Петроний, — все прохожие недоумевали, каким образом мертвый взобрался на крест».
По своему духу, полному жизнелюбия, веселого лукавства и
юмора, по несомненным литературным достоинством, новелла
о матроне из Эфеса может быть поставлена в один ряд со знаменитыми итальянскими новеллами эпохи Возрождения.
Следующий эпизод — буря на море и кораблекрушение (непременный компонент большинства греческих романов) — дан
Петронием в обычном для него сочетании серьезного и смешного. Картина природы, которыми вообще так бедна античная
проза, — в данном случае разбушевавшееся море — наннсана
со всей серьезностью. Исследователи считают, что она навеяна
Вергилием. Поведение же героев романа превращает трагическую сцену в бурлескную.
После разных трагикомических перипетий для бродяг буря
кончается благополучно: Энколпия и Гитона, вдруг вспомнивших о своей старой любви и решивших погибнуть вместе,
и Эвмолпа, даже в такой ситуации завывающего стихи и что-то
пишущего на огромном пергаменте, спасают появившиеся на
лодках рыбаки.
Действие последних из сохранившихся частей романа происходит в городе Кротоне, про который некий хуторянин, встретившийся нашим путникам, говорит, «что это древнейший,
когда-то первый город Италии». В страстной обличительной
речи, никак не выглядящей шутовской (большая редкость
в «Сатириконе»), хуторянин дает характеристику жителям города, главное занятие которых — погоня за наследствами.
По его словам, здесь процветает только тот, кто умеет лгать,
«ибо науки в этом городе не в почете, красноречию в нем нет
места, а воздержание и нравственность не пожинают похвал».
Гневная речь хуторянина заканчивается почти зловещим предсказанием: «Вы увидите город, напоминающий собой пораженную чумой равнину, на которой нет ничего, кроме терзаемых
трупов да терзающих воронов» (гл. CXVI).
Поняв из этой речи, каким способом можно поживиться
в этом городе, Эвмолп решает выдать себя за богача из Африки,
потерпевшего кораблекрушение и потерявшего единственного
сына — наследника, а Энколпия с Гитоном — за своих слуг. Некоторые исследователи (Розенблют, Колиньон) предлагают
рассматривать как мим историю с наследством в Кротоне. Здесь
308-
(гл. CVII) мы как бы присутствуем при распределении ролей,
после чего сам Эвмолп говорит: «Quid ergo.. . cessamus mimum
componere» (В таком случае, зачем откладывать нашу комедию
в дальний ящик?). В гл. CXL и CXLI перед нами проходят некоторые из эпизодов этого мима.
По дороге к городу Эвмолп в разговоре опять возвращается
к любимой теме поэтического творчества: высказывает свое
мнение о соотношении содержания и формы и о том, каково,
например, по его мнению, должно быть описание гражданской
войны: «Дело совсем не в том, чтобы в стихах изложить
факты, — это историки делают куда лучше; нет, свободный дух
должен устремляться... по таинственным переходам, чтобы
иеснь казалась скорее вдохновенным пророчеством исступленной души, чем достоверным показанием, подтвержденным свидетелями» — (гл. CXVIII).
В доказательство своей теории Эвмолп тут же произносит
«Песнь о гражданской войне» (гл. CXIX—CXXIV).
Поэма Петрония в 295 гекзаметрах передает содержание
695 стихов I песни «Фарсалии» Лукана. В противоположность
Лукану, отказавшемуся от богов и другой мифологической
орнаментики, она написана в традиционной эпической манере,
но и стиль Лукана и вообще «новый стиль» наложили на
поэму значительный отпечаток.
Концентрация материала
в поэме еще сильнее, чем у Лукана, хотя сами события поэта
не интересуют. Рассказ о них дается через декламацию и резонерство. Поэма изобилует имитацией стиля и выражений Вергилия и Лукана.
Вопрос о том, как расценивать поэму Петрония, имеет свою
историю, заслуживающую специального рассмотрения. Упомянем лишь основные точки зрения, из которых одна, поддержанная большинством (Е. Вестербург, А. Фридлендер и др.),
заключается в том, что поэма Петрония — это пародия на
Лукана. Другая (например, Меслер, Г. Буассье) состоит в том,
что Петроний соперничает с ним и показывает, как надо писать.
А. Колиньон, подробно рассматривающий этот вопрос в своей
книге 74 , полагает, что это просто имитация начала «Фарсалии», не имеющая цели унизить Лукана. По его мнению,
«Песнь о гражданской войне» такое же школьное упражнение,
как «Troiae halosis».
В нем Петроний вступился за мифологию по Вергилию,
остающемуся для него авторитетом. К последнему времени сложилось, по всей видимости, правильное мнение, суть которого
в том, что поэма Петрония — это двойная пародия: на нрва74
А. С о 11 i g п о п. Указ. соч., стр. 149—226.
309-
торство Лукана и на бездарных эпигонов классического эпоса 75.
На поэме бесспорно сказались литературные разногласия той
поры и новые веяния 76.
Бродягам блестяще удается задуманная Эвмолпом мистификация в Кротоне — их окружает толпа искателей наследств.
Эвмолп упивается удачей, а Энколпий побаивается разоблачения и все время ждет, что «снова придется удирать и снова
впасть в нищенство» (гл. CXXV).
Центральный эпизод этой части романа — любовное приключение Энколпия, который принял имя Полиена, с кротонской
красавицей Киркеей (гл. GXXVI —GXXXVIII).
Существует мнение, что этот эпизод навеян Петронию рассказом Геродота об Амасисе и Лаодикее (II, 181). Вполне возможно также, что это любовное приключение, в котором участвуют капризная красавица Киркея, лукавая служанка Хрисида
и незадачливый влюбленный Полиен-Энколпий, появилось
в «Сатириконе» под влиянием игривых рассказов Аристида. Это
как бы еще одна новелла в милетском духе, вплетенная в основной сюжет, ставшая его частью.
История этого приключения рассказана Петронием с особенным художественным разнообразием. Здесь много стихотворных
вставок, обильно использованы литературные формы и приемы
софистической прозы, сближающие «Сатирикон» с греческим
любовным романом: любовная переписка (гл. CXXXIX), размышления Энколпия и обращения его к самому себе, составленные по правилам риторики (гл. CXXXII, CXXXVIII), описание внешности красавицы Киркеи, восходящее к образцам софистической прозы, и др. Главный поэт этой части «Сатирикона»,
терминология и выражения которого нашли здесь свое отраже ние как в прозе, так и в стихах, — Овидий. Он наиболее соответствует ей своей любовной тематикой. Переживания героев переданы здесь Петронием более детально и углубленно, чем в какойлибо другой части произведения. Однако причина этих пережи75
76
См.: W. К г о 1 1. Указ. соч., стр. 1212.
См. статью Хрдина (Ch. Н г d i n a. Le bellum civile de Petroile. —
«Listy Filologicke», XIV, p. 190—201), который отмечает, что Петроний в своей поэме использует одновременно выражения классической поэзии и сентенции современных ему декламаторов, как бы
доказывая тем самым, что поэт не может выскользнуть из стиля
своей эпохи и вынужден балансировать между классической поэзией и стилем своей эпохи. Или статью Джелли (G. Н. G е 11 i е.
A comment on Petronius. — AULA, 10, 1959 г., p. 89—100), который
считает, что Петроний порывает в своей поэзии (как и в литературной критике) с римской классической традицией и создает новый личный контакт с современником, с действительностью, т. с.
выдает нам «модерн».
310-
ваний начисто снимает их драматизм и заставляет воспринимать эту историю как комическую. При этом комический эффект усиливается с усилением переживаний Энколпия. Смысл
истории сводится к тому, что в самый разгар любовных отношений Энколпия с Киркеей Приап за неизвестные нам прежние грехи Энколпия лишает его мужской силы. Свое горе
Энколпий изливает в очередной страстной речи (гл. CXXXII).
Надеясь вылечиться, он прибегает к услугам старой колдуньи
Проселены и жрицы Приапа Энотеи.
Манипуляции этих старых ведьм описаны издевательски
и с любопытными бытовыми подробностями (гл. CXXXI и
CXXXV—CXXXVIII). В конце концов Энколпий сбегает от
них, так и не излечившись и не переставая думать о своей
горькой участи. Юмористически звучат 8 гекзаметров из
GXXXIX главы, в которых Энколпий жалуется на гнев Приапа,
чувствуя себя жертвой и проводя параллель между собой и
эпическими и трагическими героями.
В последних эпизодах романа рассказано о попытке одной
из первых дам города, Филомены, навязать Эвмолпу, которого
она считает богачом, своих детей — сына и дочку и об очередной оргии, на этот раз уже с участием многоопытных деток
Филомены, во время которой Энколпий исцеляется.
Рукопись «Сатирикона» обрывается на завещании Эвмолпа,
при помощи которого он решает в последний раз перед тем, как
покинуть Кротону, поиздеваться над кротонцами. Эвмолп составляет завещание, где говорится, что его наследство получит
тот, кто согласится публично съесть труп. Существует несомненная связь эпизода с наследством в Кротоне с V сатирой
II книги Горация — об охотниках за завещаниями. Фиванка
у Горация тоже ставит своему наследнику странное условие:
отнести свое тело на кладбище на голых плечах. Кроме тематических и текстуальных совпадений, здесь, как и в эпизоде
«Пира», сходство в тонкой и язвительной иронии поэта, стоящего над своими героями. Это место — еще одно доказательство
близости Петрония Горацию-сатирику.
*
*
*
Из-за слабой связанности друг с другом частей «Сатирикона»
и отсутствия в цепи событий романа строгой логической последовательности трудно угадать, что могло случиться с героями
после Кротона и близок ли конец романа.
Ясно только, что Энколпий после всех злоключений остался
цел и невредим, поскольку рассказ о них ведет он сам. И, повидимому, рассказ все-таки близится к концу.
311-
Колиньон, например, предполагает 77, что развязка наступила
в Таренте, куда вернулась после кораблекрушения Трифена и
куда, может быть, направились, в конце концов, бродяги.
Тома 78, полагая, что герои начали свои скитания со столицы,
считает, что они должны были завершиться возвращением
туда же.
По сохранившимся главам «Сатирикона» разбросаны намеки
на те факты и события, которые происходили в предыдущих
14 книгах (или главах) романа и в утерянных частях дошедших до нас 15-й и 16-й книг или глав 79 .
Это прежде всего намеки на преступления Энколпия: они
содержатся в речи Аскилта, которую последний обрушивает на
Энколпия во время их ссоры (гл. IX, 10—12), горестных
восклицаниях самого Энколпия, потрясенного изменой Гитона
(гл. XXXI, 5 — И ) и в признаниях Энколпия в письме к Киркее
(гл. СХХХ, 8—9) 80. Кроме того, из разных мест «Сатирикона»
явствует, что в потерянных частях романа должна была быть
целая серия любовных приключений Энколпия — с Аскилтом
(гл. IX), с Лихом и Гедилой (гл. CIX ), с Доридой (гл. CXXVI);
затем знакомство с Гитоном, с Агамемноном, встречи с Трифеной, ее страсть к Гитону и т. д.
Ученые не отказывают себе в возможности пофантазировать
относительно содержания потерянных глав и без какой-либо
определенной опоры в сохранившемся тексте. Иногда в этом
случае подспорьем служат фрагменты, приписываемые Петронию и сохраненные позднейшими грамматиками и схолиастами 81 . Так, Э. Тома, как и другие ученые, ссылаясь на фраг77
78
79
80
81
А. С о 11 i g п о п. Указ. соч., стр. 8.
Е. T h o m a s . Указ. соч., стр. 164.
Подробно об утерянной части «Сатирикона» см. у Параторе (указ.
соч., т. I, стр. 109—178), у Тома (указ. соч., стр. 160—166). См. также
предисловие Б. И. Ярхо (указ. соч., стр. 25).
Надо сказать, что эти намеки расшифровываются разными учеными
по-разному. Так, Э. Параторе считает (см. примеч. выше), что после
Массилии, где побывали наши герои (fragm. I и IV), Энколпий
попадает в школу гладиаторов, из которой потом бежит. Жертвой
Энколпия Э. Параторе считает Ликурга, который принимал у себя
Энколпия, Гитона и Трифену и дал им рекомендательные письма
к Агамемнону. Дж. Баньяни («Encolpius gladiator obscenus» — CPb,
1956, p. 24—27) на основании гл. IX, так как LXXXI и СХХХ глав
он не касается, склонен понимать брань Аскилта просто как брань,
как инвективу,. сведения которой заведомо ложны. Он полагает, что
Энколпий был свободнорожденным (на основании гл. CVII, CVIII,
CXIII) и не мог быть осужден на растерзание зверям. Р. Пэк
(«The criminal dossier of Encolpius». — CPh, LV, 1960, p. 31—32)
полемизирует и с Параторе, и с Баньяни.
Эти фрагменты в изданиях «Сатирикона» помещают обычно сразу
после текста «Сатирикона». Ф. Бюхелер в своем первом издании
1862 г. поместил 53 таких фрагмента, в третьем издании — 1882 г, —
312-
менты I и IV но Бюхелеру, считает, что действие каких-то
потерянных частей должно было происходить в Массилии —
полугреческом, полугалльском городе, славящемся свободой
нравов 82. В этом городе был особый культ Приапа. Упомянутые в VI фрагменте Альбуция и в VIII фрагменте адвокат
Евскион вряд ли принадлежат к героям других произведений
Петрония, как думали некоторые исследователи 83 , а скорее
всего также фигурируют в потерянных главах «Сатирикона».
Уже просто основываясь вообще на содержании дошедших глав,
Э. Тома предполагает, что в потерянных главах мы, может
быть, могли бы увидеть реалистическое описание определенных
уголков Рима, если считать, как он, что приключения героев
начались в Риме, или организацию школы ритора и жизнь его
учеников. Неизвестно, был ли Энколпий гладиатором, однако
в потерянной части романа могло быть описание гладиаторских
или других игр в цирке или амфитеатре, популярных в то
время в Риме (см. разговоры гостей Трималхиона).
Словом, предположения относительно того, что могло быть
в потерянных главах, можно продолжать до бесконечности, —
пестрота содержания дошедших до нас глав дает для этого
достаточно оснований, однако предположения эти вне зависимости от степени их вероятности так и остаются всего лишь
предположениями.
*
*
*
Тот факт, что от «Сатирикона» сохранился» лишь отрывок и
к тому же со значительными купюрами, создает особые трудности в определении его сюжета и композиции.
Дошедшие до нас части логически мало связаны между собой, и в их чередовании трудно уловить закономерность. Бытовые сцены и зарисовки чередуются с описанием оргий, эротические сцены с эпизодом в пинакотеке, приключения в школе
риторов с приключениями в притоне и т. д.
Были предложения попытаться восстановить сюжет романа,
взяв за основу один из его мотивов. Так, Т. Синко 84 предложил
взять для этой цели мотив голода и сладострастия — едва ли
не главный мотив, руководящий поступками героев.
82
83
84
уже только 39. Последнее критическое издание «Сатирикона» — издание К. Мюллера (Мюнхен, 1961), содержит всего 30 фрагментов.
Анализ фрагментов дается во вступительных статьях к изд. Бюхелера и Мюллера.
Е. T h o m a s . Указ. соч., стр. 161.
См.: А. С о 11 i g п о п. Указ. соч., стр. 8—9.
Т. S i п к о. Le motif de la faim et ae luxure dans le roman de Petrone comme moyen permettant de le rcconstitiier. Resume dans. —
BAPC, 1935, p. 230—232.
313-
Однако эти попытки, так же как и попытки догадаться, что
было в не дошедших до нас главах «Сатирикона», относятся
к области фантазии.
Канву произведения, ее сюжетную основу составляют эпизоды, где рассказывается о приключениях героев «Сатирикона»
до пира у Трималхиона и после него — на корабле и в Кротоне.
Р> эту основу вплетаются вставные поэмы и новеллы, не имеющие прямого отношения к описываемым событиям: новеллы об
уступчивом мальчике и матроне Эфесской, поэмы о Трое и
гражданской войне. «Пир Трималхиона» тоже можно рассматривать как вставной эпизод, поскольку он не вносит ничего
нового в развитие основной сюжетной линии.
Частично слабую связанность отдельных эпизодов можно
объяснить плохой сохранностью романа. Но главным образом
отсутствие строгой композиции и четкого логического плана
в «Сатириконе» объясняется особенностями его формы, его
родством с менипповой сатурой. Для произведения подобного
рода строгость композиции была необязательна. Она приносилась в жертву занимательности и разнообразию.
Тем не менее в композиции «Сатирикона», даже в таком его
неполном виде, можно отметить определенные закономерности.
Прежде всего все эпизоды объединяет личность главного героя — Энколпия, от лица которого ведется рассказ. Он непосредственный участник всех событий, происходящих в романе. Наиболее крупные из эпизодов соединены друг с другом как бы
цепочкой 85 , каждый следующий эпизод связан с появлением
нового персонажа, который, так сказать, обеспечивает очередное приключение. Так, например, встрече с Агамемноном бродяги обязаны тем, что попали на пир к Трималхиону. Познакомившись с Эвмолпом и благодаря его протекции, они оказываются на корабле и т. д.
Каждый крупный эпизод сам по себе, как правило, отличается стройностью и завершенностью композиции. Это можно
было видеть на примере той части «Сатирикона», которая объединяет события на корабле, события в Кротоне и т. д. Каждая
из этих частей имеет свою завязку, кульминацию и развязку
(правда, окончательная развязка событий в Кротоне до нас
не дошла).
Той же, если не еще большей, стройностью построения и
изящной стилистической отделкой отличаются и вставные
рассказы, в частности, новелла об уступчивом мальчике и
новелла о матроне Эфесской, не говоря уже о «Пире у Трималхиона».» Основные эпизоды «Сатирикона», где рассказы85
Как это правильно заметил Б. И. Ярхо в своем предисловии (указ.
изд., стр. 27).
314-
вается о любовных страданиях и приключениях трех бродяг — Энколпия, Аскилта, Гитона и присоединившегося к ним
затем Эвмолпа, кроме того, объединяет несомненное внутреннее
единство. Ища объяснения причины злоключений Энколпия и
его спутников, ученые пришли к мысли, что она заключается
в гневе бога сладострастия Приапа, таинство которого нарушил
где-то в не дошедшей до нас части «Сатирикона» Энколпий.
Мысль о том, что гнев Приапа и есть та нить, которая связывает все пестрые эпизоды романа, впервые была высказана
Э. Клебсом 86 . Выявляя пародийное использование мотивов
эпоса в «Сатириконе», он пришел к выводу, что Петроний применил в качестве композиционного принципа для своего «Сатирикона» старый эпический прием — гнев бога, взяв его в пародийном плане. Гнев Посейдона проходит через «Одиссею», гнев
Юноны — через «Энеиду». Точно так же Энколпий скитается по
свету, гонимый гневом бога, но бога, уже более соответствующего характеру произведения и его герою.
Гипотеза Э. Клебса об использовании Петронием эпического
приема была тут же подхвачена учеными и, так сказать, «взята
на вооружение». Несогласных с ней было меньшинство. Так,
например, Р. Гейнце соглашался с самой идеей гнева бога, но,
последовательно проводя свою мысль о пародировании Петронием греческого романа, считал, что мотив гнева бога Петроний также взял оттуда, а не из Одиссеи 87. Действительно, у Харитона ссора любовников в какой-то степени зависит от Афродиты; гнев Эроса присутствует в романе Ксенофонта Эфесского, но и у Харитона, и у Ксенофонта он проявляется лишь
в очень слабой степени и не оказывает решающего влияния на
течение событий романа. В пользу догадки Э. Клебса о пародийном использовании Петронием мотива эпоса говорят параллели с «Одиссеей»: Гитон прячется под кроватью, как Одиссей
под бараном (гл. XCVII—XCVIII); Гитон с Энколпием попадают на корабль Лиха, как Одиссей в пещеру Киклопа (гл. CI);
Энколпия узнают по его внешнему виду, как Одиссея по шраму
(гл. CV); во время жизни в Кротоне Энколпий принимает имя
Полиепа (эпитет noXoouvoc— прославленный, или богатый мудрыми речами — Гомер употребляет только по отношению
к Одиссею). Кроме того, в гл. CXXXIX, 2, стих 6 Петроний упоминает Одиссея как товарища своих героев но несчастью.
В отличие от «Одиссеи» пародийно-переосмысленный мотив
гнева бога звучит в «Сатириконе» значительно глуше. Петроний
9В
87
Е. K l e b s . Zur Composition von Petronius Satirae. — Phil., XLVIT,
1889.
R. H e i n z e. Petron und der Griechische Roman. — «Hermes», XXXIV,
1899, S. 507-508.
315-
в соответствии со своей обычной манерой употребляет его не
слишком явно и как бы в шутку. Однако тема Приапа в «Сатириконе» бесспорно присутствует.
С Приапом связана гл. XVII: Квартилла, по-видимому, жрица
Приапа, беспокоится, чтобы бродяги не разболтали о виденном
в святилище Приапа; гл. XXI: Квартилла призывает бродяг
бодрствовать в честь гения Приапа; гл. CIV: Трифене на корабле явился во сне Приап и подсказал, что он привел на
корабль Энколпия;
гл. CXXXIII:
Энколпий обращается
к Приапу с мольбой помочь вернуть ему силы; гл. CXXXVII:
Энколпий убивает священного гуся Приапа; гл. CXXXVX:
в стихах 7—8, которые произносит Энколпий, содержатся сетования на то, что его всюду преследует гнев «геллеспонтийского
бога Приапа». В гл. CXL имя Приапа не упоминается, но говорится, что враждебное божество numen inimicum опять встало
Энколпию поперек дороги 88. Кроме того, тема Приапа ясно звучит в эпизоде с Киркеей. Словом, Приап — главное божество
в «Сатириконе», а его гнев — удачное объяснение злоключений
героя и та нить, на которую свободно нанизываются все разнородные эпизоды романа.
Более точно решить вопрос о сюжете и композиции такого
своеобразного и оригинального произведения, как «Сатирикон»,
можно лишь в связи с решением вопроса о его источниках и
жанре.
*
*
*
Один из самых спорных вопросов в петрониеведении — это
вопрос об источниках «Сатирикона». Здесь, как и в других
петрониевских вопросах, ученым во многом приходится довольствоваться догадками, которые трудно проверить, так как «Сатирикон» в значительной степени обязан литературе, которая
или не сохранилась вовсе или сохранилась в не удовлетворяющем исследователей количестве и виде (мениппова сатура, мим,
новая комедия, новелла). Это в высшей степени своеобразное
произведение, оригинальность которого не нуждается в доказательствах, вобрало в себя все богатство изобразительных средств
предшествующей ему греческой и в особенности латинской литературы, в нем переплелись черты многих античных жанров.
Исследователи отмечают исключительную эрудицию автора
88
Правда, Шиссель фон Флешенберг (WSt, XXXIII, 1911, стр. 264) указывает на необходимость заботливого подхода к интерпретации этих
мест (в гл. CXXXIII, CXL). Он замечает, что обращение к Приапу
в гл. CXXXIII не содержит намека на вину бога, а упомянутое
в гл. CXL божество — не обязательно Приап. Однако вряд ли он прав,
особенно в последнем случае.
316-
«Сатирикона». Так, Ф. Бюхелер в своем предисловии к изданию
1862 г., краткость которого не помешала ему затронуть чуть ли
не весь круг основных петрониевских проблем, говорит 89, что
сатиры Петрония обнаруживают очень образованного писателя,
с изящным умом, просвещенного судью греческого искусства,
тонкого ценителя свободных искусств, который изучал новую
комедию и книги перипатетиков, где нарисованы нравы людей.
Главными греческими источниками «Сатирикона» он называет новую комедию и «Характеры» Феофраста.
По мнению Ф. Бюхелера, характеристика Трималхиона и его
гостей почти слово в слово имитирует «Характеры» Феофраста.
В то же время портреты-карикатуры Петрония напоминают
Менандра и вообще новую комедию, которая первой стала
в обрисовке своих типов доходить до карикатуры. Эти-портреты
использовались философско-перипатетической и риторико-педагогической литературой. Ф. Бюхелер, который предлагает делить источники Петрония на прямые и косвенные, считает
комедию косвенным источником «Сатирикона».
В числе греческих источников Ф. Бюхелер называет также
греческую новеллистику и Аристида из Милета. Среди главных
латинских источников Ф. Бюхелер, кроме менипповой сатуры,
упоминает как прототип «Пира у Трималхиона» — Пир у Назидиена Горация 90. Начиная с третьего издания, он помещает
вместе с «Сатириконом» как родственные ему по духу и форме
произведения, относящиеся преимущественно к литературе эротической и сатирической. Это образцы латинской приапической
поэзии, фрагменты из Варроновых мениппей, «Апоколокинтосис» Сенеки, фрагменты из милетских рассказов Аристида
в переводе Сизенны, leges convivales и анонимное «Завещание
поросенка».
Разбирая мнение Ф. Бюхелера, А. Колиньон 91, верный своей
методе, сопоставляет текст «Пира» с текстом Феофраста и делает вывод, что прямых совпадений очень мало. На этом основании он заключает, что и Феофраста следует отнести скорее
к косвенным, чем к прямым источникам «Сатирикона». Кроме
того, типы Феофраста, по его мнению, обрисованы более деликатно и выглядят менее вульгарно, чем типы Петрония. Связь
между ними А. Колиньон усматривает в том, что и там, и там
они являются объектами явно сатирического изображения.
Точно так же, на основе прямых текстуальных сопоставлений, обнаружив крайне редкие совпадения (А. Колиньон приводит две-три одинаковые пословицы у Петрония и комедиогра89
90
91
F. B u c h e l e r . Указ. соч., стр. IX—X.
См. примечания к анализу «Пира».
А. С о 11 i g п о п. Указ. соч., стр. 314.
317-
фов), он находит связь между комедией (древней и новой),
Аристофаном и Менандром — и Петронием сложной и далекой.
Ничто, по его мнению, не говорит о том, что Петроний прямо
вдохновлялся комедией 92. А. Колиньон, в свою очередь, выдвигая гипотезы о греческих источниках «Сатирикона», отмечает,
что для Петрония имело значение существование греческого
эротического романа. Петроний мог заимствовать у него рамку
композиции (рассказ устами главного героя, как в истории Jlyкия из Патр и т. д.). На связь с греческим романом указывает
греческий колорит отдельных эпизодов (например, истории
Киркеи и Полиена), аналогия некоторых сцен «Сатирикона» со
сценами греческого романа, греческое происхождение новеллы
о матроне из Эфеса и т. п. Учитывая, что у Петрония очень
силен эротический элемент, А. Колиньон также связывает его
с греческими новеллистами, т. е. с Аристидом и его последователями 93.
Среди греческих авторов, которых можно считать косвенными
источниками «Сатирикона», А. Колиньон называет мимографа
Герода. Герод наряду с Феокритом принадлежит к тем авторам,
которые, как принято считать, снабдили какими-то элементами
греческий роман. Общим у Петрония и Герода А. Колиньон
считает изображение людей из народа, ремесленников, «низов»
общества, вольность в обрисовке нравов, непринужденность
стиля, обилие пословиц и простонародных выражений. На этом
основании он делает некоторые сближения Герода с Петронием
(I, 15, с гл. 42, I, 9 и V, 15 и 12 с гл. 72, 2, 26).
А. Колиньон вообще убежден, что Петроний знал и сознательно использовал для своего романа интриги и стиль мима.
На мим и ателлану встречаются многочисленные намеки в «Сатириконе». Самое слово «мим неоднократно встречается в романе, так же как и воспоминания о сцене и актерах (главы I,
XIX. XXXI, XXXIII, XXXVI, L I I - L I V , LXIV, LXIX, LXX,
LXXIII, LXXX, XCIV, CVI. CVIII, СХ, CXVI, CXXXII, СХ).
У мима, преследующего цель точного воспроизведения действи92
93
Противоположного мнения решительно придерживается К. Престон
(«Some sours of comic effect in Petronius». — CPh, 1915, p. 260—269 и
«Note on Polrone». — CPh. 1916, p. 96—97). Он считает, что и материалом, и характерами Петроний обязан именно новой комедии,
хотя критика и отказывается это признавать (к сожалению, мы лишены возможности, за отсутствием номеров журнала со статьями
К. Престона, остановиться на них подробнее. Это особенно печально,
так как именно вопрос о связи Петрония с новой комедией разработан менее всего из всех вопросов об источниках Петрония).
По линии той же эротической литературы А. Колиньон связывает
Петрония с элегиками — Катуллом, Тибуллом, Процерцием, Овидием. а также с теми — греческими и латинскими — эротическими
авторами, которые перечислены у Овидия во II книге его «Скорбных стихотворений» (ст. 413 и 443), но которые до нас не дошли.
318-
тельности, Петроний мог заимствовать не только эпизоды и
инциденты, но и краски. В доказательство А. Колиньон приводит сцены из «Сатирикона», которыми, по его мнению, Петроний
обязан миму: это дважды повторяющаяся сцена с попыткой
к самоубийству тупой бритвой — гл. XCIV и CVIII, сцены на корабле — гл. CII и особенно история с наследством в Кротоне —
гл. CXVII и CXL—CXL1, которой А. Колиньон дал название
«Le faux riche» или «Le captateur de testaments».
Мим всегда связан с какой-нибудь выдумкой, с идеей когонибудь одурачить. Доказательства связи Петрония с мимом
А. Колиньон видит и в упоминании мимографа Публилия
Сира — его стихи цитируются или имитируются в гл. LV. Трехстишие в гл. XXXV также напоминает стихи из мима. А. Колиньон не отрицает, что Петроний мог использовать какие-то
приемы комедии (например, на корабле — сцена с переодеванием, прятками и узнаванием), что «Сатирикон» чем-то обязан
ателлане, но главным драматическим жанром — источником
Петрония он все-таки считает мим.
Мысль о том, что мим вообще является главным источником
«Сатирикона», убежденно приводит в своей работе М. Розенблют 94.
Сопоставив «Сатирикон» с менипповой сатурой Варрона,
мимом, «Характерами» Феофраста и «Метаморфозами» Апулея,
М. Розенблют приходит к заключению 95 , что «Сатирикон»
имеет форму менипповой сатуры, а содержанием — мим и
источником — мим; форма менипповой сатуры, как он говорит,
наполнена духом и содержанием мима. При этом он допускает,
что наряду с мимом в «Сатириконе», особенно в эротических
вещах, дает себя знать влияние греческой новеллистики (хотя
за неимением новелл Аристида — это вопрос открытый), и считает, что должно быть общепризнанно влияние греческой пародической литературы, так как он отрицает теорию Гейнце
о пародии на идеалистический роман и полагает, что Петроний
писал свой роман с уже готового греческого романа-пародии.
М. Розенблют, как и другие исследователи, находит, что «Характеры» Феофраста много значили для Петрония, но в этом
также видит доказательство близкого родства между мимом и
Петронием 96. Аргументы в пользу близости Петрония с мимом
94
95
96
М. R o s e n b l t i h t . Beitrage zui* Quellenkunde von Petrons Satiren,
Kiel, 1909. Розенблют, строя свои доказательства, черпает поддержку
в книгах А. Колиньона и Райха, на которые он ссылается.
М. R o s e n b l t i h t . Указ. соч., стр. 92—93.
М. R o s e n b l t i h t . Указ. соч., стр. 61. Как и А. Колиньон, М. Розенблют сопоставляет текст «Сатирикона» с текстом «Характеров»,
но в отличие от него приходит к прямо противоположному выводу:
он считает, что найденных совпадений вполне достаточно, чтобы
319-
он извлекает из сопоставления «Сатирикона» с идиллиями
Феокрита (XIV и XV), мимиямбами Герода и сохранившимися
фрагментами из мимов Софрона, Либерия, Публилия Сира и
двумя мимами с оксиринхского папируса.
Исходя из того, что и мимографы, и Петроний следуют общему принципу — основному принципу мима — воспроизведению жизни (pip//]ai<; f3tou), он всячески подчеркивает, часто
преувеличивая, их тематическое и стилистическое сходство.
Он называет большей частью уже известные нам эпизоды, которые, по его мнению, навеяны Петронию мимом (события в Кротоне, события на корабле, мимическое самоубийство, свадьба
Гитона и Паннихис и др.)? ссылаясь на соответствующие эпизоды в мимах Герода и фрагменты. У Петрония и в мимах,
отмечает М. Розенблют, фигурируют суеверие, колдовство, сновидения, играет значительную роль сексуальный элемент.
Остроумие Петрония, его сентенции сродни остроумию и сентенциям мимов. Любовь Петрония к фарсовым сценам и пародии также находят себе подобие в мимах. Имена, которые
у Петрония, как и в миме, характеризуют персонажей и носят
определенный смысл, — тоже говорят в пользу этого сходства.
Язык, который, по мнению М. Розенблюта, у Петрония индивидуализирован (с чем согласны далеко не все ученые), в «Сатириконе», как и в миме является средством характеристики
персонажа. Наконец, выбор типов и их характеристика очень
близки героям мима: врач, который помогает скорее умереть,
чем выжить, жалкий учитель, схоласт, ритор, вымогатель наследства, глашатай, трактирщик, паразит, старые женщины
и др. — всему этому, часто с явной натяжкой, находит соответствие в немногих сохранившихся мимах Розенблют.
Упоминая в своей статье 97 мнение М. Розенблюта, В. Кроль
находит его аргументы неубедительными. Он впадает в другую
крайность: если Розенблют во всякой сходной детали видит
доказательство связи между Петронием и мимом, то Кроль считает такое сходство ничего не доказывающим. Оно, по его мнению, объясняется тем, что и мим, и Петроний изображали
жизнь и жизненные явления fJiamxa в отличие от большей
97
говорить о близости между ними. Так, например, в III «Характере»
под названиемсг8оХ.е51а?—пустословие он находит много параллелей
с разговорами Трималхиона и его гостей (особенно с гл. XLIV и
LXIV, а также XLIV, 1, 2, 4; XLI, 4; LXVI, 1, 5; LXVII, 2).
Он отмечает и другие совпадения Петрония с Феофрастом, которые приходятся на «Характеры» под названием «трovAaq— деревепщипа, сточоас,— отчаянный, avaa£uvTi'a? — бессовестный и <bj8ta? — мелочный (А, 6, 12, 16, —LXX; LXIV, 7; LXXIII, 3; J, 3, — LII, 8;
О, 3 - L X , 7; К, 6 - X L X I I , 2).
RE, стр. 1206.
320-
части античной литературы, по его словам, избегающей жизни.
В. Кроль обращает внимание иа несомненное сходство «Сатирикона» с греческим романом. Он сторонник пародии. В числе
других возможных источников «Сатирикона» он также называет Аристида.
Мениппова сатура, греческая новеллистика, «Характеры»
Феофраста, мим, новая комедия — наиболее часто упоминаемые
и наиболее вероятные из предполагаемых источников «Сатирикона».
Учитывая, что в сюжете есть элемент путешествия, называют
еще в качестве его источника рассказы о путешествиях Стация
Себозия и Луция Манилия; вспоминая, что в кое-каких манускриптах к имени Петрония добавлено Афраний, предполагают
связь с тогатой и паллиатой, от которых ничего не осталось:
видя наличие в «Сатириконе» многочисленных сентенций в духе
популярной философии, связывают его с философской, кпнической литературой, полной сентеиций, пословиц, рассуждений,
игры слов, каламбуров — т. е. с тем, что носило название bionei
sermones, или StSa^-rj.
Кроме того, «Пир Трималхиона» связан с «Пиром Назидиена»
Горация, с философским диалогом и через него с симпосием.
Элементы диалога встречаются, кстати, не только в эпизоде
пира, но и в других местах «Сатирикона», например,
в гл. CXVIII, где Эвмолп в дороге рассуждает о творчестве и
читает поэму о гражданской войне (см. похожие сцены в платоновских диалогах, где герой ведет свои разговоры по дороге на
пир). Можно допустить, что в основе почти каждой из них
лежит какая-то доля правды.
Бесспорным является связь «Сатирикона» с менипповой
сатурой и, по-видимому, греческим эротическим романом, которому «Сатирикон» обязан своей схемой и рядом коллизий.
Очень вероятно, что в какой-то степени на обрисовке характеров сказалось влияние Феофраста и новой комедии, а на тематике и стилистике ряда сцен и эпизодов — влияние мима.
Новой комедии, может быть, обязан «Сатирикон» и рядом
ситуаций (на корабле).
Может быть, что и все остальные названные выше жанры
внесли свой вклад в это единственное в своем роде литературное произведение. Здесь произошло как бы своеобразное
взаимопроникновение
и взаимообогащение
жанров,
где
сложно отыскать все начала и концы. И, вероятно, прав
В. Кроль, который сказал (в упомянутой выше статье), что
отыскивать здесь источники — неблагодарная задача. Потому
что, несмотря на всю многогранную связанность «Сатприкона» с традициями, главное в нем — это его оригинальность.
21
Античный роман
3 2 1
*
*
*
Необычность формы «Сатирикона» создает особую трудность при определении жанра. Ибо с этой точки зрения «Сатирикон» представляет собой явление настолько сложное и
многослойное, что его трудно причислить к какому-то одному
жанру без соответствующих оговорок.
По форме — это такая смесь стихов и прозы (здесь с явным
преобладанием последней), которую обычно относят к жанру
менипповой сатуры. По существу же — это своеобразный
авантюрно-сатирический роман (как его обычно характеризуют в историях античной литературы). Однако несмотря
на принятое обозначение, вопрос о жанре «Сатирикона» был
и остается дискуссионным, поскольку применение к «Сатирикону» термина «роман» условно даже в его античном понимании, и, само собой разумеется, эта условность возрастает, если
брать этот термин в его современном значении (что делать,
на наш взгляд, нет необходимости).
Сохранившиеся в рукописях два основных варианта заглавия: Saturae (Satyrae, Satirae) и Satiricon (Satyricon) как бы
констатирует его близость одновременно к двум античным
жанрам — менипповой сатуре и греческому любовно-приключенческому роману 98.
С менипповой сатурой произведение Петрония роднит его
форма. Однако сказать, что «Сатирикон» написан в форме
менипповой сатуры, — это значит почти ничего не сказать
или, вернее, сказать очень мало о его характере. Действительно, Петроний, имитируя форму менипповых сатур Варрона, ничего не мог взять у него для приключений героев.
Назвать же «Сатирикон» романом, не упомянув о его необычной для романа оболочке, значит игнорировать своеобразие и
оригинальность его формы.
Более полно отражает характер «Сатирикона» определение
А. Колиньона, который с к а з а л " , что произведение Петрония — это роман, отлитый в форму менипповой сатуры. Но и
эту формулировку нельзя признать исчерпывающей, так как
и она не отражает полноты явления.
Итак, несмотря на то, что бесспорна связь «Сатирикона»
и с другими античными жанрами, эти два — Satura menippea
и роман — явились как бы его основными организующими
началами. Оригинальность Петрония заключается в том, что
98
99
Название Saturae аналогично форме заглавия менипповых сатур
Варрона, Satyricon соответствует форме названий греческих любовных романов (напр., TC3i^jL£Vi7.a)v, e<p£aiaxa>v).
C o l l i n g n o n . Указ. соч., стр. 19.
322-
он заимствовал рамку древних менипией, чтобы вставить
в нее новый жанр. Гибкость этой рамки дала ему большую
свободу: она позволила ему мешать прозу с поэзией, язык
образованного общества с народным, перескакивать с сюжета
на сюжет, менять стиль и т. д. Так под пестрым нарядом мениппей Петроний ввел в литературу латинский роман.
Для того чтобы уточнить характер «Сатирикона» и установить степень его зависимости от мениппей, интересно сопоставить его с другими образцами этого жанра и в первую
очередь с мениппеями Варрона. Петроний обязан Варрону
прежде всего смесью прозы и стихов, где проза занимает
большее место. В этом видят обычно главное сходство между
мениппеями Варрона и «Сатириконом» Петрония. Различия же обусловливаются тем, что Петроний писал роман,
Варрон же хотел привлечь внимание римлян к философии.
Он, смеясь, поучал, тогда как у Петрония отсутствует
какая бы то ни было нравоучительная тенденция. Подавляющее большинство исследователей, проводя аналогию между
внешней формой «Сатирикона» и мениппеями Варрона,
усматривают основное различие между ними именно в том,
что менипповы сатуры Варрона носят ярко выраженный
назидательный характер, тогда как у Петрония такая тенденция отсутствует.
Говоря о сходстве Варрона и Петрония, исследователи
отмечают прежде всего сходство в стиле и языке. Дело в том,
что в фрагментах Варрона можно видеть зарождение тех
комических приемов, которые будет широко применять Петроний. К ним нужно отнести в первую очередь прием пародии: Варрон любил пародировать трагические сюжеты на
манер Мениппа или Лукиана. Буассье, например, считал, что
«Евмениды» Варрона были пародией на Эсхила. Варрон, как
и впоследствии Петроний, добивался комического эффекта,
соединяя трагический или эпический стиль с фамильярными
словами и выражениями или прилагая высокий стиль к низменным ситуациям.
На основании анализа романа нетрудно убедиться в особой
любви Петрония к приему пародии 10°. Квалифицируемый как
мениппова сатура «Апоколокинтосис» Сенеки, где также
100
Прежде всего сам «Сатирикон» можно понимать как пародию на
греческий роман, а основной его объединяющий мотив — гнев
Приапа — как пародийное использование эпического мотива гнева
бога. Отдельные сцены, ситуации, художественные приемы, примеменяемые в «Сатириконе», пародируют сцены, ситуации, приемы
греческого романа, гомеровских поэм, философского диалога; Петроний часто пародирует язык судебных речей, декламаций, описаний,
писем и т. д.
25 Античный роман 3
2 3
используется прием пародии 101, подкрепляет мысль о том, что
пародия — прием, свойственный жанру менипповой сатуры.
Следовательно, Петроний, применяя его, действовал в традициях этого жанра. То же можно сказать и о литературных намеках и реминисценциях — ими изобилуют и фрагменты мениппей Варрона, и «Сатирикон». И Варрон, и Петроний любят
имитировать менеру известных поэтов или прозаиков и соревноваться с ними на один сюжет 102. Варрон вступает
в полемику со старыми латинскими писателями; Петроний во
вставных поэмах критикует и бездарных эпиков — эпигонов
и современный ему «новый стиль». Полный литературных
намеков и реминисценций «Апоколокинтосис» опять-таки
лишний раз подтверждает, что все эти приемы — обычный
арсенал менипповой сатуры и что Петроний, используя их,
следовал традициям этого жанра. Таким образом, он обязан
мениппеям Варрона не только сочетанием стихов и прозы, но
и еще весьма важным — своими едва ли не основными художественными приемами.
Исследователи отмечают и другие, уже менее значительные, черты сходства Варрона и Петрония: такие, например,
как частое употребление пословиц или отдельные совпадения
в мыслях и вырая^ениях. Трудно сказать, обязан ли Петроний Варрону, который пользовался omni fere numero — разнообразием стихотворных размеров. В этом случае так или
иначе невозможно избежать повторений, и Петроний, естественно, повторяет какие-то размеры Варрона.
А. Колиньон, заключив в несколько пунктов итоги сравнения
«Сатирикона» с наиболее близкими ему мениппеями Варрона
и Сенеки, заостряет свое внимание, главным образом, на таких признаках сходства как общая внешняя форма, стиль,
язык. Однако эти внешние признаки сходства, бесспорно,
являются отражением сходства более глубокого. Петроний не
смог бы механически перенести упомянутые выше стилистические приемы из мениппей Варрона в свой «Сатирикон»,
если бы ему не позволил это сделать материал. Здесь нужно
будет вспомнить, что мениппова сатура явилась одним из
тех жанров, который отразил начавшееся в эпоху эллинизма
101
Так, например, «Апоколокинтосис» Сенеки начинается с пародии
на вступления к историческим сочинениям. Автор его, подобно тому,
как это было принято в исторических сочинениях, прежде всего
уверяет читателя, что все написанное им — правда.
102
Вопрос об имитации Петронием известных поэтов и прозаиков
подробно разработан в упомянутой книге А. Колиньона (стр. 109—
327 и 388—399). Е. Куртни в статье «Parody and littery allusion in
mennippean satire». Phil, — CVI, 1962, p. 86—100, трактуя ту же тему,
ссылается на А. Колиньоиа как на автора, которому он многим
обязан.
324-
«приземление» литературы. «Сатирикон» Петрония вслед за
менипповой сатурой Варрона, развиваясь в русле этой традиции, продолжил и углубил эту линию «приземления»
в римской литературе. Правда, мениппова сатура здесь не
единственный, а лишь один из предшественников «Сатирикона», так как и другие античные жанры, по-разному нашедшие свое отражение в «Сатириконе» (сократический диалог,
новелла, мим), внесли свой вклад в это «приземление» литературы, в ее приближение к быту, к жизни простого человека. Однако с менипповой сатурой «Сатирикон» связывает
нечто большее — сходство в выборе и оценке материала. И не
важно, что в сохранившихся фрагментах Варрона и дошедшей до нас части «Сатирикона» нельзя найти абсолютно одинаковых сценок или ситуаций. Важно, что объектом их
изображения служила жизнь, главным образом, ее отрицательные явления и что оценка им была дана обоими отрицательпая. Сходство материала и его оценки обусловили в значительной степени и сходство художественных приемов. Иными
словами и мениппеи Варрона, и «Сатирикон» Петрония были
но существу и по форме произведениями сатирическими, что
подтверждают и используемые в них приемы: пародия, имитация, реминисценции, примененные здесь преимущественно
с насмешливой целью. Резюмируя в свою очередь связь «Сатирикона» с мениппеями Варрона, его долг традиции менипповой сатуры, следует, на наш взгляд, еще раз подчеркнуть, что
эта связь оказалась для Петрония чрезвычайно плодотворной.
И это сказалось не только на таких моментах, как форма, которой придала неповторимую красочность смесь стихов и
прозы, тематики, стилей, богатство и разнообразие художественных приемов. Форма явилась отражением сходства более
глубокого: и Варрон, и Петроний находились на одной — сатирической — линии развития литературы, па той линии, которая была, может быть, самой яркой, самой плодотворной и
самой «римской» в истории римской литературы.
*
*
*
При попытке выделить в «Сатириконе» черты романа,
неизбежно встает вопрос об его отношении к греческому
образцу этого жанра 103. Долгое время, до новых папирусных
103
Существует целый ряд исследований, затрагивающих эту проблему.
Среди них упомянутые ранее работы Э. Роде, Р. Гейнце, А. Колиньона, Э. Тома, М. Розенблюта, а также К. Бюргера («Der antike
Roman vor Petronius». — «Hermes». XXVII, 1892). Следует упомянуть также разделы о жанре в указ. книге Э. Параторе (т. I,
стр. 31—108) и в статье В. Кроля в энциклопедии Паули-Виссова.
Из новейших работ, затрагивающих этот вопрос, можно назвать
упомянутую работу Э. Куртни.
325-
йаходок в XX в., «Сатирикон» считался самым ранним из дошедших до нас античных романов, поэтому ссылка на хронологию была одним из решающих доводов тех, кто отрицал
какую-либо связь между «Сатириконом» и греческим любовным
романом. Однако хронология не была единственным и основным доводом сторонников этой точки зрения. Главным их
доводом было недостаточное сходство между произведением
Петрония и греческими эротическими романами. Такое мнение
высказал и обстоятельно аргументировал в своей книге о романе Э. Роде. Роде сравнивает «Сатирикон» и греческие романы, так сказать, в положительном плане, и, исходя из этого,
утверждает, что греческие романы написаны в другой традиции, с другой целью, в другом стиле. Это любовные истории —
JLO&OL epurcixoi, рассказанные в серьезном, иногда даже патетическом тоне. Автор рассчитывает на восхищение читателя.
Он степенно и обстоятельно излагает серию традиционных
эпизодов, призывая на помощь все свое воображение. О юморе
там не может быть и речи. Следовательно, по мнению Роде,
Петроний никак не мог подражать греческому роману. Роде отвергал и гипотезу Бюргера, который, исходя из реалистической
основы «Сатирикона», считал, что он должен примыкать
к реалистическому роману греков. На основании Овидиевых
Tristia (кн. II, ст. 143 сл.) Бюргер полагал, что некоторые
рассказы Аристида Милетского были связаны между собой
в нечто единое и представляли собой как раз тот самый реалистический роман, на который Петроний написал пародию.
Роде 1 0 4 справедливо видел здесь сильную натяжку. Текст
Овидия свидетельствует лишь о том, что Аристид составил
сборник новелл нескромного содержания из жизни обитателей
Милета. Никаких других свидетельств о существовании греческого реалистического романа, на который могла быть
написана пародия Петрония, не существует и, по-видимому,
такого романа в греческой литературе вообще не было.
К мнению Роде, увидевшего в «Сатириконе» специфически римское произведение, никак не связанное с греческим
романом, присоединился ряд ученых (А. Колиньон, М. Розенблют, Б. Шмидт и др.).
Как правило, сторонники этой точки зрения признают некоторое формальное сходство между «Сатириконом» и греческим романом. Однако гораздо большее значение они придают
их различию, которое они видят прежде всего в тоне этих
произведений. На этом основании они отрицают какую бы то
ни было зависимость «Сатирикона» от греческих эротических
романов. По-видимому, это убеждение идет от уверенности
104
326
Е. R o h de. Zur Griechische Roman. — RhM, XLVIII, 1893, S. 125—139.
в превосходстве греческого гения, которая мешает поверить,
что остроумный и едкий римлянин Петроний мог взять бледный и невыразительный греческий образец не для того, чтобы
рабски его скопировать, а для того, чтобы, использовав его
схему, отдельные мотивы и повествовательную технику,
посмеяться над ним. Характерно, что в этом случае, если и
допускается, что Петроний имел перед собой какую-нибудь
греческую модель, то считается, обычно, что это мог быть
только роман-бурлеск типа «Сатирикона».
Рассуждения А. Колиньона на этот счет типичны для
сторонников подобного взгляда. Главное различие между
«Сатириконом» и греческим романом он видит в иной эмоциональной и нравственной подоплеке: ни в одном греческом
романе нет таких фривольностей, как у Петрония; нигде не
воспевается противоестественная страсть; нигде не отводится
такая роль Приапу, какую дает ему Петроний; ни в одном
греческом романе нет и капли того юмора, какой есть у Петрония. Греческие романы — это глубоко нравственные поэмы
о чистой любви. Кроме того, «Сатирикон», по мнению Колиньона, отличают от греческих романов присущие ему черты
реализма, которых нет у греческих романистов.
Если в греческом романе рисунок нравов общ и невыразителен, общество искусственное, география неопределенная, то
у Петрония мы находим очень тонкую обрисовку нравов и деталей быта римского общества эпохи декаданса. Как к самому
яркому примеру точного изображения нравов, Колиньон отсылает к «Пиру Трималхиона», подобного 'которому нет ни
у одного из греков. Отметив различия между Петронием и греческими романистами, Колиньон признает между ними и некоторое сходство в приемах и наличие похожих сцен. Однако,
охарактеризовав эти аналогии как ничтожные, Колиньон заключает, что «Сатирикон» и греческие романисты не имеют ни
общего источника, ни общего объекта, ни общего тона. Касаясь
роли риторики у греков и у Петрония, он указывает на разницу в ее применении: греки стараются показать себя в ней
всерьез, у Петрония же она редко не оборачивается шуткой.
То же происходит с подражанием эпическим и трагическим
поэтам: подражание греков серьезно, у Петрония же оно носит
пародийный характер. Обобщая все им сказанное, Колиньон
подвергает сомнению идею существования греческой модели
«Сатирикона» (он имеет в виду, разумеется, модель буфонного характера, не допуская мысли о том, что отправной
точкой Петрония мог быть идеалистический греческий
роман.
Гораздо большее число ученых держатся иной, чем Э. Роде
и А. Колиньон, точки зрения. Ее родоначальником был
327-
Р. Гейнце 106, который, проведя сравнительный анализ «Сатирикона» и греческого романа, пришел к выводу, что «Сатирикон» — есть сознательная пародия на идеалистический роман
греков. В последующих работах сторонников такой точки
зрения, этот тезис углублялся и варьировался, оставаясь верным первоначальной идее сознательной пародии. Эта идея,
как справедливо отметил Р. Гейнце, помогает лучше понять
Петрония и объяснить многое в композиции «Сатирикона».
Как и в греческом романе, здесь действует традиционная пара
возлюбленных, но вместо прекрасной и благородной пары —
девушки и юноши — двое развратных бродяг — Энколпий и
Гитон. Вместе с еще одним бродягой Аскилтом они составляют трио — пародию на пресловутый романический треугольник, переживая в связи с этим муки ревности. Как в греческих романах, они терпят всяческие бедствия, и не успевая
выбраться из одной беды, попадают в другую. Не обходится
здесь и без вмешательства божества в течение событий, но это
уже не Купидон, и не Венера, как у греков, а в соответствии
с буфонным характером произведения — Приап.
Утверждая свою идею пародии, Р. Гейнце высказывает
предположение, что пародия на любовный роман зародилась
у самих греков, и Петроний, может быть, писал свой роман,
уже имея в качестве модели греческий роман-пародию. Возникновение такого предположения объясняется, конечно, как
уже об этом говорилось выше, традиционной недооценкой
самостоятельности римской литературы и, хотя у нас нет фактов ни за, ни против него, вероятность его сомнительна.
Единомышленник Р. Гейнце, Э. Тома, поддерживая и развивая мысль Гейнце о пародии, прежде всего подчеркивает
самобытность и оригинальность произведения Петрония 106. Он
отмечает, что, взяв уже известную форму, Петроний вложил
в нее новое содержание и расцветил новыми красками.
Э. Тома прямо заявляет, что как в основной схеме «Сатирикона», так и в выборе приключений, ситуаций, деталей чувствуется постоянная насмешка над греческим любовным романом, благодаря которой он терпит решительное поражение.
Комизм рождает контраст между серьезной, местами даже
патетической, формой изложения, копирующей серьезный тон
греческого романа, и низменным, бытовым содержанием (см.,
например, сцену дебатов на корабле — гл. CVII—CIX; речь
Энколпия над трупом Лиха — гл. CXV; трагикомические переживания Энколпия в связи с. импотенцией, которые он изливает
105
106
R. Н е i n z е.
XXXIV, 1899.
E. T h o m a s .
328-
Petron
Указ.
und
соч.,
der
стр.
Griechische
208—209.
Roman. — «Hermes»,
в страстном монологе-обращении — гл. CXXXVIII и т. п.).
Э. Тома сравнивает Петрония с Сервантесом, который создал сатиру на рыцарский роман, использовав для этого
форму того же рыцарского романа. Так и Петроний, заимствовав. схему, мотивы и повествовательную технику греческого
любовного романа, создал пародию на этот жанр. «В «Сатириконе» есть и буря, и вещие сны, и предсказания оракула;
необычные переодевания и внезапные встречи с врагами;
клятвы и клятвопреступления; угрозы и попытки убийства,
узнавание и соединение влюбленных и т. д., и т. п. — т. е.
обычное содержимое греческого романа. В «Сатириконе», как
и в греческих романах, мы найдем монологи, например, монологи Энколпия в главах LXXXI, LXXXIII, речи за и против,
аналогичные дебатам в суде (вроде только что упомянутой
дискуссии на корабле — гл. CVII), описания (например, описание бури — гл. CXI V), остроумные письма с ответами
(гл. CXXIX—СХХХ). Здесь можно найти также фразы,
резюмирующие случившиеся ранее события (гл. IX, XXXIII
и др.), наподобие тех, которыми усеяны греческие романы.
Эти фразы составляют обычно (и там, и здесь) часть страстных инвектив или жалобных монологов.
История с тупой бритвой у Петрония в гл. XCIV (аналогична истории с ножом у Ахилла Татия (гл. IV, 15); сцена
драки на корабле — смелая пародия на рассказы о битвах —
обычную тему греческих романов; во время кораблекрушения
Энколпий и Гитон подобно классическим ^возлюбленным из
греческих романов хотели бы умереть вместе. Место в начале
CXXXIII гл., где Энколпий жаждет заручиться торжественной
клятвой Гитона, может быть пародией на клятвы любовников
из греческого романа и т. д. Таким образом, по мнению Тома,
не подлежит никакому сомнению, что автор «Сатирикона»
упражняется в остроумии на обычные темы греческого романа
о любви, на всем том, что относится к обрисовке любви, принятой по традиции жанра. Тома уверен, что насмешка эта
намеренная и последовательная 107.
На вопрос, были ли в Греции до Петрония такие пародии,
Э. Тома дает уклончивый ответ. Во всяком случае он не
считает, что Петроний изобрел этот жанр. Скорее, как он думает, Петроний его завершил, так как, насколько мы знаем, он
не получил дальнейшего развития.
В несколько менее категорической форме и с определенными
оговорками и поправками поддерживает тезис о пародии на
греческий роман и В. Кроль 108. Ссылаясь на Гейнце, он го107
Е. T h o m a s . Указ. соч., стр.
ice \v. К г о 11. Указ. соч., стр. 1208.
214.
329-
ворит, что «Сатирикон», безусловно, предполагает существование развивающегося греческого романа и что Петроний
создает искусство из пародии на этот жанр, которая, однако,
не составляет главной цели произведения.
По мнению
В. Кроля, «Сатирикон» — это пародия не на определенный
роман и не на весь жанр в целом, а на отдельные его мотивы.
В. Кроль увидит пародию именно прежде всего в том, что
основной мотив греческого любовного романа — любовь и верность, пронесенная через годы и испытания, — предстает
в «Сатириконе» в искаженном, перевернутом виде.
Однако, соглашаясь с тезисом о пародировании Петронием
мотивов греческого романа и даже сетуя на то, что в свое
время по вине Э. Роде было недооценено их слишком очевидное сходство, В. Кроль сближает «Сатирикон» с романом
Апулея, находя их родство, которое он видит в общей, по его
мнению, реалистической основе, гораздо более близким.
К вопросу о пародировании Петронием греческого романа
обращается в недавней статье Е. Куртни 109 . Он берет его
в свете изучения традиций менипповой сатуры, одним из
самых распространенных приемов которой он считает пародию. Е. Куртни исходит из убеждения, что «Сатирикон», написанный в традиции менипповой сатуры, это не только пародия на роман, но и серия пародий на целый ряд произведений
различных жанров. Он справедливо замечает, что автор был
хорошо образованным человеком и предполагал такого же образованного читателя, так как «сатириконовские» пародии и реминисценции имели смысл лишь для образованного читателя.
Е. Куртни убежден, что враждебность Петрония по отношению к греческому роману несомненна, чего, по его мнению,
нельзя сказать про пародии на другие жанры. Человек со
здравыми литературными взглядами и хорошим вкусом, каким
был Петроний, не мог одобрительно относиться к такому
жанру, как бледный и сентиментальный греческий роман. Он
выразил свое презрение к нему в пародии. Само заглавие
произведения, по мнению Е. Куртни, ясно говорит о том, что
Петроний не собирался писать идиллическую историю типа
rcoifisvtxa Лонга. Критическое отношение к греческому роману
видно, по его мнению, в том, что он сделал свою эротическую тему гомосексуальной и в том, что вопреки стойкой
любовной паре из романа Энколпий и Гитон постоянно изменяют друг другу и т. д.
Еще в начале статьи Куртни справедливо заметил, что
ответ Гейнце на вопрос о том, что писал Петроний — а Гейнце
ответил, что Петроний писал пародию на греческий роман, -109
330-
Е. C o u r t n e y . Указ. соч,
не может быть полным. После этого ответа в «Сатириконе»
остается еще слишком много неясного, чего не объяснишь
аналогией с греческим романом (это же отмечали в свое время
и Э. Тома и В. Кроль). В связи с этим Куртии делает заключение, что Петроний, взяв в качестве сюжета рамку романа,
не удержался в ее границах, а дал волю своему таланту, фантазии и литературной эрудиции, чему немало способствовала
выбранная им форма менипповой сатуры. Она позволила ему
широко использовать прием литературной пародии, которая
была в русле ее традиции — и, бесспорно, во всяком случае,
по отношению к роману — с насмешливой целью.
Таким образом, вопрос о связи «Сатирикона» с греческим
романом, вопреки мнению Роде, большинством исследователей
был решен положительно.
Из всего сказанного здесь по этому поводу следует выделить особо несколько моментов. Первый состоит в том, что
Петроний, несомненно, знал греческий любовный роман и
высмеял его в пародии, использовав для этого его сюжетную
схему, отдельные мотивы и повествовательную технику.
Второй момент заключается в том, что вывод: «Сатирикон» — есть пародия на греческий любовный роман — нельзя
признать полностью удовлетворительным и исчерпывающим.
«Сатирикон» имеет немало несвязанных с романом эпизодов
и сцен, понять которые можно только в связи с другими
жанрами. Так, например, такой значительный, можно сказать,
центральный эпизод сохранившейся части «Сатирикона», как
пир Трималхиона, восходит к литературному^жанру симпосиев.
Есть еще немало сцен, связанных с эпосом, комедией, мимом
и другими жанрами. Главный мотив «Сатирикона» — гнев
Приапа, пришел к Петронию, по-видимому, из эпоса. Правильнее будет сказать, что «Сатирикон» — это пародия не
только на греческий роман, но и серия пародий на различные
жанры, вставленные в сюжетную рамку пародии на роман.
Третий момент, который следует отметить, это тот, что
догадка Р. Гейнце о пародировании Петронием греческого романа была очень плодотворной; она позволила лучше уяснить
сюжет, композицию и дух «Сатирикона».
И четвертый момент: пародия на роман не являлась целью
произведения Петрония, именно поэтому она и не была явной
настолько, чтобы быть признанной безоговорочно.
В заключение можно сказать, что Петроний написал сатирическое произведение, высмеивающее «изнанку» современной ему действительности, широко используя свою литературную эрудицию и блестящий писательский талант, мало заботясь о том, к какому жанру причислят его произведение
потомки.
«МЕТАМОРФОЗЫ»
АПУЛЕЯ
Лишь очень немногое известно нам из жизни Апулея, автора
«Метаморфоз», произведения, вместе с «Сатириконом» относимого ныне к категории «римского романа», но в сравнении
с «Сатириконом» значительно легче оправдывающего свое причисление к этому жанру. Основным источником биографических сведений об Апулее служит его «Апология» — защитительная речь на процессе по обвинению Апулея в магии.
Из нее мы узнаем о его жизни до процесса.
Апулей, которого Августин называет «наиболее известным
африканцем из наших африканцев» ( . . . q u i nobis Afris Afer
est notior — civ. dei. VIII, 12; Epis 138, 19), родился около
125 г. н. э. в г. Мадавра римской провинции Нумидии, в зажиточной семье. Он учился сначала в Мадавре, затем в Карфагене, культурном центре Африки, завершив свое образование в Афинах, где занимался философией, риторикой, геометрией, музыкой и поэзией. Кроме того, жил в Риме, испытывал
свои силы и знания в адвокатской практике; совершал долгие
путешествия, в том числе и на Восток; затем опять жил в Африке, ведя жизнь странствующего ритора и софиста.
Одним из центральных событий жизни Апулея был, по-видимому, процесс по обвинению его в магии, в результате которого появилась «Апология» — его защитительная речь, изданная впоследствии в расширенном виде. Родственники богатой
вдовы, на которой женился Апулей, обвинили его в том, что
он околдовал вдову с целью завладеть ее богатством. На процессе, который вел проконсул Африки Клавдий Максим, Апулей был.оправдан. В защитительной речи он прекрасно использовал свои ораторские и юридические способности, показав при
332-
этом широкую образованность, блеснув остроумием и изысканностью стиля. Считают обычно, что этот процесс наложил отпечаток на всю дальнейшую жизнь Апулея, так как его отголоски находят в «Метаморфозах», написанных, по-видимому,
после «Апологии» 1. Предполагают, что во время процесса
Апулею было около 40 лет. О его жизни после процесса ничего
неизвестно. Неизвестна и дата его смерти, хотя имеются разные
догадки по этому поводу 2 .
Апулей, как и все образованные африканцы того времени,
свободно владел двумя языками: греческим и латинским. На
этих двух языках он написал большое количество сочинений
на разные темы. Он сам с гордостью перечисляет их во «Флоридах» (IX, 37), упоминают их и поздние авторы — Фульгенций Пландиад, Аполлинарий Сидоний, Присциан, Кассиодор,
Харисий и др. До нас дошли только его сочинения на латинском языке: 1) «Метаморфозы» (Metaraorphoseon libri, XI),
роман в 11-ти книгах со вторым, более поздним названием
«Золотой осел» (Asinus Aureus); 2) уже упомянутая выше
защитительная речь, коротко именуемая «Апологией», в рукописях же названная подробно «Pro se apud Claudium Maximum
proconsulem de magia liber, I; 3) «Флориды» (Floridorum libri,
IV), представляющие собой сборник экстрактов из речей и
декламаций на разные темы; 4) диалог «О боге Сократа» (De
deo Socratis) — популярное изложение учения Платона о демонах и 5) трактат о Платоне и его доктрине (De Platone et
eius dogmate) в 3-х книгах, где изложена натурфилософия
Платона, его этика и логика.
Рукописи именуют Апулея философом-платоником из Мадавры — Apuleius Madaurensis Platonicus, так же называет себя
и он сам 3 , и позднейшие писатели 4 . Сохранившиеся же произведения Апулея говорят скорее о его принадлежности к неоплатоникам с пифагорейским уклоном, основной особенностью
взглядов которых было убеждение, что связь между богом
и материальным миром осуществляется посредством «демонов».
Произведения Апулея свидетельствуют о его интересе не
только к философии, но и к различным, популярным тогда,
восточным культурам и к магии. Считающаяся автобиографической XI книга «Метаморфоз» с документальной точностью, по
свидетельству специалистов, воспроизводит обряд посвящения
1
См. ст. М. Гиктера (М. H i c t e r . L'autobiographie dans ГАпе d'or
d'Apulee. — AC. 13, 1944, p. 95—111 и 14, 1945, p. 61—68).
Вот одна из недавних: U. C a r a t e l l o . Apuleio mori nel 163—164. —
GIF, 1963, p. 97—110.
3
Апология, 9; 10; Флориды, 15; 60 и др.
4
A u g u s t i n u s . De civ. dei VIII, 12; 14; 19. H a r i s i u s — p. 240,
28. K. S i d о n i u s A p о 11 i n a r i s — op. IX, 13.
2
333-
в культ египетской богини Исиды, жрецом которой становится
писатель. Апулей был истинным сыном своего века — века
религиозного скептицизма и богоискательства, наивной веры
в магию и чудеса, широкого распространения различных культов.
По мнению древних (например, Августина), Апулей был
противником быстро набиравшей силы новой религии — христианства. Такого взгляда придерживается большинство современных ученых. Гораздо реже, но встречается и противоположная точка зрения 5 . Иногда же Апулея рассматривают как
промежуточную фигуру между язычеством и христианством,
отразившую одновременно кризис старой религии и отголоски
аскетических идей новой.
Однако как художник Апулей целиком принадлежит языческому миру, оставаясь верным его проблематике и духу.
В мировой литературе Апулей занял почетное место, конечно,
не благодаря образцам софистической риторики и трактатам
с изложением не принадлежащих ему философских учений,
а благодаря оригинальнейшему произведению — фантастикобытовому роману «Метаморфозы». Судя по упоминанию в нем
имени цезаря — Антонина Пия (III, 29; XI, 17; XI, 26), роман
появился в Риме около 153 г.6
«Метаморфозы» были очень популярны среди современников
и потомков Апулея. Не верить рассказанной в нем истории
о превращении юноши Луция в осла не осмеливались не только
язычники, видевшие в Апулее величайшего мага античности,
но и первые христиане, насколько это можно судить по отзыву
5
См., напр. недавние статьи JI. Германна, страстно желающего видеть
в Апулее христианина: L. H e r m a n n . Le proces d'Apulee fut il un
proces de christianism? — «Revue de l'Universite de Bruxelles», 1951—
1952, p. 329—337; он ж е . L'An d'or et le christianisme «Latomus»,
XII, 1953, p. 188—191; он ж e. Le dieu-roi d'Apulee. — «Latomus»,
XVIII, 1959, p. 110—116.
6
До нас «Метаморфозы» дошли почти в сорока списках. Самый древний и самый лучший из них (Laurentianus, 68, 2—F) относится
к XI в. и находится во Флоренции в Bibliotheca Medicea Laurentiana. Он заключает «Апологию», «Метаморфозы», «Флориды», расположенные в этом порядке, и ряд глав из «Анналов» (XI—XVI) и
[«Истории» (I—V) Тацита.
I Из ранних изданий, не утративших своего значения до настоящ е г о времени, специалисты называют издания Ф. Бероальда (1500),
|Берн. Филомата (1522), П. Кольвия (1588) и Скалигера (1600). Пер|вое научное издание, осуществленное Г. Кайлем, появилось в 1849 г.
3 История изучения рукописей «Метаморфоз» и их изданий изложена в статье Д. С. Робертсона в C1Q (1924, р. 27—41 и 85—99) и
в его же вступительной статье к французскому изданию 1940—
1946 гг. (А р u 1 ё е. Les Metamorphoses. Texte etabli par D. S. Robertson et trad, par P. Valette, v. I—III). Об этом см. также вступительные статьи к изданиям Р. Гельма.
334-
Августина, не решающегося отрицать, что все, описанное
в «Метаморфозах», могло произойти с самим Апулеем 7.
История злоключений юноши, который из-за страстного желания познать секреты магии по ошибке превратился в осла
вместо того, чтобы превратиться в птицу, составляет содержание еще одного произведения, дошедшего до нас, под именем
Лукиана и носящего название «Лукий, или Осел» (Лоохюс,
у\ ovog) 8.
Кроме того, из «Библиотеки» Фотия — сочинения константинопольского патриарха второй половины IX в. — известно, что
в его время существовала не дошедшая до нас еще одна греческая версия этой истории, которая, как и сочинение Апулея,
носила название «Метаморфозы». Автором ее Фотий называет
некоего Лукия из Патр 9 . Сведения, которые можно извлечь из
Фотия, сводятся к следующему: первые две книги сочинения
Лукия о метаморфозах почти дословно совпадают с книгой
«Лукий, или Осел», приписываемой Лукиану. Фотий не уверен, кто из этих двоих является первоисточником и кто заимствователем, но замечает, что Лукиан больше похож на заимствователя, так как он короче. Похоже, говорит Фотий, что он
убрал из большого сочинения Лукия все то, что ему было не
нужно, а остальное объединил в одну книгу, сохранив те же
слова и обороты. Фотий сообщает, что оба сочинения полны
чудес и фривольностей, но при этом сочинение Лукия носит
серьезный характер и написано с верой в разные чудесные превращения, о которых он пишет, а сочинение Лукиана, как и
все прочие произведения, — насмешливо и* написано с целью
поиздеваться над суевериями. Этим сведения Фотия ограничиваются.
«Метаморфозы» Апулея имеют тот же сюжет, во многих
местах почти дословно совпадая с «Ослом» Лукиана. Однако
благодаря риторическим отступлениям, описаниям и вставным
новеллам, произведение Апулея выросло до одиннадцати книг,
при этом последняя книга, где говорится о вмешательстве
Исиды в судьбу героя, сообщает повествованию особый, серьезный характер, сразу отграничивающий его от лукиановского
«Осла» с его насмешливо-издевательской концовкой.
7
«... sicut Apuleius in libros quos. «Asini Aurei» titulo inscripsit, sibi
ipsi accidisse u t . . . asinus fieret aut indicavit aut finxit» (Civ. dei
XVIII, 18).
8
Вопрос аттрибуции сочинения под названием Лоохю?, -Jj '*Ovo<; подвергается обсуждению до настоящего времени. Единого мнения
не существует. Учитывая, что наши русские издания Лукиана помещают «Осла» среди сочинений Лукиана, будем в дальнейшем называть его автором Лукиана.
9 pibl. Cod. 129.
335-
Вопрос о том, в каком соотношении находятся между собой
эти произведения, уже долгое время не перестает интересовать
филологов 10. Вряд ли стоит подробно излагать многочисленные
существующие на этот счет гипотезы, однако упомянуть о них,
по-видимому, следует, дабы показать хотя бы коротко, в каком
направлении шли догадки ученых.
В число проблем, связанных с Лукиадой и находящихся
в центре внимания исследователей, входят прежде всего вопросы о не дошедшем до нас произведении Лукия из Патр.
Строятся предположения о том, каково его содержание, размеры
и характер, кто его автор и в каком отношении находится
к нему «Осел», помещаемый в Corpus Lucianeum и «Метаморфозы» Апулея.
Что касается «Осла», приписываемого Лукиану, то здесь
главным вопросом является вопрос об авторе. Та часть этой общей большой проблемы, которая касается произведения Апулея,
включает в себя прежде всего вопрос о его первоисточнике
(греческие «Метаморфозы» или «Осел» Лукиана), вопрос о его
отличии от этого первоисточника и вопрос о степени автобиографичности романа.
Э. Роде, приняв на веру сообщение Фотия, рассматривает греческие «Метаморфозы» как серьезное религиозно-поучительное
произведение, а «Осла», принадлежность которого Лукиану
в последней работе на эту тему он отрицает п , сокращенной
шутливой его переделкой. Апулей, по его мнению, основывался
не на произведении Лукия Патрского, а на этой шутливой переделке.
Мнение Роде поддерживал Р. Рейтценштейн, предполагавший, что роман Лукия из Патр был серьезным религиозным
романом с пифагорейским уклоном.
10
11
Из большого количестпа исследований на эту тему, назовем лишь те,
которые будут упоминаться в дальнейшем: Е. И о h d е. Ueber Lucians Schrift Аобхю?,
"Ovo<; Leipzig, 1869; E. R о h d e. Zu Apuleius. — RhM, XL, 1885, S. 66—113; C. B u r g e r . De Lucio Patrensi
sive de ratione inter Asinum q. f. Lucianeum Apuleique Metamorphoses
intercedente. Berlin, 1887; E. С о с с h i a. Romanzo e realta nella vita
e nell'attivita letteraria di Lucio Apuleio. Catane, 1915; В. E. P e r r y .
The Metamorphoses ascribed to Lucius of Patrae, its content, nature
and authorship. N. Y., 1920.
Из работ русских ученых нужно назвать книгу В. Андерсона «Роман Апулея и народная сказка», т. I (Казань, 1914) и диссертацию
Ю. Кузьмы «Бытовой роман в античности» (ЛГУ, 1958). В статьях
и исследованиях об Апулее последних лет отмечается с похвалой
не потерявшая ценности до настоящего времени работа К. Бюргера
и из более новых — книга и статьи Б. Е. Перри, много и плодотворно занимавшегося Лукиадой в 20-е годы.
Е. R o h d e . Zu Apuleius. — RhM, XL, 1885,
336-
К. Бюргер, основываясь на тщательном сопоставлении дошедших до нас «Осла» и «Метаморфоз» Апулея, пришел к выводу, что греческие «Метаморфозы» Лукия из Патр были написаны в том же комическом духе, в каком написан «Осел», приписываемый Лукиану. Источником романа Апулея К. Бюргер
считает не «Осла», а сочинение Лукия из Патр. В своей более
поздней работе о греческом романе К. Бюргер 12 прямо характеризует роман Лукия Патрского как «комический роман приключений» и ставит его рядом с «Сатириконом» Петрония, указывая на то, что история приключений осла-человека содержит
немало моментов, которые можно расценивать как пародию на
идеалистический роман (мотив странствования, любовные интриги, сцены суда, попытки самоубийства). Бюргер отмечает,
ссылаясь на Крузиуса и Вайнхольда, наличие в Лукиаде и ряда
фольклорных моментов.
Были попытки представить Лукия Патрского демонологом
наряду с Апулеем (М. Кавчинский). Было оригинальное мнение К. Дильтея, полагавшего, что никакого Лукия из Патр не
существовало, что он — плод фантазии Фотия, а произведение
на греческом языке написал Апулей от имени некоего Луция.
Позднее, как предполагал Дильтей, Апулей расширил его, переписав эти забавные приключения на латинском языке.
Этого же взгляда придерживался и Э. Коккья.
Б. Э. Перри в своей книге о Лукии из Патр (см. сноску 10)
высказывает мысль о том, что «Метаморфозы», приписываемые
Лукию из Патр, в действительности принадлежат Лукиану,
а «Лукий, или Осел», существующий под именем Лукиана, —
сокращение некоего компилятора. В. Андерсон целиком согласен с мнением К. Бюргера 13. 10. Кузьма рассматривает произведение Лукия из Патр как реалистический бытовой роман.
В позднейшее время работам общего характера на эту тему
типа упомянутых выше пришли на смену статьи и заметки по
более частным вопросам. Это по преимуществу работы, доказывающие на деталях греческое происхождение латинских «Метаморфоз», раскрывающие, с одной стороны, характер заимствований и с другой — оригинальность Апулея и .
12
13
14
К. B u r g e r . Studien zur Geschichte des griechischen Romans. I
Gymn. — Pr. Blankenburg und H„ 1902.
В. А н д е р с о н . Указ. соч., стр. 51.
Это, напр., статьи Б. Э. Перри: «An interpretation of Apuleius Metamorphoses». — TAPhA, LVII, 1926, p. 238—260; «On Apuleius Metamorphoses», II, 31 и III, 20. — AJPh, XLVI, 1925; «On Apuleius Metanmrphoses, I, 14—17. — CPh. 1929, p. 394—400; The literary art of Apuleius in Metamorphoses. — TAPhA, LIV, 1923, p. 196—227 и др.,
а также след. работы: Н. Е г b s е. Griechische und Apuleianisches bei
Apuleius. Eranos, 1950, S. 107—126; F. D о r n s e i f. Lukios und Apu22
Античный роман
337
Предположение, что «Метаморфозы» Лукия из Патр послужили общей моделью для произведения Лукиана и для романа
Апулея, в настоящее время признается наиболее вероятным. Только если Лукиан сокращал, то Апулей расширял
первоисточник, вставляя новые эпизоды, новеллы, описания,
добавив ко всему 11-ю книгу, на которую у Лукиана нет даже
намека.
Бюргер и Перри, путем сравнения «Осла» Лукиана и «Метаморфоз» Апулея, нашли, что греческие «Метаморфозы»
должны были быть в два раза длиннее «Осла». Юнганс 15 , подсчитав купюры в «Осле», решил, что Лукиан сократил оригинал
не более, чем на одну десятую часть.
Некоторые ученые предполагают, что сокращения, сделанные
Лукианом, относились к эпизодам и рассказам, которые, может
быть, у Лукия были связаны с текстом теснее, чем у Апулея.
Существует ряд статей (в частности, Перри), рассматривающих
отдельные эпизоды и рассказы из «Метаморфоз» Апулея как
непосредственно заимствованные у Лукия.
Апулей сам говорит, что он черпает из греческого источника 16. О том, что этим источником был не «Осел» Лукиана,
а произведение Лукия свидетельствует наличие в латинских
«Метаморфозах» деталей и подробностей, которых нет у Лукиана. Например, неудачное бегство осла и девушки-пленницы
из логова разбойников рассказано и мотивировано у Апулея
более подробно, чем у Лукиана («Метаморфозы», VI, 29, 6 —
«Лукий, или Осел», 24). Если Лукиан просто сообщает о факте
их поимки разбойниками, то Апулей рассказывает о споре во
время пути, о происшедшей из-за этого задержке, которая была
причиной того, что они вновь попали к разбойникам. Точно
также более понятной и мотивированной, чем в «Осле», выглядит у Апулея история с солдатом («Лукий, или Осел», 44_—
«Метаморфозы», IX, 39). Можно назвать и другие примеры —
они подробно исследуются во всех работах, сопоставляющих эти
два произведения. Одно из косвенных доказательств непосредственной связи Апулея с Лукием видят также в том, что произведение Апулея носит то же название, что и произведение
Лукия из Патр, т. е. «Метаморфозы». Считается обычно, что
Апулей механически перенес его из первоисточника, так как
15
16
342-
leius Metamorphosen. — «Hermes», 938, S. 222—223 — о моралистической тенденции, внесенной Апулеем в греческую сказку о молодом человеке, превращающемся в осла; A. L е s к у. Apuleius von
Madavra und Lukios von Patrai. — Hermes, 1941, S. 47—74 — об отступлениях из IV книги «Метаморфоз» Апулея.
P. J u n g h a n n s . Die Erzalungenstechnikon Apuleius «Metamorphosen und ihrer Vorlage». — Phil, XXIV, 1932.
«fabulam Graecanicam incipimus» (I, 1).
множественное число не очень подходит к произведению, гдб
рассказывается не о многих, а лишь об одном превращении 17.
Что же касается вопроса о том, какой характер носили греческие «Метаморфозы», то, как нам кажется, они были близки
но типу роману Апулея — без его XI книги. Т. е. они, по-видимому, представляли собой такое же сочетание фантастических
и реально-бытовых элементов с некоторым сатирическим уклоном, как и «Метаморфозы» Апулея. Основание для такого предположения дает отзыв Фотия, подчеркнувшего серьезный характер произведения Лукия, несмотря на отмеченные им
у Лукия фривольности, и противопоставившего греческие «Метаморфозы» насмешливому сочинению Лукиана.
К. Бюргер, определивший «Метаморфозы» Лукия из Патр
как комический роман приключений, что весьма проблематично,
сделал вместе с тем очень важное замечание, обратив внимание
на «романные» признаки Лукиады. В каком бы виде они ни
проявлялись, положительном или пародийном, эти признаки,
17
Существует несколько объяснений множественного числа апулеевского заглавия «Метаморфозы». Так, Р. Гельм ссылается на первые
слова Апулея: «Вот я сплету тебе . . . разные басыи» и напоминает
слова Фотия о большом произведении, лишь первые две книги которого рассказывают историю превращения юноши в осла. Он предполагает, что греческие «Метаморфозы» содержали серию историй
с превращениями, а Апулей механически перенес эти начальные
слова из греческого оригинала в свое произведение, назвав его
так же, как оригинал.
Б. Э. Перри («The significance of the title in Apuleius Metamorphoses». — CPh, XVIII,— 1923, p. 229—258) полемизирует с P. Гельмом.
Он считает, что свидетельство Фотия не дает основания предполагать непременно несколько историй с превращениями в книге Лукия
Патрского, а сравнение этой книги с романом Антония Диогена,
«Истинной историей» Лукиана, Ямвлихом, Гелиодором и Ахиллом
Татием (в другом месте «Библиотеки» Фотия — Cod., 166) говорит
о том, что греческие «Метаморфозы» были единой историей.
Б. Э. Перри предлагает связывать название не просто с сюжетом,
рассказывающим одну историю превращения, а вообще с явлением
превращений, которое находится в центре внимания Апулея: ромаи
проникнут атмосферой магии и чудес и содержит серию мелких
превращений (I, 20; II, 28, 32; III, 18; I, 9 и т. д.); кроме того,
в нем немало рассуждений на этот счет (I, 20; II, 1 и т. п.). Таким
образом, заглавие «Метаморфозы», по Перри, относится к главному
смыслу произведения о превращениях, а не к количеству превращений. Объективно это вполне логичное объяснение, хотя вряд ли
сам Апулей вложил в свое заглавие именно этот смысл. Скорее
всего, оно объясняется литературной традицией.
Появившееся позднее второе название романа —«Золотой осел»,
которое впервые мы встречаем у Августина (civ. dei, XVIII, 18),
говорит о высокой оценке и популярности романа Апулея уже в V в.
Эпитет «золотой» идет от фольклорной традиции (ср. XPUЗа
Пифагора, aurea dicta Эпикура в упоминании Лукреция — III, 12 сл.
и др.).
25 Античный роман 3
3 9
без сомнения, дают основание рассматривать произведения Лукиады, при всей их оригинальности, с точки зрения уже сложившихся к тому времени стандартов «античного романа».
*
*
*
Еще один широко дебатируемый вопрос, связанный с вопросом о первоисточнике латинских «Метаморфоз», — это вопрос
об их автобиографичности.
Как известно, К. Дильтей и Э. Коккья свое мнение о том,
что Апулей — автор и греческих, и латинских «Метаморфоз»,
строили на доказательстве сугубой автобиографичности романа.
Их противники, возражая им, доказывали обратное, т. е. что
роман мало биографичен. Собственно, никто из ученых не отрицает, что роман Апулея отразил какие-то черты его личности
и некоторые факты его биографии. Разница лишь в степени
признания биографичности. Суть же крайних точек зрения
такова: или это романизированная биография самого Апулея,
или роман содержит лишь несколько случайных совпадений.
Вот несколько примеров отношения к этому вопросу из
сравнительно недавних работ. П. Валетт 18, полемизируя с гипотезой Э. Коккья о двояком авторстве Апулея, признает автобиографическими лишь очень немногие детали «Метаморфоз»:
любопытство к чудесам и магии (I, 3; II, 1; III, 19; и т. д.);
многочисленные посвящения (III, 15, 4, XI, 22); пребывание и
занятия в Афинах (I, 24, 5); приятная внешность (II, 2, 3) и
некоторые другие.
Считается почти общепризнанным, что сведения начала первой книги и конца последней относятся к самому Апулею.
Однако П. Валетт отрицает, что сведения пролога имеют
в виду Апулея. Он ссылается при этом среди прочего на тот
факт, что рассказчик рекомендует себя как грека и выходца из
Греции, тогда как Апулей — гражданин африканского города
Мадавры.
По мнению П. Валетта, различие между Апулеем и его героем подтверждает и то, что деятельность Луция далека от разных видов социальной и интеллектуальной деятельности самого
Апулея. Рассказчик, говорит он, — существо абстрактное и обобщенное и имеет мало отношения к реальному Апулею 19.
Близко точке зрения П. Валетта и мнение А. Грималя 2 0 .
Бесспорно автобиографичной он считает лишь конец XI книги
18
19
20
В предисловии к I т. упомянутого французского издания 1940—
1946 гг., стр. XI—XV.
P. V а 1 е 11 е. Указ. соч., стр. XIV.
P. G г i m а 1. L'originalite des Metamorphoses d'Apulee. — «^Information litteraire», IX, 1957, 4, p. 156—162.
340-
и на этом основании отказывает в биографичности началу романа, так как сведения начала противоречат бесспорным показаниям конца.
Стремление исследователей идентифицировать рассказчика и
автора «Метаморфоз» диктуется, по мнению П. Грималя, его
эгонарративной формой, т. е. формой романа от первого лица.
Использование первого лица, где автор совсем не обязательно
идентичен рассказчику, почти непременная традиция жанра
романа. Она проявляется уже в «Сатириконе» и во многих греческих романах, например, у Ахилла Татия, где роман имеет
форму беседы между автором и главным действующим лицом.
П. Грималь указывает на связь этой традиции с диалогом Платона и Ксенофонта.
Можно быть уверенным, заключает он, Апулей не имел намерения рассказать о себе. Если это иногда и получалось, то
невольно, как неизбежное следствие романического жанра.
Здесь надо заметить, кстати, что в вопросе о том, как отразилась в романе личность самого Апулея есть как бы две стороны: одна — это упомянутые в романе автобиографические
факты и детали, точно соответствующие известным нам из других его сочинений фактам и деталям жизни и биографии Апулея, и вторая — это отражение его мыслей, психологии, эмоций.
И эта, вторая его сторона имеет особое значение. Конечно, она
не придает роману документальности, но сообщает ему новое
ценное качество — эмоциональность.
Эту важную сторону связи Апулея с изображенным в романе
отметил М. Гиктер' 21 . В отличие от П. Валетта и П. Грималя,
он отражает противоположную им точку зрения на автобиографичность романа и склонен видеть самого Апулея за всеми
теми моментами и фактами в романе, которые хоть как-то
можно связать с личностью автора.
Так, например, в любопытстве, сыгравшем такую роковую
роль в судьбе Луция, в его желании узнать секреты магии,
настойчиво упоминаемом в романе, М. Гиктер предлагает видеть любопытство самого Апулея к секретам магии и мистериям, тоже понесшего наказание за эту беспокойную черту
своего характера.
Если любопытство осла втянуло его в различные злоключения, позволило услышать различные анекдоты и истории, то
любопытство Апулея определило его жизненный путь: его путешествия, его стремление к наукам, посвящения в мистерии,
практику в медицине, сочинение любовных поэм, т. е. всю его
многообразную деятельность.
21
См.: М. Н i с t е г. L'autobiographie dans l'Ane d'or d'Apulee. — AC,
XIII, 1944, p. 95-111, XIV, 1945, p. 61-68.
341-
Другой важной чертой самого Апулея, проявившейся в романе, Гиктер считает знание толпы. Эта черта была естественна для странствующего ритора и софиста, каким был Апулей. Она дала о себе знать, например, в сцене суда. Гиктер
ссылается на Э. Параторе 22, который видит развитие этого мотива в рассказе Телефрона и в сцене праздника смеха. Параторе
сближает с этой сценой конец романа Ахилла Татия. Он находит, что тема толпы вообще важная тема как греческого, так
и латинского романа. Следовательно, по его мнению, Апулей отразил в этом мотиве одну из закономерностей жанра. Гиктер
упоминает и об XI книге, вторая половина которой бесспорно
биографична, ссылаясь при этом на Э. Роде и П. Тома, давно
установивших все ее биографические детали.
В мастерской защите Луция, в инсценировке процесса об
убийстве проявилась юридическая и ораторская подготовка самого Апулея. Считается, что это воспоминание Апулея о процессе, когда он защищал себя сам.
Сцена на Олимпе в сказке об Амуре и Психее, когда Венера
разражается бранью, не желая признавать законным брак
земной Психеи со своим сыном, богом любви, Амуром (VI, 9),
по мнению Гиктера, отражает настроение самого Апулея, помнившего упреки в женитьбе на богатой вдове.
Книга содержит много обращений к римским реалиям, особенно юридическим 23 — ведь Апулей был адвокатом и, кроме
того, он, по-видимому, не мог забыть свой процесс: тема несправедливых обвинений постоянно ощущается в романе и доказывает близкую связь между Апулеем и Луцием, т. е. говорит
о присутствии автора в своем произведении. По Гиктеру вообще
получается так, что большая часть автобиографических намеков
относится к эпизодам процесса. Эти намеки на процесс позволяют ему помимо всего утверждать, что «Метаморфозы» написаны позже «Апологии» — вопреки мнению некоторых ученых (например, Вуассье, Монсо, Роде), уверенных в обратном.
Вероятно, Гиктер не во всех своих догадках прав. Однако
стремление установить психологическую связь отдельных эпизодов романа с личностью автора в принципе плодотворно.
Именно это дающее себя знать эмоциональное присутствие автора в «Метаморфозах» является одним из оснований, которое
позволяет, на наш взгляд, ставить их на более высокую ступень
развития жанра по сравнению с «Сатириконом» и греческим
романом.
22
23
Е. P а г a t о г е. La novella in Apuleio, Messina, 1942, p. 29.
Все они собраны в книге: F. N о г d е п. Apuleius von Madavra und
das romische Privatrecht. Leipzig und Berlin, 1912.
342-
*
*
*
Из каких же событий складывается основная сюжетная
линия «Метаморфоз» Апулея, перенесенная им местами почти
дословно (судя по Лукиану) из греческих «Метаморфоз»? Апулей рассказывает, как некий ^молодой человек, грек по происхождению, ехал по делам в Фессалию, откуда была родом его
мать. Остановившись в городе Гипате у Милона — хорошего
знакомого отца, он решает задержаться здесь на некоторое
время с целью разузнать что-либо про магию и чудеса, которыми, как он знал, славилась Фессалия и к которым у него
было большое любопытство. Встретившись на улице города
с родственницей своей матери Бирреной, он, к удивлению, узнает от нее, что то, к чему он проявляет такой страстный интерес, находится у него же в доме, так как жена его хозяина
Памфила едва ли не первая ведьма в городе. Загоревшись желанием узнать секреты хозяйки, он заводит любовную интрижку со служанкой Фотидой, и та обещает ему при случае
показать колдовские манипуляции Памфилы. Вскоре такой
случай представился, и потрясенный Луций, спрятанный Фотидой на чердаке, увидел чудо: на его глазах Памфила с помощью волшебных мазей обратилась в сову и улетела на свидание к возлюбленному. Однако Луцию, которому любопытство
к магии не давало покоя, этого было мало — ему захотелось
испытать чудо на себе. И вот. снизойдя к его мольбам, Фотида
достает ему мазь, которая должна обратить,его в птицу. Но —
увы! — Фотида путает баночки и вместо того, чтобы стать птицей, Луций превращается в осла. Теперь, чтобы вновь стать
человеком, Луцию нужно применить, казалось бы, совсем нехитрое средство — пожевать лепестки роз. Но выполнить это
оказалось нелегко. На пути к возвращению в человеческий облик Луций претерпевает множество злоключений, оказываясь
не один раз на волосок от смерти. К тому же ослом он становится особенным: приняв внешность осла, он умом и чувствами
остается человеком124. Такое его состояние, с одной стороны,
усугубляет страдания, выпавшие на его долю, а с другой —
дает возможность наблюдать мир «без прикрас».
Приключения Луция начинаются с того, что он попадает
в логово к разбойпикам, ограбившим дом его хозяина. Он скитается вместе с ними в поисках добычи, терпя побои и обещания страшных мук за непослушание; затем живет у пастухов,
24
Мотив превращения человека с помощью колдовства в животное
с душой человека существует в фольклоре разных народов (напр.,
русская сказка о сестрице Аленушке и братце Иванушке, былина
о Добрыне и Маринке и др.).
343-
страдая от издевательств мальчишки-погонщика; путешествует
с шарлатанами-жрецами сирийской богини; живет на мельнице,
где егсГистязает работой мельничиха-прелюбодейка; служит бедному огороднику и солдату, пока, наконец, не попадает к~двум
братьям, равотающим у богатого хозяина. Братья замечают человечёские навыки осла и открывают их хозяину. Тот поручает удивительного осла своему вольноотпущеннику и задумывает грандиозное зрелище п у б л и ч н о г д . б р а к я п г > л я с . ог.ужттрттной на смерть преступницей. Заранее ужасаясь этому зрелищу,
участником которого" "ему надлежало стать, осел убегает из
театра на берег моря. Там он обращается с молитвой к богине И ГИДР. Явившись из середины моря, богиня обещает^ ему
спасение, заручившись его обещанием служить ей. Во время
ритуального шествия в честь богини Луций обретает человеческий облик, поев розовых лепестков из рук ""жреца Исиды
JOH возвращается домой, преисполненный благодарности^ бс
__гине. К ,нему стекаются друзья, давно решившие, что его нег1
в живых," желая"убедит"ься__в "великом, совершенном богиней,
чуде и увидеть человека, победившего свою судьбу. После неожиданного возвращения всех его вещей, слуг и лошади из
Гипаты, в чем ТТуций~также увидел знак особой милости богини, он еще у с е р д т т р п предается религиозным обязанностям и
день ото дня укрепляется в желании принять посвященшГ
Придя, наконец, к такому решению, он отправляется в Рим
и_принимяг>т посвящение. Так кончается роман Апулея.
У Лукиана нет даже намека на подобную религиозно-моралистическую концовку. У него все происходит гораздо проще: осел
в театре перед представлением случайно видит у кого-то розы.
Срываясь с ложа, он кидается к цветам и поедает их, вызывая
недоумение свидетелей этого зрелища. Сбежав от ошеломленной
чудесным превращением осла в человека толпы, Лукий направляется к местному магистрату. Он рассказывает ему о своих
приключениях, а правитель, спросив об его имени, узнает в нем
сына своих друзей. За Лукием приезжает брат, с которым они
вместе должны отправиться на родину. Но прежде чем взойти
на корабль, Лукий решает повидаться с женщиной, с которой
он был близок будучи ослом. Став человеком, он надеялся
понравиться ей еще больше. Однако он просчитался. Его с позором изгнали из дома его бывшей нежной возлюбленной,
так как, по ее мнению, вместе с ослиной шкурой он потерял
все свои преимущества.
Две абсолютно разные концовки у двух сюжетно совпадающих произведений определяют их разный идейный и художественный настрой. Каждая из них по-своему отражает писательскую индивидуальность автора.
Все исследователи обращают внимание на резкое изменение
344-
Тона Апулея в XI книге по сравнению с предшествующими ему
десятью книгами. Считают обычно, что последняя кттигп «Метаморфоз» доказывает наличие у Апулея серьезной нравственной
идеи очищения и духовного ооновления. Есть тенденция вообще
преувеличивать религиозное значение XI книги и усматривать
в романе Апулея некий таинственный смысл. По мнению некоторых ученых, магик и мистик, верующий и благочестивый
Апулей написал роман аскетический и_т^ологичёский, религиозные знаки которого для нас_покаГмертвы
ТЗопрос этот заслуживает специального рассмотрения. Ограничимся здесь лишь утверждением: XL-Книга, бесспорно, доказывает, что Апулей хотел придать «Метаморфозам» определенныи нравственный и религиозный смысл. Отсутствие же мистическои концовки у Лукиана говорит о том, что она вряд ли
была и у Лукия из Патр и, следовательно, XI книга — это целиком изобретение самого Апулея.
Этот особенный эпилог, изменивший смысл всего повествования, — не^единственное добавление Апулея к той нити повествования, которую он взял у Лукия из ПатрГСохранив основную сюжетную линию, Апулей вообще очень свободно обошелся
с первоисточником. Нововведения Апулея заключаются прежде
всего в том, что он вставил в основную рамку сюжета эпизоды
с рассказами, а также сказку об Амуре и Психее^зянявшую
более двух книг (IV, 28 — VI, 24). В большинстве случаев эти
^рассказы покоятся на фольклорной традиции, а не на фантазии
Апулея. Очень возможно, что некоторые из них находились
в сборниках новелл, существовавших в поздней греческой и
римской литературе и до нас не дошедших, из которых самым
известным был, по-видимому, сборник Аристида из Милета.
Образцы таких рассказов мы встречаем у Петрония (новелла
о матроне из Эфеса). Некоторые рассказы Апулея имеют сходство с историями, рассказанными другими античными авторами.
Так, например, Э. Роде считал, что нечто подобное истории Хариты и Тразилла уже рассказывали Плутарх (Мог. 257,
е; 768, В) и Полиен (VIII, 39). Только в рассказе о Синате,
тетрархе Галатии и жене его Камме, переданном Полиеном, содержится краткая история убийства, которое трактуется как
Seivov epyov, а у Апулея даны пластические характеры и психологическая мотивировка. В. Андерсон 26 находит параллели
к этому рассказу в кавказском и славянском фольклоре. Многие
ученые обращают внимание на сходство истории Хариты с одним из мотивов песни о Нибелунгах (о мести Кримгильды).
25
26
U. U s s a n i. Magia, misticismo et arte in Apuleio. — N Ant., 1929,
p. 137-155
«Zu Apuleius Novelle vom Tode- der Charite». — Phil, LXVIII(XXII),
1909, N 4, S. 537—549.
345-
Генетические же корни новелл Апулея, по мнению большинства
ученых, уходят на Восток.
В связи с вопросом о происхождении новеллистических мотивов Апулея стоит упомянуть статью А. Малеина об эпизоде,
содержавшем рассказ Аристомена (I, 5—20) 27.
Малеин предлагает обратить внимание на такую малоэстетическую деталь в этом рассказе: ведьмы, Мероя и Пантия,
прежде чем уйти, залили Аристомена мочой (I, 13). Этим способом они хотели выразить к нему свое презрение. У античных
авторов есть похожие сцены (например, у Ювенала — I, 131 сл.
и VI, 306 сл. и у Петрония — гл. 57 и 62). Однако помимо поношения А. Малеин усматривает здесь и нечто другое. Он ссылается при этом на комментарии Л. Фридлендера к рассказу
Петрония о солдате-оборотне (гл. 62), отсылающие читателя
к индийскому фольклору, где существует поверье о волшебной
силе мочи. Таким образом, по мнению Малеина, Апулей вставил
в свой рассказ мотив восточного (может быть, индийского) происхождения о моче, имеющей волшебную силу( например, сковать действия Аристомена), но не понял этого ее значения
и превратил сцену в комическую. Случайно ли, намеренно ли
трансформировал Апулей «волшебное действо» в комическую
сцену (кстати, он вполне мог сделать это намеренно, что
было бы совершенно в духе разбираемого эпизода, где жуткая
история с участием ведьм соединяется с вставками буффонного
характера), восточная деталь должна, по-видимому, говорить
о восточном происхождении рассказа о вынутом сердце.
Другие эпизоды также дают основание предполагать их инородное (не греческое и не латинское) происхождение 28 .
Считается, что сказочные мотивы самой большой апулеевской вставки — сказки об Амуре и Психее — также не оригинальны и принадлежат греческому и восточному фольклору
(например, задачи, которые ставит Психее Венера, встречаются
в восточных сказках) 28а .
27
А. М а л е и н . К Апулею (I, 5—20). Сборник статей в память
С. А. Жебелева, 1926, стр. 29—37.
Об одной из последних работ на эту тему см. ниже в статье Т. Кузнецовой «Состояние изучения греческого романа в современном зарубежном литературоведении».
28а
См.; напр., статью Дершена и Гюбо (Ph. D e r c h a i n et I. Hub a u x . Laffaire du marche d'Hypata dans les Metamorphoses. — AC,
XXVII, 1958, p. 100—104), где предполагается, что моделью для
сцены на рынке (I, 24—25) Апулею послужил египетский ритуал,
практикуемый в храмах в птолемеевскую и римскую эпоху.
28
346-
*
*
*
«Метаморфозы» насчитывают около шестнадцати вставок
с новеллами129. Они довольно" "разнообразны. Это упомянутый
выше рассказ Аристомена о Сократе, которого «захороводила»
1юлдунья-кабатчица Мероя, умеющая превращать неугодных
ей в чем-то людей в животных и делать многое другое
в этом же роде (1,5—20). Сбежавшего от нее Сократа она настигла спящим, пронзила ему мечом шею, вынула через образовавшееся отверстие сердце и заткнула рану губкой. Когда
потом он захотел напиться и наклонился к ручью, губка выпала, и он упал мертвым.
Это рассказ о прорицателе халдее Диофане, предсказавшем
Луцию и славу, и невероятные приключения, которые попадут
в книги (II, И —13); о том, как этого мудрого прорицателя
ловко надул купец Кердон, не заплативший денег за предсказания.
Это рассказ Телефрона о том, как он стерег покойника и
остался без носа и ушей (II, 21—31).
Это серия «разбойничьих» рассказов (IV, 6—27): о главаре
Ламахе, лишившемся руки во время грабежа и покончившим
жизнь самоубийством (IV, 9—12); про гибель другого разбойника, Алцима, от руки хитрой старушонки, толкнувшей его из
окна с большой высоты на острый камень (IV, 12); о гибели
еще одного храброго разбойника — Фразилеона, проникшего
в дом очередной жертвы в шкуре медведя (IV, 13—21).
Это лирико-героическая история Хариты' и Тразилла (IV,
23—27; VIII, 1 —14) —история об украденной разбойниками
невесте, спасенной затем своим женихом; об их недолгом счастливом соединении, о гибели мужа от коварной руки соперника и о мести жены.
Затем серия рассказов о неверных женах и мужьях: о рабе,
съеденном муравьями по приказанию хозяина за измену жене
(VIII, 22), и рассказы-анекдоты, которые можно озаглавить:
любовник в бочке (IX, 5—7), любовник и забытые сандалии
(IX, 17—31), любовник в чане (IX, 22—28), любовник, которого выдало чиханье (IX, 24—25).
Затем следует опять серия рассказов об убийствах и преступлениях с участием злых колдуний и всякой нечистой силы:
рассказ о мести жены мельника (IX, 29—31); рассказ о траги29
В последнем немецком издании «Метаморфоз» Р. Гельма (в серии
«Schriften und Quellen des Alten Welt») все новеллы, включая сказку
об Амуре и Психее, объединены в 16 групп. При этом все разбойничьи рассказы (а их три) и начало истории Хариты составляют
одну группу. Нам показалась такая группировка удобной и оправданной.
347-
ческой гибели сыновей одного земледельца (IX, 35—38); рассказ о преступной любви мачехи к пасынку (X, 2—12); рассказ о преступлениях женщины, предназначенной для публичного бракосочетания с ослом (X, 23—28).
Особняком среди вставок с этими рассказами стоит поэтическая сказка об Амуре и Психее (IX, 28 — VI, 24) и эпизод
с рыбой на рынке (I, 24—26), который, если принимать его
так, как есть, выглядит бытовым анекдотом о не очень умном
эдиле, но в котором пытаются иногда усмотреть какой-то более
глубокий и таинственный смысл 30 .
Таким образом, можно заметить без труда, что в рассказах
Апулея среди прочих преобладают две темы: «любовь» и «чудесное», разработанные преимущественно (исключая сказку
об Амуре и Психее) на бытовом фоне. Почти каждый рассказ,
за исключением «разбойничьих» и еще двух — о прорицателе
Диофане и истории на рынке, содержит любовный мотив и элемент «чудесного», если только оно вообще не является его главной темой, как в истории с Аристоменом, рассказе Телефрона
или рассказе о гибели сыновей земледельца. Большая часть
рассказов, где действует какая-то нечистая сила или колдовство, имеет мрачный колорит. Апулей, вероятно, намеренно
пытался сделать их «пострашней», чтобы «пощекотать нервы»
читателя.
Истории с незадачливыми любовниками в IX книге, несмотря
на забавные положения, тоже не выглядят слишком веселыми.
Здесь юмор, главным образом, в ситуации, но совсем не в отношении к ним автора. Вообще юмором окрашены лишь немногие
истории, и везде он заключается в основном в ситуации: например, рассказ о прорицателе Диофане (II, 11—13), разбойничий рассказ о хитрой старушке (IV, 12) и некоторые другие.
Судя по тому, что мы знаем о «милетской новелле», рассказы
Апулея тематически вполне соответствуют этому жанру. Однако
Аристид из Милета был наверняка более веселым автором.
Чрезмерное увлечение Апулея магией, наличие в «Метаморфозах» серьезной нравственной идеи, как бы «вскрытой» XI книгой, наложили свой отпечаток на новеллы с самым фривольным
содержанием.
Неизвестно, все ли рассказы, вставленные Апулеем в основной сюжет, появились там по его инициативе. Предполагают, что какие-то из них перешли к нему из Лукия. П. Валетт,
рассматривая вопрос об отношениях Апулея к первоисточнику,
замечает, что многие эпизоды кажутся «надбавленными» 31.
Обращая внимание на противоречия, которые имеются в неко30
31
См. указ. статью М. Гиктера и указ. статью Ф. Дершена и Ж. Гюбо,
P. V а 1 е 11 е. Указ. соч., стр. XVIII—XXI.
348-
торых вставных эпизодах у Апулея, Перри делает вывод, что
они состоят из двух и более историй разного происхождения и
характера. Так, например, анализируя рассказ Аристомена 32 ,
он приходит к убеждению, что все в нем ясно и логично, кроме
истории с привратником (I, 14—17). Все несуразности в этом
рассказе происходят, по мнению Перри, оттого, что Апулей
пытается влить в рассказ Аристомена о Сократе историю бурлескного убийства и самоубийства, которой не было в оригинале. История эта отдает чисто римским душком и сближает
Апулея с Петронием. Интерполяцию, по мнению Перри, доказывают речи привратника (гл. 15 и 17), обращение к кровати
(гл. 16), упоминание дверей.
Из нескольких, иногда плохо совместимых мотивов или анекдотов состоят и другие апулеевские истории (истории с любовниками в IX книге, история Хариты, история из X книги,
гл. 23—28). Иллюзия единства достигается участием во всех
анекдотах одного главного действующего лица. Состоящим из
трех различных историй считает Перри и рассказ Телефрона
(II, 21—30 ) 33. Одна история — это заключение контракта с дамой на дежурство у покойника. Получив деньги, обрадованный
Телефрон предлагает себя хозяйке в слуги и на будущее в подобных случаях, за что домочадцы, увидев в этих словах дурное
предзнад1енование, выгоняют его вон из дома, предварительно
изрядно поколотив. Такое окончание истории типично для бурлескной сцены из мима или комедии (ср. Петроний, 132; Лукиан, «Осел»—56; «Метаморфозы» IX, 28), и оно плохо вяжется со следующими двумя историями. Главное во второй
истории, по мнению Перри, это — фатальная идентичность имен
Телефрона и покойпика. Он считает, что эта история не имеет
пичего общего с контрактом. А третья история об обманутом
муже и египетском пророке не имеет необходимой связи
с двумя предыдущими. В ней главный интерес концентрируется
вокруг жреца Затхласа. После того, как жена изобличена, история кончается. Мертвый свидетель, как думает Перри, дал
Апулею возможность, подвергнув Телефрона публичному осмеянию, устроить своеобразное представление точно также,
как он устроил представление из праздника смеха. Все эти
сцены наверняка отсутствовали у Лукия и являются полностью
изобретением самого Апулея.
Нововведения Апулея касаются не только добавлений вышеупомянутого типа, они затрагивают и основной сюжет, который
Апулей приспосабливает к своим целям. Так, например, для
32
33
В. Е. P e r r y . On Apuleius Metamorphoses, 1, 14—17. — CPh, XXIV,
1929, p. 394—400.
В. E. P e r r y . The story of Telephron in Apuleius (II, 21—30). —
CPh, XXIV, 1929, p. 231-238.
349-
того, чтобы старуха могла рассказать девушке-пленнице сказку
об Амуре и Психее, он удаляет разбойников (IV, 24). У Лукиана же в соответствующем месте они никуда не уходят
(«Осел», 22).
Апулей усложняет интригу с участием Хариты и ее жениха, снабдив ее мелодраматическими деталями и заканчивая
ее убийством из ревности (VIII, 1 —14). В отличие от него, Лукиан просто, без каких-либо подробностей сообщает о гибели
Хариты и ее мужа («Лукий, или Осел», 34).
Нововведения Апулея проявляются и в форме рассуждений, отступлений, описаний — ехсррааек;, столь любимых современной Апулею софистикой. Например, во II книге — это описание дома Биррены; в IV — пещеры разбойников; в V дворца
Амура, в X — театра и т. п. Нетрудно заметить, что, основываясь на известном сюжете, Апулей трактует его по-своему,
усиливая его «романные» черты, снабжая его «романными» деталями. Он придает «Метаморфозам» колорит своей манеры,
своего стиля, так что не всегда возможно определить в каждом
отдельном случае, насколько он здесь зависим или оригинален.
Среди апулеевских вставок особое место занимает сказка
об Амуре и Психее (IV — 28, VI, 24). Она обращает на себя
внимание не только своим значительно большим сравнительно
с другими вставными новеллами размером, но и тем, что ее
тон и манера повествования отличаются от тона и манеры
остальной части произведения. В ней рассказывается о том,
как богиня Венера, разгневавшись на земную царевну Психею за ее красоту, решила погубить ее, заставив влюбиться
в негоднейшего из смертных. С этой целью она посылает
к Психее своего сына Амура. Но бог любви, покоренный красотой Психеи, влюбляется в нее сам и женится на ней тайком
от матери. Он поселяет Психею в чудесном замке, окружает
ее невидимыми слугами, предупреждающими любое ее желание, но является ей только под покровом ночи, запрещая
даже пытаться увидеть его и грозя ей за это несчастьями и
гибелью. Однако подстрекаемая злыми сестрами и под влиянием собственного любопытства Психея нарушает запрет.
Очарованная красотой своего юного супруга, которого она
видит спящим, Психея нечаянно капает ему на плечо горячим
маслом из лампы, которую держит в руках. Амур просыпается и, бросив ей укоряющие слова, исчезает. Психея, уже
ждущая от него ребенка, отправляется на поиски Амура, который в это время лечит свою рану под присмотром матери
у нее в доме. Венера в свою очередь пытается отыскать Пси350-
хею и посылает за ней Меркурия, который ее и находит.
Встретив Психею бранью, как злая свекровь, богиня пытается
извести ее и ставит перед ней, казалось бы, невыполнимые
задачи. Однако другие боги и сама природа приходят на помощь кроткой Психее, и она успешно выполняет их. Затем
Юпитер, снизойдя к мольбам Амура, соединяет влюбленных
и дабы успокоить Венеру, не желавшую признавать своей родственницей смертную женщину, дарует Психее бессмертие.
Сказка очаровательна и изящна; она привлекает своей
поэтичностью, лукавой смесью сказочных и бытовых деталей,
светлым и цельным образом Психеи.
В основе сюжета лежит мотив, существующий в сказках
и мифах многих народов 34 . Рукописи, относящиеся ко времени
эллинизма и раннего христианства, эллинистическая египетская живопись дали Р. Рейтценштейну 35 основание утверждать, что на востоке в эпоху эллинизма существовала богиня
Психея и следовательно можно думать, что корни сказки
уходят на восток, в восточно-эллинистический миф о Психее 36 .
Здесь неизбежно встает вопрос об отношении апулеевской
сказки к мифу о Психее. Однако в ней так смешаны мифическая и сказочная природа, что трудно сказать, какая из них
здесь преобладает. Особенно если учесть родство между сказкой и мифом 37 . Сказочные черты во всяком случае стоят
в апулеевской сказке на первом плане. Сложнее выявить
в ней черты мифа и ответить на вопрос, какие элементы
здесь первичны: сказочные или мифические, т. е. была ли
мифологизирована старая сказка или восточный миф о Психее уже нес на себе сказочные черты. Вопросы эти, по-видимому, еще требуют своего решения.
Апулей не был первым, кто использовал сюжет об Амуре
и Психее в художественном произведении. Мотив любви
Амура и Психеи присутствовал у Посидиппа (III в. до н. э.),
34
35
36
37
Параллели к этой сказке, отысканные А. Куном, приведены
у JI. Фридлендера: «Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms in
der Zeit von August bis zum Ausgang der Antonine», В. IV. Leipzig,
1921, S. 122—124.
R. R e i t z e n s t e i n . Das Marchen von Amor und Psyche bei Apuleius. Leipzig—Berlin, 1912.
Существуют и другие мнения на этот счет. Так, Роберг (J. М. R о
b e r g . The tale of Cupid and Psyche. — Classica et Mediaevalia, I,
1938, p. 177—216) считает, что сказка ведет свое начало от соседних
областей Черного моря. Ее разновидности до сих пор существуют
в Южной Европе. Дерменгем (Е. D e r m e n g h e m . Le mythe de
Psyche dans le folklore nordafricain. — RAF, 1945, p. 41—81) отмечает существование этой темы в северно-африканском фольклоре.
Об этом см. указ. соч. JI. Фридлендера, т. IV, стр. 101—104. Здесь же
говорится о родстве сказки об Амуре и Психее с мифом о Зевсе и
Семеле.
351-
Мелеагра (i в. до н. э.), служил основной для произведений
изобразительного искусства 38 . Р. Гельм 39 , например, полагал,
что существовала позднеэллинистическая поэма на эту тему
и сказка Апулея представляет собой изложение этой поэмы
в прозе.
Апулей не был единственным, кто использовал сказочные
мотивы в романе. На черты сказки, имеющиеся во вставках
в романе Ахилла Татия, указывал Э. Роде 40 . Другие исследователи (Болте-Поливка, В. Андерсон) находили сказочные
параллели к отдельным мотивам в романах Лонга и Антония
Диогена. Апулей взял сюжет из известной ему римской или
греческой сказки и обработал его на свой манер в соответствии с литературными вкусами своего времени. Исследователи по-разному оценивают сказку в том ее облике, какой она
обрела у Апулея. Однако все единодушно отмечают ее вероятную отдаленность от первоначального вида 4 1 .
Апулеевская сказка замечательна разнообразием и оригинальностью стилистических приемов. Здесь предстают в замысловатом сплетении два плана изображения — сказочнопоэтический и бытовой.
Там, где речь идет о Психее и Амуре, об их
любви, — преобладает тон сказочно-поэтический, в котором
слышатся отзвуки александрийской любовной поэзии; там, где
речь идет о злых сестрах Психеи, или о богине Венере и вообще о богах, на память приходит мениппова сатура 4 2 и «Разговоры» Лукиана 4 3 . И все пронизывает «милетский» дух, игривый и жизнерадостный, обеспечивающий единство этих двух
планов.
Два наиболее психологически подробно разработанных образа в сказке — это образ Психеи и образ Венеры. Образ
38
39
40
41
42
43
См.: К. F r i e d l e n d e r . Указ. соч., т. IV, стр. 104 и R. R е i t z е n s t е i п. Указ. соч., стр. 73.
«Neue Jahrbiicher», 1914, S. 170.
E. R o h d e . Der Griechische Roman, S. 505 (1-е изд.).
Так, Кальцавара (G. С a 1 z a v а г a, II mito di Amore e Psiche nella
favola di Apuleio. — AIV, LXXX, 1920—1921, S. 265—293) считает
сказку Апулея заимствованной из милетских сказок и находит ее
в этом ьиде грубой и потерявшей те достоинства, которые она, повидимому, имела изначала, в своем, так сказать, девственном виде.
Билер (L. В i е 1 е г. Psyches dritte und vierte Arbeit bei Apuleius —
ARW, XXX, 1933, S. 242—270), напротив, отмечает как достоинство,
что Апулей не удовлетворяется переводом греческой модели, а делает шаг вперед в изучении характеров и в описаниях.
Р. Рейтценштейн (указ. соч., стр. 8) прямо говорит, что в этих
местах господствует тон менипповой сатуры в ее римском обличье.
Дрью (D. D г е w. Contact between Apuleius and Lucian, God's and
Marine dialogues. — BFAC, VIII, 2, 1946, p. 1—5) считает, что Апулей испытал непосредственное влияние Лукиана.
352-
Психеи решен в идиллическом плане: она красивая и добрая,
прилежная и работящая, открытая и простодушная, любящая
и верная. Правда, Апулей наделяет ее таким недостатком как
любопытство, которое ввергает ее в пучину несчастий. Однако
этот недостаток, явившись причиной несчастий Психеи,
в то же время, как бы «очеловечивает» ее идеализированный
образ, делает его более живым и реальным.
Апулей с сочувствием относится к своей героине, временами
тепло подшучивая над ее доверчивостью и простодушием.
Не без легкой иронии в его адрес, но тоже в поэтическом
плане изображен Апулеем Амур: это красавчик, шалунишка
л плут, ставший любящим и преданным супругом.
Начало сказки выдержано в хорошо знакомом всем сказочноэпическом стиле: «Жили в некотором государстве царь с царицей. Было у них три дочки-красавицы» 44 (IV, 28, 1).
Этот стиль, свойственный сказке («дворец стоит, не человеческими руками созданный, но божественным искусством» — V,
I, 1), в общем выдержан и в дальнейшем, хотя автор часто отходит от него, увлекаясь то картинами, нарисованными в традициях александрийской поэзии, то описаниями, свойственными
современной ему софистике, то игривыми замечаниями в духе
«милетского рассказа», то сценками, изображенными в реальнобытовом плане и нередко оборачивающимися бурлеском.
В красках, воссоздающих манерную живописность и мифологическую ученость александринистов, дано, например, описание полета Венеры через море (IV, 31—35):
«... Едва ступила она розовыми ступнями на- влажную
поверхность шумящих волн, как вот уже покоится на тихой
глади глубокого моря, и едва только пожелала, как немедля,
будто заранее приготовленная, показалась и свита морская:
здесь и Нереевы дочери, хором поющие, и Портун со всклокоченной синей бородой, и Салация, складки одежды которой
полны рыбой, и маленький возница дельфинов Полемон».
Еще более изысканно-жеманно дано описание полета Венеры по небу к Юпитеру в колеснице, запряженной голубями
(VI, 6, 3 - 4 ) :
«... Две белоснежные пары, в веселом полете поворачивая
переливчатые шейки, впрягаются в осыпанную драгоценными
камнями упряжь и, приняв госпожу, радостно взлетают. Сопровождая шумным чириканьем колесницу богини, резвятся
воробышки и прочие звонкоголосые пташки, сладко оглашая воздух нежными трелями, возвещают прибытие богини.
44
Русский текст здесь и далее дается по изданию: А п у л е й . Апология. Метаморфозы. Флориды. Перев. М. А. Кузьмина и С. П. Маркиша. М., 1956.
V2 23
Античный роман
3 5 3
Облака расступаются, небо открывается перед своей дочерью,
высший эфир с весельем приемлет богиню».
Р. Рейтценштейн справедливо заметил 4 5 относительно этой
картины, что место ей в александрийской свадебной песне.
В том же стиле рассказано о красоте Психеи (IV, 29, 1—2),
так же написаны ее мольбы к Церере (VI, 2, 4, и VI, 41) и т.д.
Наряду со все еще модной в то время александрийской
поэзией, в сказке Апулея нашел свое отражение и стиль, свойственный современной ему софистической риторике. Образцами такого стиля может служить, например, описание дворца
Амура (V, 1) или его красоты (V, 22). Вот каким предстает
перед изумленной Психеей ее тайный супруг (V, 22, 4—6):
«Видит она золотую голову с пышными волосами, пропитанными амброзией, окружающие молочную щею и пурпурные щеки, изящно опустившиеся завитки локонов, одни с затылка, другие со лба свешивающиеся, от крайнего лучезарного блеска которых сам огонь в светильнике заколебался;
за плечами летающего бога росистые перья сверкающим
цветком белели...» и т. д.
О софистической прозе того времени (в том числе и о греческом романе) заставляют вспомнить и довольно многочисленные здесь пространные обращения и речи: обращение
Венеры к самой себе, в котором она негодует, узнав о существовании соперницы (IV, 30), обращение ее к Амуру, которого она призывает отомстить за нее (IV, 31), обращение
Психеи к родителям, в котором она пытается подбодрить их,
удрученных ее странной свадьбой (IV, 34) и т. д.
В подчеркнуто бытовом плане, в духе менипповой сатуры
или новой комедии решен в сказке, как уже говорилось выше,
образ Венеры, образы злых и завистливых сестер Психеи,
а также образы других богов, напоминающих «олимпийцев»
Лукиана. Особенно выразительна стареющая красавица Венера, не желающая сдавать позиций. Характеристика ей
дается, главным образом, через речи и обращения, которые
Апулей влагает в ее уста.
Безбрежно ее негодование, когда она узнает, что ее сын,
Амур, влюбился в земную женщину. Возмущенная до предела,
она обрушивается на него, не стесняясь в выражениях
(V, 29, 3—V, 30, 5): «Или ты считаешь, пустомеля, потаскун
противный, что ты один можешь наш род продолжать,
а я уже по годам и зачать не могу? Ну, так знай же, другого
сына рожу, гораздо лучше тебя...» Комически звучит весь
этот монолог, где Венера, обращаясь к Амуру, грозится усы45
R. R e i t z e n s t - e i n . Указ. соч., стр.* 8.
354
новить вместо него кого-нибудь из рабов и передать ему все
Амурово снаряжение, где она упрекает Амура в том, что он
с детства был плохо воспитан, что в своем распутстве он дошел до того, что поставлял сожителю Венеры — Марсу девиц
в наложницы и т. д. и т. п.
Выразителен и другой эпизод с участием Венеры, это
•сцена первой встречи Психеи и Венеры (VI, 9—10), которая
прямо переходит в бурлеск. Венера обращается к Психее
с грубой бранью, разразившись при этом диким хохотом,
тряся головой и почесывая правое ухо: «Наконец-то удостоила
свекровь посещением!» Заверив Психею, что ей нечего рассчитывать на снисхождение, «налетает она на ту, по-всякому
платье ей раздирает, за волосы таскает, голову ей трясет
и колотит нещадно». Подобная сцена вполне могла быть, например, в миме, или в произведении другого «низменного»
жанра. Под стать речам богини Венеры определения, которые
Апулей дает сестрам Психеи: они у него и «коварные ведьмы»
(V, И, 4), «те две заразы, две фурии гнуснейшие» (V, 12, 2).
Бытовой план усиливается к концу сказки, где помимо Венеры действуют другие боги: Церера, Юнона, Юпитер, как бы
прямо перешедшие в апулеевскую сказку из «Разговоров богов» или «Морских разговоров» Лукиана (V, 31; VI, 2—4;
VI, 7; 22—24).
Как еще одну краску в том их многообразии, какое использовал в своей сказке Апулей, нужно упомянуть и о встречающихся в ней римских реалиях (VI, 4, 4; VI, 7, 3; VI, 8, 2 и др.).
Употребление римских реалий в сказке так 'же, как и смешение бытовых и поэтических деталей, дает юмористический
эффект, которого, по-видимому, и добивался Апулей. Кроме
того, римские реалии в сказке создают контакт с современной Апулею римской действительностью, возвращая читателя
из сказочного «вневременья» в Рим середины II в. н. э. Так,
о Психее, например, говорится как о беглой рабыне Венеры,
которую с указанием примет разыскивают по приказанию
госпожи (VI, 7, 3, 8, 1). При этом предупреждается, что виновные в укрывательстве будут наказаны (VI, 7, 3; VI, 4, 4).
Юнона, к которой Психея обращается за помощью, отказывает
ей, ссылаясь на то, что ее удерживают «законы, запрещающие
покровительствовать чужим беглым рабам без согласия их
хозяев» (VI, 4, 4). Венера, не желающая признавать законным
брак своего сына с Психеей, ссылается на римские законы, не
признающие брака, заключенного без свидетелей и без согласия отца (VI, 9, 5).
Однако при всем разнообразии стилей, приемов и красок,
при сатирической струе и местами совершенпо очевидной
иронии над всем господствует лирически-приподнятый, поэти25 Античный роман 3
5 5
ческий тон сказки, который и является в этой вставке
определяющим.
Вопрос об истолковании сказки имеет свою длинную историю, не завершившуюся до сих пор 46.
Две крайние точки зрения сводятся к следующему: одна
из них предлагает понимать апулеевскую сказку как платонический миф о скитаниях души 47 , а вторая предлагает отбросить какие-бы то ни было аллегорические или религиозные
объяснения и понимать сказку такой, какая она есть, — просто,
как сказку о хорошей женщине 48.
На наш взгляд, вряд ли следует понимать эту милую сказку
с ее забавными изобразительными контрастами и такой, хоть
и опоэтизированной, но вполне земной героиней только как
философскую аллегорию, хотя она вполне могла быть у Апулея, считавшего себя философом-платоником. Но сказка Апулея — и не просто сказка о хорошей женщине. Бесспорно,
Апулей не случайно включил ее в свой роман. Есть известная
аналогия, всегда отмечаемая исследователями, между судьбой
Психеи и судьбой Луция: оказавшись жертвами своего любопытства, пройди через ряд испытаний, оба они получили спасение благодаря вмешательству божества. Для Психеи — это
апофеоз, для Луция — божественное посвящение. Общая для
сказки и романа тема страдания и нравственного очищения
через страдания сообщает этим, различным по тональности,
частям произведения Апулея определенное идейное единство.
*
*
*
Достойно удивления искусство, с которым Апулей сумел
создать нечто единое и цельное из такого многообразия сюжетов, мотивов и эффектов. Композиция произведения, соче46
47
48
О первых научных объяснениях значения апулеевской сказки и
соответствующего ей мифа см. в указ. кн. Р. Рейтценштейна,
стр. 9—15.
Образец такого объяснения содержится, напр., у Р. Гувера (Ариleius's Cupid and Psyche as platonic myth. — «Bucknell review», V,
3, 1955, p. 24—38), который понимает апулеевскую сказку как миф,
основанный на платонической доктрине: красота порождает любовь,
физические и духовные достоинства души способствуют восхождению по лестнице любви, а любовь есть бессознательная погоня
за бессмертием.
Пример такого толкования мы видим, напр., у JI. Германна в его
рецензии на книгу Э. Параторе о новелле у Апулея («Latomus»,
1947, р. 279) и в его статье «Legendes locales et themes litteraire
dans conte de Psyche». —AC, XXI, 1952, p. 13—27). Обилие разношерстных составных элементов, тон, часто гривуазный и пародический, исключает, по мнению JI. Германна, какое-либо религиозное
значение сказки.
356-
тание основного сюжета со вставными новеллами и эпизодами,
группировка новелл — все это говорит о заботливом внимании
автора. Свйзь меящу частями романа обеспечивает непрерывное присутствие Луция. Как и в «Сатириконе», персонажи
появляются, обеспечивая очередное приключение или очередной рассказ, и исчезают. Эпизоды и рассказы вливаются в основной сюжет без особых усилий и не нарушают его плавности. Луций слышит новеллы сначала еще будучи человеком
или непосредственно из уст своего собеседника (как в I, 15—
29—II, 11—15), или присутствуя где-то, например, на ужине
у Биррены, где их рассказывают (II, 19—31). Впоследствии уже
в обраэе осла он слышит их в разных ситуациях от разных
лкц, присутствуя как немой свидетель (например, IV, 6—27;
IX, 5 - 7 , 1 7 - 3 1 и др.).
Есть известная закономерность в том, как Апулей группирует новеллы. Например, во время пребывания у разбойников,
еще до сказки об Амуре и Психее, Луций от разных рассказчиков слышит три подряд разбойничьи истории — про гибель
трех храбрых разбойников (IV, 9—12; 12; 13—21). Две из
них: первая и последняя — «жуткие», со страшными «кровавыми» подробностями; средняя (IV, 1 2 ) — о том, как хитрая
старушка провела многоопытного разбойника, не лишена
юмора и очень удачно смягчает эту мрачную триаду.
Таким же образом в IX книге группируются любовные истории, а в конце IX и X книг — рассказы о преступлениях
с участием различных «чудес». Предполагается, что не случайно в «разбойничьем» периоде злоключений Луция соседствуют между собой, хоть и очень непохожие друг на друга,
три истории о верной супружеской любви. Одна из них — это
история девушки-пленницы Хариты и ее жениха Тлеполема,
которая начинается в IV книге, прерывается другими рассказами и событиями и заканчивается в V I I I 4 9 ; вторая — это
сказка об Амуре и Психее и третья — это короткая история
о верной супруге одного знатного римлянина Плотине
(VII, 6—7), рассказываемая женихом Хариты Тлеполемом,
выдавшим себя за разбойника Гема.
Если у Петрония движущей силой сюжета был мотив гнева
Приапа, то у Апулея этой силой стал мотив любопытства 50 .
Любопытство — это та роковая черта характера Луция,
из-за которой он претерпевает все свои злоключения. Писатель постоянно и настойчиво подчеркивает эту черту харак49
50
Эту историю, оканчивающуюся кровавой трагедией, Р. Гельм сравнивает с историей о гибели Зигфрида из «Песни о Нибелунгах».
Э. Параторе в книге о новелле у Апулея (см. сноску 22) вообще говорит о важности мотива curiositas для античного романа
(стр. 9 и 27).
24
Античный роман
3 5 7
тера своего героя на протяжении всего произведения (например, I, 2; VII, 13; IX, 13; 15; 30; 42 и др.) 51. Лудий сам
г о в о р и л о ней в начале романа (I, 2). Стремление «знать,
если не все, то как можно больше» (scire vel cuncta vel certe
plurima) заставляет его слушать рассказ Аристомена, подглядывать за манипуляциями Памфилы. Именно любопытство явилось причиной его превращения в осла. Любопытство осла
в свою очередь дает ему возможность слышать все сказки и
новеллы. Наконец, Психея, в судьбе которой видят известную
аналогию судьбе Луция, также терпит за свое любопытство.
Мотив любопытства играет немаловажную объединяющую роль
в романе Апулея. Он оправдывает существование бок о бок
самых разнообразных эпизодов, как бы нанизывая их на одну
нить повествования 52 .
Нельзя обойти молчанием и еще один важный мотив романа Апулея — это мотив «чудесного», магии. Еще Фотий
предполагал, что Лукиан в своем «Осле» высмеивает веру
в чудеса и сверхъестественное. По-видимому, это так и есть.
С Апулеем же, которого древние считали величайшим магом
античности, которого судили за магию, — дело обстоит сложнее. Он наделяет своего героя любопытством к магии. Предполагается, что это черта характера самого Апулея. Он умело
нагнетает интерес к магии с самого начала романа. Все рассказы, предшествующие превращению Луция в осла, частые
упоминания о Фессалии как о стране чудес, настойчивость,
с которой Луций говорит о своем любопытстве к магии и колдовству, его стремление увидеть волшебные действия собственными глазами — все это подготавливает ожидание чего-то
«чудесного», которое оборачивается, наконец, неожиданным
превращением Луция в осла. И затем, скитаясь в ослиной
шкуре, Луций постоянно слышит рассказы, в которых присутствует элемент «чудесного». В конце же концов происходит завершающее чудо: с помощью богини Исиды, поев розовых лепестков, Луций вновь превращается в человека.
Конечно, Апулей не мог верить в реальность превращения
человека в осла. На некоторых эпизодах с «чудесами» лежит
явный налет иронии. Так, Апулей иронически относится
51
52
Ученые подсчитали, что слово curiositas Апулей упоминает 12 раз;
curiosus — 20 раз, curiose — 13 раз, curiosulus — 1 раз. Все места, где
упоминается о любопытстве Луция приводит Г. Рифшталь («Der Roman des Apuleius. Beitrag zur Romantheorie». Frankfurt am Main,
1938, S. 29).
О том, что стремление знать — это нить, с помощью которой Апулей
сцепляет различные элементы своего рассказа, говорит и Норвуд
(Pr. N o r w o o d . The magic pilgrimage of Apuleius. — Phoenix, X;
1956, p. 1—12).
358-
к жрецу Затхласу, с насмешкой говорит о прорицателе Диофане, наполовину в комедийно-бурлескном плане изображает
он действия ведьм — Мерой и Пантии — из рассказа Аристомена и т. д. Однако в I, 20, 3 Луций произносит слова, которые до некоторой степени могут отражать взгляды на магию
самого Апулея: «Я, по крайней мере... ничего не считаю невозможным». Хотя, конечно, эти слова можно рассматривать и
как попытку сильнее заинтриговать читателя. Ибо обилие
«чудес» в романе объясняется, на наш взгляд, не только интересом к магии самого Апулея, но и желанием угодить вкусу
публики того времени, жадной до чудес и сверхъестественного.
Что же касается с благоговением описанного обратного превращения Луция в человека и «чудес» последней книги, то
они явно иного характера, чем предыдущие, и имеют серьезную цель пропаганды религиозного культа Исиды.
Роман Апулея часто называют сатирическим и, действительно, он не лишен элементов сатиры. Учитывая интерес
Апулея к магии, его не назовешь сатирой на суеверия, хотя,
как уже говорилось, некоторая насмешка над ними здесь
имеется. Скорее роман Апулея содержит в определенной мере
сатиру на нравы. В 13 гл. IX книги Луций, рассуждая о своей
горькой доле, говорит: « . . . В мучительной жизни моей одно
единственное осталось мне утешение: развлекаться, по врожденному мне любопыству глядя на людей, которые, не считаясь с моим присутствием, свободно говорили и действовали,
как хотели».
Врожденное любопытство Луция и его пребывание в шкуре
осла, перед которым не стесняются, дало Апулею возможность
показать изнанку жизни, отдельные стороны которой и попали
в роман. Пожалуй, наиболее зло он изобразил распутных и
жуликоватых жрецов сирийской богини в VIII книге и одержимых преступной похотью женщин вроде мельничихи,
мачехи или последней сожительницы осла. Наличие сатиры подтверждается довольно широким использованием в романе изобразительных средств, типичных для сатирического произведения: например, пародий, буффонады. Однако вряд ли можно
определить роман Апулея только как сатирический. Он многосторонен, и эта его многосторонность породила множество
различных толкований и определений.
П. Валетт 53 отозвался о нем так: сборник невероятных историй, эротический роман, философский символ; произведение
непристойное, произведение сатирическое, произведение воспитательное — «Метаморфозы» не есть что-то одно из всего
этого и все вместе в то же время. Апулей, по его словам, это
63
В
предисловии
к
упомянутому
выше изданию.
25 Античный роман 359
нескончаемая смесь серьезного и фривольного, мистицизма и
насмешки над суевериями, религиозности и безбожия.
Любопытно осмысливается роман Апулея в книге немецкого
ученого Г. Рифшталя 5 4 . Г. Рифшталь пытается установить связь
между «Метаморфозами» Апулея и психологическим романом
в немецкой литературе, который часто в эгонарративной форме
чертит развитие индивидуальной личности героя через его
контакты с внешним миром. Он рассматривает роман Апулея
не как скопление случайно соединенных эпизодов, но как результат интеллектуальных интересов автора, как художественно оформленную картину взглядов неоплатонизма. В представлении Г. Рифшталя Луций, изолированное существо, без
какого-либо контакта с жизнью общества, без определенных
занятий, без цели, скитается с места на место. Желая вырваться из этой изоляции он обращается к магии, но это
только помогает ему обогатить свой жизненный опыт. В остальном — превращение в осла еще больше подчеркивает его
отчужденность, так как с превращением он оказывается в изоляции не только от людей, но и от животных. Его действительное избавление достигается только через посвящение
в культ богини Исиды. Исходя из такого толкования, неизбежно напрашивается вывод, что последовательной целью романа является религиозная пропаганда. Эта трактовка интересна с точки зрения установления художественного единства произведения с помощью философского кредо автора.
Без применения такой философской концепции к первым десяти книгам, книга XI, предположительно автобиографическая, остается оторванной от остального произведения. Однако
это, так сказать, «ретроспективное» выявление философской
основы «Метаморфоз» страдает, на наш взгляд, излишней заданностью и преувеличением философского элемента в романе
Апулея. Подобный принцип подхода к роману, может быть,
годится для немецкого психологического романа, но он выглядит явным «анахронизмом» в применении к произведению одного из последних ярких писателей языческой древности.
П. Грималь 55 , напротив, склонен рассматривать роман Апулея больше как развлекательный, с сожалением признавая
наличие в нем известной доли поучительности, доказываемой
XI книгой. Он подчеркивает две особенности романа: его оригинальность и реализм. Греческая модель, по мнению П. Грималя, нисколько не связала Апулея. Добавления, сделанные им
к милетской истории про осла, только подтвердили его самостоятельность и в целом роман представляется скорее как проБ4
55
Н. R i e f s t a h l . Указ. соч., стр. 133.
P. G г i m а 1. Указ. соч.
360-
изведение оригинальное, чем как продукт традиции. Действительно же оригинальность Апулея, говорит П. Грималь, состоит
в том, что его роман есть пункт, где сходится целая серия
опытов — литературных и духовных 56. В своем латинском романе и на латинском языке, которому отказывали в выразительности в сравнении с греческим, Апулей вошел в более
близкий контакт с повседневностью как материальной, так и
духовной. Расхождение, которое всегда существовало в латинской литературе между литературным миром и миром повседневной реальности у Апулея, по мнению Грималя, имеет тенденцию к исчезновению. Произведение Апулея, замечает
он, представляет собой интересную попытку перенести в латинскую литературу жанры и тенденции, до сих пор остающиеся в литературе греческого языка, но Апулей в своем романе гораздо более реалист, чем греческие авторы романов
о любви.
Отмечая причудливую изменчивость и подвижность манеры
Апулея в «Метаморфозах», П. Валетт 5 7 проводит параллель
с другими его сочинениями—«Апологпей» и «Флоридами».
Так, например, «Апология» представляет собой традиционную
речь, в которую, по его мнению, так же вкраплены различные
истории и отступления («Апология», 29, 48 и т. п.).
Думается, что в этом замечании только часть правды, так
как причудливая форма «Метаморфоз» больше зависит здесь
не столько от избранной им манеры сочинения, определившего
форму «Апологии» и «Флорид», сколько от, избранного Апулеем жанра. Начиная свою «греческую басню» (fabulam graecanicam), Апулей «обещает сплести ее на милетский манер»
(Sermone . . . Milesio) и позабавить читателя. «Внимай, читатель,
будешь доволен», — говорит он. Далее (IV, 32) он называет
себя составителем милетского рассказа на латинском языке.
Таким образом, он как бы сам определяет жанр своего произведения, намереваясь создать нечто в духе Аристида из Милета — автора сборника новелл легкого содержания, в которых,
как полагали, любовные приключения перемежались с рассказами о чудесах и бытовыми зарисовками.
Если условно вести жанровую линию «Метаморфоз» непосредственно от сборника новелл типа сборника Аристида из
Милета, сочинение которого представляется современным исследователям чем-то вроде венка новелл с каким-то объединяющим обрамлением (например, одним или несколькими рассказчиками) типа «Декамерона» или «Гептамерона», то произведение Апулея можно представить себе так: в отличие от
66
57
P. G r i m a l . Указ. соч.,
Р. У а 1 е 11 е. Указ. соч.
стр.
161.
361-
сборника новелл, он в своем произведении как бы сместил
акценты и изменил пропорции, сделав главной, снабдив ее сюжетом, обрамляющую историю, которая, по-видимому, была случайной в сборнике новелл, и отведя второстепенную роль новеллам, которые со временем вполне оправданно получили термин «вставных». Однако и в главной и во вставных историях
Апулей остался верен легкому и фривольному «милетскому»
духу, любви к «чудесам», соседствующей с реалистическим
изображением нравов и сочным народным юмором. Из сборника
новелл с объединяющим обрамлением получился так называемый «роман со вставками» (roman a tiroir).
Исторически все это, конечно, происходило не так просто,
как в начерченной выше примитивной схеме, однако наиболее
вероятно, что предком «Метаморфоз» был именно сборник
новелл с обрамлением, который во многом определил их замысловатую форму. Ведь и в современной теории возникновения
романа в новое время существует среди других многочисленных вариантов подобный этому вариант возникновения романа
из сборника новелл с обрамлением, объединенных одним героем. Многообразие же типов романа даже в античности лишний раз наводит на мысль, что вряд ли может быть единая
теория возникновения романа даже для античного образца.
*
*
*
Еще Макробий поставил Апулея рядом с Петронием, объединив их (в комментариях ко «Сну Сципиона» — I, *28) на той
основе, что оба они писали о злоключениях влюбленных. Макробий не без удивления называет среди авторов развлекательной литературы Апулея, которого он считает более серьезным писателем, чем Петрония.
Таким образом, Макробий как бы уже наметил и главное
между ними сходство, и главное различие. Он причислил того
и другого к жацру любовно-приключенческого романа и обратил внимание на большую «серьезность» Апулея в сравнении
с Петронием.
Многие исследователи сближают роман Петрония с романом
Апулея, исходя из общего их стремления к реалистическому
изображению быта, из общей для них наблюдательности и
внимания к жизненным мелочам и подробностям (например,
В. Кроль, Г. Рифшталь и др.)- Было отмечено, что оба романа
имеют тенденцию к реалистическому описанию человеческих
характеров. Сходство между романами Апулея и Петрония видят и в том, что и там, и там — «герой» (в кавычках), попадающий в сложные ситуации и терпящий бедствия; что и там, и
362-
там — иронически смеющийся и стоящий над материалом
романа поэт; что оба романиста изображают нижние слои населения, или в лучшем случае городской мир провинции, их безнравственность, невежество и суеверия; что и у того, и у другого преобладает сатирический тон рассказа, при этом у Петрония сатирическая нота звучит сильнее, чем у Апулея.
Коренное различие между ними видят в разном их отношении
к «чудесам» и всякой магии. Серьезное отношение Апулея
к описываемым им «чудесным» явлениям контрастирует с религиозным скепсисом и насмешкой над суевериями у Петрония. Апулей поглощен описанием различных колдовских манипуляций, превращений и т. п. Последняя часть «Золотого
осла» проникнута мистическим настроением. Петроний смеется
над суеверием и иронизирует по адресу богов.
Считается, кроме того, что различия между Петронием и
Апулеем определяются в значительной степени тем, что Петроний черпал в классической латинской литературе, а Апулей
следовал греческому оригиналу (имеется в виду произведение
о превращениях Лукия из Патр) и милетским рассказам.
А. Колиньон, подробно сравнивающий оба романа, усматривает различие между ними в пристрастии Апулея к трагическому, даже мелодраматическому (I, VIII, 1—4; I, IX, 30—31;
I, IX, 33—38), чего совсем нет у Петрония. У последнего любые, самые драматические ситуации, тут же оборачиваются
фарсом. Кроме того, в «Метаморфозах» автор дает о себе
знать, Петрония же почти не видно- в «Сатириконе».
Сравнивая художественную манеру и стиль Апулея, А. Колиньон отдает предпочтение Петронию. Правда, он и здесь
находит какое-то сходство. Например, оба иронически используют стиль эпоса (у Апулея —IX, 22; I, 18; III, 1). В остальном же в стиле больше различия, чем сходства. Описания Апулея сильно перегружены, Петроний гораздо лаконичнее и
выразительнее; риторических ухищрений больше у Апулея,
чем у Петрония; стиль первого высокопарный, усеян антитезами. Стиль Петрония, если исключить места с народной латынью, изящен и правилен.
Винченцо Джаффи 58, исследуя в своей книге влияние Петрония на роман Апулея, приходит к выводу, что наибольшее
сходство между ними приходится на начальные главы Апулея.
Первые книги романа Апулея, где рассказывается о приключениях Аристомена и Телефрона, по его мнению, ближе
к роману латинскому, чем греческому, а остальные следуют
скорее греческому роману Лукия из Патр. Тем не менее это
не исключает единства всего произведения.
58
V. G i a f f i. Petronio in Apuleio. Turin, 1960.
363-
Обобщая перечисленные выше черты различия и сходства
между Апулеем и Петронием, следует прежде всего отметить,
что первое и самое явное отличие «Метаморфоз» от «Сатирикона» состоит в том, что этот — боле'е поздний, чем «Сатирикон», — образец латинского романа уже не «мениппея» — по
форме, а «чистый» роман. Стихи встречаются лишь в двух
местах и, следовательно, это уже проза без смеси со стихами.
Выбранная же Петронием форма менипповой сатуры сообщает «Сатирикону» известную условность и в значительной
мере определяет его художественную манеру и стиль, которая
существенно отличается от художественной манеры Апулея.
Другое важное отличие романа Петрония от романа Апулея состоит в том, что главная тема у них по существу разная.
У Петрония — это любовные авантюры его героев, быт и нравы
«низов» населения римской провинции, а у Апулея — в конечном счете — это «чудесное», магия.
Кроме того, произведение Апулея отличает религиознонравственная идея, цодобной которой нет у Петрония.
И, несмотря на то, что оба они принадлежат римской литературе, произведение Апулея по преимуществу следует греческим образцам и греческое по духу, тогда как Петроний — это
автор, наделенный чисто римской язвительностью и остроумием, следующий образцам латинской литературы. Был ли
роман Апулея, появившийся почти на 100 лет позднее «Сатирикона», шагом вперед в развитии латинского романа? Безусловно, да. Потому, что это уже не «мениппея», а «чистый»
роман с четким сюжетом и пространной повествовательной
тканью, с углубленно психологически разработанным образом
главного героя; это уже повествование, подчиненное определенной идее, в котором ощущается эмоциональное присутствие
автора. Оба произведения, своим появлением неоценимо обогатившие античную литературу, донесли до нас живое дыхание
клонящейся к упадку эпохи «детства человечества» и дали возможность насладиться блестящим талантом их авторов.
СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕНИЯ
ГРЕЧЕСКОГО РОМАНА
В СОВРЕМЕННОМ ЗАРУБЕЖНОМ
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ
Настоящий обзор не претендует на полноту и всесторонность
освещения концепций, развиваемых современными зарубежными учеными. Цель его состоит в том, чтобы дать читателям
представление о современном состоянии исследовательской работы по греческому роману за рубежом за последние 20 лет,
попытаться наметить основные тенденции, в русле которых
идет эта работа, оценить методы подхода исследователей
к изучению одного из значительных явлений поздней античности — жанра романа. Если методология ошибочна, это неминуемо влечет за собой логическую необходимость замены ее
новой, которая помогла бы приблизиться к разрешению сложных и многообразных проблем, связанных с античным романом. Если же она верна, положительный результат налицо, и
им следует непременно воспользоваться, чтобы выделить нерешенные, а иной раз даже и не поставленные вопросы, по
которым советским исследователям предстоит еще большая
работа.
Сравнивая современную научную литературу о романе
с предшествующей, вряд ли можно утверждать, что она внесла
что-либо существенно новое в изучение общих проблем романа. Качественного изменения в направлении изучения кардинальных вопросов во всяком случае не произошло, хотя наметились некоторые сдвиги в сторону более углубленного рассмотрения романа как общественно-литературного явления,
как жанра. Достижения ученых предшествующего времени повторяются и теперь, как, к сожалению, и их ошибки. До сих пор
используется, например, терминология и оценочные крите
рии Роде, Лаваньини, Шварца, Керени. Разумеется, достиже365-
ния в области изучения греческого романа не просто воспринимаются и суммируются, но в известной мере и переосмысляются, получая, таким образом, новое звучание и развитие
(см. ниже о работе Джангранде). Расширились и разнообразились аспекты изучения романа. Правда, подавляющее число
работ носит не проблемный, а тематически замкнутый характер. Это чаще всего формальный анализ отдельных романов.
До сих пор не утрачен интерес к вопросу генезиса романа, ведутся работы по исследованию его структуры, языка и стиля.
Уделяется должное внимание реконструкции и толкованию
недавно найденных папирусных фрагментов, и на материале
находок вновь поднимаются вопросы хронологии, по-новому
оцениваются, казалось бы, уже установленные факты. Филологический метод исследования незаменим при анализе литературных текстов, и выводы, исходящие из рассмотрения конкретного материала, представляют для нас большую научную
ценность. Анализ и сопоставление текстов, установление связей и различий между ними приводят к важным результатам
в разрешении ряда проблем. Среди исследований такого порядка
есть значительные и интересные работы, дающие пенные фактические сведения о романах, изменившие прежние, устаревшие
взгляды на него (например, работы Меркельбаха об источниках
«Романа об Александре», Ружены Еништовой о романе
о Нине, Т. Сепеши о романе Гелиодора). Привлекает внимание исследователей и чисто текстологическая работа: издания,
комментирование, критика текста и т. д. Многочисленные
мелкие статьи в периодической печати касаются самых различных вопросов, имеющих лишь частное значение.
Большие трудности в изучении проблем романа вызываются
малым количеством сохранившихся образцов этого рода, что,
естественно, не позволяет дать вполне убедительных решений
ряда вопросов. К тому же, об авторах романов в лучшем случае мало что известно, а в худшем — авторство или сомнительно (Псевдо-Каллисфен), или совсем не установлено
(«Роман о Нине», «История Аполлония, царя Тирского»).
Трудно судить о композиции и стилистических средствах романа как литературного жанра в целом, когда текст его сохранился неполностью или, еще хуже, — в поздних переложениях
и переводах (Псевдо-Каллисфен, Антоний Диоген, Ямвлих,
«История Аполлония, царя Тирского»). Поэтому нередко за
неимением конкретных и достоверных материалов исследователи пускаются в субъективные рассуждения, сомнительные
сопоставления, высказывают мало убедительные домыслы.
Скудость источников, конечно, не может служить оправданием
и той категоричности суждений, которая порой встречается
в работах зарубежных исследователей, стремящихся доказать
3 6 6
свою точку зрения в достаточной мере произвольной интерпретацией романов (см. ниже о работе Меркельбаха «Роман и
мистерия»).
Нашей критикой неоднократно отмечался один из главных
недостатков зарубежного литературоведения: недооценка значения конкретных социальных факторов в развитии литературного процесса. Эта тенденция к преуменьшению роли социально-исторического элемента характерна и для буржуазной
научной литературы о романе. Но здесь, по-видимому, следует учитывать то, что социально-историческая обстановка романов очень мало известна. Поэтому закономерно исследователи чаще всего идут от литературно-художественного анализа
самих романов, литературных традиций романа к выяснению
«его социально-исторического облика, а значит и подробностей
социально-исторического облика его эпохи. И упрекать их мы,
очевидно, должны не за этот путь, а за односторонность и
тенденциозность анализа. Тенденциозность и предвзятость
свойственна ряду работ современных зарубежных исследователей.
По-видимому, не случайна ориентация внимания на те стороны романа, которые связаны с религией и мистикой. В трактовке проблем греческого романа в некоторых работах зарубежных ученых порой заметна модернизация. Стоит ли повторять, что подобный метод восприятия литературных явлений
древности порочен и неприемлем? Авторы работ такого рода
пытаются доказать мнимыми аналогиями , и ассоциациями
•общность проблем античного и современного романов и делают это иной раз с явно реакционных позиций, проповедуя
идею «национального патриотизма», идею возвеличивания Запада перед Востоком и т. д. Модернизаторским построением
отличается, например, статья Хэйт (о сходстве античных и современных романов, которой мы коснемся ниже), может
быть, и не случайно напечатанная в американском журнале
«Classical Journal».
Изучение проблем, связанных с романом в зарубежном литературоведении последних лет, получило, примерно, следующие тематические направления: 1) текстологическая работа
(изучение рукописных традиций, публикация и реконструкция
текстов, их комментирование, вопросы хронологии); 2) литературный анализ романов, интерпретация творчества романистов, художественного мастерства; 3) рассмотрение общих вопросов возникновения, развития и содержания романа как
определенного литературного жанра. Не придерживаясь последовательности этих пунктов, намеченных здесь в соответствии
с количеством работ, имеющихся по каждому из них, остановимся прежде всего на последнем, самом малочисленном, но
367-
и наиболее важном. Разумеется, сразу придется оговориться,,
что ни о каком строгом распределении работ по пунктам не может быть и речи, ввиду вполне естественной, например, в работах общего характера, тематической многогранности.
Проблема возникновения и развития греческого романа многообразна и сложна по своим аспектам: сюда относятся и
внутрилитературные, и социальные, и национальные истоки
романа. Ввиду крайней недостаточности сохранившихся образцов жанра, неясности их хронологии, эта проблема до сих
пор остается открытой. Исследования вопроса генезиса романа
продолжаются. Поэтому всякие попытки зарубежных исследователей в этом направлении, даже вне зависимости от конечных результатов, представляются заслуживающими особенно
внимательного рассмотрения. К сожалению, попыток таких немного.
В вышедшей в 1951 г. книге итальянского ученого Б. Лаваньини 1 , в которой перепечатаны старые его работы о романе, есть и статья «О происхождении греческого романа»
(«Origini del roinanzo greco»), впервые опубликованная еще
в 1921 г. Другие статьи, меньшего объема, касаются частных
вопросов, — об Апулее, о родине Ксенофонта Эфесского; несколько статей перепечатано из итальянской энциклопедии.
Во вновь написанных примечаниях, по-видимому, учтены все
имеющиеся новые материалы по роману, как текстуальные,
так и критические. В них, например, содержатся: критическая
библиография греческого романа, сообщение о поправке к датировке романа Ахилла Татия второй половиной II в. н. э.,
внесенной учеными Вольяно и Шубертом на основании палеографических данных новых папирусных отрывков, а также
дискуссия с А. Колонной о датировке Гелиодора IV в. н. э.
вместо III, наконец, замечания к трем папирусным отрывкам:
из романа о Каллигоне, из романа Антония Диогена, из романа о Нине. Хотя книга и не содержит систематического
изучения проблем греческого романа, все же в ее предисловии
автор излагает свою теорию происхождения романа, резюмируя мысли, близкие теперь и другим исследователям этого
вопроса, в частности Джангранде, о том, что роман тесно связан с переработкой местных легенд, в рамках, предложенных
историографией. В свое время мысли эти были новшеством и
представляли основательную реакцию против основного тезиса
Роде.
1
В. L a v a g n i n i . Studi sul romanzo greco. Pisa, 1951. К сожалению,
книга известна нам лишь по рецензиям и по выдержкам, приведенным в книге Джангранде (см. ниже). См., напр., рец.: B r e l i c h . —
Gn. 24, 1952, p. 163; H o m b e r t . — СЕ, 53, 1952, p. 303—304; C h a n t r a i n е. — RPh. 27, 1953, p. 231 и в других журналах.
368-
Лаваньини первый вывел роман из местной легенды и историографии и отнес его возникновение к эллинистическому времени между III и I в. до н. э. Жизнь греческому роману, по
Лаваньини, дали: миф, который постепенно лишался религиозного характера, и народные местные новеллы, большей частью
эротического содержания, соединенные с местными культами
и традициями. Содержание этих мифов и легенд было заново
пересмотрено: мотивы героики и религии в них были заменены
новыми мотивами, отвечавшими вкусам «среднего» читателя
эллинистической эпохи с его пристрастием к развлекательной
литературе. Протагонисты «местной легенды» были гуманизированы народной традицией и гуманизированная стадия легенды стала объектом александрийских элегиков (стр. 24,
примеч. 4). Но рядом с ученой поэтической обработкой, непонятной и неприемлемой для широкой публики, эти легенды
были обработаны и для нее в прозаической, менее претенциозной форме и под влиянием местпой историографии. Таким образом, местные легенды и мифы должны были иметь двойную
переработку: в эллинистической поэзии и местной историографии (стр. 25). Лаваньини тщательно изучает эти легенды в разных областях эллинистического мира, показывая на конкретных примерах ранних романов (о царе Нине, о Хионе, о Парфеноне), как перерабатывается в них то или иное место
из легенды. Впрочем, по утверждению рецензентов 2 , Лаваньини
не смог ясно показать, что переработка местных мотивов в романах прямо связана с местной традицией и не проходит через
александрийскую элегию.
Для возникновения романа, по мнению итальянского ученого, нужно было, чтобы эротический элемент приобрел решающее значение. Он правильно подчеркивает первостепенную роль любовного элемента в романе и подчиненное значение других элементов, призванных разнообразить содержание
романа. В то же время Лаваньини указывает на внутреннюю
связь между двумя этими элементами: любая любовная история в порядке продолжения и развития нуждается в элементах разлуки, странствиях и воссоединении, без которых не было
бы канвы романа. Прямым предшественником романа Лаваньини называет элегию Каллимаха об Аконтии и Кидиппе.
Ссылаясь на коллекцию Парфения, Лаваньини показывает,
что любовные истории пользовались успехом у александрийских поэтов как тема для их элегий, содержащих «элемент
путешествий» (стр. 42). В порядке перехода александрийской
2
См., напр., рецензию Пизани (Р i s a n i. — «Paideia, 6, 1951. p. 263—
264). Противоречия в теории Лаваньини раскрывает и Джангранде
(см. ниже).
369-
эротики в прозу Лаваньини, исключив момент вторжения извне «фабулы путешествий» в эллинистическую поэзию (тезис
Роде), принимает как постулат вторжение «местных легенд»,
формирующих, по его мнению, основной зародыш романа.
Условиями, предопределившими появление романа, Лаваньини прежде всего считает «духовное» состояние греческого общества, а именно упадок гражданского духа в эллинистическое время, и развитие духа индивидуализма, когда
любовная тема приобретает самостоятельный человеческий интерес. К этому присоединяется также тяга широких масс к образованию, характерная для этого времени всеобщего распространения культуры. В заключение он называет греческий роман
историческим, эпизоды которого проецированы в прошлое и
совсем не отражают современную действительность. В этом
суждении о смещении интересов, приписываемых Лаваньини
эволюции греческого духа, ощущается идеалистическое понимание литературного процесса, зависящего, по убеждению Лаваньини, лишь от состояния греческого «духа». Когда эволюция этого «духа» достигла известной стадии, произошло смещение интересов, и древние эротические эпизоды получили
самостоятельную обработку «вместо того, чтобы быть развлекательным отступлением в монотонном течении рассказа» —
греческий роман был рожден (стр. 25). Как видим, объяснение
это слишком абстрактно, литературные явления никак не связываются с эволюцией социального строя и социальных отношений. Все же надо отдать должное интересной попытке Лаваньини показать народное происхождение нового литературного жанра — романа.
В связи с исследованием Б. Лаваньини следует рассмотреть
работу Д. Джангранде «О происхождении греческого романа:
рождение литературной формы», опубликованную в 1962 г.
в шведском журнале «Eranos» 3 . Эта работа представляет несомненный интерес уже и тем, что она, пересматривая и критически переоценивая основную аргументацию
Э. Роде,
Е. Шварца и Б. Лаваньини по вопросу генезиса романа, предлагает свой новый вариант подхода к решению этого сложного
вопроса. Правда, по признанию самого автора, он лишь на ступеньку продвигает вопрос по сравнению с его предшественниками, и нам даже кажется, во многом его аргументация сближается с доводами Роде. Все же всякая новая постановка
вопроса, которая может способствовать его решению, заслуживет внимательного рассмотрения.
Автор с самого начала принимает позицию защиты правомерности одной из частей построения Роде, а именно его
3
G. G i a n g r a n d e . On the origins of the greek Romance: the birth
of a literary form — «Eranos», 60, 1962, p. 132—159.
370-
тезиса о тесном родстве в стиле и мотивах между александрийской элегией и романом, тезиса, выдержавшего натиск папирусных открытий, в то время как его другой тезис о происхождении романа из декламаций второй софистики отвергнут
этими находками. Рассматривая теории Е. Шварца 4 , Б. Лаваньини 5 , вдохновленные Роде, автор замечает, что Шварц
лишь заменил в своей теории один из двух ингредиентов романа, выдвинутых Роде, — «литературу путешествий» — новым: «эллинистической историографией», оставив другой
(«александрийскую эротическую поэзию») без изменения, вернее низведя его до дополнительного элемента. Таким образом,
Шварц первоначальное зерно романа искал в историографии,
считая, что роман образовался из «разложения эллинистической эротики и историографии» 6 . Д. Джангранде находит несостоятельным это новое допущение Шварца о возможности
перерождения историографии в роман, так как это перерождение, хотя оно и происходило, но оперировало с традиционными составными частями исторического рассказа (о войне и
путешествиях), расширяя их, и не только не вводило нового
элемента, эротического, основного в романе, а, напротив, заглушало какие бы то ни было ростки его, которые были
в историческом рассказе (так это случилось с «Романом об
Александре», наиболее выдающимся продуктом «разложившейся историографии»). Одно это неизбежное возражение опровергает реконструкцию Шварца. Джангранде также считает
неудачной гипотезу о прямом развитии романа из отступлений
эротического содержания в сочинениях александрийских историков. Для этого они слишком коротки и представляли далеко
не первостепенный интерес, а были всего лишь экскурсами,
из которых развитие в независимый новый жанр непонятно.
Что касается исторического фона в романах, Джангранде склонен выводить его скорее из александрийской элегии. В подтверждение он приводит гипотезу Бутмана (доказанную литературным анализом Дильтея 7 , чей документальный аппарат
был еще более увеличен Роде) о происхождении романа из
местных любовных историй, вроде истории об Аконтии и Кидиппе, переработанных александрийскими элегистами. Чтобы
объяснить вытекающий отсюда вопрос, как же произошла эта
трансформация в прозу александрийской эротической поэзии
(элегии, эпиллия, буколики), формировавшей роман, Джангранде, отвергая натянутые объяснения Роде и Шварца, прибе4
Е . S c h w a r t z . Fiinf Vortrage iiber den griechischen Roman. Berlin,
1943.
6
B. L a v a g n i n i . Указ. соч.
6
E . S c h w a r t z . Указ. соч., стр. 155.
7
G. D i 11 h e у. De Callimachi Cydippa. Leipzig, 1863.
371-
гает к теории Лаваньини (см. выше). Он полагает, что
последний правильно подчеркивает преобладание любовного
элемента в романе над другими, имеющими подчиненное значение технического средства усиления разнообразия и внешнего
интереса. Лейтмотив романа — история влюбленных — разбавляется и расширяется средствами авантюрных разрастаний.
В 'то же время указание Лаваньини на изначальную тесную
связь двух мотивов (любовного и мотива путешествий) делает
гипотезу Роде излишней: заимствовать откуда-либо извне элементы путешествия и добавлять их к александрийской эротической поэзди не было необходимым.
Отступает от теории Лаваньини Джангранде в другом вопросе. Касаясь тезиса о двойной переработке легенд, он не без
основания замечает, что новый род переработки per uso del
popolo лишен ясного смысла. Соглашаясь с Лаваньини в том,
что любовные эпизоды из местных легенд получали самостоятельный интерес в руках александрийских поэтов, он считает
необоснованным тезис Лаваньини о параллельном процессе
«в форме местной историографии».
Джангранде подчеркивает противоречия в теории Лаваньини:
предполагаемая им тенденция к популяризации местной легенды не согласуется с тенденцией стилистической изощренности и претенциозности. При допущении параллельности
«двойной переработки» местной легенды остается необъяснимой стилистическая связь между александрийской эротикой и
романом. Эта формальная аналогия вносит поправку в допущение Лаваньини, указывая скорее на происхождение романа
из элегии, но не на параллельное их развитие из местной легенды. Тем самым снимается необходимость допуокать какойлибо другой ингредиент, кроме александрийской элегии, для
объяснения происхождения романа. Конкретными примерами
из epojxiza тгаОтцхата Парфения автор разбираемой статьи подтверждает очевидность стилистической согласованности между
элегией и романом и устанавливает, что многие черты и элементы содержания, которые имеются в романах в качестве
фона к любовной истории, находятся также в элегии без заимствования их где бы то ни было в другом месте.
Оценивая результат своего критического анализа теорий
Шварца и Лаваньини как негативный, Джангранде тем не
менее не пренебрегает попыткой объяснить переход от элегической поэзии к прозаическому роману. На основании накопленного материала он предлагает свое решение проблемы.
Он напоминает о существовании школьных прозаических парафраз, которые мыслились как чисто литературное упражнение, преследующее цель совершенствования стиля, тех парафраз, которые Квинтилиану представлялись не просто как
372-
interpretatio, но скорее как aemulatio (Inst, orat., X, 5, 5).
Риторическая практика прозаических переложений и вариантов, вышедшая из экзегезы и являющаяся наиболее важной
частью литературного образования, упрочилась раньше I в. н. э.
Использовалась риторами и эротическая поэзия для их дидактических целей (см., например, папирусный фрагмент александрийского эпиллия о Геро и Леандре) 8. Отсюда Джангранде делает заключение о возможности происхождения
романа из прозаических парафраз александрийских любовных
элегий и эпиллия, которые риторы составляли как образец
для своих учеников. При этом, добавляет он, только такие
прозаические композиции должны были приобрести популярность вне школьных кругов, среди широкой публики, которые
перелагали в прозу александрийскую элегию (типа элегии
об Аконтии и Кидиппе), рассказывающую о счастливом окончании истории любви молодых людей (в противоположность
историям Парфения с их трагическим концом и полумифологическими персонажами).
Таким образом, Джангранде считает более приемлемым
объяснять происхождение романа не параллельным независимым развитием александрийской любовной элегии и романа
из местных легенд (по Лаваньини), но развитием, обусловленным постепенным процессом ответвления романа от элегии посредством прозаического парафраза. Это решение, по
его мнению, удовлетворяет двум необходимым условиям:
объясняет популярный характер романа, и стилистическое
сходство его с александрийской элегией (что подкрепляется
папирологическими
свидетельствами,
утверждающими
популярность риторического парафраза), избавляет роман от бесплодных объятий второй софистики и заполняет пробел,
оставленный Роде: каким образом склонность декламаторов
к эротическим темам могла развиться в жанр романа,
проявляющего стилистические особенности александрийской
элегии.
Следует отметить, как несомненные достоинства Джангранде, его критический подход к сложившимся представлениям о возникновении жанровой формы романа и выдвижение
своей гипотезы. Его исследование, написанное в плане научной полемики, вносит убедительные коррективы в теорию
генезиса романа. Однако, ограниченное исключительно вопросами формы, оно в своей тематической замкнутости не дает
8
См, № 1411 в коллекции парафраз: R. A. P a c k . The greek and latin literary texts from greco-roman Egypt. Univ. of Michigan Press
Ann. Arbor, 1952. Автор статьи допускает, что этот фрагмент мог
быть источником поэмы Мусея, или же оба они имели какой-то
другой, потерянный, источник.
373-
представления о жанре романа как литературном явлении общественного порядка, никак не раскрывает его содержание.
За последние годы в зарубежном литературоведении появилось считанное число работ по роману более или менее обобщающего характера. Продолжающиеся публикации найденных папирусов каждый раз обязывают ученых пересматривать
и порой отклонять то, что, казалось бы, уже утверждено, и
проблематика романов оказывается, таким образом, всегда
в стадии нерешенности. Может быть, именно поэтому здравый смысл удерживает исследователей от написания систематического курса по античному роману до тех пор, пока накопление фактического материала не позволит сделать обобщающие выводы о зарождении и развитии этого жанра. Попытки
написать нечто похожее на очерк по истории романа не увенчиваются успехом.
Среди нескольких работ, рассматривающих роман в целом,
можно указать, например, на книгу крупного ученого
Р. Гельма «Античный роман» 9, претендующую, по-видимому,
на всестороннее и систематическое освещение проблем античного романа. В начале книги сделана попытка наметить исторический фон для исследования, подойти к вопросу генезиса
романа. Но положения Р. Гельма, сформулированные слишком кратко, не вносят ничего нового в разрешение этого вопроса. В какой-то мере нова классификация романов по темам
(роман исторический, мифологический, любовный и др.),
которая представляется удачной с точки зрения удобства
ознакомления читателя с материалом, хотя, к сожалению, не
раскрывает внутреннего смысла романов. Сжатое обозрение
содержания каждого из романов сопровождается спорадическими замечаниями о его стиле и влиянии на позднюю литературу, попутно отмечаются мотивы сходства романов разных
категорий и выделяются их особенности. Все это верно, но не
развивает темы о романе как о жанре и не содержит собственных изысканий. Мало внимания уделено идеологическому
и художественному анализу романов, а некоторые эстетические оценки автора, чисто субъективного характера, вызывают
недоумение (например, обесценивание им романа Лонга).
Ряд возражений можно предъявить Гельму в отношении
датировок некоторых авторов романов, в частности Гелиодора,
которого он относит к IV в. н. э. Прп определении хронологии
Ахилла Татия следовало бы теперь ориентироваться на новое
9
R. H e l m . Der antike Roman. Berlin, 1948; 2 Aufl. Gottingen, 1956.
Подробнее об этой работе см.: «Вопросы античной литературы в зарубежном литературоведении». М., 1956, стр. 79—81.
374-
его издание, вышедшее в Стокгольме в 1955 г. под редакцией
Е. Вильборг (см. ниже). Автор не успел учесть также новые хронологические определения «Романа об Александре»,
данные в книге Р. Меркельбаха, опубликованной в 1954 г.
(см. йиже). Снижает достоинства книги и отсутствие в ней
критического подхода к научной литературе вопроса. В заключительной части книги сделана попытка наметить линию исторического развития античного романа, но сделано это
в столь схематичном виде, что проблема по-прежнему
остается открытой для дальнейшего, более углубленного ее
изучения.
В какой-то мере носят суммарный характер разделы о романах в курсах по истории греческой литературы, вышедшие
в последнее десятилетие. Можно указать, например, разделы
о романе в «Истории греческой литературы» австрийского
ученого А. Лески 10 и польского ученого Т. Синко 11 , содержащие ряд интересных высказываний, в частности и о происхождении романа. Лески признает важнейшими компонентами романа эпос и эллинистическую историографию, отдавая в то же время должное важной роли эллинистической
эротики, драмы и новой комедии, религиозных культов. Синко
развивает и обновляет старую концепцию А. Вилльмена 12 .
Кроме исторических школьных рассказов, он рассматривает
как главный источник романа риторические прогимнасматы,
отождествляемые им с пересказом сюжетов комедий (narratio
in personis posita). Первый элемент создавал исторический
или псевдоисторический фон любовному роману, второй —
образовывал его основную сюжетную структуру. Эти два элемента тем не менее не объясняют loci communes романа и традиционного круга характеров; с другой стороны, гипотеза намекает на связь между романом и фольклорной нарративной
традицией и намечает новую линию в приближении
к проблеме.
Из работ, посвященных роману вообще, и в частности
любовному роману, следует назвать послесловие Вейнрейха
к переводу «Эфиопики» Гелиодора, выполненному Реймером
в 1950 г. 1 3 Хотя автор и не касается общих проблем греческого романа, в его статье есть ряд заслуживающих внимания
высказываний. Статья начинается с вопроса терминологиче10
11
12
13
A. L е s к у. Geschichte der griechischen Literatur. Bern-Miinchen, 1963,
S. 913—927.
T. S i n ко. Literatura grecka. Krakow, 1948, t. 2 (cz. 2), str. 136—164.
A. V i 11 e m a i n. Essai sur les romans-grecs. Paris, 1837.
H e l i o d o r . Aithiopika. Ubers. v. R. Reymer. Nachwort v. 0. Weinreich. Der griechische Liebesroman. Zurich. 1950; в 1962 г. в Цюрихе
вышло отдельное издание статьи.
375-
ского порядка. Высказываются соображения относительно
правильности применения к романам Гелиодора и Лонга
наименования «роман» или «новелла». Вейнрейх считает греческий роман родственным роману барокко и не допускает
мысли о каком бы то ни было «психологическом» греческом
романе. Он также против названия этих сочинений новеллами,
справедливо полагая, что оба жанра имеют свои собственные
особенности и законы и выводить роман из новеллы нельзя.
На пути правильного понимания вопроса возникновения романа, по мнению Вейнрейха, стоят ошибочно принятые хронологические определения появления каждого из романов и их
соотносительной последовательности. Поэтому он и задается
й;блью осветить лишь эти два вопроса. Внося поправки в хронологические определения Роде и других исследователей часто
предположительные и основанные лишь на умозаключениях,
Вейнрейх предлагает новую датировку греческих любовных
романов и устанавливает их временное соотношение, учитывая особенности письма папирусных находок 14. Он дает краткий обзор содержания этих фрагментов и их соотносительную
с романами хронологию, начиная с фрагментов романа о Нине
и до фрагментов романа о Сезонхосисе.
Из сохранившихся романов: Харитона, например, Вейнрейх относит к I в. н. э., Ксенофонта Эфесского датирует
временем после 100 г. н. э., Ахилла Татия, по Альтхейму,
172 — 194 г. н. э., Лонга II в. н. э., Гелиодора 250 г. и. э.
Вместе с фрагментами весь период обращения романов
устанавливается со II в. до н. э. по III в. н. э. Этим самым
снимается роль второй софистики в образовании романа.
Вейнрейх считает греческий любовный роман гибридным продуктом, смесью состарившегося эпоса с прихотливой и полуромантической эллинистической историографией, замечая,
что даже названия романов («Эфиопика», «Эфесиака», «Вавилоника») подтверждают происхождение его из истории. Как
видим, во взглядах на происхождение романа Вейнрейх близок
к теориям Шварца, Людвиковского, Лески. Следующий затем
анализ «Эфиопики» и раздел о влиянии Гелиодора на последующую литературу обстоятельны и интересны.
Находки и публикации папирусных фрагментов расширили
область исследования романа не только уточнением вопросов
хронологического порядка и вопросов возникновения жанра,
но и корректированием и интерпретацией текстов романов,
установлением их источников. Пристального внимания, например, заслуживает исследование немецкого ученого Р. Мер14
F. Z i m m е г m a n п. Griechisehe Roman-Papyri und verwandte Texte.
Heidelberg, 1936.
376-
кельбаха об источниках Псевдо-Каллисфена 15, в котором он
путем филологического анализа текстов новых папирусных
фрагментов пришел к ряду выводов, проливающих новый свет
на источники «Романа об Александре». Привлечение нового
материала позволило ученому установить разнообразные литературные и исторические источники романа, уточнить традиции преданий, определить время возникновения романа. «Источники греческого романа об Александре» Р. Меркельбаха —
капитальный, научно аргументированный труд, получивший
всеобщее признание и одобрение рецензентов 16 . Меркельбах
рассматривает вопрос о Псевдо-Каллисфене в более широком
плане, чем обозначено в заглавии его книги. Побудительным
мотивом к исследованию послужили два найденных папирусных фрагмента (Флорентийский и Гамбургский), содержащих
тексты 9 писем из «Романа об Александре». В свете новых панирусных материалов Меркельбах пересматривает вопрос об
источниках романа Псевдо-Каллисфена. Он предполагает, что
они являются частью эпистолярного романа об Александре, составленного из псевдоисторических писем и аналогичных документов. Автор романа об Александре заимствовал из этого романа отдельные письма, расположив их в иной, чаще в неправильной, последовательности. Меркельбах заключает, что
эпистолярный роман был более обширным, чем роман об Александре Псевдо-Каллисфена, и существовал до него в I в.
до н. э. Другим главным источником Меркельбах называет
романтизированную историографию Александра, начавшуюся
с Клитарха. Историческое правдоподобие этих источников часто
приносилось в жертву стремлению автора романа воздействовать на эмоции читателя. Поэтому некоторые факты приукрашивались, получали тенденциозное освещение.
Меркельбах подчеркивает это переплетение в романе литературных и исторических источников. В этом новом утверждении главный интерес и значение его работы.
К другим составным элементам романа относятся тератологические письма Александра к Аристотелю и Олимпиаде и
два эллинистических самостоятельных сочинения «Беседа Александра с гимнософистами» и «Последние дни Александра».
К этим источникам, как указывает Меркельбах, автор романа
присоединил местную легенду о Нектанебе и добавил ряд
выдуманных эпизодов о посещении переодетым Александром
15
16
R. M e r k e l b a c h . Die Quellen des griechischen Alexanderromans.
Miinchen, 1954.
См. рецензии: L. P e a r s o n . — CIR, 6, 1956, p. 51—52; D. E. H a yn e s . — JHS, 77, 1957, p. 366—367; С. H. B e c k . — Mn, 10, 1957,
p. 264; J. M a r o u z e a u . REL. 35, 1957, p. 353; H. D б г г i e, — Gn. 27,
1955, p. 581—586 и др.
25
Античный роман
3 7 7
лагеря Дария и дворца эфиопской царицы. Интересна попытка
Меркельбаха путем анализа текста восстановить творческое
лицо автора романа, которого он считает александрийцем,
жившим в III в. н. э., и, судя по его произвольному обращению с источниками, игнорированию исторической и географической достоверностью, пренебрежению хронологией и простой
логикой, человеком необразованным и лишенным вкуса.
За основным изложением текста следует детальный анализ
самого текста и серия экскурсов по частным вопросам, характеризуются рецензии романа и в конце дается резюмирующая
схема их соотносительной зависимости, наглядно иллюстрирующая результаты работы Р. Меркельбаха над текстами. В приложении опубликован текст эпистолярного романа, реконструированного по Псевдо-Каллисфену и папирусам, вместе с параллельным текстом «Завещания Александра» из «Романа об
Александре». Разумеется, реконструкция Р. Меркельбаха по
характеру самого материала может оставаться лишь гипотетической. Тем не менее труд этого ученого представляет научную ценность, он ставит изучение «Романа об Александре» на
новое основание, открывая исследователям его предысторию.
Заслуживает одобрения и уважения филологический метод
Меркельбаха, столь необходимый в работе источниковедческого характера. Свои выводы он подкрепляет анализом текста
романа, соотнося каждый из его эпизодов с названными источниками. Может быть, следовало бы только упрекнуть автора
в некоторой категоричности утверждений (в частности, в вопросах хронологии, рукописных традиций), а также в предвзятости относительно оценки творческого метода Псевдо-Каллисфена.
Из других значительных исследований, связанных со свежими публикациями папирусных отрывков, следует отметить
статью о фрагментах романа о Нине чешской исследовательницы Ружены Еништовой 17, пополнившую наши представления об этом далеко еще не достаточно изученном, самом раннем из известных, греческом романе. Не будет преувеличением
сказать, что ее работа обогащает науку не только новыми фактами, но и новыми точками зрения. К двум раннее найденным
и опубликованным фрагментам романа (А и В) теперь прибавился третий (С), опубликованный в 1945 г. во Флоренции
(PSI, XIII, 1, № 1305).
Еништова приводит в своей статье тексты всех трех отрывков
и их перевод на чешский язык. Методом лексического сопоставления она доказывает очевидность принадлежности нового
17
R. J e n i s t o v a . Nejstarsi roman эуё^уё literatury. — «Listy Filologicke», Praha, t. I, 76, 1953, S. 30-54, 210—228.
378-
фрагмента данному роману. Тщательное изучение языка и
стиля фрагментов дало возможность Еништовой высказать ряд
интересных соображений о месте и времени возникновения
романа, о порядке следования фрагментов, об объеме романа
и его содержании. Занимаясь восстановлением содержания
испорченной колонки В I и всего романа, она пришла к выводу
о том, что роман о Нине не отклонялся от обычной схемы греческого романа и не отличался сжатостью. Местом возникновения романа называется Сирия эпохи Селевкидов, временем
возникновения I в. до н. э.
На основании изучения текстов чешская исследовательница
высказывает предположение об ином, чем было установлено
ее предшественниками (Вилькеиом и Циммерманом), порядке
следования фрагмептов, т. е. В А С, а не А В С. После краткого
критического рассмотрения теории генезиса романа Шварца,
Людвиковского, Брауна, Лаваньини и Керени Еништова высказывает свое мнение по этому вопросу и стоит здесь на правильном пути, оценивая роман как сложный комплекс, сложившийся из многих элементов под воздействием определенных
условий действительной жизни. Сравнивая роман о Нине
с «Киропедией» Ксенофонта Афинского и романом об Александре Псевдо-Каллисфена, Еништова приходит к заключению, что греческий роман развивался из так называемых ргаxeis, придерживался правил эллинистической историографии,
воспринимая мотивы из упражнений риторов, из комедии, и,
конечно, из самой жизни.
Вызывает сомнение желание автора поставить роман об Александре вне линии развития греческого романа, причислив его,
по примеру Керени, к ареталогической литературе из-за отсутствия в нем эротического элемента, необходимого роману.
Но роман этот сыграл определенную роль в становлении будущего исторического романа и в нем, конечно, уже наметились
отдельные признаки этого жанра. Любовный же элемент получил развитие лишь в последующих романах, тоже связанных
с исторической темой, и прежде всего в романе о Нине и у Харитона. Зато несомненно верен тезис о соотнесенности греческого романа с действительностью. Приходится, к сожалению,
констатировать, что работ, пытающихся рассматривать роман
в плане социальной проблематики, в современном зарубежном
литературоведении почти нет, и всякие высказывания в этом
направлении заслуживают внимания.
Можно, например, назвать работу немецкого
ученого
Ф. Альтхейма «Роман и упадок» 18, в которой автор не ограни18
F. А 1 tli о i m. Roman und Dekadenz. — В кн.: «Literatur und Gesellscliaft im ausgehenden Altertum». I Ilalle, 1948, S. 13—47.
2 5 *
3 7 9
чивается сферой чисто филологического рассмотрения романа,
но пытается анализировать его в более широком историко-культурном плане, применяя метод сопоставления явлений античности с современностью. Привлекает внимание социологический подход ученого к сущности жанра греческого романа, который, как он отмечает, был в определенное время (на рубеже
II —III вв. н. э.) литературной и общественной силой. Ф. Альтхейм ставит проблему: какова была духовная необходимость
в распространении этого жанра в эпоху поздней античности,
а также и в настоящее время, и пробует ответить на нее. Отмечая, что в том и другом случае появление романа совпадает
с дезинтеграцией существующих форм цивилизации, с порчей
существующих обычаев и порядков и что романы являлись
выражением этой повой ступени общественного развития, он
п&тается отыскать причины такого совпадения во внутренних
особенностях романа как литературного жанра. Несмотря на
то, что роман, как античный, так и современный, говорит он,
появился в период общего упадка и был выражением разложения, он привлекал читателей, предлагая им другой, иллюзорный
мир. И в этом секрет его успеха среди массовой аудитории, на
которую он и был рассчитан. Роман призван уводить читателя
от тяжелой действительности, угнетающей человека, в далекий
и лучший мир вымысла и мечты.
Альтхейм подчеркивает, что античный роман обладал еще
и обязательным «счастливым концом» и потому опасности,
о которых в нем рассказывалось, не волновали читателя. Основной функции романа служили и другие его особенности: открытая восприятию различных аспектов действительности форма,
любовный сюжет, экзотический фон, отдаленность описываемых времен. В качестве наиболее яркого примера этого жанра
Альтхейм приводит ромаи Ямвлиха «Вавилоника», в котором
события бьют ключом, повествование идет в нескольких перекрещивающихся планах, древность сочетается с современностью.
Нетрудно увидеть в высказываниях Альтхейма приметы философско-эстетического декаданса в духе идеалистической тенденции, рассматривания искусства лишь как средства бегства от
действительности в фиктивный, экзотический мир вымысла.
Антиисторично и проводимое Альтхеймом непосредственное
сопоставление античного романа с современным, свидетельствующее о субъективно-идеалистическом понимании им явлений
общественной жизни, о непризнании закономерностей исторического прогресса и художественного развития человечества.
Идеалистичны суждения
Альтхейма о происхождении и
о форме романа. Подвергая сомнению точку зрения Роде на
внешнюю форму романа, Альтхейм высказывает сомнение
380-
о возможности влияния такой формы на позднюю античность,
Византию, Восток и европейское барокко. Он считает, что
форма романа отвечает психологическому складу жизнерадостного обитателя Средиземноморья. Места действий не безразличны их автору, но отвечают их душевному состоянию. Например, у Гелиодора: Греция — страна юности героев, их первой
встречи, Египет — место странствий, приключений, испытаний;
успокоение же и родину герои обретают в любимой богами
Эфиопии. Душевные переживания, с одной стороны, путешествия и приключения — с другой, являются, по Альтхейму, развитием одной и той же идеи: «Роман — это путешествие в тайные области души или в далекие экзотические страны» 19.
В вопросе происхождения романа Альтхейм поддерживает
проникнутую идеализмом гипотезу К. Керени (см. указ. соч.)
о возникновении греческого романа из религиозных восточных
мифов, хотя, вопреки мнению венгерского ученого, справедливо
считает, что роман не связан с религиозными мистериями и не
преследует миссионерских целей.
В этой же работе Альтхейм предлагает свою схему общей
хронологической последовательности греческих романов и фрагментов из романов, а в III главе указанной выше книги («Литература и общество на исходе древности») полемизирует по
частным вопросам датировки романов Гелиодора и Ахилла Татия с другими исследователями. Временем создания «Эфиопики» он считает на основании ряда доводов промежуток между
233 и 250 гг. и. э. (стр. 113), время написания «Левкиппы и
Клитофонта» относит, ссылаясь на новый папирусный фрагмент
(Охуг. Рар., № 1250), к концу II в. н. э. (стр. 121).
Работа Ф. Альтхейма — не единственный образец антиисторического сопоставленрш греческих романов с современными.
Методологически к ней примыкает статья Е. Хейт «Древний
греческий роман и современные таинственные истории» 20 ,
построенная на сближениях художественно-технических приемов и тематики этих литературных жанров. Автор статьи настаивает на удивительном сходстве греческих романов с некоторыми сочинениями современных авторов таинственных историй. В тех и других ею отмечается повышенный интерес
к любви, приключениям, религии, указывается сходство сюжетных мотивов: похищений, злоключений, странствий, узнаваний
и т. д., определяется доминирующий мотив: стойко выдержавшая испытания и опасности любовь и верность. Свои наблюдения Е. Хейт иллюстрирует конкретными примерами из рома19
20
F. А 1 1 h е i m. Указ.
соч.,
стр. 30.
Е. Н a i g h t. Ancient greek romances and modern mystery stories. —
CIJ, 46, 1951, p. 5—10, 45.
381-
нов Харитона, Ксенофонта Эфесского, Гелиодора и Лонга, приводя им параллели из сочинений современных шотландских
авторов. В античных и современных сочинениях одинаково
определяется их функция: помочь читателю вырваться из современного общества в тот мир, где любовь верна до самой
смерти и герои добиваются счастья с помощью богов. В романе
Гелиодора, например, Е. Хейт отмечает религиозно-философский колорит: здесь властвует Аполлон-Гелиос и Исида, важную роль играет жрец Исиды (пифагореец). В конце романа
Феаген и Хариклея спасаются от жертвоприношения, коронуются как служители богов, становясь жрецами Солнца и
Луны. Хейт видит поразительное сходство конца этого романа
с концом сочинения Бюхана «The Dancing Flor», где герои
становятся для островитян их богами.
В параллель роману Лонга, который называется автором
статьи фантасмагорией, потому что нереальный мир изображается
в
нем
как
реальный,
приводится сочинение
Энн Бридж «And then you соте». Все это литература, говорит
Хейт, рожденная стремлением вырваться из сложного повседневного окружения и обрести новый мир, по простоте и незатейливости превосходящий современную действительность.
Таким образом, сущность этих сочинений автор статьи, определяет как стремление к бегству от общества, цивилизации.
Хейт всюду подчеркивает этический контраст между греками
и «варварами» в их кодексах чести, нормах гуманности, в их
отношении к религии, отмечает моральное превосходство Запада
над Востоком. Она замечает, что в современной литературе
используется тот же контраст между народами Запада и Востока. Автор говорит о сходстве политических целей древних и
современных писателей, защите ими «национальных интересов», «национального патриотизма». При этом положительными героями оказываются люди белой расы, отрицательными — цветные и коммунисты.
Подобные параллели между современными и античными сочинениями вольно или невольно могут служить неблаговидным
целям оправдания расовой империалистической политики «национальным патриотизмом», идее морального превосходства
белых над цветными, запада над востоком.
Сравнительный анализ Хейт сопровождает кратким обобщением о сходстве целей, тем, настроений античных и современных сочинений, о сходстве их формального искусства. Интересно, что выборка для сравнений сделана из шотландских авторов, которые, как говорит Хейт, чем-то близки ей и кажутся
наполовину греками. Однако привлечение субъективно подобранных аналогий — далеко не лучшее средство доказательства
правомерности обобщений. На основании внешнего сходства
382-
Литературных явлений древности и современности нельзя йдеНтифицировать их, не считаясь с социально-историческими причинами, вызвавшими эти явления, всегда исторически своеобразными как для античности, так и для современности. В подобных сопоставлениях и сближениях отсутствует исторический
подход к литературным явлениям, и, если они даже в чем-то
интересны, то научной ценности филологического исследования
не представляют 21 .
Наряду с модернизаторскими сопоставлениями античного
романа с литературными явлениями современной жизни в зарубежном литературоведении последних лет интенсивно развиваются попытки изучения романа в направлении связи его
с древними религиозными культами, с магическими ритуалами
инициаций. Внимание исследователей привлекает такой аспект
изучения греческого романа как соотношение его содержания
с греко-восточными мистериями. Предпринимаются настойчивые попытки приписать роману религиозно-ритуальное происхождение, обнаружить в нем черты мистерий и истолковать
содержание почти всех известных романов в символическо-религиозном духе. Ревностным представителем этого направления
является Р. Меркельбах, который в своей недавно опубликованной книге «Роман и мистерия в античности» 22 рассматривает
романы как отражение тайных религиозных культов Диониса,
Исиды, Митры. Книга содержит ряд статей о греческих романах. Ведущая мысль, объединяющая статьи в систематическое
изложение, заключается в том, что античный роман имеет мифологические корни и не является любовной историей, но текстами мистерий. Меркельбах, идя по стопам Керени, пытается
показать это путем многочисленных сопоставлений деталей романов с ритуалами инициаций и мифами, к которым относятся
религиозные мистерии. Таким образом, он различает романы
дионисийские (Лонг), митраистические (Ямвлих, Гелиодор),
21
22
Значительно больший интерес представляет книга Е. Хейт «More
essays on the Greek Romances», вышедшая в Ныо-Йорке в 1945 г.,
хотя и в ней проявляются типичные для буржуазного литературоведения недостатки (см. кн. «Вопросы античной литературы в зарубежном литературоведении». М., 1963, стр. 82—86).
R. M e r k e l b a c h . Roman und Mysterium in der Antike. Eine Untersuchung zur antiker Religion. Munc-hen, 1962. С этой книгой мы
имели возможность ознакомиться лишь частично, по отдельным главам: «Daphnis und Chloe». — «Antaios», 1, 1960. S. 47—60; «Eros und
Psyche». — Phil., 102, 1958, S. 103—126. Впрочем, уже эти статьи
вполне раскрывают замысел автора. Составить представление
о книге помог также анализ ее другими авторами: R. Т u r e a п.
Le roman «initiatique». — RHR, 163, 1963, p. 149—199 и R. P e t r i .
Uber den Roman cles Chariton. Meisenheim—Hain, 1963, а также замечания рецензентов в: REA, 64, 1962, p. 483—488; REL, 40, 1962,
p. 271-275; CE, 37, 1962, p. 405-407.
383-
йсические (Апулей, Ксенофонт Эфесский, Ахилл Татий,
«История Аполлония Тирского»), пифагорейские
(Антоний Диоген). Аллегория и символ — вот, по его мнению, суть
всех романов, являющихся литературным опосредствованием
правил культовых инициаций. В каждом из эпизодов романа,
в словах и поступках героев Меркельбах видит исключительно
мистический смысл, намек на определенный ритуал инициаций.
В повторяемости одних и тех же мотивов и ситуаций, рассматриваемых обычно как «общие места» романа, Меркельбах
видит подтверждение своему основному тезису. Традиционные
мотивы мнимой смерти трактуются, например, как мистические
символы жизни за пределами смерти, обеспечиваемой лишь
посвященным (мистам). Купание или предложение кому-то
куска хлеба, испытания героев трактуются им в литургическом
смысле — это ритуальный церемониал омовения, очищающий
кандидата, и культовая трапеза, приобщающая миста к божественным силам; странствия и испытания героев означают, по
Меркельбаху, этапы литургии при посвящениях. В романе
Лонга, который, по определению Меркельбаха, является аллегорией дионисийских мистерий: питание новорожденных козьим
молоком — это подготовка будущего миста к посвящению, купание Дафниса и Хлои в гроте нимф — это обряд мистического
омовения миста, Доркон, преследующий Хлою в шкуре волка, —
это дионисийский маскарад, сцена захвата Дафниса пиратами —
это испытания инициатов, клятва героев в верности любви —
это клятва верности мистов, после сцены узнавания Дафнис
снимает одежду пастуха и надевает новую — это магический
обряд переодевания миста при посвящении, сбрасывающего
старую греховную одежду и т. д. в том же духе. Аналогичные
интерпретации представлены для каждого эпизода буквально
всех романов.
Что касается романа Апулея, его религиозно-мистическая
окраска очевидна и давно отмечена. Апулей был проповедником
религиозного культа Исиды. Все страдания Луция — это очистительная жертва и испытания перед посвящением в таинства
Исиды — Осириса. Но в единстве с этой концепцией романа
Меркельбах истолковывает и вставную сказку об Амуре и Психее, придавая и ей мистически-аллегорический смысл, видя
в н е й не литературный вариант народной сказки или мифа,
символическое изображение обрядов посвящения мистов
а
в Т аинства^ Исиды. Психея — это страдающая Исида, мифическ уЮ судьоу которой переживает мист. Но, если даже странстп' 1Я Психеи и напоминают мифические скитания Исиды, нет
н и ^ а к и х оснований соотносить их с планом исических инициацИ{Ь
сказке заявляет свои права фольклор, скидываемый
]у[е|Жельоахом со сч е х о в > Это мир сказки, не выражающий ни384-
чего специфически исического. Да и не только в романе Апулея, но и в других романах (Ксенофонт Эфесский, «История
Аполлония Тирского») сохраняются следы популярных сказок.
Меркельбах совершенно игнорирует факт генетического участия
народных сказок в образовании нового рода литературы — романа, толкуя элементы сказки лишь как элементы религиозных
культов. Поскольку ритуалы мистерий Исиды, Митры, Гелиоса
малоизвестны, систематическая интерпретация греческих романов как hieros logos произвольна, субъективна и неоправдана.
Неслучайно, тенденция выведения романа из мистерий натолкнулась на категорическую оппозицию ряда исследователей,
показавших в своих статьях полную несостоятельность намеренного приписывания греческому роману мистического смысла.
Вслед за изданием книги Меркельбаха была опубликована
большая статья французского ученого Р. Тюркана, специалиста
по истории религии, посвященная детальному анализу этой
книги 23. Написанная в остро-полемическом плане, эта работа
основательно подрывает, если не сказать разрушает, основную
концепцию Меркельбаха.
Вот к чему кратко сводится заключение Р. Тюркана: Меркельбах необоснованно считает греческие романы транспозицией рассказов об инициации. Он демонстрирует свой тезис,
пытаясь признать в каждом эпизоде романа, в каждом поступке
и словах героев намеки на ритуал мистерий. Рассмотрение романов идет не просто в плане общей религиозной тональности,
но в плане мистической литургии. Роману придается религиозная миссия — ниспослать верующим успокое'ние. Тюркан методично и последовательно, касаясь каждого романа в отдельности, опровергает Меркельбаха. По поводу романа Ахилла
Татия он, например, замечает, что, несмотря на имеющиеся
в нем намеки на орфико-дионисийские мистерии и на то, что
автор романа пропитан символизмом и теософической полиматией, никаких мистических ритуалов в нем нет, как нет и
последовательности этапов посвящения. Меркельбах, по мнению
Тюркана, рискует представить все в ложном свете. Придание
важного значения мелким деталям романа приводит к поверхностным и совершенно неубедительным аналогиям. Несмотря
на ссылки на философский и религиозный оккультизм, нельзя
видеть в этом романе, не имеющем ничего эзотерического, романического развития схемы инициаций. Точно так же нельзя
считать «исическим» роман об Аполлонии Тирском, а роман
23
R. Т u r c а п. Le roman «initiatique»: ё propos d'un livre recent —
RHR, 163, 1963, p. 149—199. Ср. диссертацию P. Петри, не менее
обоснованно отвергающего тезис Меркельбаха на конкретном материале романа Харитона (см. ниже).
385-
Ямвлиха драматизацией культа Митры. Хотя у последнего
есть интерес к магии, мистериям, культовому фольклору, но
экзотика и ориентализация были во вкусе его времени.
В романе есть заимствования из религиозных иранских представлений, но использованы они в целях чисто драматических.
Меркельбах же видит в каждом действии этого романа этап
инициаций культа Митры (испытание огнем, жаждой, голодом).
Однако никакой последовательности этапов инициаций пет и
здесь, как нет и тавроболий и конечного приобщения к культу
Митры. Даже в романе Антония Диогена, в котором ощущаются влияния религии и мистики, детали, претендующие на
намеки инициации, не согласуются с порядком церемоний.
Но разве мог автор, будучи «мистагогом», резонно замечает
Тюркан (стр. 175), драматизировать как попало ритуалы,
на которые он намекает, без соблюдения последовательности
литургии?
Ничто не говорит о мистериях Митры или Гелиоса в романе
Гелиодора, элементам которого Меркельбах придает смысл
предварительных испытаний к финальному посвящению. После
критики концепции романа как драматизированной мистерии
Тюркан, признавая влияние религиозных представлений на роман, в резюме сводит религиозные компоненты греческого романа к двум существенным факторам, вдохновлявшим всех
авторов: отображению времени и старых мифов. Отвечая вкусам современников, романист эпохи Антонинов, как например
Ахилл Татий или Лонг, должен был говорить и о мистериях и
об оккультизме, о литургиях и обрядах традиционных празднеств. Для любителей теургии и пифагорейского эсотеризма
писали Гелиодор, Антоний Диоген и Филострат, однако композиция их романов не обнаруживает никаких следов и порядка
инициаций героев. К этому широко добавлялись мотивы новой
комедии и темы из репертуара школьных декламаций. Второй
компонент романной канвы писатель находил в старых легендах, повествующих о древних обрядах (состязания на испытание стойкости, тотемические переодевания и т. д.), которые
имели религиозный смысл, однако не тот, что имел в виду Меркельбах.
В своей критике Тюркан исходит из правильного представления, что религиозность греческих романов есть результат воздействия на них специфических условий живой действительности. Внутренний кризис империи находил отклик и в духовной жизни общества. Обострение социальных противоречий
заставляло искать утешения и в иррациональной религии. Ведь
именно ко II в. и. э. отмечается интенсивное проникновение
в греко-римский мир мистических восточных религий. Религиозным воззрениям этого времени была присуща тенденция
386-
отождествления восточных божеств с богами греко-римского
пантеона. Неслучайно в романах Ксенофонта Эфесского, Апулея, Гелиодора одинаково почитаются и старые олимпийские
и египетские божества. Все это пе могло не отразиться в романах. Но видеть в романах исключительно символы религиозного
значения, не замечая их литературно-художественной основы,
и толковать их как священные магические тексты тайных культов — это уже произвол.
Таким образом, Меркельбах, исходя из предвзятой концепции, строит доводы на субъективных допущениях и произвольно отобранных элементах романа для формального их
сопоставления с элементами инициаций. При этом он не прини мает во внимание элементов, фактов, источников, не соответствующих или тем более противоречащих его концепции, несмотря на наличие таковых. Символическое толкование романа
Апулея он безапелляционно распространяет на все остальные
романы, неправомерно считая, что все они «Mysterientexte»
(стр. 89).
Анализируя сюжет и структуру романов, Меркельбах тенденциозно подгоняет под схему мистического ритуала все живое
их содержание. Вся его аргументация строится на зыбких параллелях элементов романов с элементами культов разных
мистерий. В центре внимания, таким образом, оказывается
лишь обрядовая, религиозная сторона романов, что, по Меркельбаху, и является их идеологической основой. Естественно,
при таком однобоком рассмотрении, остаются незатронутыми
вопросы художественно-эстетического плана'
Подобные методы изучения литературы, уводящие от социально-эстетического рассмотрения литературного жанра и
отрывающие его от живой действительности, по сути своей
продолжают традиции субъективно-идеалистической и иррационалистической школы в духе Шпенглера и Ницше. Метод
Меркельбаха, рискованный и произвольный, осуждают даже
его ученые коллеги за рубежом (Грималь, Шварц, Лески) 24,
которые отмечают как положительное лишь постановку Меркельбахом вопроса, до сих пор недооцениваемого, о связях
нарративной греческой литературы с восточными элементами и
не безосновательно полагают, что продвинуть вперед данную
проблему могли бы только совместные усилия египтологов и
специалистов по истории религии.
Тенденция выведения романа из мистерии и интерес к символическому осмыслению его характерны и для некоторых других работ о романе. Например, в статье Г. Чок «Эрот и лесбий24
См. указ. рецензии в REA, СЕ, REL; а также: A. L е s к у. Указ.
соч., стр. 916.
387-
екая пастораль Лонга» 25 роман Лонга рассматривается как отражение дионисийского культового ритуала. Автор статьи
полагает, что этот роман не ограничивается любовной историей. Кроме развлекательной, у него была еще не менее важная дидактическая функция. Он показывает, что роман
«Дафнис и Хлоя» является рассмотрением и прославлением
форм эпифании Эрота, которому Лонг придает черты космического значения. Это соперник Митры, властитель Космоса,
управляющий всем ходом событий. Не менее важна в романе
роль Диониса, не как бога-олимпийца, но как бога, играющего
центральную роль в орфико-дионисийских мистериях. При этом
Эрот и Дионис тождественны. Автор замечает, что дионисийские верования и ритуалы в романе обозначены не прямо: как
«мистагог» Лонг дает их в иносказательном плане, как писатель использует в качестве материала для драматической темы
и остова структуры романа. Г. Чок указывает, что структура
романа составлена из 3-х планов, характерных для природы
Эрота и его культа (план времен года, олицетворяющий бога
плодородия, план испытаний влюбленных, выражающий природу бога с человеческой точки зрения, наконец, план инициаций, ведущих невинных к признанию и приятию богом). С этой
точки зрения читателю предлагается интерпретация некоторых
тем и ситуаций, которые Лонг использовал в качестве постоянного символического значения (например, пение птиц, танцы,
песнь пастуха, насвистывание — символ песнопений и музыки
в орфических инициациях и представление Эрота покровителем
искусств; мирт, плющ, сосна — приметы церемониала инициаций). Автор дает подробный анализ структуры романа. Остов
романа — смена времен года, действие его длится два года.
Роман состоит из трех компонентов: описание сезона, реакция
влюбленных, события, проистекающие из этого. Это один план,
другой — план инициаций, представление героев кандидатами
в мисты, достигающими после очищения испытаниями познания священного Хоуо;. Невинным Дафнису и Хлое Филет
раскрывает природу Эрота, Ликэнион дает практический урок.
Вся система образов, по мнению автора статьи, построена по
схеме инициаций (инициат стремится слиться с богом, он представляет действия бога и в конце церемонии воплощается
в него). Характеры, как и события, одинаково выражают природу Эрота. Все, что делают Дафнис и Хлоя, они делают потому, что играют божественную роль. Функции Хлои, например, определены во II, 27, 1. Это девушка «из которой Эрот
хочет сказку любви создать», — говорит Пан. Хлоя представ25
Н. Н. О. С h а 1 k. Eros and the Lesbian pastorals of Longos. — JHS,
80, 1960, p. 3 2 - 5 1 .
388-
ляет в пантомиме нимф Сирингу и Эхо, Дафнис ведет партию
Пана и Диониса (эквивалентного Эроту), ассоциирующегося
с сезоном изобилия.
Одновременно с этой работой была опубликована другая работа, с подобным же аллегорическим толкованием романа
Лонга 2 6 . Автор ее высказывает мнение о глубоком смысле
предисловия к роману и ставит своей целью интерпретировать
в его свете весь роман. Он настойчиво подчеркивает, что это
не столько пасторальный, сколько символический роман, что
скопирован он не с жизни, а с воображаемой концепции жизни.
Центральной аллегорией романа он называет Эрота, олицетворяющего собой всеобъемлющую силу, созидающую природу
в целом и формирующую зрелость человека. Цель Лонга автор
статьи видит в показе любви как движущего фактора в процессе
развития человека от невинности к зрелости. Вот как рисуется
аллегория в целом: первая стадия развития — единство и гармония в пастушеском раю Дафниса и Хлои, детей, покинутых
родителями и вскормленных козой и овцой, вторая стадия —
в пасторальную гармонию вторгается серия диссонирующих
элементов, необузданных страстей человеческой натуры, которые символизируются «волком» — Дорконом, Ликэнион, пиратами. Особенно важная фигура — Пан, являющийся подобно
нимфам персонификацией природных сил. Но если нимфы
антропоморфны, он — полуживотное, если они только благожелательны, он двулик: с одной стороны — мирный пастух, с другой — воитель, внушающий «панический» страх и символизирующий сексуальную необузданность и неразборчивость. В отношении к Пану прослеживается психологическое развитие
влюбленных. Антипатия к нему сменяется компромиссом.
Дафнис и Хлоя усваивают диссонирующие элементы, понимая,
что
зрелости
можно
достигнуть,
лишь
примирившись
с «волчьим» элементом в человеческой натуре. На третьей ступени, когда процесс закончен, молодые люди обретают родителей, что означает вступление их в права зрелых человеческих существ. Осознавая неотвратимость конфликта в жизни,
они воздвигают алтарь в честь Эрота-пастыря, так же как и
Пану-воителю. Свадьба Дафниса и Хлои символизирует финальное примирение «неба» и «ада» и объединение их в одно целое.
Обе статьи о Лонге вряд ли вносят что-либо в изучение романа как литературного жанра. Символическое или религиозномистическое истолкование романа, полностью отрывающее его
содержание от исторической действительности, обесценивает их.
Здесь налицо тенденциозное пренебрежение вопросами реаль26
P. T u r n e r . Daphnis and Chloe. An interpretation. — «Greece and
Rome», 7, 1960, p. 117—123.
389-
ного плана: кем, когда, как, для кого был написан роман и
каковы были действительные намерения писателя. Авторы статей не видят в Лонге художника и в известном смысле новатора, который впервые, отступив от установленного стандарта
структуры авантюрно-любовного романа, превратил его в роман психологический, до сих пор высоко ценимый читателями.
Значительно ближе подходит к оценке романа Лонга как художественного произведения автор третьей недавней работы
о Лонге О. Шёнбергер в своей вступительной статье к изданию
Лонга 27, хотя и он не свободен от тенденции признавать основой романа, наряду с темой любви, религию. После кратких
сведений о Лонге автор статьи, рассматривая роман в соотношении с другими греческими романами, выделяет его отличительные черты и определяет как психологически окрашенный
роман-утопию. Он подчеркивает черты, роднящие «Дафниса и
Хлою» с буколикой: жизнь человека в гармоничном единении
с природой, а значит и с божеством, поскольку природа, как он
считает, имеет у Лонга божественный смысл. К чести автора
статьи следует заметить, что он все же не склонен разделить
мнение Меркельбаха о романе как отражении дионисийского
культового ритуала, резонно замечая, что провести грань между
истинной религиозностью и простым благочестием весьма
трудно. Сила и слабость романа Лонга, по мнению этого ученого, заключается в том, что в его основе лежит тема любви:
это ограничивает возможности романа, но придает ему вместе
с тем тематическую завершенность.
Примечательно, что немецкий ученый видит в ряде эпизодов
романа, в характеристике его персонажей отражение действительной жизни, критику Лонгом городского общества и противопоставление порочному городу идеализированной сельской
жизни. Верно отмечается и предназначенность романа для
образованных читателей, что доказывается рафинированной
риторичностью его стиля и изысканностью языка. В статье дан
обзор изданий, переводов, научной литературы. Издание снабжено подробным комментарием, прекрасно оформлено и иллюстрировано.
В зарубежной литературе последних лет немало работ, посвященных творчеству отдельных романистов, но преимущественным вниманием исследователей пользуется Гелиодор, творчество которого рассматривается с самых разных сторон.
Анализируется содержание «Эфиопики» и художественное
мастерство Гелиодора, рассматриваются вопросы хронологии,
стиля, влияния романа на последующую литературу. Мы позво27
L о n g о s. Hirtengeschichten von Daphnis und Chloe von 0. Schonberger. Berlin, 1960.
390-
лим себе остановиться лишь на самых значительных работах,
внесших определенный вклад в изучение этого романа.
Из наиболее интересных работ можно назвать статью венгерского ученого Т. Сепеши «Эфиопика» Гелиодора и греческий
софистический роман 28.
На основании хронологических поправок Т. Сепеши пришел
к выводу о длительности существования греческого романа на
протяжении пяти веков (со II в. до н. э. до середины III в.н. э.).
Разделяя мнение Р. Рэтенбери 29 и Ф. Альтхейма 30, оп относит
время создания «Эфиопики» ко второй четверти III в. н. э.,
считая ее одним из позднейших греческих романов. Временем
расцвета греческого любовного романа Т. Сепеши справедливо
называет II в. н. э., объясняя этот расцвет историческими условиями времени Римской империи: значительным экономическим
и культурным подъемом восточных провинций. Анализируя
«Эфиопику», Т. Сепеши прежде всего обращает внимание на
отличительную черту романа — ясно выраженный в нем неопифагореизм, тесно связанный с почитанием Гелиоса, и на проводимую Гелиодором мысль, новую по сравнению с другими романистами, об отождествлении восточного бога с древним греческим Аполлоном. Венгерский ученый справедливо подчеркивает, что изменения в содержании романа и его целенаправленности повлекли за собой изменения традиционной композиции.
Неслучайно герои «Эфиопики» начинают свои скитания из
Дельфов, места культа Аполлона, и заканчивают их в Эфиопии,
царстве Гелиоса, где становятся жрецами ^Гелиоса и Селены.
Т. Сепеши указывает и на другую новую черту — описание
Эфиопии. Это утопическое государство, могущественное и богатое, где царствует добрый справедливый царь, где жители
наделены всеми положительными качествами и где герои романа обретают счастье, служило Гелиодору для пропаганды
религиозных и философских идей.
Новшества в романе Гелиодора нарушают цельность единой
схемы софистического романа, изменяют его композицию, которую Сепеши удачно сравнивает с восходящей линией, в то
время как композицию других романов — с кругом (в них герои
в конце странствий возвращаются туда же, где познакомились
или родились). Традиционная композиция романа оказывается
нарушенной. Т. Сепеши делает вывод о том, что эти нововведения в содержании и форме «Эфиопики» могут быть отнесены
за счет общего кризиса III в. н. э. Строгие правила жанра распадаются из-за желания автора сказать что-то новое, из-за
28
29
30
Т. S z e p e s s y . Die Aithiopika des Heliodoros und der griechisclie
sophistische Liebesroman. — A AH. 5. 1957, S.241—259.
Gn, 22, 1950, p. 74.
F. A 11 h e i m. Указ. соч., стр. 103 ел,
391-
новой, преследуемой им, цели. Сам жанр, таким образом, достигает последней стадии своего развития, и в конечном счете
софистический любовный роман, как жанр, исчезает.
Итак, отличия Гелиодора от других романистов сказываются
в целевой установке его романа, в его содержании и в композиции. Мысль о нововведениях в содержании и форме романа
Гелиодора Сепеши подтверждает анализом романа Лонга, который так же как и Гелиодор отказывается от традиционной
композиции с целью противопоставить одному отрицательному
образу жизни другой — положительный. Однако Т. Сепеши
определяет роман Гелиодора как своего рода завуалированный
протест против не удовлетворявшей его действительности. Гелиодор не просто сравнивает два образа жизни, городской и
сельский, но как бы в противоположность к своему действительному окружению создает утопический город и тем ослабляет традиционную романную композицию еще более. После
Гелиодора пет сочинений, сохраняющих традиционную форму
романа вплоть до византийского времени.
Глубокий и тщательный анализ «Эфиопики» — несомненное
достоинство венгерского ученого. Заслуживает уважения и его
метод изучения романа, сочетающий анализ его содержания и
формы, анализ, проводимый с учетом зависимости романа от
исторических условий времени.
К сожалению, другие работы о Гелиодоре, часто противоречивые в оценках этого автора, менее интересны.
Некоторые исследователи не признают за Гелиодором буквально никаких заслуг. Совершенно неправомерно, например,
обесценивается его творчество немецким ученым В. Капелле 31,
который находит, что действующие лица романа бесцветны,
лишены индивидуальной окрашенности и психологического развития, что изложение романа, рассчитанное на эффект, украшено заимствованиями из Гомера, Еврипида и других греческих авторов. Словом, критика сводится к демонстрации неоригинальности Гелиодора способом сопоставления отдельных мест
«Эфиопики» 'с текстами других писателей. Таким образом, отмечаются совпадения: в этнографических и географических описаниях со Страбоном и Диодором, в элементах суеверий —
с Плутархом, в местах этиологического характера с Артемидором (следы последнего автор видит даже в стиле Гелиодора).
Структурным особенностям предложения в «Эфиопике» Гелиодора посвящена статья О. Мацала 32 , являющаяся извлече31
W. С а р е 11 е. Zwei Quellen des Heliodor. — RhM, 96, 1953, S. 166—
32
О. M a z a 1. Die Setzstruktur in den Aithiopika des Heliodor von
Emesa. — WSt, 71, 1958, S. 116-131,
180.
392-
нием из его диссертации по стилю Гелиодора 33 . Справедливо
полагая, что в языке и стиле сочинения отражается личность
писателя и вкусы его времени и что без выяснения роли синтаксической стилистики нельзя выяснить своеобразия писателя,
О. Мацал пытается найти принцип структуры предложения,.
отметить его важнейшие отличительные черты и типичные
формы построения. На конкретных примерах он иллюстрирует
искусные способы построения периода Гелиодором: выразительную симметрию, стремление к исоколам, антитезам, различные
типы расчленения предложений, создающие рифмующиеся
окончания, частое употребление причастия, относительную
простоту главного и стилистически усовершенствованное анафорой, антитезой, гомойотелевтом придаточное. В статье указывается на различные стилистические средства группирования
(анаколуф, парентеза). Таким образом, «Эфиопику» автор
статьи считает искусно построенным сочинением, он всюду видит следы определенного принципа архитектоники, которым
следует Гелиодор. И речь Гелиодора он оценивает скорее как
эффектную и искусную конструкцию, чем как живое, естественное словоупотребление.
Две статьи А. Колонны касаются вопросов хронологии Гелиодора. В одной из них 3 4 рассматривается аргумент ван дер
Валька в пользу традиционной датировки Гелиодора (350—
400 гг. н. э.). Имеется в виду описание необычного приема
осады Сиены эфиопским царем Гидаспом (IX, 1—6). Посредством сопоставления его с подобным же описанием осады Нисибиды (в 350 г.) у Юлиана (Речи, I, 22, 23; III, 11 — 13)
делается заключение о том, что Гелиодору был известен рассказ
императора, которому он и подражал, и что жил он при Феодосии Великом (379—395 гг. н. э.), как это видно из замечания
византийского хронографа XI в. Феодосия Мелитенского.
В другой статье 3 5 А. Колонна возвращается к этой же проблеме, несколько по-новому аргументируя старые тезисы о хронологии «Эфиопики». Кроме исторических фактов, он приводит
здесь лингвистические элементы, которые, по его мнению,
позволяют отнести Гелиодора к концу IV в. н. э.
В диссертации американского ученого Т. Р. Гезелса 36 , насколько можно судить по аннотации, ставятся вопросы общего
33
34
35
36
О. М a z а 1. Der Stil des Heliodorus von Emesa. Diss. Wien, 1955.
А С о 1 о n n a. L'assedio di Nisibis nel 350 d. с. e la cronologia
di Eliodoro Emiseno. — Ath, 28, 1950, p. 79—87; cp. v a n d e r V a 1 k.
Remarques sur la date des Ethiopiques d'Heliodore. — Mn, 9, 1941,
p. 97-100.
А. С о 1 о n n a. La cronologia dei romanzi greci: le Etiopiche di Eliodoro.—MC, 18, 1951, p. 143—149.
Th. R. G o e t h h a l s . The Aithiopica of Heliodorus. A. critical study.
Diss. Columbia Univ., 1959; res. — DA, 22, 1961, p. 1984.
25
Античный роман
393
порядка. В намерение автора входило: выявить влияния, формировавшие греческий роман, определить типичные черты и
выделить особенности каждого из сохранившихся романов, оценить роман Гелиодора и проследить влияние его на новоевропейскую литературу. Работа касается и вопросов общего порядка о соотношении в классическом и эллинистическом
искусстве действительности и вымысла, реализма и романтизма,
о различиях между романом и новеллой и т. д. Автор анализирует нарративную технику греческих романов с целью показать, что Гелиодор наилучшим образом использовал эпическую
и драматическую технику классического периода. Специальная
глава диссертации отведена критическому анализу «Эфиопики»,
оценке ее достоинств и слабостей в свете современной критической теории. Работа охватывает широкий круг вопросов; по-видимому, она обстоятельна и интересна, хотя вносит ли она чтолибо принципиально новое в изучение романа, сказать трудно.
Две другие диссертации: о технике рассказа Гелиодора 37 и
об «Эфиопике» как источнике немецкой драмы барокко 38 ,
к сожалению, остались нам недоступны.
Можно назвать ряд других, мелких статей по Гелиодору, касающихся самых различных частных вопросов. Среди них есть,
например, заметка Р. Браунинга 3 9 о неопубликованной эпиграмме на «Эфиопику» Гелиодора византийского времени и
ответ на нее А. Колонны 40, считающего эпиграмму неумелым
сочинением гуманиста XV или XVI в.
Опубликованы заметка Р. Меркельбаха 41 с исправлением
текста-цитаты из утерянного варианта «Ипполита» Еврипида,
встречающейся у Гелиодора, критические замечания и интерпретация нескольких строк из «Эфиопики» Д. А. Кревелена 42
и др. мелкие заметки.
В последние годы вышло несколько работ по Харитону.
Интересна, например, диссертация Р. Петри 4 3 , в которой
в остро полемической манере оспаривается утверждение Мер37
38
39
40
41
42
43
V. Н е f t i. Zur Erzahlungstechnik in Heliodors «Aethiopica». Diss.
Basel-Wien, 1950.
Gh. P г о s с h. Heliodors Aithiopica als Quelle fur das deutsche Drama
des Barockzeitalters. Diss., Wien, 1956.
R. B r o w n i n g . An unpublished epigram on Heliodorus Aethiopica. —
CR, 5, 1955, p. 141—143.
А. С о 1 о n n a. Su un nuovo epigramma al romanzo Eliodoro. «Bolletino
del comitato per la prepazione dell'edizione nationale dei classici
greci e latini». (N. S.), IV, 1956, p. 25—27.
R. M e r k e l b a c h . Heliodor 1, 10, Seneca und Euripides. — RhM,
100, 1957, S. 99—100.
D. A. v a n К г e v e 1 e n. Bemerkungen zu Heliodor. — Phil, 105, 1961,
S. 157—160.
R. P e t r i . t)ber den Roman des Chariton. Meisenheim am Glan, 1963.
394-
кельбаха о ритуальном содержании романа Харитона. На основе
конкретного анализа содержания романа Петри убедительно
показывает, что, несмотря на наличие в романе видимых связей с мистериями Исиды, роман Харитона не является романом-мистерией в эсотерическом смысле. Персонажи его живые,
чисто литературные образы. Выясняется, что мотив мистерий
часто получает в романе противоположный смысл. Указывая на
противоречия с ритуалом в литературном использовании мотивов мистерий, автор заключает, что многие мотивы неверно
толкуют смысл мистерий. Например, мотив второй свадьбы
Каллирои не имеет мистического смысла iepос; ^оф-од и не связан с обрядом посвящения, так же как и ночи элевсинских
мистерий, и мотивы мнимой смерти и узнавания являются
только литературными мотивами и художественным приемом,
усиливающим напряженность и занимательность действия.
Акцентируя внимание на неверном истолковании у Харитона мотивов, имеющих видимое отношение к ритуалам мистерий, Петри заключает, что Харитон и не имел в виду религиозного истолкования своего романа, если не выразил истинного
культового смысла в мотивах, заимствованных у других романистов. Отмечая зависимость романа Харитона от «Истории
Аполлония, царя Тирского», романов Ямвлиха и Ксенофонта
Эфесского, автор диссертации делает вывод о том, что Харитон
жил позднее этих авторов — во второй половине II в. и. э. Здесь
он вступает в полемику с автором другой диссертации о Харитоне, А. Д. Паианиколау 44 , который считает Харитона более
эллинистическим писателем-романистом, чем' другие, писавшие
по-аттически. Основное достоинство романа Харитона, отличающее его от других романов, Петри видит в психологической
углубленности образов- и свободном течении действия, что дает
ему основание называть Харитона создателем психологического романа.
В упомянутой диссертации А. Д. Папаниколау речь идет
исключительно о языке романа Харитона, тщательный анализ
которого приводит автора к выводу о том, что Харитон жил
в эпоху, предшествующую аттицистическому движению (вторая половина I в. до н. э.) и был последним представителем
предаттицистического времени, когда язык литературной
прозы был еще относительно близок к эллинистическому
койне, но уже находился под влиянием аттицизма. Автор выделяет характерные особенности языка Харитона (употребление ряда элементов из эллинистического койне, нарративного
перфекта, избегание оптатива, отказ от артикля и др.). Подчеркивая, что роман Харитона отличался от других романов
44
A. D. Р а р a n i к о 1 а о u. Zur Sprache Charitons. Diss. Koln, 1963.
2 6 *
3 9 5
также и по содержанию, будучи близок к эллинистической
историографии, автор диссертации приходит к выводу о принадлежности Харитона к переходной эпохе.
Цель третьей работы о Харитоне, принадлежащей американскому ученому И. Хельмсу 45 , — исследовать искусство
портретной характеристики в романе Харитона и установить
степень влияния на него классической и софистической концепции характеристики. В качестве критерия оценки применяется аристотелевская концепция драматической характеристики и феофрастовская реалистической. Автор показывает,
что характер персонажа в романе Харитона подается не
только путем прямой обрисовки его, но проявляется в инцидентах, в монологах и диалогах. Наиболее рельефно характер
выступает в драматических речах; при этом риторические
средства используются Харитоном не как цель, а как средство
сделать портрет более человечным и жизненным. Автор отмечает, что характеристика второстепенных персонажей играет
в этом романе большую роль, чем в поздних. Психологический
интерес характера представлен в романе, по мнению Хельмса,
в незначительной степени, что тем не менее не снижает высокого искусства портрета, оживленного реалистическими штрихами. В диссертации оценивается как большая заслуга Харитона то, что он воздерживается от чрезмерного употребления
некоторых эксцессов жанра: экфрасы, парадоксов, пафоса,
декламаторства. То, что Харитон не поддался целиком и полностью влиянию все возрастающей софистической тенденции
времени и проявил некоторое родство с классическими концепциями портретной характеристики, свидетельствует о том,
что он — писатель раннего романа, менее связанный с утвердившимися позднее традициями жанра.
В последнее время несколько оживился интерес к Ахиллу
Татию, что, по-видимому, связано с изменением взглядов на
его датировку. На основании нового папирусного фрагмента
этого романиста теперь относят не к III—IV вв. н. э., а ко времени восстания буколов (т. е. к 172 г. н. э.) 46. В 1955 г.
в Стокгольме вышло научное издание романа Ахилла Татия,
выполненное под редакцией Эбби Вильборг 47 . При описании
и классификации рукописей автором учитываются новые данные рукописной традиции. Ею рассматривается 23 рукописи
неравной ценности, из которых самая древняя восходит
к XII в. Автор указывает на три папирусных фрагмента, не
4о
46
47
I. Н е 1 щ s. Character portrayal in the romance of Chariton Diss
Univ. of Michigan, 1960; res.— DA, XXIV, 1963, p. 733.
F. A l t h e i m . Указ. соч., стр. 121.
A c h i l l e s T a t i u s . Leucippe and Clitophon. Ed. E. Vilborg. Stockholm, 1955.
396-
принадлежащих ни к одной из групп рукописей. Один из них,
Миланский, опубликованный в 1938 г. Вольяно и относящийся
ко 11 в., обязывает к пересмотру датировки романа. Другой,
Оксиринхский № 1250, ученые относят к III в., что может
свидетельствовать о двойной редакции романа. Ч. Руссо 48 ,
исследуя текст этого папируса, утверждает, что он представляет собой переработку оригинального текста романа, сильно
измененного и неумело сокращенного. Папирус он датирует
III в. н. э., роман Ахилла Татия — концом II в. и. э.
В 1962 г. вышла вторая книга предпринятого Э. Вильборг
издания, содержащая краткую вводную статью с общими сведениями о романе Ахилла Татия 4 9 , характеристикой его языка
и стиля. Автор приходит к выводу об ошибочности мнения
Роде, считающего греческий роман продуктом второй софистики, однако отмечает сильное влияние на него риторики.
Роман написан в аттицистический период, его автор стремился
писать правильным аттицистическим языком, но у него встречаются вульгаризмы, а иногда архаизмы и поэтические слова
из классических авторов. Вильборг замечает, что предназначенный для широкой публики роман содержит между тем
черты, которые не могли быть оценены необразованным читателем (артистичность стиля), и на этом основании высказывает предположение о существовании рядом с полной версией романа другой версии, имевшей хождение среди широкой публики. Мысль о двух вариантах романа, по мнению
Вильборг, могла бы объяснить и разночтения в рукописных
текстах и материалах фрагментов. Однако из-за недостаточности материала вопрос этот положительного решения получить еще не может. Издание Вильборг, выполненное с большой тщательностью и знанием вопроса, бесспорно, может
быть только одобрено как лучшее издание романа Ахилла
Татия, снабженное подробным и интересным комментарием.
Заслуживает внимания диссертация Доррит ЗедельмейерШтекль 5 0 посвященная технике повествования у Ахилла
Татия, частично опубликованная в 1959 г.51 Исследование
представляет значительный интерес и с точки зрения формального анализа и с точки зрения оценочного анализа содержания романа. Автор статьи прежде всего подчеркивает, что,
48
49
50
51
С. Т. R u s s о. РОХ. 1250-е И romanzo di Achille Tazio. — RAL, 10,
1955, p. 397-403.
A c h i l l e s T a t i u s . Leucippe and Clitophon. Ed. E. Vilborg. Goteborg. 1962.
D. S e d e l m e i e r - S t o c k l . Studien zur Erzahlungstechnik des
Achilleus Tatios. Diss. Wien, 1958.
D. S e d e l m e i e r - S t o c k l . Studien zup Achlleus Tatios. — WSt, 72,
1959, S. 113-143.
397-
#
несмотря на использование в романе типичной схемы греческого любовного романа, Ахилл Татий самостоятелен и свободен в расположении и обработке традиционных сюжетов.
Она обращает внимание на удивительную ясность структуры
композиции, особенности которой обстоятельно исследуются и
демонстрируются на конкретных примерах романа. Это замкнутость композиции с симметричным расположением подобных
сюжетных линий, быстрая смена и стремительность хода событий, гротескная прямолинейность некоторых эпизодов.
Автор говорит об искусном расположении материала романистом и тщательно продуманной им форме, соответствующей
определенному содержанию. Схема, положенная в основу композиции, остается постоянной в рамках того же круга мотивов и сменяется при переходе к другой теме новым планом
построения. Целям создания эффекта и удержания напряжения служат не только ускорение, но и замедление течения
действия: напряжение сменяется разрядкой, завязывающей
очередные сюжетные связи. Во второй части работы речь
идет о психологии образов. Автор раскрывает специфическую
особенность Ахилла Татия: намеченную им эмоциональную
структуру героев выражать в форме размышлений, ламентаций, внутренних монологов. Автор исследования полемизирует с Роде, Шварцем, Шисселем, Гельмом, считая весьма
несостоятельными их мнения о романе как продукте второй
софистики, лишенном какого бы то ни было психологизма.
Соглашаясь, что изображение внутренней жизни героев
у Ахилла Татия, как и в романе вообще, занимает далеко не
передний план, уступая его описанию внешних событий, и
что мир приключений в случайных сцеплениях событий не
всегда получает отзвук во внутренней жизни персонажей,
Зедельмейер-Штёкль все же выявляет у Ахилла Татия
стремление 'проникнуть во внутренний мир своих героев и
вывести на поверхность их чувства и аффекты. Как типичный
пример подобной попытки оценивается описание отчаяния и
скорби Клитофонта в VII, 4. Сообщение о смерти любимой
сначала вызывает оцепенение (это первая, внешняя реакция),
затем переходящее в высшее напряжение ужаса и отчаяния.
Душевные волнения героев показываются окольными путями:
размышлениями и жалобами, выражающими их внутреннее
состояние, монологами — непосредственной реакцией их на
внешнюю ситуацию. В повторении однажды объективно изло-*
женных событий также выражаются чисто субъективные
чувства, и духовное состояние персонажей становится, таким
образом, непосредственно ощутимым. Отчаяние Левкиппы
или скорбь Клитофонта специально не обрисовываются,
однако отражаются в субъективно-окрашенном, ретроспек398-
тивном оформлении внешних событий в монологе. И хотя
в повторениях объективных событий теряется непосредственный эффект внутренней реакции героев на происшедшее, оно
отражается и окрашивается именно индивидуальностью произносящего монолог. В то время как размышления и жалобы
являются средством изображения душевных переживаний,
исходящих из самого содержания, во внутренних разговорах
герои свободны от самого содержания, внешние события идут
как бы во внутрь. При этом душевный процесс выводится как
таковой (например, в разговорах с собой в I, 11 и II, 5 показано развитие чувств героев от любви с первого взгляда
к стихийному чувству).
О других авторах романов написано еще меньше. Анонимному роману «История Аполлония, царя Тирского», например,
посвящены две статьи. Одна из них принадлежит П. Энку 52,
другая — чешскому ученому К. Свободе 53 . В первой статье
автор ставит перед собой задачу выяснить, представлял ли
роман свободную переделку греческого оригинала или это
сочинение латинского автора. После изложения содержания
романа Энк опровергает мнение Шанца о том, что это оригинальное сочинение латинского автора III в. н. э., убедительно,
на конкретном анализе текста аргументируя свое заключение
о несомненном существовании греческого оригинала романа и
двух разновременных латинских версий его переделки: языческой, относящейся к III в. н. э., и христианской, принадлежащей уже VI в. н. э. Он указывает, что Ризо. в своем издании
текста романа 54 использовал два манускрипта, а для романа,
составленного из двух версий, характерно смешение языческих
и христианских элементов, о котором у него говорится.
Также мало написано о Ямвлихе. В одной небольшой статье
JI. Грегорио 55 коротко затронуты вопросы биографии романиста, времени написания «Вавилоники» и ее характеристики,
приводятся сведения о публикации фрагментов и эпитомы
Фотия, дается краткий обзор рукописей. Другая работа
Урсулы Шнейдер-Менцель 56 представляет значительный инте52
53
54
55
66
P. J. En k. The romance of Apollonius of Tyre. — Mn (Ser. IV), I,
1948, p. 222-237.
K. S v o b o d a . t)ber die «Geschichte des Apollonius von Tyrus».
Prague, 1962. С этой статьей нам, к сожалению, ознакомиться
не удалось.
A. R i е s е. Historia Apollonii regis Tyri. Leipzig, 1893.
L. d i G r e g о r i o. Sulla biografia di Giamblico e la fortuna del suo
romanzo attraverso i secoli. — Aev, 38, 1964, p. 1—13.
U. S c h n e i d e r - M e n z e l . Jamblichos «Babylonische Geschichten»
в указ. выше книге Ф. Альтхейма стр. 48—93. Подробнее об этой
работе см. в главе о Ямвлихе.
399-
pec с точки зрения филологического анализа структуры романа. Любопытна попытка автора изложить содержание романа
Ямвлиха не только по Фотию, но с привлечением дополнительного материала всех сохранившихся фрагментов. Достоин внимания обстоятельный анализ композиционной техники романа.
В 1960 г. опубликовано новое собрание отрывков Ямвлиха
Е. Хабрих 57. Здесь не только собраны вместе все фрагменты,
сохраненные Судой, но так же как и в предыдущей работе,
сделана попытка локализовать их, соотнести с изложением Фотия. Сознавая конъектуральность подобного построения, таящего в себе опасность причисления Ямвлиху не принадлежащих ему отрывков, автор этой книги предусмотрительно относит
26 фрагментов к явно сомнительным. В критическом аппарате
мотивируется локализация, объясняются ситуации романа,
вопросы аутентичности фрагментов, даются орфографическиконъектуральные замечания к тексту Фотия. К сожалению,
содержание отрывков, бессвязное и отрывочное, не представляет сколько-нибудь значительного интереса, и ни в какой
мере не добавляет что-либо существенное к изложению Фотия,
не восполняет его пробелов.
В зарубежном литературоведении не прекращается большая
текстологическая работа. Подготовлены научно-комментированные издания текстов романов Ахилла Татия, Лонга, о которых говорилось выше, Гелиодора 58 , «Романа об Александре» 59. Продолжается работа по публикации папирусных
отрывков. Кроме вышеназванных публикаций отрывков из
романов Псевдо-Каллисфена, «Романа о Нине», Ямвлиха,
следует назвать публикацию новых отрывков, найденных
с 1941 по 1954 г., Меркельбахом 60 . Один из них, сильно разрушенный, — отрывок из романа о Нине, уже приведенный
в статье Еништовой, в котором рассказывалось о кораблекрушении и о спасении потерпевших. Другой (Pap. Michaelidae.
Inv., 5) — отрывок из неизвестного романа, названный «Речь
волшебницы»; в нем речь идет о волшебнице, которая
должна, по просьбе родителей, избавить их дочь от любви
к молодому человеку, увиденному ею во сне. В этом романе
нет традиционной встречи молодых людей на празднике.
Романист использовал здесь восточные мотивы любви, вспыхнувшей во сне.
57
58
59
60
Jamblichi Babyloniacorum Reliquie. Ed. E. Habrich. Leipzig. 1960.
Кроме упомянутого издания «Эфиопики» Реймера, вышло изд.:
М. Н a d a s. An Ethiopian romance. Univ. of Michigan Press, 1957.
E. H a i g h t. The life of Alexander of Macedon by Ps. Callisthen.
New York, 1955 (известно по рецензии в AHR 61, 1955/1956, p. 435).
R. M e r k e 1 b а с h. Literarische Texte unter Ausschlus der christU
chen. — APF, 16, 1956, S. 122—123.
400-
Значительно улучшилось состояние изучения руКопйсйоГО
предания греческих романистов. Особенно повезло в этом
смысле роману Псевдо-Каллисфена, различным рецензиям которого посвящены издания JI. Бергсона 6 1 , У. Лавенштейна 6 2 ,
Г. Тиля 63. В первом предпринято тщательное изучение рецензии р. В кратком введении содержится описание рукописей всех
рецензий (а, Р, К, е, у) и характеристика родственных ему
текстов (фрагменты из романа в письмах, письма к Аристотелю и др.). В результате установлена схема соотносительной
зависимости этих пяти рецензий и время появления их:
а около 300 г. н. э., Р в 450—570 г., е в VI в. В издании Тиля
изучена наименее известная ветвь рукописного предания /,,
исходящая и зависящая от рецензии р. Эта рецензия, судя по
интерполяциям, относится к VII в. н. э. Она отвечает тенденции упростить и вульгаризировать роман об Александре, которая уже ясно выражена в переходе от самой древней рецензии а к р. В 1961 г. вышла небольшая статья этого же автора
о рукописном предании Лонга 64.
Аспекты изучения романа столь разнообразны, что не укладываются . в сколько-нибудь систематизированную
схему.
В многочисленных журнальных статьях продолжают рассматриваться традиционные вопросы источников 65, заимствований,
подражаний и литературных сближений 6 6 , комментируются
отдельные места романов, отражаются бытовые обычаи и
порядки греков 6 7 , даются критические замечания чисто текстологического характера 68 и т. п.
Надо признать подводя итоги, что, несмотря на прежнюю
неразрешенность некоторых кардинальных проблем романа,
в последние годы сделано все же немало в области публикации и интерпретации новых папирусных открытий, прове61
62
63
64
65
66
67
68
L. В е г g s о п. Der griechische Alexanderroman. Rezension p. Goteborg-Upsala, 1965.
U. v o n L a v e n s t e i n . Der griechische Alexanderroman. Rezension
Y- Meisenheim am Glan, 1962.
H. v a n T h i e l . Die Rezension X des Ps.-Kallisthenes. Diss. Koln—
Bonn, 1959 (рец. в REG, 74, 1961, p. 517—518).
H. v a n T h i e l . Uber die Textiiberlieferung des Longus. — RhM, 65,
1961, S. 356—362.
F. G г о s s o. La vita di Apollonio di Tiana come f onte storica. —
«Acme», 7, 1954, p. 333.
G. M a n g a n a r o . A proposito di un passo' del romanzo di Caritone. —
Sic. Gymn., 11, 1958, p. 108—110; Q. C a t a u d e l l a . Giovanni Chri
sostomo nel romanzo di Achillo Tazio. — PP, 9, 1954, p. 25—40 и др.
А. С a 1 d e r i n i. La ёууиуыя matrimoniale nei romanzieri greci e nei
papiri. —Aeg, 39, 1959, p. 29—39.
W. Mo г e 1. Zum Text der griechischen Romanschriftsteller. — Gymn,
70, 1963, S. 545—548; R. R a t t e n b u r y . A note on Achilles Tatius.
Ill, 21, 3. — REG, 72, 1959, p. 116-118 и др.
401-
дена большая текстологическая работа, связанная с. изданиями
текстов романов и их переводами, научно подготовленными и
комментированными. Продолжаются дискуссии по вопросу
возникновения романа, привлекают внимание вопросы художественного своеобразия романов, изучается стиль, пересматриваются и уточняются вопросы хронологии. Правда, аспекты
изучения романа идут, главным образом, вширь, а не вглубь,
в направлении изучения частных вопросов, связанных с романом. Тенденция уклонения от постановки общих проблем здесь
налицо. Вопросы идеологического содержания романов попрежнему должным образом не рассматриваются, а если и
ставятся, то разрешаются чаще всего с субъективистских
позиций, без учета конкретной исторической и литературной
обстановки эпохи.
СПИСОК СОКРАЩЕНИИ
ВДИ
ЖМНП
— «Вестник древней истории».
— «Журнал министерства народного
просвещения».
АЛН
— «Acta Antiquae Hungaricae».
AG
— «Antiquite classique».
Aeg
— «Aegyptus».
Aev
— «Aevum».
AFC
— «Analles de Filologia clasica».
AHR
— «American Historical Review».
AJPh
— «American Journal of Philology».
AIV
— «Atti delllstituto Veneto di Scienze,
Lettere ed Arti».
— «Archiv ftir Papyrusforschung».
APF
ARW
Ath
— «Archiv fur
schaft».
— «Athenaeum».
Religions
Wissen-
AULA
— «Journal of the Australia University langage and literature Association».
BAGB
— «Bulletin de l'Association de Guillaume Bude».
— «Bulletin de l'Academie Polonaise
de Cracovie».
BAPG
BFAC
— «Bulletin of the Faculty of Arts».
BR
— «Bucknell Review».
GE
— «Chronique d'Egypte».
G1J
— «Classical Journal».
403
C1Q
CPh
— «Classical Quarterly».
— «Classical Philology».
C1R
DA
— «Classical Review».
— «Dissertation Abstracts».
— «Giornale Italiano di filologia».
GIF
Gn
— «Gnomon».
Gymn
— «Gymnasium».
JHS
IL
— «Journal of Hellenic Studies».
Mn
— «Mnemosyne».
— «11 Mondo classico».
— «Information literaire».
MC
NAnt
— «Nuova Antologia di scienze, letter e ed arti».
PP
— «La parola del passato».
— «Philologische Wochenschrift».
PhW
Phil
— «Philologus».
— «Publicationi
liana».
PSI
della
societa
Ita-
RAF
— «Revue Africaine Alger».
RAL
— «Rendiconti della classe di Scienze
morali, storiche e filologiche della
Academia dei Lincei».
RE
— «Realencyclopadie der classischen
Altertumswissenschaft».
RE A J^ \ 4 ^-^<&evue des etudes anciennes».
REG
— «Revue des etudes greque».
REL
— «Revue des etudes latines».
RHR
— «Revue de l'Histoire des Religions».
RPh
— «Revue de philologie».
RhM
— «Rheinisches Museum».
RCCM
— «Rivista di
dioevale».
RFIC
— «Rivista di filologia e d'istruzione
classica».
— «Scriptores Historiae Augustae».
SHA
cultura
classica me-
Sic. Gymn
— «Siculorum gymnasium».
SIFG
— «Studi italiani di filologia classica».
TAPhA
— «Transactions and Proceedings of
the Amerfcan Philological Association».
WSt
— «Wiener Studien»,
•
I
у г n и
| пр. Ижо^;
4
;
j
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
1. ЭРОТ, НАТЯГИВАЮЩИЙ Л У К .
Мрамор. IV в. до н. э. Римская копия
с греческого оригинала. Эрмитаж
2. ЭРОТ НА Д Е Л Ь Ф И Н Е .
Мрамор. I l l — I I в. до н. э. Римская
копия с греческого оригинала. Эрмитаж
3. КЛИО.
Мрамор. I l l — I I в. до н. э. Эрмитаж
4. АМУР И ПСИХЕЯ.
Глина. III в. до н. э. Эрмитаж
шш
A it т и чпый
Утверждено
роман
к
Институтом
им.
А.
Академии
печати
мировой
М,
литературы
Горького
наук
СССР
Редактор издательства Л. М. Стенина
Художник Ю. П. Трапаков
Технический редактор А. П. Гусева
Сдано в набор 24/Х 68 г. Подписано к печати 28/11 1969 г.
Формат 60X90'/1G. Бумага Яв 1. Усл. печ. л. 26. Уч.-изд.
л. 24.7. Тираж 8200 экз. А-06019. Тип. зак. 1431
Цена 1 р. 81 к.
Издательство «Наука».
Москва, К-62, Подсосенский пер., д. 21
1-я типография издательства «Наука»
Ленинград, В-34, 9 линия, д. 12