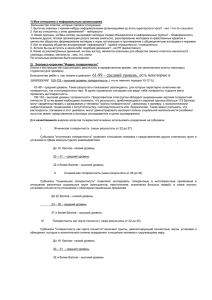tolerance and critical thinking
advertisement
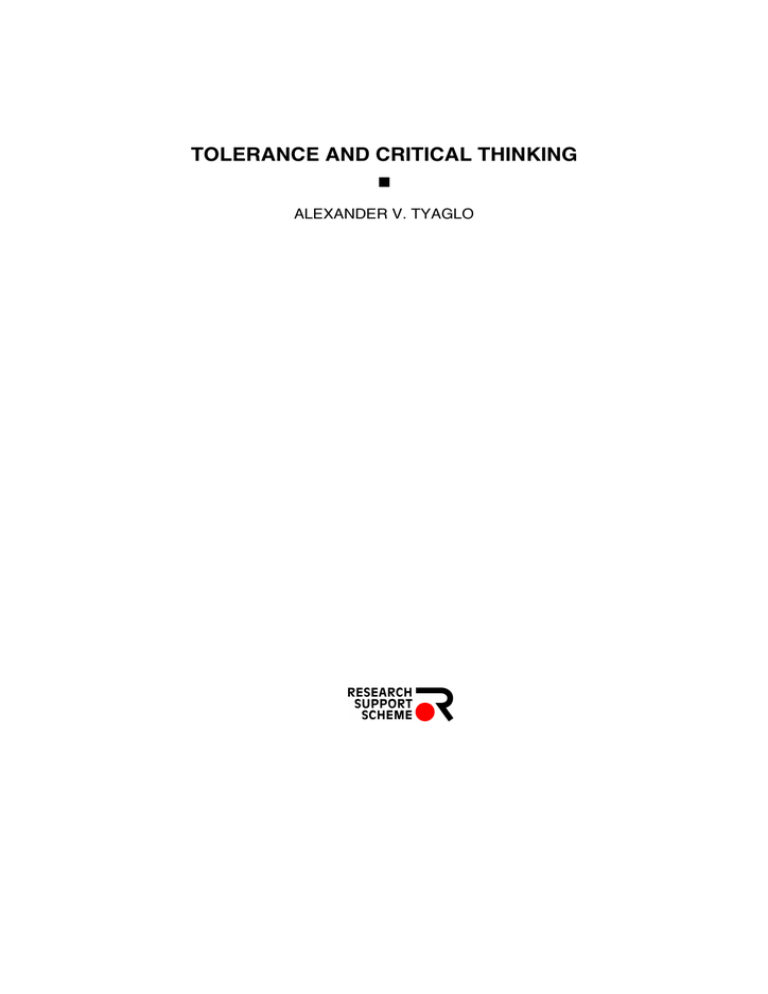
TOLERANCE AND CRITICAL THINKING ALEXANDER V. TYAGLO Copyright 1999 ALEXANDER V. TYAGLO This research report was downloaded from the Research Support Scheme Electronic Library at http://e-lib.rss.cz. The report was published by the Higher Education Support Program of the Open Society Institute. The digitization of the report was supported by the publisher. OPEN SOCIETY INSTITUTE HIGHER EDUCATION SUPPORT PROGRAM Open Society Institute Higher Education Support Program Nádor u. 11 H-1051 Budapest Hungary www.osi.hu/hesp This research report was made possible with a grant from the Research Support Scheme of the Open Society Support Foundation. Research Support Scheme Bartolomějská 11 110 00 Praha 1 Czech Republic www.rss.cz The digitization and conversion of this report to PDF was completed by Virtus. Virtus Libínská 1 150 00 Praha 5 Czech Republic www.virtus.cz The information published in this work is the sole responsibility of the author and should not be construed as representing the views of the Open Society Institute. The Open Society Institute takes no responsibility for the accuracy and correctness of this work. Any comments related to the contents of this work should be directed to the author. All rights reserved. No part of this work may be reproduced, in any form or by any means without permission in writing from the author. Contents 1. Многоликая толерантность. Философское исследование .....................................................................1 1.1. О метаморфозах толерантности ..........................................................................................................1 1.1.1. Генезис религиозной терпимости .................................................................................................2 1.1.1.1. Древний Египет..........................................................................................................................2 1.1.1.2. Древний Рим ...............................................................................................................................3 1.1.1.3. Проблема веротерпимости в христианстве..........................................................................9 1.1.2. Религиозные войны — апофеоз нетерпимости........................................................................11 1.1.3. От религиозной терпимости - к светской толерантности......................................................12 1.2 Анализ современного понятия толерантности ................................................................................13 1.2.1. Многообразие толерантности .....................................................................................................13 1.2.2. „Толерантность“ в системе понятий ..........................................................................................15 1.2.2.1. Толерантность и плюрализм.................................................................................................15 1.2.2.2. Толерантность и особенное - универсальное ....................................................................16 1.2.2.3. Толерантность и уважение ....................................................................................................18 1.2.3. О типологии концепций толерантности ....................................................................................20 1.2.4. Исследование обоснования толерантности ..............................................................................24 1.2.4.1. О негативном обосновании толерантности .......................................................................24 1.2.4.2. О позитивном обосновании толерантности .......................................................................25 1.2.4.3.Научный метод как принуждение? .......................................................................................29 1.2.4.4. Толерантность и регулируемая конкуренция....................................................................33 2. Два начала критического мышления .......................................................................................................36 2.1. Познавательные истоки критического мышления ........................................................................36 2.1.1. Фундаментальная роль критицизма в познании.......................................................................36 2.1.2. Соотношение критического и догматического мышления в научном познании..............39 2.1.3. Критическое мышление и апологетика: проблема демаркации ..........................................41 2.2. Социальные истоки критического мышления ................................................................................43 2.2.1. О социальных истоках критицизма по Карлу Попперу .........................................................43 2.2.2. Неизбывность негативных социальных истоков критицизма ..............................................45 2.2.3. О позитивном истоке критического мышления. Критицизм и толерантность - две манифестации свободы ...........................................................................................................................46 2.2.3.1. Критицизм и толерантность в доиндустриальном обществе .........................................47 2.2.3.2. Критицизм и толерантность в индустриальном обществе..............................................55 2.2.3.3. Перспективы критицизма и толерантности в постиндустриальном обществе ..........59 3. Эволюция логико-философских оснований критического мышления ............................................62 3.1. Принципиальная ограниченность формально-логических оснований критического мышления.......................................................................................................................................................62 3.2. Неформальная логика как современное основание критического мышления........................64 3.3. Развитие оснований критицизма в структуре глобальных изменений современной культуры Запада .............................................................................................................................................................65 3.4. О диалектической логике как основании критицизма ..................................................................67 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках .........................................71 4.1. Традиционные проблемы герменевтики ..........................................................................................71 4.2. Эволюция герменевтики: от эпистемологии к онтологии понимания .......................................77 4.3. Деконструктивизм - современный проект критического мышления.........................................84 4.3.1. Об источнике и парадигме деконструктивизма .......................................................................84 4.3.2. У истоков деконструкции: Ф.Ницше ..........................................................................................85 4.3.3. Деконструктивная критика: варианты и инварианты ............................................................88 4.3.4. Герменевтика и деконструкция: Гадамер и Деррида ..............................................................94 4.4. Проблема автора в контексте критической герменевтики ..........................................................99 4.4.1. «Смерть автора»: анализ первоисточников ..............................................................................99 4.4.2. «Смерть автора»: история непонимания..................................................................................114 4.4.3. Автор как проблема повествовательной инстанции.............................................................119 4.4.4. «Авторские маски В.В. Набокова (по роману «Отчаяние») ...............................................122 4.4.5. Автор в лабиринте интертекстуальности ...............................................................................126 4.4.6. Субъект и дискурс: проблема повествовательной идентичности ......................................131 4.4.7. Автор в металитературе, или Кто написал «Бледное пламя»? ..........................................134 4.4.8. Феноменология стиля (на материале творчества М.Пруста) .............................................136 4.4.9. Проблема автора в философском дискурсе: концептуальные персоны...........................150 4.4.10. Сотворение автора в критической герменевтике................................................................154 5. Толерантность и критическое мышление в перспективе трансформации пост-советского образования .....................................................................................................................................................160 5.1. Проект программы спецкурса «Проблема толерантности» ......................................................160 5.2. Проект учебной программы «Логика с элементами курса критического мышления»........163 5.3. Вариант учебной программы «Введение в критическое мышление» ......................................170 5.4. Современная литература по критическому мышлению .............................................................171 Предлагаемый далее текст является усовершенствованным вариантом Отчета, подготовленного А.В.Тягло (научный руководитель), Т.С.Воропай и С.Л.Евсеевым по результатам исполнения Проекта, поддержанного the Research Support Scheme of the OSI/HESP (1997-1998), грант №1619/1997. Уже после подготовки Отчета увидели свет работы, в которых авторы развивали и уточняли высказанные в нем идеи и их обоснование: - Тягло О.В., Кривуля О.М., Воропай Т.С. Філософія. Книга 1. Хронологічнотематичний огляд. - Харків: Університет внутрішніх справ, 1999. - 374 стор. - Тягло А.В., Воропай Т.С. Критическое мышление. Проблема мирового образования ХХІ века. - Харьков: Университет внутренних дел, 1999. - 285 стр.1 В поданном далее тексте использованы фрагменты этих работ. Окончательное составление предлагаемого текста выполнено А.В.Тягло. Ответственность за написанное - исключительная прерогатива каждого из авторов. А.В.Тягло, Т.С.Воропай, С.Л.Евсеев, 1999 1 Текст этой монографии можно найти в Internet по адресу:< http:/www.geocities.com/tyaglo/>. 1 1. Многоликая толерантность. Философское исследование 1. Многоликая толерантность. Философское исследование 1.1. О метаморфозах толерантности Обращение к исследованию толерантности неизбежно сталкивается с рядом методологических проблем. Во-первых, что именно является здесь объектом исследования? С одной стороны, на сегодняшний день употребление самого понятия “толерантность” (“терпимость”) чрезвычайно широко, а порою и противоречиво, так что кажется, словно оно охватывает практически все сферы и виды человеческой деятельности. Привлекая к анализу все то, что другие подводят под понятие “толерантность”, рискуешь утонуть в неимоверном объеме разнообразнейших, несоразмерных феноменов. С другой стороны, можно произвести отбор фактов для анализа, используя определенную теоретическую схему. Однако основанному на некоем теоретическом исследовании избирательному описанию исторического становления толерантности, очевидно, должно предшествовать само это исследование, но оно же, в свою очередь, должно возводиться на по возможности полном фактическом материале. Можно было бы в историческом обзоре ограничиться лишь теми случаями, в которых сами люди той или иной эпохи говорили о толерантности, артикулировали это понятие. Однако такое исследование было бы скорее историей понятия, и только. К тому же, начало широкого введения в оборот понятия толерантности находится, с исторической точки зрения, в весьма недалеком прошлом, в эпохе религиозных войн XVI в. Не пытаясь объять необъятное, ограничимся в основном попыткой реконструкции толерантности по самой простой из ее форм — веротерпимости. Оправданием такого ограничения может служить длительная история религиозных разногласий и, вследствие этого, богатый материал, связанный с данной проблемой — как фактический, так и критический. Именно в сфере религии проблема толерантности находит наиболее полное парадигмальное решение. Под проявлениями религиозной нетерпимости следует понимать либо запрет, преследование некой конфессии, либо принуждение к принятию чужой религии. Однако саму религию можно структурировать, по меньшей мере, на три крупных составляющих — вероучение, культ и организацию, и вполне закономерно, что разные культуры не в одинаковой степени уделяли особо пристальное внимание той или иной из этих частей. Интересное наблюдение сделал в свое время О. Шпенглер. Он отмечал, что античная религия ориентировалась на чувственный аспект, т.е. культ, и пренебрежение им считалось безбожным. Нововременная “фаустовская душа”, наоборот, большее внимание обращало на догмат, не допуская свободы совести. Именно в вопросах культа афинский народ “проявлял неумолимость испанской инквизиции… Во всех подобных случаях речь идет об «атеизме», каким он рисовался античному богочувствованию и поскольку он проявлялся в теоретическом или практическом неуважении к культу... …Обратно: поэты и мыслители зрелой фаустовской культуры могли свободно «не ходить в церковь», уклоняться от исповеди, оставаться дома во время процессий, жить в протестантской среде без всякой связи с церковными учреждениями; единственно, что им не разрешалось, это касаться догматических частностей“.2 2 Шпенглер О. Закат Европы - Новосибирск, 1993. - С. 545-547. 1. Многоликая толерантность. Философское исследование 2 Из этой цитаты можно вынести один очень важный вывод: рассуждая о веротерпимости, нельзя забывать, что в каждую историческую эпоху по-разному понималась суть религии и, следовательно, веротерпимость или ее противоположность. Если та или иная имела место, то должна была или могла проявляться в отношении конкретного аспекта религии. 1.1.1. Генезис религиозной терпимости Веротерпимость — исторически первая, исходная форма толерантности. Действительно, уже древние греки отличались способностью ассимилировать чужих божеств, равно как и умножать своих. Для греков иноземные божества “были лишь формой их собственных, измененных и наделенных бесчисленным множеством местных особенностей”3. Но является ли эта способность исключительно греческой прерогативой? 1.1.1.1. Древний Египет В Египте изначально отношение к чужеземцам было исключительно враждебным. В идеологи бытовало представление о том, что все земли принадлежат фараону, а его враги суть мятежники. В древних надписях подчеркивается ничтожество «чужеземцев, ненавидимых богом», перед египетским царем. Враги, как относящиеся к хаосу, не могут даже мыслиться объектом владычества, но только объектом демонстрации власти4. Со временем ситуация меняется. Целью войны вместо истребления врагов начинает выступать расширение рубежей Египта. В текстах появляется мотив их морального унижения, осмеяния. Постепенно происходит переход от военных рейдов и грабежей к упорядоченной эксплуатации колоний. Империя все чаще воспринимается как упорядоченная система и лояльные покоренные чужеземцы начинают рассматриваться как подданные царя, находящиеся под его защитой. В одной из надписей Аменхотепа встречается немыслимое прежде сравнение иноземных правителей и египетских воинов: «Нет (такого, кто бы) натянул лук его (царя) из войска его, из властителей чужеземных стран (и) князей Речену». Теперь можно встретить даже мотивы милосердия царя к побежденным, обращения чужеземных князей к фараону с просьбой о военной помощи, указания на благодетельность власти фараона для верных ему чужеземных подданных и добровольность приношений чужеземцев.5 Характерные для начала династии ненависть и презрение к чужеземцам притупляются. Аменхотеп III уже называет себя в одном и том же тексте «солнцем девяти луков» (т.е. чужеземцев) и «солнцем обоих берегов» (т.е. Египта в целом). Сохранилась статуя Аменхотепа III в азиатском одеянии. В гимне Йоту Аменхотепа IV чужеземные страны включаются в сотворенный Йотом упорядоченный мир. В эпоху Амарны появляются изображения египетских воинов, набранных в завоеванных провинциях. В одной из надписей времени Тутанхамуна даже прямо говорится о любви царя к его нубийским подданным.6 3 Romilly de J. Pourquoi la Grece? - Paris. - 1992. - P.119. 4 Дейнека Т.А. Идеологическое обоснование внешней политики Египта в XVI - XIV вв. до н. э. // Вестник древней истории. - 1990. - № 2 - С.138-139. Анализ проводится на эпиграфическом материале XVIII династии. 5 Дейнека Т.А. Идеологическое обоснование внешней политики Египта... - С. 142-143. 6 Там же - С.149-150. 1. Многоликая толерантность. Философское исследование 3 Но удивительное дело: хотя отношение к чужеземцам эволюционирует от совершенной ненависти до принятия их в “свой”, упорядоченный мир, отношение к чужеземным богам практически не зависит от целей и идеологии внешней политики. Фараоны чрезвычайно преемственны в стремлении заручиться поддержкой этих божеств. Даже во времена наибольшей агрессии прослеживается желание подчеркнуть свою близость к чужим богам. В надписи Тхутмосе I в Махатте, у первого нильского порога, царь назван «любимцем Сате Элефантины». В надписи в Семне царский сановник Иун-Мутеф, представляя Тхутмосе III нубийскому богу Дедуну, обращается к последнему со словами: «Да даруешь ты мощь его (т.е. ему), да создашь ты уважение к нему в сердцах кочевников-нубийцев в награду за этот памятник добрый, прочный, превосходный, сделанный им для тебя». Тем более понятны претензии фараона на покровительство богов покоренных территорий в более мирные времена. Так, Аменхотеп III — «возлюбленный богами Вават» (область от Асуана до вторых порогов). Любовь к царю богов Египта и Нубии подчеркивают его эпитеты на памятнике Харемха.7 Итак, египетские фараоны настойчиво пытались превратить чужих богов в своих союзников. Всемирным — учитывая весьма ограниченные размеры тогдашнего “мира” — характером обладают шумеро-аккадские божества. Их заимствовали, например, хетты, приспосабливали под собственную мифологию древние евреи. Чрезвычайно “терпимыми” были ахеменидские персы8. Их терпимость распространялась и на политический строй: несмотря на деление персидской державы на сатрапии, в покоренных странах сохранялась политическая автономия. До ионического восстания, положившего начало греко-персидским войнам, малоазийские греки могли управляться по собственным законам. Более того, зять Дария Мардоний ликвидировал в малоазийских городах тирании и установил демократии9, считая их более безопасными для персидской державы. Таким образом, можно отметить, что „веротерпимость“ древних обществ связана с представлением об эквивалентности, равенстве „своих“ и „чужих“ богов. К тому же, в эту эпоху религия еще не осознается как нечто довлеющее над другими формами социальной жизни, отступая на второй план перед политическими, военными или экономическими интересами. 1.1.1.2. Древний Рим Римская история дает противоречивые примеры отношения к иным религиям. Сами римляне осознавали необходимость дифференцированного отношения к религии. Так, Варрон выделял три вида представлений о богах: “мифический, наиболее пригодный для театра и поэтов; физический, ведущий к познанию мира и нужный философам, исследующим природу богов, и гражданский — civile, нужный городу и обязательный для граждан, которые под руководством жрецов должны знать, как, когда и каким образом следует почитать тех или иных богов”.10 Следует обратить внимание на то, что именно третий, гражданский вид наиболее важен для римлянина и сводится целиком и полностью к области культа, практического священнодействия. В течение многих веков римская религия вбирала в свой пантеон новых божеств. Его расширение шло вместе с включением в состав Рима новых общин. Некоторые боги 7 См. там же - С.140, 150, 152-153. 8 См.: История древнего мира. [Кн. 2]. Расцвет древних обществ. – М.:, 1983. - С. 156-158. 9 Геродот. VI, 43. 10 Штаерман Е.М. От религии общины к мировой религии// Культура древнего Рима. Т. 1.- М., 1985. - С. 156. 4 1. Многоликая толерантность. Философское исследование при этом сливались и смешивались, некоторые забывались. Но при этом ни старые, ни новые боги не имели никаких преимуществ. Со временем некоторые древние римские боги совершенно сошли со сцены, а некогда чужие — стали общеримскими. Отождествление вплоть до слияния (interpretatio romana) туземных богов с римскими происходило по-разному. Чаще всего, вероятно, оно начиналось на уровне средних и низших слоев, хотя иногда инициатива исходила от властей.11 Можно предположить, что официальное признание божеств лишь фиксировало существующее положение вещей. Ввести в пантеон совершенно чуждые римской религии божества вряд ли было возможным. Например, попытка императора Элагабала перенести в Рим культ своего эмесского солнечного бога закончилась неудачей. Римлянин считал своим долгом уважать божества тех стран, в которых они находились. С глубокой древности до эпохи Империи просуществовала формула обращения ко многим божествам или „ко всем богам и богиням“, жреческий ритуал предписывал после обращения к конкретному божеству обратиться и ко всем остальным божествам, в число которых попадали и местные боги. Более того, магистратам, отвечавшим за новое размежевание земли, предписывалось „с величайшей религиозностью“ сохранять священные места, священные рощи, оставляя за ними прежний статус, а захватившему их предъявлять иск. Сохранялись, хотя и под наблюдением понтификов, старые формы организации культа. На севере Италии Минерве был даже посвящен земельный участок вместе с населявшими его людьми, тогда как римские законы посвящать богам землю запрещали. Римляне полагали возможным переманивать божество на свою сторону. Чтобы обезопасить себя от подобных действий со стороны врагов, они скрывали имена своих богов. Так, по этой причине к Юпитеру понтифики обращались, говоря: Iuppiter Optimus Maximus, sive quo alio nomine te appelare volueris („Юпитер Наилучший Величайший, или каким бы другим именем ты хотел бы называться“).12 Но точно так же можно было поступить и с чужими богами. Боги врага переманивались путем особой процедуры — evocatio — и становились богами римской общины.13 При принятии греческих богов римляне имели особые мотивы. Необходимость подкрепить военное господство идеологическим обоснованием своего места среди тогдашних „великих держав“, повлекло, кроме всего прочего, заимствование греческих мифов, ритуалов, отождествление римских богов с греческими, стремление доказать тождество греческих и римских институтов, в том числе и религиозных.14 Итак, принятие чужеземных богов в римский пантеон определяется желанием привлечь их на свою сторону. Римская религия была связана не с индивидами, а с коллективами, что послужило основой формированию идеи первичности человеческих институтов перед религиозными. Священнодействия (sacra) в Риме пронизывали всю социальную структуру - от фамилии до гражданской общины. И хотя они делились на частные, коллективные и общенародные, все имели целью почитание одних и тех же богов при помощи сходных церемоний. Все sacra находились под надзором понтификов, составляя часть одного целого. Участие в них определялось не личным выбором, а причастностью к той или 11 См. там же. - С. 143, 149, 174 -175. 12 Ср.: “Зевс! Каким бы ни был его настоящее имя, если оно ему нравится, то им я его называю” (Эсхил. Агамемнон, 160-162). 13 Штаерман Е.М. От религии общины… - С. 109, 133. 14 Там же. - С. 146. 5 1. Многоликая толерантность. Философское исследование иной социальной группе, а в конечном итоге — к римскому народу. Культовые действия главы фамилии по своей форме и смыслу были тождественны действиям римского царя, жреца, консула в культе гражданской общины в целом. Значимость фамильного культа отразилась в крылатом выражении: heredites sine sacris (наследование без обязанностей совершать священнодействия) как синониме прав без обязанностей. Связь религиозных обязанностей с правомочностью главы фамилии выступает и в формуле лишения расточителя правоспособности: „Так как ты своей негодностью губишь отцовское и дедовское имущество и ведешь детей к нужде, я отлучаю тебя от Лара и ведения дел“. 15 Фамилия была мельчайшей структурной формой общины и такое внимание к ее религиозной жизни само по себе дает возможность оценить значимость религиозной деятельности на уровне государства в целом. В плане организации культа римская религия была достаточно неуступчива. Это отражает прежде всего, непосредственную связь религии и социальных объединений. Любые коллегии формировались вокруг какого-нибудь божества и человек, непричастный к sacra какого-нибудь коллектива, как бы выпадал из социальных связей и казался поэтому презренным и опасным. В то же время государство строго следило за созданием новых коллегий; в императорские времена, организация коллегии, в том числе и культовой, учрежденной без особого разрешения правительства, приравнивалась по закону к вооруженному захвату здания. Жречество как самостоятельная сила, как известно, в Риме не сложилось. Жреческие должности превратились в магистратуры. Само государство строго следило за религиозными действиями своих сограждан. Например, всякого рода знамения — голоса, видения, вещие сны — должны были сообщаться сенату, а он уже решал, стоит ли на них реагировать и каким именно образом. 16 Отсутствие собственных мифов о богах компенсировалось так называемым “римским мифом”. Он содержал единую центральную идею — идею исключительности судьбы Рима, боги в нем выступают как участники и покровители римской истории, гарантирующие ему величие и власть. Божественное участие в создании римских институтов превращало служение Риму в служение богам, а любое выступление против него в выступление и против них. Хотя в пределах фамилии носителями этического начала были Лары, но не божества, а гражданская община служила основанием этики, высшей этической санкцией было одобрение или осуждение сограждан. Тесная связь социальной идентичности и культа нашла отражение в традиционной римской системе ценностей. Уникальной чертой римской религии является обожествление добродетелей и близких к ним понятий. Наиболее важными среди них были Pietas — соблюдение долга относительно родителей, детей, богов, родины, Virtus— Доблесть, Honos — почет от сограждан, заслуженный подвигами во имя родины, Concordia— согласие между гражданами. Эти добродетели определяют облик не человека вообще, а именно гражданина, “существа политического” по определению Аристотеля. Не выходя за пределы мифологического восприятия универсума, римляне не отделяли мир богов от реального мира. “Новые боги как бы принимались в общину римских богов, как перегрины принимались, получая римское гражданство, в римскую гражданскую общину на условии подчинения обязательным для граждан законам и установлениям. Они получали храмы, жрецов, посвященные им 15 Там же. - С.120, 133, 123. 16 См. там же. - С.134,150,204. 6 1. Многоликая толерантность. Философское исследование празднества, но из их культа исключались элементы, противоречившие римским „добрым нравам“, предполагавшим сдержанность, серьезность и строгость поведения”17. Римская религия предполагала включенность богов и предков в общину. Такая связь устраняла представление о сверхъестественном в современном понимании этого слова. Боги могли активно вмешиваться в жизнь людей, неся им беды и несчастья, но все это входило в естественный порядок вещей, могло быть улажено. Боги подчинялись тем же законам, что и люди, а вовсе не создавали их. Отсутствие высших сил, определяющих эти законы, исключало опасность оскорбить их нарушением какого-то предписанного ими непостижимого человеческому разуму учения, требующего слепой веры. “Законы религии общин были в конечном счете законами самих общин. Они утверждали основополагающую взаимосвязь изначального органического единства общин и вторичность, производность множественности их сочленов, к числу которых принадлежали и боги. Не было в римской религии и какого-то божественного оправдания существующей социальной структуры, санкции повиновения низших высшим. Рабы повиновались господам не потому, что так предписали боги, а потому, что господа обладали правом принуждения, действовавшим до тех пор, пока раб не избавлялся от власти господина, получив вольную или бежав”.18 В некоторых случаях политическая основа перемен в религии лежит на поверхности. Во время II Пунической войны в Риме не только ввели уже упоминавшийся культ Кибелы. Религиозным церемониям был придан более массовый и колоритный характер. Во время Сатурналий, отмечает Е.М. Штаерман, “рабы в память о „золотом веке“ Сатурна пировали вместе с господами и пользовались дозволенной карнавалом свободой, жители же города высыпали на улицу с зажженными светильниками, обменивались подарками”. В веселый праздник плебса превратились восстановленные игры в честь Флоры — Флоралии. “Вместе с тем крайняя опасность положения заставила прибегнуть к давно уже не практиковавшимся человеческим жертвоприношениям”. Реформа религии как зеркало отражало экстраординарность других мер и вполне отвечала политическим задачам того времени. Римляне в этом отношении не представляют какого-то особого случая. Подобное стремление использовать богов покоренных народов была характерна и для других народов древности. Много столетий раньше именно так поступали, как уже отмечено выше, египетские фараоны и персидские цари. Вдохновленное греческой философией свободомыслие легко находило себе путь к умам широких масс через произведения поэтов и драматургов. Пакувий, Энний, Акций вкладывает в уста своих героев сомнения даже в существовании или праведности самих богов. 17 Там же. - С.135-149. 18 Штаерман Е.М. От религии общины… - С. 140-141. “Участие в культе своего коллектива было делом в прямом смысле общественным, а эмоции, вера, мысли — делом личным. В этом смысле тогдашнее отношение к религии не отличалось от отношения римлян ко многим другим сторонам жизни. Так, раб и сын обязаны были повиноваться господину и отцу, гражданин — магистратам и законам, но никто не требовал, чтобы раб любил господина, сын — отца, гражданин — консула и сенат. Напротив, считалось естественным, что раб ненавидит господина, сын тяготится властью отца, а плебс враждует с сенатом”. См. там же - С.173. 7 1. Многоликая толерантность. Философское исследование Особой формой религиозного поклонения были мистерии. Они предполагали привязанность к какому-либо отдельному божеству, известную эзотеричность обрядов и организации. И все же они кроме культа основного божества включали почитание других богов, связанных с его священной историей. Не исключали они и принадлежности к какой-либо философской школе. Так, платоник Апулей был причастен к мистериям Исиды и Осириса. Его трактовка вопроса о боге различна в философских трудах и в “Метаморфозах”. Но при всей преданности миста своему божеству за ним сохранялась свобода суждений; догма еще не сложилась. Тот же Апулей был посвящен и в разные мистерии и в то же время считал обязательным соблюдать старинные религиозные обычаи.19 Формально случаи преследований по религиозным мотивам оправдывались защитой добрых нравов и законов предков. Так было в деле с вакханалиями, тем же основанием подкреплялось сожжение “книг Нумы”. Пифагорейство, которое, возможно, оказало влияние даже на официальный культ, встретило противодействие у части сената и в 181 г. до н. э. были сожжены „книги Нумы“. Тит Ливий приводит другой пример, связанный с преследованием вакханалий. Явно сгущая краски, он сообщает об осуждении 7000 человек. Сокращенное изложение сенатского постановления 186 г. до н.э. о мерах против вакханалий дает гораздо более мягкую картину, чем Ливий. Культ Вакха — Диониса (отождествлявшегося с Либером) не запрещался, а только нормировался в определенных пределах, чтобы “не страдали „добрые нравы“ и не создавались тайные организации заговорщиков — опасность, пугавшая римское правительство во все века его существования”.20 На рубеже старой и новой эры Рим перестал быть гражданской общиной. Древняя религия все чаще воспринимается с утилитарной точки зрения. В глазах знати она все больше превращалась в средство воздействия на народ. Просвещенный грек Полибий объяснял приверженность римлян богам сознательным стремлением государства держать в повиновении толпу (VI, 56, 8-12). Варрон, вопреки древним представлениям, считал полезным обожествление великих людей, поскольку их вера собственную божественность или родство с богами способствует большему рвению во благо родины. Но нетрудно заметить, что необходимость религии обосновывается все теми же политическими целями — сохранением стабильности государственного строя. При этом сохраняется неизменным принцип организации священнодействий через создание пусть даже искусственных коллективов, своего рода псевдо-общин. Прежде всего это касалось того слоя людей, который сформировался в результате мобильности населения и оказался непричастным к традиционным sacra. Культы римской civitas были слишком массовыми, чтобы организовывать частную жизнь в достаточной мере. К тому же к ним могли быть причастны только римские граждане. Поэтому в это время по инициативе государства, городов, частных лиц в большом числе создаются коллегии. Они организовывались или по принципу соседств, или по принципу профессиональному, или “специально для обслуживания культа того или иного божества. В отношении последнего они также выступали как общины”. Предпосылки императорского культа сложились еще до Августа. Новым была стройная организация и массовый масштаб. Август использовал запрещавшиеся сенатом компитальные коллегии, сумев “и якобы удовлетворить желания плебса, и вытравить из компитальных организаций мятежный дух, поставив их на службу новому режиму. Во всех 265 кварталах Рима, а также в италийских городах из 19 Штаерман Е.М. От религии общины… - С.162, 190-191. 20 Штаерман Е.М. От религии общины… - С. 160. 8 1. Многоликая толерантность. Философское исследование числа плебеев, вольноотпущенников и рабов избирались магистры и министры компитальных Ларов и Гения Августа”. При преемниках Августа этот культ получил сложную разветвленную структуру, благодаря которой “все слои общества вовлекались в облаченное в религиозную форму выражение верноподданнических чувств”.21 Клятва Юпитером и Августом или его Гением стала официально считаться самой священной, ее нарушение приравнивалось к оскорблению величества и святотатству, два преступления, вскоре слившиеся в одно, жестоко каравшееся, отмечает Е.М. Штайерман.. Чужих божеств римская религия принимала далеко не просто. Современные исследования разрушают стереотип повсеместного распространения в Риме восточных культов на рубеже эры. Массовый, эпиграфический материал показывает, что и при Республике, и в эпоху Империи к восточным богам обращались по преимуществу члены императорской администрации и военные, когда тот или иной из этих богов особо выделялся императором, и гораздо реже частные лица, к тому же часто бывшие купцами — выходцами из восточных областей. Более популярными были издавна известные Исида и Серапис, а также Кибела. В основном же надписи показывают, что наиболее почитаемыми оставались римские, греческие и туземные боги. Самыми массовыми, демократическими, политически активными оставались коллегии компитальных Ларов. т.е. божеств, связанных с самыми основами римской жизни и римской религии.22 Нетерпимость римлян достаточно точно определяется причастностью культа к политике. В самом деле, принимая во внимание приоритет политических институтов по сравнению с религиозными, как воспринималось их взаимоотношение в сознании древних римлян, становится понятным, почему римское государство активно вмешивалось в религиозную жизнь своих граждан. Но именно своих. Римляне никогда (во всяком случае, опровергающих это никогда источников, похоже, не сохранилось) не пытались навязать своих богов или культ иным народам. Императорский культ, по сути, явился продолжением древней традиции, он также был призван напомнить гражданам об их принадлежности единому государству (как прежде — общине). Принятие чужих божеств в римский пантеон носило характер принятие их в римскую общину, и они получали все права римских богов, как новые граждане получали все гражданские права. Преследование чужеземных культов, не отвечающих “добрым нравам предков”, в конечном итоге было снова-таки политическими действиями. Парадоксальное на первый взгляд требование к даже самым высокопоставленным слоям Рима самолично возделывать землю скрывало исконные римские права и обязанности: право на землю и военную повинность (боеспособность как раз и определялась количеством обрабатываемой земли). Здесь же надо вспомнить мнительность римлян по поводу опасности заговора. Это, кстати, объясняет предубежденное отношение к первым христианам — они отказывались участвовать в государственных культах, а свои обряды совершали втайне, что вызывало подозрения в заговоре. Отношение к другой религии предполагает, соответственно структуре самой религии, отличия в отношении к догматике, культу и организации. Последняя обязательно включает иерархию и, следовательно, властные отношения. Институциализация верований, таким образом, имплицитно содержит конкуренцию официальной управленческой структуре. Никто из власть имущих никогда не 21 Там же. - С.157,171-182. 22 Штаерман Е.М. От религии общины… - С. 174-175, 170. 9 1. Многоликая толерантность. Философское исследование соглашался отдавать хотя бы часть своих прав другому субъекту. Интолерантность в этом случае вполне естественна (другой вопрос — оправдана ли она). Рим дает этому прекрасный пример. Как только религия (через свою организацию) становилась реальной угрозой для официального (государственного) священнодействия, так сразу же она поучала должный отпор. Иное вероисповедание - как частное дело - не вызывало, как правило, отрицательного к себе отношения. Проблемы возникали вместе с превращением религии в дело государства. На закате Империи от гонимых христиан требовалось лишь одно — признать божественность императора, что фактически означало засвидетельствовать свою лояльность. Существенная причина гонений, как уже говорилось, лежит за пределами религиозных споров. Императоры видели в тайной секте скрытую угрозу государству. Несмотря на старания евангелиста Луки “умыть руки” Понтию Пилату, именно римские власти казнили Иисуса Христа. Почему, тоже не очень сложно понять. Независимо от действительной проповеди Иисуса, что бы он на самом деле ни говорил, к чему бы ни призывал, народные массы, воспринимая его как мессию, освободителя, не могли представить себе иных способов освобождения кроме вооруженной борьбы. Шутовское оскорбление “царь иудейский” скрывает реальные надежды евреев на восстановления суверенности Иудейского царства, бывшего в то время римской провинцией. Нельзя, конечно, сбрасывать со счетов возможное желание найти “козлов отпущения”, дабы переложить ответственность за неудачи внутренней и внешней политики на все еще чуждое для массы населения империи течение. Возможен и вариант попытки обогатиться за счет постепенно крепнущих христианских общин. Что же касается чисто религиозного аспекта гонений, то он состоял в отказе христиан приносить жертвы перед статуями императора. Это был государственный культ, жертвоприношение фактически выступало свидетельством лояльности к властям. Христиане видели проблему иначе. На первом месте у них стояло именно религиозный смысл этого действа, которое они, по вполне понятным причинам, отвергали. 1.1.1.3. Проблема веротерпимости в христианстве Христианство довольно рано стало противопоставлять себя язычеству. Так, 40-й канон Эльвирского собора, состоявшегося в начале IV в. в испанском городе Иллиберрисе, запрещал господам-христианам засчитывать при расчетах с колонами их затраты на жертвоприношения местным богам. Однако, находясь в положении гонимой, христианская церковь допускала некоторую снисходительность. 41-й канон того же собора предписывал христианам “не держать в доме „идолов“, но если они будут опасаться насилия со стороны рабов (в случае удаления „идолов“), то пусть хоть сами соблюдают чистоту (т.е. оставляя „идолов“, воздерживаются от жертвоприношений и т.п.)”.23 Ситуация менялась, и чем дальше, тем больше, вместе с укреплением позиций церкви. Вопрос о “падших” (lapsi) активно обсуждался начиная с этого самого собора. После 325 г. христианство довольно быстро показало, что оно может быть нетерпимым. К внутренней нетерпимости (наказание еретиков и отступников) добавилась внешняя. После Феодосия I христианская церковь получила в свои руки рычаги светской власти, с помощью которых была запущена карательная машина 23 Штаерман Е.М. От религии общины…- С.203-204. 10 1. Многоликая толерантность. Философское исследование против язычников. Юлиан Отступник и, особенно, Гипатия в полной мере ощутили на себе карательную мощь новой религии. Именно в эту эпоху инакомыслие (вера в иных богов) становится если и не причиной, то уж достаточным поводом, весомым основанием для физического воздействия на тех, кто думает и верит иначе. Христианское учение само по себе не ведет к нетерпимости. Нетерпимость потенциально содержится в христианской доктрине, но в ней же заложена и терпимость. Опираясь на умозрительные принципы, содержащиеся, прежде всего, в евангельской проповеди Иисуса, первые богословы в большинстве своем выступали за свободу совести. Их позиция сводится к двум положениям: 1) принуждение противоречит Писанию, жизни и проповеди Иисуса Христа; 2) для воздействия на еретиков церковь располагает подобающим ее природе духовным наказанием, а именно, отлучением и анафемой. Из общего настроя отцов церкви выбивается позиция Блаженного Августина. Ему принадлежит едва ли не первое теоретическое оправдание использования церковью силы государства ради искоренения ереси и возвращения отступников в лоно ортодоксальной конфессии. Позиция Св. Августина изложена в двух письмах: 93-м, к Винценту, епископу Карфагена, и 185-ом, предназначенном графу Бонифацию. В письме к Винценту, в 408 г., Августин использует евангельскую притчу о пире. После отказа приглашенных гостей явиться на пир, господин велит своим слугам пригласить всех, кого они встретят — «заставьте их войти» (compelle intrare, Лк. 14:2324). Именно эту фразу выделяет Августин, чтобы оправдать принуждение и насилие: «Бережные отношения — не всегда дружба, — пишет Августин в письме к епископу Винценту, - а побои — не всегда неприязнь... Ты полагаешь, что никто не должен быть принуждаем к справедливости; но все же ты читаешь как отец семьи говорит своим слугам: “Всех, кого вы найдете, ведите силой”». В письме к Бонифацию, в 415 г., изложен следующий принцип: «Если мы хотим пребывать в истине, то мы признаем, что гонения безбожников против Церкви Христовой несправедливы, а гонения Церкви Христовой против безбожников — справедливы (...) Церковь преследует из любви, другие — из ненависти...». Первые в Римской церкви оправдания наказания смертью находим у Фомы Аквинского: “Еретики могут быть наказаны еще строже, чем виновные в оскорблении величества или фальшивомонетчики; наказание смертью, следовательно, может быть справедливо наложенным”, — пишет он в “Комментарии на Изречения Петра Ломбардского”.25 Создание инквизиции датируется XIII в. Особенное развитие опиравшаяся на августинизм позиция относительно преследования еретиков получило во Франции в обосновании гонений протестантов. “Варфоломеевская ночь, - напоминает Патрик Рансон, — была поводом к новой публикации письма 93 к Винценту; отмена Нантского эдикта была оправдана и поддержана всеми крупными августианцами: Арно, Томассен, Брюей и адвокат 24 В русском синодальном переводе принудительность фразы смягчена до неузнаваемости: “приведите” совсем не то же, что “заставьте их войти”. 25 In: Terestchenko M. Philosophie politique. 2. Ethique, science et droit. - P.: Hachette, 1994. P. 89-90. 11 1. Многоликая толерантность. Философское исследование Фернан делали сравнение — которое для них было доказательством — церковных ситуаций V и XVII веков”.26 1.1.2. Религиозные войны — апофеоз нетерпимости Не хотелось бы повторять известные факты, демонстрирующие взаимное неприятие противоборствующих сторон в сражениях времен Реформации. Однако одно их перечисление доказывает размах и глубину нетерпимости. Принявшие цвинглианство городские кантоны Швейцарии под флагом религии начали войну против “лесных” кантонов. Реальная причина состояла в том, что старые деревенские “лесные” кантоны с их патриархальным крестьянским населением были связаны наемничеством с папой, французским королем и германским имперским правительством и решительно отвергали новую веру. Первая война (1529) принесла цюрихцам и их союзникам победу, но вторая (1531) закончилась их поражением, сам Цвингли погиб. По предложению Кальвина Женевский совет казнил 58 и изгнал 76 разных лиц, обвиненных в безбожии и безнравственности. Среди них испанский ученый Мигель Сервет, сожженный 27 октября 1553 г. за то, что отвергал учение о святой троице. Размах Реформации заставил церковь пойти на частичную секуляризацию. Но очень скоро она оправилась и в свою очередь перешла в наступление. Тридентский собор (1545-1547, 1551-1552, 1562-1563) отверг всякие компромиссы с протестантами, объявив их всех еретиками. Собор провозгласил папу высшим авторитетом в делах веры и подтвердил сохранение всех прежних догматов и обрядов; сохранились прежняя иерархия и целибат духовенства, монашество, иконопочитание, поклонение мощам, богослужение на латинском языке и т.д. Были созданы духовные семинарии для подготовки священников. Усилилась цензура, учрежден “Список запрещенных книг” (Index librorum prohibitorum). В Нидерландах Реформация происходит на фоне широкой борьбы за независимость. Карл V свирепо подавлял все течения нидерландского протестантизма. Нидерландские епископы получили право инквизиторов для розыска и искоренения “ересей”. Ряд специальных указов (плакатов) был издан императором против “еретиков”. Особенно жестоким был плакат 1550г., который грозил смертной казнью мужчинам мечом, а женщинам закапыванием живьем в землю с конфискацией имущества не только самих “еретиков”, но и каждого, кто оказывал им какое-либо содействие, давал приют или просто дружески говорил с ними. Католическое давление вызвало ответную реакцию. В 1565 г. образовывается “Компромисс дворянства”, включивший около. 2000 дворян-кальвинистов и католиков, склонных к соглашению с кальвинизмом. 5 апреля 1566 г. делегация объединенных дворян обратилась с петицией к правительнице Маргарите Пармской, в которой содержалось требование отмены инквизиции и немедленного созыва Генеральных Штатов. Реакция Филиппа была резко отрицательной. Вскоре кальвинистская буржуазия образовывает свой “Компромисс торговцев”. Кальвинизм быстро распространялся, начиналась революция. С августа до конца октября 1566 г. Нидерланды стали ареной широкого иконоборческого движения. Правительство пошло на уступки. Инквизиция и прочие чрезвычайные суды прекратили официально свою деятельность. Кальвинизм был разрешен как дозволенная религия. Но против разрушителей икон направлялись карательные отряды. В рядах 26 Ibid. 12 1. Многоликая толерантность. Философское исследование самой оппозиции иконоборческое движение вызывало возражения. Лидеры кальвинистов граф Эгмонт и адмирал Гоорн лично участвовали в подавлении иконоборцев. На юге Нидерландов католики-дворяне особо неистовствовали против “мятежной черни”. С августа 1567 г. по декабрь 1573 г. в Нидерландах испанская армия под руководством герцога Альбы устанавливает режим кровавого террора. За время его правления было казнено более 8 тыс. человек. 1 апреля 1572 г. начинается восстание на севере, в результате которого Вильгельм Оранский провозглашается штальтгальтером, фактически образуется независимое государство. Альбу сменяет генерал Рекезенс, после внезапной смерти которого весной 1576 г. испанская армия была деморализована. 4 сентября в Брюсселе в результате восстания власть переходит к Генеральным Штатам. 4 ноября 1576 г. испанскими солдатами был сожжен и разграблен Антверпен (“испанское бешенство”); погибло около 8 тыс. горожан. Антверпен как торгово-промышленный центр был уничтожен. Эти события подтолкнули южные провинции к переходу на сторону Северных Нидерландов. 8 ноября 1576 г. в Генте было подписано “Гентское умиротворение”. Согласно ему штаты Голландии и Зеландии и Генеральные Штаты южных провинций договаривались о совместной борьбе против испанцев. Договор предусматривал сохранение католицизма на юге, но одновременно признавал свободу кальвинизма и факт секуляризации церковных имуществ на севере. Таким образом, это "толерантное" соглашение было продиктовано общими политическими целями католиков и протестантов. Начатая королем Генрихом VIII, Реформация в Англии привела к образованию так называемой англиканской (епископальной) церкви. Во главе церкви стоял монарх, поэтому правительство одинаково враждебно стало относиться не только к католикам, но и к представителям иных протестантских конфессий, в частности, к кальвинистам, которых в Англии называли пуританами. При Елизавете был совершенно воспрещен доступ в Англию иезуитам. Католики должны были уплачивать высокие дополнительные налоги. Переход из протестантизма в католицизм был приравнен к государственной измене. Пуритан, как и католиков, сажали в тюрьмы, изгоняли их страны, подвергали всевозможным штрафам.27 Протестанты не только не уступают в своем благочестивом рвении католикам, но даже порой их превосходят ожесточением. Пожалуй, чуть ли не главное отличие протестантов состоит в том, что они проявляют интолерантность или, по крайней мере, стремятся к этому не только тогда и там, когда и где они обладают силой — ведь так поступают и католики — но и находясь в явном меньшинстве. “Очищенная” вера придает им гораздо больше новых сил. Кровавые события Реформации и Контрреформации имели своим следствием ряд законодательных актов в разных странах: Аугсбургский мир, Нантский эдикт, Гентское соглашение, Варшавская конференция. 1.1.3. От религиозной терпимости - к светской толерантности Реформация до крайней степени обострила вопрос нетерпимости, это так. Но интолерантность реформаторов и контрреформаторов была вызвана, прежде всего, политическими и социальными интересами. Немецкие курфюрсты и швейцарские кальвинисты, английские монархи, Бурбоны и Гизы — независимо от того, что они 27 См.: Семенов В.Ф. История средних веков. - М., 1970. - С.462-480, 493, 499. 13 1. Многоликая толерантность. Философское исследование делали или говорили и даже искренне верили — разыгрывали карты конфессиональной принадлежности в игре, ставкой в которой была власть. Со временем это очень тонко подметил Локк и с откровенностью, граничащей с цинизмом, напрямую связал необходимость проведения веротерпимости с достижением государственнополитических целей. Следует отметить, что именно из среды протестантов раздаются первые призывы к веротерпимости. Речь идет о Пьере Бейле и Джоне Локке.28 Показательно, что различие между ними начинается уже в том, что они апеллируют первый — к католикам, отстаивая право на свободу совести свое и своих единоверцев, второй — к протестантам (!) — защищая аналогичное право за различными конфессиями (исключая из этого списка католиков, и принимая в него иудеев и даже мусульман!). Оба они пришли к своим выводам, имея перед собой различные цели, но отправным пунктом для обоих была, безусловно, социальная реальность XVII века. Итак, нововременная фаза истории принципа терпимости берет начало в религиозных войнах и преследований по признаку веры в Европе ХVI - XVII веков. В это время были найдены аргументы, сохраняющие силу до сих пор: утверждение, что истина развивается со временем, но никогда не может быть провозглашена окончательно; что она обречена на триумф - оптимистическое заявление, нашедшее сильнейшее проявление в „Ареопагитик“ Мильтона, первом трактате, защищавшем свободу публикаций; а Мартин Лютер декларировал, что истина никогда, ни в коем случае не может быть подавлена силой: „Никто не может поразить ее железом или сжечь в огне“.29 Более того, было высказано достаточно парадоксальное суждение, что терпимость следует распространить и на носителей мнений, кажущихся ложными, так же как и на тех, кто поворачивается к истине. Так, Бейль заявил „ошибающееся сознание имеет те же самые права, что и не делающее ошибки“. Наконец, связь между свободой мысли и общим принципом свободы была суммирована Джеймсом Харрингтоном, написавшем в 1656 году: „Правительство, претендующее на Свободу и при этом подавляющее Свободу Мысли, с необходимостью противоречиво“.30 Религиозные войны превратили толерантность в ценность, общекультурный идеал. Они вовсе не создали ее — терпимое отношение к вере другого человека можно проследить и в более ранние эпохи. Некоторые культуры, как уже отмечалось, отличались известным безразличием к инородным религиям, пока те не составляли угрозы их собственным. Без всякого сомнения, толерантность не раз представлена и в индивидуальных действиях. Религиозные войны заставили признать позитивный смысл веротерпимости, а в некоторой степени — статус толерантности как весьма широкой по области своего применения общечеловеческой ценности, декларировать желательность связанных с ней форм мысли и поведения. 1.2 Анализ современного понятия толерантности 1.2.1. Многообразие толерантности Еще в начале XX в. Андре Лаланд выделил несколько значений понятия толерантности. 28 В ответ на “политический августинизм” Джон Локк (1632 -1704) и Пьер Бейль (1647-1706), наряду с Жаном Ле Клерком (1657-1736) и Жаном Байбераком (1674 -1744), разработали принципы модерной доктрины толерантности. 29 Сам Лютер (1483-1546) сначала учил либеральной доктрине („Трактат о светской власти“, 1523), но позже призывал немецких князей железом истребить секту анабаптистов. 30 In : Almond B. Councelling for tolerance // Journal of Applied Philosophy. - 1997. - Vol.14, No 1 - P. 20-21. 14 1. Многоликая толерантность. Философское исследование “А. Манера поведения личности, переносящей без протеста привычный ущерб, наносимый ее неукоснительным правам, тогда как она могла бы его пресечь; манера поведения властей, открыто принимающих в силу некоего рода обычая то или иное нарушение законов или регламентаций, которые они облечены заставлять выполнять... B. Заранее разрешенное законом или установленное обычаем максимальное отклонение ассигнационных числовых мер (например и особенно проба и вес монет). С. Расположение духа или правило поведения, состоящее в допущении каждому свободы выражать свои мнения, даже когда их не разделяешь... D. Иногда: симпатизирующее уважение верований другого, поскольку они рассматриваются как вклад в тотальную истину”.31 Зафиксированная здесь многозначность понятия толерантность до сих пор вызывает попытки развести содержащиеся в нем различные смыслы. Р.-П. Друа выделяет слабую и сильную формы толерантности. Слабая форма характеризуется им как нечто “юридически и интеллектуально неясное”, в силу чего оно в любой момент может стать объектом произвольных противоречивых интерпретаций. Это — “вялый и слабый способ упорядочивания, неспособный отрегулировать противоположные потребности общественной жизни”. Вопреки поверхностному впечатлению, он таит в себе скрытое господство, которое устанавливается в силу неопределенности положения тех, для кого создаются правила, в то время как принятие решения — быть к ним толерантным или нет — в свою очередь никак не регулируется. Такая ситуация преодолевается в сильной форме толерантности, которая “предполагает ясность законов и точное их выполнение в уважительной заботе о свободах каждого”. Хотя сильная форма толерантности основана на принципе равенства, она не просто допускает различия, но более того — “требует несоизмеримых систем мышления и непримиримых духовных или интеллектуальных универсумов. Без нередуцируемого множества верований, привычек и действий и без их самого полного утверждения она не имела бы никакого смысла существования”. Такая толерантность настолько далека от идеи консенсуса или индифферентности, что в качестве исходного факта для ее установления нужно "с самого начала личности и группы противопоставить друг другу”.32 Неоднозначность понятия толерантности подчеркивает И.Ш. Зарка. По его мнению, существует минимальная форма толерантности, состоящая “в признании физического существования другого без симпатии и понимания, сводящаяся к сосуществованию в безразличии, даже в презрении”. Полная же толерантность “находит свое оправдание, законность и основание только когда мы переходим от принятия существования другого к признанию того, что его отличает”.33 Аналогичное отношение к проблеме проявляет М. Даммит: “Английское слово «толерантность» (tolerance) не является, видимо, лучшим способом обозначения подразумеваемой добродетели постольку, поскольку допускает подмену «терпимостью» (toleration). Терпимость же выказывается начальником по отношению к подчиненному; индивидуумы, обладающие преимуществом более высокого образования или окружения, мирятся с теми, кто лишен этого. 31 Lalande A. Vocabulaire technique et critique de la philosophie. 17 ed. - Paris - 1991. - P.1133-1134. 32 Droit R.-P. Les deux visages de la tolerance // La tolerance aujourd'hui.- P., 1993. - Р.9-11. 33 Zarka Y.Ch. La tolerance: Force et fragilite de la modernite // La tolerance aujourd'hui.- P., e 1993. - Р. 38. 15 1. Многоликая толерантность. Философское исследование Толерантность, отличаемая от терпимости, подразумевает равное отношение к иным и толерантный человек гордится отсутствием превосходства над ними; эта добродетель, таким образом, без натяжки может быть названа уважением к иным”.34 Первый смысл понятия толерантности, согласно мнению С.Б. Дианя, — принятие культурного различия, то есть выражение идеи культурного релятивизма. Но понимаемая таким образом толерантность, считает С.Б. Диань, имеет предел (ограничена рамками культур) и тогда “вопрос о толерантности не имеет даже смысла, поскольку его не имеет интолерабельное”. Вместо этого он предлагает “толерантность, не имеющую порога”, которая есть “принятие инаковости не столько культурами, сколько тем, что вне их”.35 Некоторые авторы вообще отрицают положительное содержание понятия толерантности. Так поступает, например, С. Юнан, разоблачающая “всю двусмысленность понятия толерантность, основанного на инэгалитаристском в сущности, отношении, в противоположность уважению. Затемняя политические, социальные и культурные условия толерантности, забывают, что исторически толерантность всегда была толерантностью господствующих, идет ли речь о господстве политическом или культурном”36. Подобная оценка толерантности была характерна для деятелей Великой Французской революции. “Им казалось,– пишет М. Конш, – что господствующая религия стала толерантной к противоположным мнениям тогда, когда не смогла поступать иначе”. Он приводит слова Кондорсе: “В странах, где уже невозможно одной религии угнетать все другие, наглость господствующего культа осмеливается именоваться толерантностью, то есть разрешением, даваемым одними людьми другим верить тому, что их разум принимает, делать то, что им предписывает их совесть”.37 Русское слово “терпимость” получило распространение именно с таким смыслом (например, в обыденном словоупотреблении — “веротерпимость”, “дом терпимости”). Сегодня старое понятие уже не отвечает изменившимся условиям, поэтому я считаю уместным для обозначения “сильной” или “полной” формы терпимости использовать слово “толерантность”. Итак, опираясь на исторические материал, можно выделить такой ряд взаимосвязанных понятий: интолерантность - терпимость - толерантность. “Терпимость” соответствует “слабой” или “минимальной” форме толерантности в терминах Р.-П. Друа и И.Ш. Зарка, или толерантности вообще, как этот термин употребляет, например, С. Юнан. 1.2.2. „Толерантность“ в системе понятий 1.2.2.1. Толерантность и плюрализм Положение о связи плюрализма и толерантности стало как бы само собой разумеющимся. Философское мышление, пишут авторы распространенного учебного пособия по философии, “в отличие от обыденной унитарности и догматизма, является принципиально плюралистичным, толерантным, диалогичным”.38 И чуть 34 Dummet M. Tolerance // La tolerance aujourd'hui. - P., 1993. - P. 17. . 35 Diagne S. B. La tolerance et des cultures // La tolerance aujourd'hui.- P., 1993. - P. 105. 36 Younan S. Le piege de la difference // La tolerance aujourd'hui.- P., 1993. - P. 101. 37 In: Conche M. La tolerance franзaise et sa signification universelle // La tolerance aujourd'hui.- P., 1993. - Р. 77. 38 Філософія. Курс лекцій / Бичко І.В., Табачковський В.Г., Горак Г.І. та ін - К., 1993. - С.8. 16 1. Многоликая толерантность. Философское исследование дальше: специфика философского знания состоит “в его плюралистичном («полифоничном»), диалоговом и одновременно толерантном относительно других (отличных) точек зрения характере”.39 И.С.Кон утверждает: “Расширение сферы индивидуального самоуправления предполагает терпимость, плюрализм, множественность подходов и решений. С точки зрения этики это так же верно, как и с точки зрения социологии или психологии”.40 Число примеров можно умножить. Плюрализм в искусстве или религии представляется вполне безобидной установкой пока речь идет о вере или вкусах, о которых, как известно, не спорят. Сложнее дело обстоит тогда, когда плюрализм, а вместе с ним — различие, расхождение, разногласие - переходит на уровень социальных институтов, задевая коренные интересы различных людей и групп. Негативное отношение к моральному плюрализму объясняется его родством или даже тождеством с моральным релятивизмом. Однако горький опыт тоталитаризма в ХХ веке показал пагубность полного отказа от плюрализма. Поэтому так остро встает сегодня вопрос о толерантности, которая, возможно, станет той соломинкой, ухватившись за которую, человечество сможет выбраться из опасного водоворота индивидуальных и групповых противоречий и разногласий. Можно предположить, что толерантность призвана удержать вместе разнородные элементы гетерогенного социума и человеческой культуры. Закономерен вопрос: насколько приемлем такой вывод? 1.2.2.2. Толерантность и особенное - универсальное Из общей проблемы противопоставления монизма и плюрализма выделяется вопрос об универсальном и особенном. Универсальность усматривается, прежде всего, в рациональности. Поэтому, считает М. Конш, иррациональность, “абсурдность” мнения является достаточным основанием для “нетолерантного” к нему отношения, поскольку “не только законы логики и рациональное не являются делом мнения, но мнение, чтобы просто быть мнением и быть достойным обсуждения, должно сперва им подчиняться”.41 На этом основании науке весьма недвусмысленно отказывается быть полем применения толерантности: “Философское понятие «толерантность» должно пониматься в связи с одними только мнениями. Оно предполагает, что наряду с эпистемой имеется область докса... Ибо имеются вещи, которые знают либо должны или могут знать (грамматические, юридические, моральные правила, математические теоремы, физические законы, достоверные исторические факты и т.п.): в этом случае нет основания говорить о «толерантности». Но есть области, где никогда не узнают Истину; в других всегда будет существовать неизвестность”42. Чтобы согласиться с таким утверждением, надо признать, что новоевропейский идеал научности (а именно, поиск “истины с большой буквы” как основная цель и назначение науки) обладает неизменно универсальным для всех времен и народов характером и/или что наиновейшая наука демонстрирует верность этому принципу43. 39 Бичко І.В. Людиномірність предмета філософії // Філософія. Курс лекцій. - К.,1993. - С.16. 40 Кон И.С. Сексуальность и нравственность // Этическая мысль'90. - М., 1990.- С. 88. 41 Conche M. La tolerance franзaise…- Р. 69. 42 Conche M. La tolerance franзaise…- Р. 78-79. 43 Тезис об исключительности и "правильности" классической науки достаточно живуч. Это, например, демонстрирует заявления типа: наука, "какой она сформировалась в Новое время и 17 1. Многоликая толерантность. Философское исследование Обращает на себя внимание употребляемые М. Коншем категории античной философии. Начиная с элеатов, “докса”, мнение характеризовалось как нечто множественное в противоположность “эпистеме”, знанию, обладающему единством. Другими словами, мысль М. Конша можно понимать так, что толерантность оправдана лишь тогда, когда мы сталкиваемся с плюрализмом. И наоборот — плюрализм, множественность, различие являются предварительными условиями установления толерантного отношения. В указанном смысле универсальность имеет общесоциальное значение: “Универсальность — признак разума. Универсальные общества — общества рациональные. Традиции, кроме самой традиции универсального, не имеют в них никакого веса. Универсальным обществам противопоставляются общества традиционные. Последние, насколько они покоятся на особенных и исключительных традициях, настолько же с необходимостью интолерантны к другим традициям”44. Действительно, традиционализм, отстаивающий исключительность одной-единственной традиции, выглядит отталкивающе. Но так ли уж интолерантны традиционные общества к "иным" традициям? Приходится признать, что они не раз давали европейской культуре пример именно толерантного отношения.45 Новоевропейская универсальность сегодня больше не выглядит однозначной. Современность основана на торжестве личности, но также и на идее равенства. Постмодернистская мифология, “которая делает все относительным и фрагментарным”, может функционировать лишь в том случае, “если достигнут общий знаменатель, в котором заключены главные принципы универсалистского рационализма, определяющего всю структуру. Но как подобный эгалитаристский рационализм можно применить к традиционалистским обществам, основанным на концепции различия?”46 Еще более жестко высказывается по этому поводу Ален Турен. Отмечая, что “хотя отрицание современности как триумф всеобщего над особенным должно было бы принадлежать прошлому”, – он добавляет при этом: “Не должны торжествовать ни претензии универсальности на монополию, ни притязания абсолютной специфичности, непреодолимого различия со всеми другими”.47 Поиск этого “срединного пути” ставит задачу определения такого регулятивного принципа, который ориентировал бы “каждую культуру, не смешиваясь в частности ни с одной, на полную реализацию человеческой личности. Без этой общей нацеленности на по-ту-сторонность их множественности, диалог культур не может иметь никакого смысла, а также истинной толерантности, которую он намерен установить”.48 Впрочем, универсальность рационального вовсе не ведет с неизбежностью к монистической позиции, поскольку сама рациональность глубоко исторична. Разумное какой существует сегодня (а о другой науке говорить просто бессмысленно)" См.: Баженов Л.Б. Социальная природа науки и проблема ее познавательного (эпистемологического) статуса // Философия, естествознание, социальное развитие - М., 1989. - С. 54. 44 Conche M. La tolerance franзaise…- Р. 72. 45 См.: Литман А.Д. Гандистская концепция религии в свете универсальных ценностей // Индия: религия и политика в общественном сознании - М., 1991 - С. 45-48; Борхес Х.Л. Письмена Бога - М., 1994. - С. 360-361; Nakagawa H. Lеs confucianistes, philosophes tolerants dans la pensee de Voltaire // Revue internationale de philosophie - Brussels, 1994. - Vol. 48, № 187 - Р. 39-53. 46 Даматта Р. Третий берег реки // Курьер ЮНЕСКО - 1993. - Сент.-окт. - С. 51-52. 47 In: Diagne S. B. La tolerance et des cultures. - P. 106 48 Diagne S. B. La tolerance et des cultures. - P. 110 18 1. Многоликая толерантность. Философское исследование и неразумное, отмечает Х. Перельман, укреплены в единичной исторической и культурной реальности, они привязаны к “реакциям социальной среды и их эволюции”, “разумное отсылает не к единственному решению, а ко множеству возможных решений”.49 То же самое можно сказать и о науке, даже если абстрагироваться от того, что наука не тождественна рациональности, а гораздо шире ее (П. Фейерабенд), и, следовательно, содержит в себе субъективные — по определению плюралистичные — элементы. Плюрализм подходов в науке “детерминирован логикой научной деятельности, стремлением проиграть всевозможные рациональные ходы”50. Подобное стремление получает в современной науке нормативный характер, как в предлагаемой В.В. Шкодой формуле принципа полиморфизма: “Ищи эквивалентные, как бы «пересекающиеся» описания, или разные точки зрения на одно и то же явление, исследуй его разными методами, пытайся представить объект, заданный в привычном концептуальном поле как одно, многим, объясняй один и тот же факт по-разному”.51 1.2.2.3. Толерантность и уважение Преломление проблемы соотношения всеобщего и особенного встречаем в постановке и решении вопроса о связи толерантности и уважения. “Уважение — это моральное чувство, которое видит в другом меня самого, разумное существо. Толерантность — принятие в другом того, что его от меня отличает. Уважение адресуется разумному человечеству, толерантность принимает его постоянную изменчивость. Но, вопреки видимости, здесь нет никакой преемственности. Ведь кантианская мораль указывает, что не должно уважать ни вещи, ни природу, ни животных, ибо они — относительные ценности. И только человеческая личность составляет абсолютную ценность, ибо она — вещь в себе в силу своей разумной природы. Иными словами, то, чем люди различаются, в смысле их чувственной природы, укорененности в природности — не достойно уважения”52. Уважение и толерантность очень часто если прямо и не противопоставляются, то, во всяком случае, отделяются друг от друга. Я считаю, что такое разделение оправдано. Если уважение — это отношение, опирающееся на поиск чего-то общего, то толерантность, безусловно, обращена к отличиям. Уважение другого означает видение в нем себя и соответственное к нему отношение. При этом отождествление требуется только в одном — в признании чужого человеческого достоинства (или ценности). Достойное поведение служит критерием для определения границ толерантности или интолерантности. Вопрос лишь в том, что именно мы будем считать общим, универсальным. По словам Н.С. Автономовой, “новая” рациональность “предполагает плюрализацию подходов, ломку иерархических структур познания, распадение рациональности на несоизмеримые типы с одновременным существованием сущностно различных идеалов разума, общий антипросветительский пафос”. Положительное значение подобных концепций состоит в том, что они “разрушают 49 In: Terestchenko M. Philosophie politique. - P. 104. 50 Ильин В.В. Классика-неклассика-неонеклассика: три эпохи в развитии науки // Вестник МГУ. Сер. 7. Философия. - 1993.- N 2. - С. 33. 51 52 Шкода В.В. Оправдание многообразия. - Харьков, 1990. - С. 44. Younan S. Le piege de la difference.- Р. 99. Конечно, не все разделяют сожаления по поводу “ниспровержения кантианской морали”. Ср.: Zarka Y.Ch. La tolerance: Force et fragilite…- Р. 44-45; Terestchenko M. Philosophie politique. - P. 138-151. 19 1. Многоликая толерантность. Философское исследование прежние догматические монистические концепции”. Но все же “черты неклассичности — это скорее симптомы особого переходного этапа в познании, на котором признаки нового единства еще не сложились, нежели сущностные характеристики всего современного познания в его отличиях от традиционного”. Не удивительно поэтому, что в наши дни проявляются “тенденции к новой фундаментальности, к поиску единых оснований”, стремление к новой “классичности”, как, например, у А.В. Гулыги. 53 Поиски "нового единства" могут привести к совершенно неожиданным результатам. Постмодернизм часто понимают как следствие "исчерпанности" культуры Модерна, связывая это с девальвацией идеи поиска конечных оснований. Косвенным образом поддерживая этот тезис, Л.В. Карасев замечает, что “опыт постмодернизма, как мне кажется, может свидетельствовать лишь об одном: истина не в культуре, а в чем-то ином, в чем-то, что стоит за ней, вне ее, а скорее всего — над ней”. Если отвлечься от неудачного в данном контексте употребления понятия “истина” (избегаемого в постмодернистском дискурсе), то можно предположить, что речь идет о выступлении против антропо- или, так сказать, культуроцентризма. Ведь не случайно Л.В. Карасев прогнозирует возможное появление новой иерархии ценностей, “главный смысл которой — в переносе важнейших моральных императивов на окружающий человека мир природы”.54 Использование противоречащих постмодерну понятий (истина, иерархия) дает повод думать, что перед нами — образ не самого постмодерна, а того, что должно наступить после него. Необходимость выхода за привычные рамки обосновывает сенегальский философ С.Б. Диань. Он указывает на бессмысленность вопроса о толерантности в рамках культурного релятивизма и предлагает идею “толерантности, не имеющей порога”, которая является “принятием инаковости не столько культурами, сколько тем, что вне их”.55 Обе позиции отражают стремление выйти за пределы ограниченных, замкнутых на себе образований (культура в целом или отдельная национальная культура), коль скоро они больше не в состоянии решать встающие перед ними проблемы. В том же духе, но только в приложении к науке, можно интерпретировать мысль М.Д. Ахундова, что в будущем нас ожидает не постнеклассическая или какаялибо другая наука, а постнаука как синтез научных знаний и этических норм.56 Для сравнения можно привести слова У.Эко о семиотическом подходе к многообразию культур: “Он отыскивает точки, по которым может быть проведено сравнение; он не рассматривает системы в их абсолютной изоляции, а отыскивает общую основу, но если даже не находит ее, то уважает их различия”. Именно благодаря этой своей особенности, полагает У. Эко, семиотика может воспитать в людях чувство терпимости. Чтобы избежать крайностей холизма (под которым У. Эко понимает абсолютный культурный релятивизм) и универсализма (в данном контексте — направленность на поиски всеобщего кода), “следует руководствоваться метафорой перевода как символа толерантности во взгляде на 53 Диалектика точного и неточного в современном научном познании // Вопросы философии. 1988.- № 12.- C. 28. 54 Карасев Л.В. - С. 14-15. 55 Diagne S.B. La tolerance et des cultures.- Р. 105. 56 Ахундов М.Д. Научные революции и постнеклассическая наука // Проблемы методологии постнеклассической науки. - М.,1992.- С. 41-48. 20 1. Многоликая толерантность. Философское исследование мир. Ведь с теоретической точки зрения перевод принципиально невозможен, и все же люди разговаривают друг с другом и переводят или толкуют слова друг друга”.57 Иными словами, мы имеем дело с поиском универсального, но такого универсального, которое лежит за пределами всего того, что традиционно рассматривалось в качестве основания для него. Поэтому, возможно, даже Ж.-Ф. Льотар отмечает недостатки плюрализма, прежде всего связанные с трудностью объединения гетерогенного, разнородного. “Постмодерный интерес ориентирован на границы и конфликтные зоны, на столкновения, откуда и выходит неизвестное и противостоящее привычной разумности, «паpалогичное»”, — пишет он.58 У Р.-П. Друа толерантность выступает как некий всеобщий регулятив, сфера ее правомочности сконцентрирована в регулятивных “формах общественного сознания”. М. Конш, напротив, исключает возможность применения толерантности там, где деятельность индивидов строго регламентирована: “Грамматические правила и моральные законы в действительности — не дело мнения, так что толерантность не включает того, чтобы «терпеть» нарушения этих правил и законов”.59 Впрочем, тот и другой допускают применение толерантности лишь в условиях выбора. Нормативность в данном случае можно рассматривать в качестве некоего универсального основания человеческой деятельности, ослабление которого ведет к проявлению толерантного отношения, не всегда, впрочем, оцениваемого положительно: “Размытость норм в обществе и отсутствие у многих сформированных общечеловеческих нравственных норм и приводит к толерантности ко многим негативным явлениям в обществе”.60 1.2.3. О типологии концепций толерантности Постмодернистская критика идеи социально-культурного прогресса получает на рубеже тысячелетий подтверждение в распространении различного рода форм неприятия друг другом отдельными индивидами, группами и культурами. Конечно, это не „война всех против всех“, но все же такая ситуация закономерно вызывает обеспокоенность и стремление найти пути для ее преодоления. Одним из понятий, к которому все чаще обращаются исследователи различных областей гуманитарного (и не только!) знания выступает понятие толерантности. При этом толерантность, как правило, рассматривается в связи и с помощью другие понятия. Так, например, В.А. Лекторский анализирует „четыре возможных способа понимания толерантности и плюрализма“. Остановимся подробнее на его концепции. Первое понимание толерантности исходит из разделения рационально доказуемых утверждений (научных, моральных, правовых) и мнений, имеющих вне-рациональное обоснование (религиозных, метафизических). В отношении первых нельзя быть терпимым, поскольку они могут быть неоспоримо и убедительно для всех установлены и обоснованы. Истинность же вторых не может быть установлена вообще. „Поэтому нужно вести борьбу с действиями, нарушающими разумно установленные правила 57 [Эко У.] Умберто Эко беседует с Франсуа Бернаром Юнгом // Курьер ЮНЕСКО - 1993 - Авг. С. 5-6. 58 Цит. по: Вельш В. "Постмодерн". Генеалогия и значение одного спорного понятия // Путь.- М., 1992.- № 1.- С.128. 59 60 Conche M. La tolerance franзaise…- Р. 69. Иванова Е.Ф. Психологические особенности толерантности в современном обществе // Толерантность как культурная универсалия.- Харьков, 1996. - С. 11. 21 1. Многоликая толерантность. Философское исследование общежития и вместе с тем проявлять в некоторых пределах терпимость к неразумным взглядам, создавая для тех, кто их придерживается, такие условия, в которых они могли бы сами прийти к признанию истинности того, что может быть бесспорно и универсально установлено“. В таком понимании толерантность выступает как „безразличие к существованию различных взглядов и практик, так как последние рассматриваются в качестве неважных перед лицом основных проблем, с которыми имеет дело общество“.61 Второе понимание толерантности исходит из отрицания тезиса о существовании резкой границы между истиной и мнением, а также и универсальных истин познания и норм общежития. „Все культуры (и познавательные установки) равноправны, но в то же время и несоизмеримы. Не существует никакой привилегированной системы взглядов и ценностей“. Толерантность в данном случае выступает как невозможность взаимопонимания, как „уважение к другому, которого я вместе с тем не могу понимать и с которым я не могу взаимодействовать“.62 Третье понимание ставит под сомнение равенство и несоизмеримость различных систем ценностей и познавательных каркасов. Во-первых, между ними всегда существует взаимодействие, взаимная критика. Во-вторых, свою позицию любой человек рассматривает в качестве привилегированной, поскольку „та система норм и взглядов, которой я придерживаюсь, всегда будет соответствовать именно тем структурам и критериям (с помощью которых я и оцениваю преимущества той или иной системы), которых именно я придерживаюсь“. Отказ же другого человека принять мою точку зрения „свидетельствует о том, что в каких-то существенных отношениях он мне уступает (менее образован, хуже мыслит, подвержен иррациональным влияниям и т. д.). Я вынужден терпеть взгляды, несостоятельность которых я понимаю и могу показать“. Здесь толерантность выступает „как снисхождение к слабости других, сочетающаяся с некоторой долей презрения к ним“.63 В четвертом случае толерантность понимается как расширение собственного опыта и критический диалог. „В действительности, - пишет В.А. Лекторский, каждая культура, ценностная и познавательная система не только вступает в борьбу с другой системой, но так или иначе пытается учесть опыт другой системы, расширяя тем самым горизонт своего собственного опыта“. И толерантность проявляет себя „как уважение к чужой позиции в сочетании с установкой на взаимное изменение позиций (и даже в некоторых случаях изменение индивидуальной и культурной идентичности) в результате критического диалога“.64 В.А. Лекторский описывает с помощью указанных моделей существующие концепции толерантности, теоретические схемы. Однако, социальная реальность дает немало примеров поведения, которые не вписываются в эту схему, и, в частности, поведения нетерпимого. Я хочу показать, что возможны и другие основания для определения толерантности. В качестве примера я предлагаю рассмотреть варианты отношения к Иному, выделяемые через соотношение двух критериев: оценки Иного и меры воздействия на него. Область оценки в данном случае я ограничиваю одним лишь фактом существования Иного безотносительно к его содержанию, т. е. как оценивается, 61 Лекторский В.А. О толерантности, плюрализме и критицизме // Вопросы философии. - 1997.№ 11.- С.48-49. 62 Лекторский В.А. О толерантности, плюрализме и критицизме. - С.49-50. 63 Лекторский В.А. О толерантности, плюрализме и критицизме. - С.51. 64 Лекторский В.А. Указ. соч. - С.54. 22 1. Многоликая толерантность. Философское исследование допустим, не то, чтó именно думает другой человек, а то, что он думает иначе. Такая оценка может быть позитивной, нейтральной и негативной. Под мерой воздействия я буду понимать противодействие, бездействие и содействие Иному с моей стороны. При этом я не учитываю степень этого воздействия (например, насилие, принуждение). Результаты представлены в следующей таблице. Мера воздействия Оценка Противодействие Бездействие Содействие Негативная Интолерантность Пренебрежение Попустительство Нейтральная Нетерпимость Терпимость Уважение Позитивная “Аутодафе” ? Снисхождение Толерантность Некоторые из приведенных понятий достаточно условны, поэтому имеет смысл их раскрыть. Возможны несколько способов строить свои отношения к Иному. Можно, например, не замечать его. Или делать вид, что не замечаешь. Попустительство или снисхождение, несмотря на кажущуюся разницу, оба предполагает некую ущербность того, к чему они проявляются. Открытого насилия, ни даже принуждения может и не быть. Но оно подспудно присутствует и готово в любой момент выйти наружу. В любом случае, попустительствуют и снисходят лишь те, кто обладает или хотя бы чувствует за собой силу. И здесь, вероятно, скрывается объяснение того удивительного факта, что толерантность (как, впрочем, и даже чаще, интолерантность) проявлялась представителями меньшинства. Если уважение — это отношение, опирающееся на поиск чего-то общего, то толерантность, безусловно, тяготеет к отличиям. „Уважение — это моральное чувство, которое видит в другом меня самого, разумное существо. Толерантность — принятие в другом того, что его от меня отличает. Уважение адресуется разумному человечеству, толерантность принимает его постоянную изменчивость“.65 Уважение другого означает видеть в нем себе подобного, при этом отождествление требуется только в одном — в признании чужого человеческого достоинства (или ценности). Но равенство как бы предполагает унификацию, поэтому уважение старается по возможности избегать особых привязанностей. Обычно понятия „терпимость“ и „толерантность“, „нетерпимость“ и „интолерантность“ употребляются как синонимы. Я разделяю их, чтобы выделить некоторые смысловые оттенки. Нетерпимость можно рассматривать как отсутствие терпимости, как не-терпимость. Интолерантность же выступает как сознательное противопоставление толерантности, как негативная ценность, анти-толерантность. Вопреки морфологии понятий „терпимость“ и „нетерпимость“ на практике все происходит с точностью до наоборот. Именно терпимость характеризуется недеянием, отсутствием действия, воздержанием от действия, тогда как нетерпимость — действием. В общем виде в этом заключается характерное для Нового времени негативное толкование терпимости. Положительное содержание толерантности предполагает действие, но действие не против Иного, а в его поддержку. В результате то, что раньше оставалось за пределами нашего внимания (существовало вне — все равно что не существовало), теперь составляет часть нас самих. Терпимость (свобода совести или веротерпимость) является негативным правом, о чем свидетельствуют 65 Younan S. Le piege de la difference. - P.99. 23 1. Многоликая толерантность. Философское исследование конституционные нормы политически развитых стран. Толерантность следовательно выступает правом позитивным. И здесь, как и в других областях, возникает вопрос о гаранте этого права. Если заботу о свободе совести вполне может взять на себя государство, то можно ли ожидать, что появятся некие подзаконные акты, регулирующие помощь Иному. Каким образом необходимо ее оказывать? как определить меру необходимой помощи? где тот предел, за которым забота о другом грозит превратиться в ущемление моих собственных интересов? Должен ли богатый христианин строить синагогу или мечеть для бедных иноверцев? Должен ли глава правительства призывать лидера оппозиции к публичному диалогу и содействовать укреплению его политического авторитета? Должен ли прокурор подыскивать смягчающие вину обстоятельства, если у обвиняемого недостаточно квалифицированный адвокат? Позитивное право — скорее идеал, чем реальность. Между „не препятствовать“ и „содействовать“ лежит огромное расстояние. В первом случае речь идет о волевом акте субъекта, подкрепленном его деятельностью. Человек что-то делает — не мешайте ему! Во втором случае существует возможность иждивенческого отношения и даже эксплуатации. Мера содействия очень легко может оказаться больше, чем мера участия заинтересованного лица (со всеми оговорками по поводу его способностей и возможностей). Можно даже представить ситуацию, когда попечение о свободе превращается в принуждение к свободе. Если представить, что будет реализовано правовое регулирование толерантности, то закон будет принуждать одного гражданина не принуждать другого. „Позитивное право“ — понятие из области политической риторики. Реальный правовой механизм его осуществления разработать если и возможно, то во всяком случае очень сложно. Но кроме права есть и другие нормативно-регулятивные формы, прежде всего — мораль. Толерантность, таким образом, должна быть выводима и гарантирована этически. Интолерантность конечна, поскольку предполагает конечное и вполне обозримое число дозволенного или допустимого (оно фиксируется, например, в виде правовых норм). Толерантность неопределенна; признавая право на существование за любой иной точкой зрения, она не может даже гипотетично определить их возможное число. Толерантность, вследствие этого, открыта для перемен, предполагает подвижность самих критериев оценки того, что может или не может быть объектом толерантного отношения. Еще одна опасность для толерантности кроется в определении ее взаимоотношений с интолерантностью. Интолерантность находится в более выгодном положении, чем толерантность. Она никогда не опасается быть недостаточно интолерантной. Даже в самых небольших дозах она является самой собой. Другое дело — толерантность. Как любое положительное свойство, она всегда в сомнении — достаточно ли она толерантна? Ее недостаток запускает в действие закон перехода количества в качество и нехватка толерантности угрожает ее превращением в иное качество и исчезновением как таковой. То же самое с чрезмерностью. Излишняя толерантность рискует превратиться в попустительство в отношении неприемлемого. Выводимое таким образом понимание толерантности имеет много общего с четверым вариантом в схеме В.А. Лекторского: „Взаимодействие с позициями, отличными от моих, сопоставление моих аргументов с аргументами в пользу иной точки зрения выступает как необходимое условие развития моих собственных взглядов. Я уверен в преимуществах своих взглядов, принятых мною системы ценностей, концептуальных рамок. Я пытаюсь демонстрировать эти преимущества. И вместе с тем я допускаю, что в каких-то отдельных моментах я могу заблуждаться. Я даже допускаю и то, что, если встречу такую критику моих взглядов, которая сможет убедить меня в их несостоятельности, я откажусь от них. Я серьезно отношусь к другим взглядам и считаю, что необходимо понять 24 1. Многоликая толерантность. Философское исследование аргументы в пользу иной системы взглядов, как бы мысленно посмотреть на мою позицию с иной точки зрения (не обязательно, для того чтобы отказаться от моей позиции, но для того чтобы найти ее слабые стороны и укрепить мою позицию, развив ее)“.66 Однако, предлагаемый мной подход позволяет осветить, если можно так сказать, крайнюю степень толерантности, и в то же время обозначить опасности ее абсолютизации. Если я не обязан сам разрушать собственную позицию, систему ценностей, но могу помочь это сделать другому; если не просто не должен загонять оппонента в глухой угол своими аргументами, а оставить ему возможность для их критики или даже прямо указать на нее, то как уловить ту грань, до которой я сохраняю верность собственной позиции, т. е. оставаясь самим собой? Итак, толерантность в данном контексте характеризуется не только положительной оценкой Иного, но и осознанным содействием ему. В этом смысле она представляется мне весьма близкой пониманию В.А. Лекторским толерантности как критического диалога. 1.2.4. Исследование обоснования толерантности 1.2.4.1. О негативном обосновании толерантности Одним из исходных принципов концептуализации понятия “толерантности” в современной философии выступает мысль о невозможности рационального обоснования истинности одного из альтернативных убеждений. Эта идея была разработана, например, П. Бейлем в его “Философском комментарии на слова Иисуса Христа „Заставь их войти... “”.67. В традиционной постановке вопрос веротерпимости рассматривал отношение церкви к еретикам как “терпение истины в отношении ошибки”.68 Бейль обосновывает толерантность конечным характером человеческого познания и невозможностью определить абсолютные критерии истины. Он утверждает, что истинность своей веры человек устанавливает с помощью собственной совести. На первый план выносится не содержание верования, а его искренность. Поскольку нельзя знать со всей определенностью, что именно наша вера является объективно истинной, то исчезает даже противоположность между “еретиками” и “ортодоксами”.69 Концептуализация понятия толерантности в исторической перспективе началась в религиозном контексте. До сих пор постановка и основные принципы решения этой проблемы веротерпимости считаются эталонными. Однако, постмодернистские оценки соотношения науки и религии весьма отличны от просветительского тезиса об их несводимой противоположности. С конца XVIII века наука постепенно превращается в „церковь“ – те же союз и разделение власти с армией, экономикой, политикой; идеологические битвы и борьба с еретиками; канонизация после смерти; претензия на абсолютную истину; профетический тон. “Никакое функциональное или структурное отличие не отделяет веру в трансцендентного бога от веры в существование научного объекта, независимого от нас и тем не менее, выражающего себя в и посредством общей для всех людей и объективной в себе истины. Трансценденция в 66 Лекторский В.А. О толерантности, плюрализме и критицизме - С.53. 67 Бейль П. Исторический и критический словарь в 2 т. - М., 1978. - Т.2 - С.265-341. 68 Terestchenko M. Philosophie politique.- p. 86. 69 См.: Terestchenko M. Philosophie politique.- p. 92-94; Zarka Y.Ch. La tolerance: Force et fragilite…- p. 42-43. 25 1. Многоликая толерантность. Философское исследование обоих случаях совпадает. И социальные последствия сохраняются.70 Все это дает повод для анализа экстраполяции основных аргументов сторонников веротерпимости на область научной практики. В общем виде негативным основанием толерантности выступает, “незнание, в котором человек пребывает в отношении Истины, незнание, составляющее часть его существования… Люди, следовательно, по крайней мере в фундаментальных вопросах (и в первую очередь о значении — или отсутствии значения — смерти), невежественны и равны в невежестве”.71 Конечно, одного негативного основания недостаточно, обоснование принципа толерантности не может игнорировать стремление человека к знанию. Толерантность, согласно Р.П. Друа, предполагает, что, не предавая своих взглядов и убеждений, мы не можем их никому навязывать. С помощью толерантности мы отдаляемся от своих убеждений и это дает нам почувствовать, насколько они одновременно и реальны, и производны, абсолютны, и относительны. Из этого вытекает требование неравнодушного отношения к другому и критического — к себе, к собственным взглядам.72 Генеральный директор ЮНЕСКО Федерико Майор отмечает: “Терпимость не в умении «переносить» другого; она в знании, понимании и уважении, а может, даже в восхищении другим”.73 Однако прежде чем уважать или быть толерантным к другому, отличному от меня человеку, я должен хотя бы знать, что же именно его отличает: знание выступает необходимой предпосылкой толерантности. Но может возникнуть опасность, что все наше внимание будет сосредоточено на поисках различий. Целостное существо рискует быть превращенным в абстрактный набор отличительных особенностей. “Замораживание другого в какой-нибудь специфичности, уважение различия связано с тем движением объективации, которое запрещает встречу двух сознаний”.74 В связи с этим И.Ш. Зарка пишет: “Толерантность по неведению или из безразличия не только недостаточна, но и противоречива; она утверждает односторонность одного и того же в форме отказа от знания, это — замаскированная интолерантность”.75 1.2.4.2. О позитивном обосновании толерантности Р.-П. Друа замечает, что толерантность “была бы только нигилистской снисходительностью, если бы допускала оторванность от любых поисков истины”.76 Ф. фон Хайек, со своей стороны, выбрал слово “терпимость” в качестве эквивалента обесценившемуся от частого употребления слова “свобода”.77 Согласно же Ж. Херш, толерантность имеет общий корень не только с Правами человека, но и со свободой и истиной.78 Природа этой общности 70 Сокулер З.А. Образ истории науки у Мишеоя Серра // Общественные науки за рубежом. Сер. 3 - 1991, № 1 - С. 45. 71 Conche M. La tolerance franзaise…- p. 79-80. 72 Droit R.-P. Les deux visages…- p. 11-12. 73 Курьер ЮНЕСКО,- 1992.- Сентябрь-октябрь.- C.73 74 Droit R.-P. Les deux visages …- p. 11-12. 75 Zarka Y.Ch. La tolerance: Force et fragilite…- Р. 38. 76 Ibid.- Р. 12. 77 Хайек Ф. Дорога к рабству // Вопросы философии - 1990, № 10 - С. 137. 78 Hersch J. Tolerance entre liberte et verite // La tolerance aujourd'hui.- P., 1993. - Р. 25. 26 1. Многоликая толерантность. Философское исследование раскрывается через описание интолерантности, которая требует “как можно более походить на нее саму или на некое большинство” и направлена на четыре основных способа деятельности — как думать, верить, поступать или быть. Квинтэссенцией интолерантности является отождествление себя с человеческими ценностями вообще или идея обладания привилегированной моделью. Следовательно, именно монистская ориентация имеет тенденцию к проявлению интолерантности. “На уровне мышления речь идет об обладании истиной или, по крайней мере, о владении методами, гарантирующими приближение к ней”. Но поскольку в действительности исключительной модели не бывает, то от человека требуется направить силы не на изучение некой единственной модели, а на создание дисциплины о лишении какой бы то ни было модели претензий на исключительность. Такая задача влечет за собой диверсификацию понятия “истина”. Ж. Херш указывает на необходимость выяснения того, как человек приходит к различного рода истинам — научным, политическим, религиозным и т. д.79 Вопрос о взаимоотношениях толерантности с истиной в спорах занимает особое место. Остроту ему придает традиционное разделение истины научной - единой и всеобщей, и истин религиозных, моральных, политических и т.д. - субъективных, и потому множественных. И как уже отмечалось, самим фактом своей исключительности и единственности научная истина делает бессмысленной любую попытку введения в науку принципа толерантности. Такая наука должна быть полем “естественной” интолерантности. “Интолерантность — тирания духа, которая хочет достичь силой того, чего можно добиться только убеждением. Наоборот, толерантность состоит в уважении различных порядков: в уважении совести и закона, частного и публичного, веры и разума и т. д.”.80 Можно вспомнить по этому поводу, как часто наука прибегала к методам, весьма непохожим на просто убеждение — от прямой физической расправы (сталинский СССР) до пропаганды или “критических замечаний” корифеев науки в отношении нетрадиционных исследований или их результатов.81 Для обоснования возможности толерантности необходимо, как отмечает Р.П. Друа, различать столкновение и насилие, сражение и господство, которые характеризуют, соответственно, толерантность и терпимость. И здесь мы встречаем традиционное разделение науки (математики и естествознания) и других форм духовной деятельности. Эта позиция сводится к утверждению возможности достижения в науке одной-единственной, разделяемой всеми учеными точки зрения: “В областях, где споры могут регулироваться только логическим доказательством или объективным экспериментированием, толерантности нет места. Математик не толерантен к ошибке своего коллеги. Он вправе ее исправить, показав, где и как другой сбился с пути. Иначе обстоит дело с религиозной верой, политическим кредо, этическим выбором, общественными и культурными ценностями”. В отношении последних “будет проявлением силы признать, что мы лишены средств точно знать, какие из моделей, принятые той или иной группой людей, самые лучшие с абсолютной точки зрения”.82 Когда речь шла о продвижении науки к абсолютной универсальной истине, каждый, даже проиграв, мог бы утешаться мыслью, что его поражение послужило во 79 Ibid.- Р. 27-28. 80 Zarka Y.Ch. La tolerance: Force et fragilite…- Р. 37. 81 Типичные примеры в этом отношении предоставляет история выдающегося советского генетика Н.И.Вавилова, уничтоженного сталинизмом в 1943 году. 82 Droit R.-P. Les deux visages …- Р. 11. 27 1. Многоликая толерантность. Философское исследование благо научному сообществу в целом (случай, вероятно, крайне редкий — как заметил Т. Кун, окончательная победа новой парадигмы происходит тогда, когда сторонники старой вымирают). В любом случае, ставилась задача поиска “истинной” теории (по определению, единственной) и изобличения “ложных”. Один из деятелей Французской революции, А. Клоотс утверждал, что Истина сама по себе “интолерантна”, поскольку несовместима с ошибкой: “Интолерантность истины упразднит однажды само имя храма, fanum, этимологию фанатизма. Ибо Истина, возведенная на трон Природы, в высшей степени интолерантна. Республика прав человека не является, собственно говоря, ни деистской, ни атеистской, она — нигилистская”.83 Комментируя это высказывание, М. Конш замечает: “Истина! Но Истина — всегда только моя истина. Истина становится интолерантной, когда ловко прячут скептический момент”.84 Характерный для классической науки динамизм предполагал ставку “на нетерпимый к дополнительности, альтернативности, вариабельности, эквивалентности агресивно-воинственный монотеоретизм, навевающий претенциозную агрессивновоинственную идеологию всеведения (исчерпывающе полное, вполне адекватное знание не как императив, а как реальность)”.85. В этом — основа интолерантности классической науки. “Философы и правители «модерна»,– пишет З. Бауман,– были, прежде всего, законодателями. Они обнаружили хаос и поставили перед собой задачу обуздать его и заменить порядком”, который “требует единства и монолитности правления и одновременно безопасности своих границ”. Для этого надо было в первую очередь отделить “внутреннее” от “внешнего” или “образование круга друзей и войну с врагами”.86 Негативная сторона толерантности, а точнее терпимости, “состоит в согласии с различиями в том смысле, в котором к ним просто приноравливаются, поскольку они нас слишком не стесняют или просто не затрагивают. И такая толерантность может иногда удовлетворяться интолерабельным, приводя к отказу от суждения о других именно через культурное презрение”.87 Данная ситуация характеризует неклассическую науку. Неклассическая наука не отказывается от поисков истины. Релятивизм порождает идею поиска “лучшей”, “более адекватной” или “всеобъемлющей” теории, что не предполагало немедленного устранения всех других, поскольку предполагалось, что даже наилучшая теория не в состоянии полностью описать/объяснить реальный мир. Эту мысль, хотя и по другому поводу, высказал, например, Ф. Хайек: “Ведь даже заплатив сегодня высокую цену за свободу выбора, мы создаем гарантии завтрашнего прогресса..., ибо никто не знает, какая линия развития может оказаться перспективной. ...мы всегда должны оставлять шанс для таких направлений развития, которые просто невозможно заранее предугадать”88. Релятивизм предполагает, что истина открывается каждому под особым углом зрения, с определенной перспективы. Иное видение допускается, пока не найдена более удобная точка, которая позволила бы видеть и то, что уже было видно раньше, и нечто сверх того. Принцип дополнительности стоит в одном ряду со стремлением художников83 In: Conche M. La tolerance franзaise…- Р. 74. 84 Conche M. La tolerance franзaise…- Р. 75. 85 Ильин В.В. Классика - неклассика - неонеклассика. - С. 18. 86 Бауман З. Философия и постмодернистская социология // Вопросы философии.- 1993.- N 3.- С. 52. 87 Diagne S. B. La tolerance et des cultures.- P. 108 88 Хайек Ф. Указ соч.- С. 141 28 1. Многоликая толерантность. Философское исследование модернистов изобразить на плоскости холста все ракурсы пространственного тела. Тем не менее, сохраняется установка на изучение одного объекта, пусть даже с разных точек зрения, перспектив (как, например, у Х. Ортеги-и-Гассета). Такое исследование в идеале должно было бы привести к истинному знанию или приблизить к нему (это знание довольно часто имеет вид суммы частично или относительно истинных знаний). Эту идею подтверждает, например, позиция французского историка Ф. Броделя, который писал: “Я настаиваю: могут быть различные истории, но лишь одна-единственная — научная история”89. Впрочем, некоторые авторы склонны рассматривать перспективизм в качестве отличительной черты постмодернизма. Так, его выделяет среди методологических установок постмодернистского дискурса Б. Магнус. Он видит в Ницше предтечу постмодернизма и его оценка взглядов немецкого философа совпадает с оценкой постмодернизма. Перспективизм Ницше, по мнению Магнуса, состоит в утверждении, что “всякий объект познается постольку, поскольку имеется перспектива его видения. Вне этой перспективы объекта просто нет. Перспективное видение объекта есть в конечном счете, одномоментный снимок его во всех ракурсах, ни один из которых не является более предпочтительным. Точно так же ни одна из интерпретаций текста (или объекта) не является единственной в своем роде интерпретацией, которую данный текст (или объект) мог бы предложить. Мы имеем дело с неопределенным количеством значений и потому с бесконечным набором интерпретаций, ибо сам текст (объект) не дает нам абсолютной точки отсчета”. Ницше отрицал существование общего критерия отличия репрезентации от репрезентируемого, отказываясь от восходящей к Платону традиции делить все существующее на две неравные части — мир и дискурс. Соответственно и новая онтология освобождается от проблемы соответствия репрезентации и репрезентируемого90. С точки зрения классической науки, воспринявшей деление реальности на множественную феноменальную и единую сущностную, “за многообразием надо непременно обнаружить единство. Многообразие дано, а единство требуется открыть”. Отсюда следует, что “идея полиморфизма воспринимается как уступка, как признание ученым невозможности справиться с угрозой увеличивающегося многообразия”91. В целом можно предположить, что в неклассике “иные” теории допускаются в силу их относительной истинности, которая предполагается a priori, но в целом считается желательным сокращение их числа путем генерализации. В некрологе, посвященном Максу Абрагаму, М. фон Лауэ и М. Борн, отмечая его антипатию к эйнштейновским абстракциям, писали, что “у него не было возражений против логических взаимосвязей, их он принимал и ими восхищался, считая единственными возможными выводами общерелятивистского подхода. Но сам подход был ему неприятен, и он надеялся, что когда-нибудь астрономические наблюдения опровергнут релятивизм и вернут победу старому абсолютному эфиру”92. Здесь мы встречаемся с терпимостью или слабой формой толерантности, при которой допущение чужой позиции выступает лишь как вынужденная и по возможности временная мера. Одновременно с ростом понимания того, что реальная множественность научных теорий не может быть устранена, неклассическая методология разрабатывает идею 89 Цит. по: Блок М. Апология истории или Ремесло историка.- М., 1986.- С. 219-220. 90 Громыко Н.В. [Реф.:] Магнус Б. Ницше и постмодернистский критицизм // Общественные науки за рубежом. Сер. 3.- 1990.- № 2.- С. 25-26. 91 Шкода В.В. Оправдание многообразия. - С. 27. 92 Цит. по: Холтон Дж. Тематический анализ науки. - М., 1981.- С. 26-27. 29 1. Многоликая толерантность. Философское исследование полезности теоретического многообразия. Именно в таком аспекте следует рассматривать выдвинутый Р. Карнапом “принцип толерантности”93. Эту же мысль высказывает Дж. Холтон. Приверженность ученого определенному набору тем не предопределяет результатов исследования. Попытки “очистить” свою науку от тем будут бесплодны. Но, полагает Холтон, “тщательное изучение возможных преимуществ тем, противоположных нашим собственным, могло бы привести к благотворным результатам94. Как отмечает В.В. Шкода, альтернативность теоретических схем сначала рассматривалась как отклонение от нормы. Под таким углом зрения отношения между теориями виделись как борьба. Когда же ситуации альтернативности становятся привычными для научного и методологического сознания, борьба сменяется сосуществованием95. Постнеклассическая наука не нуждается в гипотезе истины. Наука становится по большому счету средством самореализации ученого (и средством социализации). Наука оправдана самим фактом своего существования, а не тем, например, что она дает человеку оружие для борьбы за социальное и индивидуальное освобождение. Таким образом, можно констатировать, что в постмодернистской науке исходное условие толерантности — наличие многообразия, существование расходящихся точек зрения — не должно более рассматриваться как недостаток. Принцип толерантности “выставляет сам себя в качестве абсолютного и в то же время утверждает, что нет ничего абсолютного”96. В этой внутренней противоречивости толерантности видна противоречивость ее главного основания — идеи плюрализма истин: “Для объективного познания необходимо разнообразие мнений. И метод, поощряющий такое разнообразие, является единственным, совместимым с гуманистической позицией”97 (выделено мной – С.Е.). В исследовании этого противоречия и состоит, по моему мнению, перспектива дальнейшей разработки принципа толерантности. Итак, позитивными основаниями толерантности можно бы было считать признание свободы и истины, хотя и при условии отхода от классического понимания истины. Усиление аргументов в пользу такой ревизии приведено далее. 1.2.4.3.Научный метод как принуждение? Согласно Ж. Херш, толерантность несовместима с принуждением, никого нельзя заставить принять некое убеждение, но именно в этом состоит классическая задача научного доказательства: “Либо я не понимаю доказательства и, значит, мой разум не испытывает принуждения и остается свободным, либо я его понимаю и, следовательно, признаю его необходимость. На уровне чистой рациональности, как и на уровне эмпирического экспериментирования — хотя и в меньшей степени, имеется совпадение между признанием очевидности и свободой суждения, между «понимать» и «соглашаться». Но 93 См.: Иванова Е.Ф. Психологические особенности толерантности в современном обществе // Толерантность как культурная универсалия: Материалы международной конференции.Харьков, 1996.- С. 11; Бичко І.В. Сучасна світова філософія (XIX-XX ст.) // Філософія. Курс лекцій.- К.,1993, С.180. 94 Холтон Дж. Тематический анализ науки.- С. 40. 95 Шкода В.В. Оправдание многообразия. - С. 30 96 Terestchenko M. Philosophie politique.- p.94. 97 Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. - М., 1986 - С. 178. 30 1. Многоликая толерантность. Философское исследование это совпадение прекращается, как только начинает играть некоторую роль субъективность мыслителя, как только вмешиваются исторические характеристики, составляющие неисчерпаемую конкретную реальность его «я». Именно на этом уровне ставится проблема добровольного принятия и в то же время вырисовывается соблазн принуждения”.98 Принуждение, элемент насилия действительно присутствует в научном познании: “Всякое научное знание,– пишет В.В. Ильин, – обосновано. Обоснованным же считают знание, в котором истина задана субъекту строгим, принудительным образом. Последнее достигается четко фиксированными средствами — структурами умозаключений, логическими исчислениями, правилами дедуктивного вывода, аксиоматизацией и т. п.”.99 Таким образом, речь идет о математическом каноне науки или классическом идеале научности. Именно на образцовом характере математической точности был основан утвердившийся в европейской культуре “научный тип ментальности”. Сегодня же “само понятие точности должно употребляться нами во множественном числе. Нет точности, на которую могли бы равняться все прочие дисциплины. Космос постижим в неоднозначных типах знания”. Поэтому уже в основу любого воспитания должна быть положена “мысль о научной автономности каждой научной дисциплины без ущербного деления их на «точные» и «гуманитарные» (эвфемизм, означающий «приблизительные»)”.100 Лежащий в основе классического естествознания “экспериментальный диалог с природой” (И. Пригожин) “подразумевает активное вмешательство, а не пассивное наблюдение”.101 Властные амбиции “венца творения” не могли не вылиться в распространение силовых методов не только на получение, но и на передачу полученных знаний. Научная рациональность – итоговое выражение присутствующей в науке “воли к покорению, проявляющейся в любом рациональном обсуждении или предприятии, элементе насилия, скрытом во всем позитивном, и коммуникабельном знании”.102 Ссылка на логическое доказательство и эксперимент как единственные способы подтверждения исключительного права теории на истинность теряет силу, если обратиться, например, к опыту квантовой механики, различные интерпретации которой могут считаться логически корректными и экспериментально подтвержденными и, следовательно, — равноценными, демонстрируя принципиальную невозможность когнитивными средствами обосновать выбор конкретной теории.103 Сама наука сегодня уже не выглядит стройной непротиворечивой системой. Как показывает В.В. Ильин, совершенное знание в идеале было бы истинным (отвечающим критерию практики) и необходимо обоснованным (соответствовать логическим, эмпирическим, экстралогическим и неэмпирическим критериям). Но такое знание не тождественно науке в целом, составляя лишь некую ее часть. Реальная наука помимо этой “правильной” компоненты включает содержащие противоречия теории, недоказанные теоремы, неразрешенные проблемы, гипотетические объекты c неясным 98 Hersch J. Tolerance entre liberte et verite.- Р. 25-26. 99 Ильин В.В. Критерии научности знания.- М., 1989. - C. 5.- 100 Диалектика точного и неточного...- С. 6-7 101 Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. - М., 1986- С. 84. 102 Пригожин И., Стенгерс И Порядок из хаоса... - С. 75. 103 Тягло А.В. Эпистемологическая загадка Белла // Проблемы методологии постнеклассической науки. - М., 1992. - С. 161-170. 31 1. Многоликая толерантность. Философское исследование познавательным статусом, парадоксы, неразрешимые положения, необоснованные предположения, порождающие антиномии представления и рассуждения и т. д.104. Стоит отметить, что мысли о несостоятельности требований доказательности и всеобщности продуктов человеческого духа сформулировал еще Л. Шестов: “...раз человек нашел слова, чтоб выразить свое действительное отношение к миру, он имеет право говорить, и его можно слушать, хотя бы его отношение было единственным в своем роде, не встречавшимся доныне и не имеющим повториться. Проверять его наблюдениями и экспериментами строжайшим образом возбраняется”105 Плюрализацию методологии В.В. Шкода выводит из “объективной исторической тенденции к ослаблению когнитивных норм в научном творчестве”. Хотя для “отцов-основателей” новоевропейской науки, рассуждает он, и было характерно “особое внимание к разработке правил научной деятельности”, все же этот “интерес к нормативности” — “черта не новой, а старой культуры”, то есть средневековой схоластической традиции. “Можно утверждать, что с Нового времени началось постепенное освобождение индивида от жесткой регламентации его поведения”,— тенденция, отразившаяся и на науке106. В целом можно говорить о плюралистическом толковании принципа точности, как, например, в определении Д.И. Дубровского: “...понятие точности означает соответствие принципу, правилу, нормам, канону, образцу, заданному способу действий”.107 Здесь одновременно присутствуют и идея множественности вариантов, “примеров для подражания”, и признание необходимости строго им следовать. Ю.А.Шрейдер отмечает не только множественность идеалов точности, но и возможность, если можно так сказать, идеала неточности. Ведь точное описание может пониматься “как точное следование заранее принятым, общезначимым в некой среде и явно выразимым нормам”. Такая точность противостоит метафоричности, окказиональности описания, неявленности принципов, лежащих в его основе и как таковая теряет однозначно позитивную окраску, поскольку предполагает элемент принуждения.108 Принуждение в науке связано, таким образом, с опорой на определенные нормы исследования. Противопоставление “точного” и “неточного” знания, вернее, постепенное осознание искусственности такого противопоставления — лишь один из примеров, иллюстрирующих изменчивость научных норм. Конвенциализм и дополнительность показали невозможность определения единственной системы когнитивных норм. Несмотря на все старания создать “объективный” язык описания, естественные науки не только не избавились от старых, но и творят новые научные метафоры.109 Со временем меняется не только содержание конкретных норм научной деятельности, тем более не нормативность сама по себе. Меняется “идеология” научного поиска. Путь от “методологического детерминизма” до фейерабендовского “все дозволено” — отражение и смены социальных ориентиров, и переоценки роли науки в обществе, и внутренней логики развития самой науки. 104 Ильин В.В. Критерии научности знания. - C. 94. 105 Шестов Л. Апофеоз беспочвенности. - М., 1991.- С. 172. 106 Шкода В.В. Оправдание многообразия. - С. 41-42. 107 Диалектика точного и неточного...- C. 7. 108 Диалектика точного и неточного.- C. 9. 109 См.: Білик О.М. Нетрадиційні методи аргументації в постнекласичний період розвитку науки // Вiсник Харківського державного університету. - 1996. - № 385/1 - С. 27-31. 32 1. Многоликая толерантность. Философское исследование Свойственное классической науке принуждение в современных условиях если и не исчезает полностью, то, во всяком случае, ограничивается рамками отдельных теорий или методологий. Таким образом, ограничение использования понятия толерантности к науке на основании присущего ей принуждения не выглядит сегодня убедительным. Еще одно ограничение на использование понятия “толерантность” накладывается М. Коншем в связи с четким разделением мнения и поведения.110 Такое разделение, впрочем, поддерживается далеко не всеми: “Какими бы ни были речь или поведение, позволяющие другим речам и поведениям свободно продолжаться, они, по определению, — предмет самой полной толерантности”.111 “Терпимость — моральное качество, характеризующее отношение к интересам, убеждениям, верованиям, привычкам, и поведению других людей”.112. Ж. Херш и И.Ш. Зарка говорят о поведении только в связи с интолерантностью, которую они рассматривают как неприятие чужого или навязывание своего поведения113, так что остается неясным, считают ли они возможным толерантное отношение к поведению или же, как М. Конш, отрицают такую возможность в принципе. Если попытаться распространить это разделение на науку, то мы должны будем определиться, что соотносить с поведением в науке? Традиционный (классический) ответ — практическое использование теоретических исследований. Действительно, сегодня именно технонаука оказалась под пристальным вниманием, но лишь постольку, поскольку ее деятельность затронула жизненно важные интересы человека и легко выдерживает сравнение с поведением отдельного индивида. Но будем ли мы считать “поведением” распространение и утверждение своих идей ненаучными методами, например, с помощью “пропаганды”, если воспользоваться термином П. Фейерабенда? Или борьбу против инакомыслящих, которую ведут представители господствующей парадигмы, обладающие зачастую кроме интеллектуальной еще и институциональной властью? Являются ли поведением эксперименты (в частности, на животных, людях, вторжение в психику и т.п.) или они — всего лишь отработка мнений? Спектр этих и подобных им вопросов не входит в компетенцию классической научной методологии, но весьма актуален для современного общества. Как показывает В.В. Шкода на примере распространения идей плюралистичности, “умножение” знания — внутринаучный фактор, но его мало для принятия полиморфизма субъектом научной деятельности. Необходимо “наличие соответствующей схемы, вытекающей из царящего в культуре духа равноправного сосуществования, понимаемого в самом широком смысле”.114 Поэтому проникновение социальных норм и ценностей в методологию науки будет и подтверждением ее постнеклассичности, и аргументом в пользу одновременно желательности и возможности введения в нее принципа толерантности. С другой стороны, ориентированность сегодняшней науки на принцип плюрализма служит исходным основанием приемлемости использования понятия толерантности в отношении науки. Отход от “силовых методов” доказательства своей правоты все же не превращает науку в область “сердечного согласия” или “единомыслия”, что в свою очередь свидетельствует не против, а за использование здесь понятия толерантности. Консенсус не является ни условием, ни конечной целью толерантности. Он связан с компромиссом, с уступками, которые не могут не ущемить приводимые к согласию теории. Сама 110 Conche M. La tolerance franзaise…- Р. 78 111 Droit R.-P. Les deux visages - P.12. 112 Словарь по этике.- М., 1989.- С. 351. 113 Hersch J. Tolerance entre liberte et verite.- P. 27; Zarka Y.Ch. La tolerance: Force et fragilite…- P. 38-39. 114 Шкода В.В. Оправдание многообразия. - С. 27. 1. Многоликая толерантность. Философское исследование 33 возможность уступки, отступления, свидетельствует, в принципе, что теория не обладает завершенностью и строгостью, что отдельные ее элементы относительно безболезненно для нее могут быть заменены другими. Кроме того, если две теории достигли компромисса, то можно говорить уже не о двух, а об одной генерализирующей теории. С установлением консенсуса исчезает многообразие, плюрализм и, следовательно, — необходимость и возможность толерантности. И не будем забывать, что в противостоянии, в конфронтации состоит одна из отличительных черт постмодернизма. Ж.-Ф. Лиотар, например, так описывает изменения, происходящие в современной науке: “Сосредотачивая свой интерес на нерешенном, на пределах контролируемой точности, на конфликтах пpи неполной информации, на разломах, на катастрофах, на прагматических катастрофах, постмодеpная наука набрасывает теорию своего собственного развития как пpеpывного, катастрофного, неупоpядочиваемого, парадоксального развития. Она меняет смысл слова «знание», и она сообщает, как может осуществляться это изменение. Она порождает не известное, но неизвестное. И она настоятельно рекомендует в качестве новой модели легитимации модель дифференции, понимаемой как... паралогичность”.115 1.2.4.4. Толерантность и регулируемая конкуренция Толерантность осуществима при наличии нескольких предпосылок, среди которых на первый план выдвигаются равенство, различие и противостояние. Существуют веские основания считать их, особенно различие и противостояние, самовоспроизводящимися в человеческих обществах. “Вероятно, если бы все человечество говорило на одном языке, придерживалось одной религии, владело одной культурой, то и тогда бы существовали группы, определенные искусственно: болельщики различных футбольных команд представляют ясный пример этой универсальной человеческой тенденции”.116 Сама собой напрашивается аналогия с конкуренцией: провозглашается равенство противостоящих (обязательно!) сторон, но в то же время оговаривается четкость в определении норм их взаимодействия. Льотар резко высказывается против консенсуса как цели дискуссии, Вельш указывает на “агональный” характер постмодерна, в методологии науки в послевоенные десятилетия для описания взаимоотношений отдельных теорий, парадигм и т. п. широко распространился термин “конкуренция”. Но в отношении к конкуренции на сегодняшний день произошли заметные сдвиги. Через реалии социально-экономической жизни западные общества пришли к пониманию необходимости регулировать конкуренцию с помощью государства. В послевоенное время тезис о предпочтительности конкуренции, о ее безусловной положительной роли подвергся критике в биологии и политэкономии. Сегодня приходят к признанию того, что конкуренция не в силах даже регулировать процесс развития, не то чтобы выступать творческим началом. Как отмечает Ю.В. Чайковский, “конкуренция дестабилизирует систему, поскольку обеспечивает положительную обратную связь... Очевидно, что устойчивость и развитие обеспечивается иными, системными факторами. ... регулятором может служить только отрицательная обратная связь. (Конкуренция может снижать численности особей и цены товаров, но она не изменяет сами организмы и товары)”.117 Вполне закономерным, поэтому, 115 116 Цит. по: Вельш В. "Постмодерн". Генеалогия и значение одного спорного понятия. - С. 128. Morishima M. Tolerance and A Possible Course of Social Development // La tolerance aujourd'hui.- P., 1993. - P. 76. 117 Чайковский Ю. В. Познавательные модели, плюрализм и выживание // Путь.- М.,1992.- № 1.- С. 83. 34 1. Многоликая толерантность. Философское исследование выглядит заявление В.В.Шкоды о совместимости плюрализма не с конкуренцией вообще, а с особой “облагороженной”, конкуренцией118, хотя остается неясным, как именно видится автору такая конкуренция кроме того, что государство (в экономическом плане) или ученый (в плане методологическом) должны сдерживать более сильного и помогать более слабому. Более определенно высказывается М.Моришима, переводя разговор в этическую плоскость. “Параллельно расширению свобод, народ, возможно, будет испытывать рассеивание, утратит определенность. Не исключено, что общество предастся декадансу и анархии. Поэтому толерантность и свобода должны быть подчинены определенной дисциплине, если сообщество стремится не разрушиться, а устоять. Таким образом, толерантности и самодисциплине следует появляться в соединении, поддерживающем между ними определенный баланс. В очень свободном обществе люди должны быть весьма самодисциплинированы, они обязаны нести ответственность за свое поведение”. Но, продолжает М. Моришима, “«встроенного в общество» механизма, который бы разумно сочетал толерантность и дисциплину нет. Следовательно, нет и механизма, стабилизирующего направление развития общества. Мы не можем исключить возможность разрушения Сообщества вследствие действия фактора, относящегося к сфере этики”. М. Моришима констатирует: “Толерантное поведение должно мотивироваться, строго говоря, внутренней нравственностью”.119 Таким образом, выстраивается следующая трехчастная структура: от немыслимости ситуации, в которой существует более чем одна теория, - через признание альтернативных теорий, находящихся в конкурентной борьбе за право быть единственно истинной, - к регулируемой конкуренции. Я полагаю, что эта цепочка коррелирует с понятиями “интолерантность — терпимость — толерантность” и отражает динамику историко-научного процесса. Возможность приложения понятия толерантности к сфере научной деятельности некоторыми исследователями ставится под вопрос. В общем виде их аргументация сводится к следующему. Научная деятельность нацелена на достижение однойединственной, универсальной истины. Универсальность результатов исследования гарантируется единой системой общепризнанных когнитивных норм. В идеале научное знание является монолитным образованием, чему способствует освобожденность от множественности субъективных мнений. Однако современная наука демонстрирует явное несоответствие этим характеристикам, что позволяет говорить о возможности приложения к ней принципа толерантности. В общем виде постановку проблемы толерантности в науке можно представить следующим образом: классическая наука — когнитивная установка на поиск абсолютной объективной истины, внимание сосредоточено на объекте, интолерантность к другим теориям; неклассическая наука — признание неустранимой относительности истины, в поле научного исследования кроме объекта включается субъект, терпимость; постнеклассическая наука — отказ от поиска абсолютной истины, к объекту и субъекту добавляются научные и вненаучные идеалы и ценности, толерантность. Толерантность постнеклассической науки означает не просто допущение “иных” теорий и методологий, а требование воспринимать их наличие в качестве безусловной ценности. Здесь проявляется ориентация на общечеловеческие этические ценности, поскольку подобное требование само по себе не всегда может 118 Шкода В.В. Оправдание многообразия. - С. 44 119 Morishima M. Op. cit.- P. 51-52. 35 1. Многоликая толерантность. Философское исследование получить эпистемологическое обоснование. В этом и состоит главное отличие толерантности от терпимости. 36 2. Два начала критического мышления 2. Два начала критического мышления 2.1. Познавательные истоки критического мышления 2.1.1. Фундаментальная роль критицизма в познании Критическое мышление (КМ) - это, в самом общем понимании, активность разума, направленного на выявление и исправление своих ошибок. Дальнейшее определение природы КМ зависит от того, как мы понимаем место и роль в человеческих рассуждениях ошибок и лжи. Если ошибки и ложь - явления более или менее случайные и достижим, по крайней мере в принципе, уровень знаний, от них свободный, то критическое мышление следует признать тоже случайным и преходящим познавательным феноменом. Иначе говоря, если допустить возможность достижения царства абсолютной объективной истины, то критическое мышление можно оправдать лишь как явление временное и субъективное, оправданное на подходах к этому царству. Другое дело, когда вероятность ошибок познавательного процесса или наличие в достигнутых здесь-и-теперь знаниях до времени скрытой компоненты лжи никогда нельзя свести к нулю. Тогда вечной оказывается и критика, служащая незаменимым проводником в бездну нового. Если иллюстрировать эти альтернативные гносеологические позиции примерами из истории философии, то статус субъективного и временного критическое мышление имело в системе абсолютного идеализма Г.В.Ф.Гегеля. Действительно, в диалектике Духа оно было оправданным лишь до тех пор, пока он поднимался до вершины Абсолютной Истины. Достигнув ее, Дух утрачивал способность ошибаться и избавлялся от необходимости какой-либо серьезной критической активности. Противоположная позиция, исходящая из признания принципиальной погрешимости человеческого познания и, следовательно, неизбывности в его развертывании критической активности, в ХХ веке наиболее последовательно отстаивалась Карлом Поппером.120 По мысли этого философа, именно критическое мышление оказывается тем атрибутом научного познания, который отличает его от иных проявлений духовной активности человека. Свою философскую концепцию Поппер назвал критическим рационализмом. Взгляды Поппера сформировались как альтернатива позитивистской теории познания или, если углубляться в историю дальше, гносеологическому кредо «проекта Модерна», положенному в основу «нового органона» Френсиса Бэкона или гипотетикодедуктивной методологии Галилея-Ньютона: это кредо приписывало человеку неограниченные познавательные способности, в силу чего ни одна истина этого мира не в силах от него укрыться. Поппер под влиянием интеллектуальных достижений Альберта Эйнштейна противопоставил верификационизму своих оппонентов критерий фальсификации как единственный, который на самом деле выступает основой идентификации научного познания.121 В конце концов его позицию можно обосновать одним утверждением: тогда 120 Сам Поппер совершенно справедливо усматривал истоки традиции критических дискуссий еще в философствовании Древних греков: «...Эта традиция допускала или поощряла критические дискуссии между различными школами и, что до сих пор вызывает удивление, в рамках одной школы. Нигде кроме школы Пифагора мы не находим стремления к защите доктрины. Напротив, мы видим изменения, новые идеи, модификации и откровенную критику учителя». См.: Popper Selections/ D.Miller (ed.). - Princeton University Press, 1985. - P.27. 121 К концу 1919 года я пришел к выводу, что научная позиция - это позиция критики, свидетельствует Поппер в своей интеллектуальной автобиографии. Эта позиция ищет не 37 2. Два начала критического мышления как истинность общего суждения логически не следует ни из какого числа соответствующих единичных подтверждений, для точного доказательства ложности общего вполне достаточно хотя бы одного противоречащего случая. Поскольку истинность общего суждения рациональным способом обосновать невозможно, постольку намерения такого рода должны быть исключены из сферы научных студий. Наука, как область доказательного знания, должна удовлетвориться тестом на ложь соответствующих суждений посредством их критики. Итак, неизбывный критицизм, всеобъемлющее критическое мышление оказывается действительным критерием научности, с помощью которого следует отделять науку от «метафизики» или псевдонауки. Приняв за философско-методологическое основание рассуждений неуклонный попперовский критицизм, следует полноты ради подвергнуть критическому анализу и его собственные выводы. В таком отношении интересными оказываются полемические соображения Мери Хессе из Великобритании.122 Она настаивает на том, что в научном познании не существует возможности не только верифицировать отдельное утверждение, но и точно фальсифицировать его. Хессе исходит из модифицированного тезиса Дюгема-Куайна (Q-тезиса)123: отдельное дескриптивное утверждение не может быть фальсифицировано какими бы то ни были свидетельствами, вследствие изменений в остальной связанной с ней системой знания, которые всегда можно сделать такими, чтобы избежать фальсификации.124 Этот тезис наталкивается на возражение Поппера: мы имеем возможность условно без доказательства принять фоновое знание, общее для двух теорий, которые подлежат проверке в критическом эксперименте. В этом случае можно считать эксперимент опровергающим одну из теорий, а не фоновое знание.125 Но, со своей стороны возражает Хессе, ни Дюгем, ни Куайн не сбрасывали со счетов такую возможность. Однако она не достаточна для опровержения Q-тезиса подтверждения, а критических проверок, проверок, которые могли бы опровергнуть исследуемую теорию, а не когда-либо утвердить ее. См.: Popper K. Unended Quest. An Intellectual Autobiography. - London, 1992. - P.38. См. также: Поппер К. Логика и рост научного знания. - М.,1983. - С.244-245 и др. 122 См. о М.Хессе: Современная западная философия. Словарь. - М.,1991. - С.369-370. 123 Суть этого тезиса в том, что реальный физический эксперимент никогда не может однозначно «осудить» одну отдельную гипотезу постольку, поскольку всегда проверяется целая группа взаимосвязанных утверждений. См.: Duhem P. Physical theory and experiment // Can theories be refuted? Essays on the Duhem-Quine thesis. - Dordrecht-Boston, 1976. - P.8-9. Вслед за Дюгемом, Куайн также считал, что наши утверждения о внешнем мире предстают перед трибуналом чувств не индивидуально, но как одно целое. См.: Quine W.O. Two dogmas of empiricism // Can theories be refuted? Essays on the Duhem-Quine thesis. -Dordrecht-Boston, 1976. P.58. Актуальность учета тезиса Дюгема-Куайна в осмыслении новейших проблем естественнонаучного познания см., напр., в: Тягло А.В. Эпистемологическая загадка Белла // Проблемы методологии постнеклассической науки. - М., 1992. - С.161-170. 124 См.: Hesse M. Duhem, Quine and new empiricism // Can theories be refuted? Essays on the DuhemQuine thesis. - Dordrecht-Boston, 1976. - P.188. 125 Ради точности следует заметить, что представленные далее «аргументы Поппера» формулирует сама Хессе на основании его работ «The logic of scientific discovery» и «Conjectures and refutations». См. переводы фрагментов этих работ в: Поппер К. Логика и рост научного знания. - М.,1983. - С.313, 361-362 и др. 38 2. Два начала критического мышления постольку, поскольку не предполагается признание фонового знания более строгим, чем условное.126 Далее, согласно Попперу, мы можем аксиоматизировать всю теоретическую систему так, чтобы отделить следствия одной из аксиом, которая поэтому может быть опровергнута индивидуально. Но, замечает Хессе, если даже забыть о практической невыполнимости требуемой аксиоматизации для случая наиболее интересных теорий, такая идеальная возможность, как и раньше, не опровергает Q-тезис. Дело в том, что аксиоматизация не способна полностью отвечать за эмпирическое применение теории и корректность правил такого применения (так называемых «правил соответствия»), которые всегда можно поставить под сомнение для того, чтобы избежать отказа от любой из аксиом. Теории должны давать успешные предсказания, то есть быть, согласно Попперу, подтверждаемыми, а также опровергаться в случае их ложности. Когда успешные предсказания уже имеются, то мы с большим нежеланием отказываемся от тех частей теории, которые привели к успеху, и склоняемся к возложению вины на другие, менее подтвержденные узлы теоретической сети. Но попперовское понятие подтверждения (corroboraion), замечает Хессе, не вполне «прозрачно». Однако трудно его интерпретировать иначе, чем индуктивное подтверждение (confirmation) какой-либо части теоретической системы по сравнению с другими. Это предположение не выходит за рамки ориентировочного, оно не имеет решающего характера в деле выявления «виновной гипотезы» и поэтому не в силах опровергнуть Q-тезис.127 Сравнение взглядов Поппера и Хессе позволяет прийти к такому выводу. Позиция Поппера больше отвечает процедурам выбора в реальной деятельности ученых, но она явно не способна привести к безусловно достоверным результатам. Позиция Хессе базируется на максимально строгих критериях точности и определенности. Она важна скорее не как норма реальной продуктивной деятельности, но как лекарство против успокоенности и односторонности в установлении значимости эмпирических данных для принятия или опровержения общих теоретических суждений. Установление «личной ответственности» одной конкретной гипотезы за некорректность полученного на основе теоретической системы результата будет иметь смысл лишь при условии, что такое решение является более-менее правдоподобным, а не абсолютно достоверным. Иначе говоря, оно не будет «единственно верным» и не исключит другие возможности полностью. В определенном смысле Хессе доводит критицизм Поппера до конца, хотя сам «отец-основатель» фаллибилизма с такими выводами вряд ли согласился бы, ведь они подрывают его концепцию науки как царства доказательного знания. Так или иначе, но фундаментальный характер критицизма в человеческом познании находит дополнительное обоснование через распространение не только на следствия верификационных, но и фальсификационных процедур. 126 См.: Hesse M. Op.cit. - P.189. 127 См.: Hesse M. Op.cit. - P.189-190. 2. Два начала критического мышления 39 2.1.2. Соотношение критического и догматического мышления в научном познании Критическое мышление - определяющий элемент научного познания, но самодостаточно ли оно? Карл Поппер дал отрицательный ответ на этот вопрос.128 Критика с целью устранения ошибок и лжи (error elimination, EE) должна быть направлена на какое-то знание, уже найденной раньше. Но какое же? На знание, добытое посредством выдвижения предположений (conjectures, tentative theory, TT). С учетом этих предположений или догадок, которые актуализируются благодаря соответствующим проблемам (Pi), схема познания, по Попперу, приобретает такой вид. P1 → TT → EE → P2... Поэтому научное познание начинается с проблем и заканчивается проблемами.129 Поппер также писал: «Создание теории или предположения всегда имеет «догматическую» и часто «критическую» фазы... Я смотрел на этот метод формирования теории как на метод обучения через пробы и ошибки... Я называл выдвижение теоретической догмы «пробою»...».130 Итак, догматическое - некритическое - мышление в фазе выдвижения предположений является оправданной и необходимой составляющей познания. К этому выводу уместно, по моему мнению, добавить два комментария. Вопервых, следует отличать догматическое мышление как законный момент одной из фаз научного познания «через выдвижение предположений и опровержение», к которому Поппер относился лояльно, от догматического мышления, которое претендует, с одной стороны, на статус научного, а с другой - на безусловную истинность, исключая какуюлибо возможность своей критики.131 К примерам догматики такого вида Поппер относил взгляды Маркса, Фрейда и др. Он считал их «псевдонаукой», а не настоящей наукой. Свою позицию мыслитель обосновывал таким образом. Когда кто-то предлагает научную теорию, он должен ответить, как это сделал Эйнштейн, на вопрос: «При каких условиях я мог бы допустить, что моя теория не выполняется?» Иными словами, какие мыслимые факты я мог бы принять как опровержение или фальсификацию предложенной теории? ... Я был весьма шокирован тем обстоятельством, что марксисты (которые сразу же провозгласили себя учеными-обществоведами) и психоаналитики всех школ были способны интерпретировать любое возможное событие как подтверждение своих теорий.132 Итак, следует отметить, что догматическое мышление в области научного познания DS подразделяется на два вида: оправданная догматика sD как предпосылка критики и недопустимая псевдонаучная догматика psD. Переходя ко второму комментарию, замечу, что анализ соотношения догматического и критического мышления, в котором можно найти некоторое дополнение взглядам Поппера, выполнен еще Августином Блаженным. Что я имею в виду? 128 См.: Popper K. - Op.cit. P.51. 129 См.: Popper K. - Op.cit. P.132-133. 130 См.: Popper K. - Op.cit. P.45. 131 Буду далее обозначать догматическое мышление первого вида как sD, второго - как psD. 132 См.: Popper K. Unended Quest. An Intellectual Autobiography. - P.41-42. 2. Два начала критического мышления 40 Вопрос о соотношении догматического и критического мышления погружается в более широкую проблему соотношения веры и разума, имеющую в сочинениях Августина принципиальный характер. Отношение «вера - разум» раскрывается в нескольких аспектах. Первый из них связан с пониманием веры как доверия авторитету. Его очень хорошо поясняет пример, приведенный самим отцом церкви. Поскольку любой человек становится образованным из необразованного и всякий необразованный не в состоянии знать, как себя вести и что делать для приобретения способности к учению, то для всех, кто стремится учиться великому и тайному, вратами служит авторитет.133 Итак, вера-доверие авторитету образованного человека и ее проявление догматическое мышление - предшествуют самостоятельному познанию как средство не только накопления запаса знаний, но и формирования культуры самого мышления, в том числе и критического. В этом смысле вера-доверие выступает важнейшей предпосылкой всякого образовательного процесса. Поэтому феномен веры-доверия имеет в человеческом познании универсальный характер, независимо от того, что следует за ним - научная критика или погружение в религиозную догматику. Таким образом приходим к следующей классификации видов догматического мышления D, которые следует оценивать по-разному. sD марксизм DS psD фрейдизм и др. D D¬S rD и др. Тут, прежде всего, зафиксировано догматическое мышление в структуре научного познания, в частности в соответствии с попперовской схемой «через выдвижения предположений и опровержение» - sD. Во-вторых, здесь присутствует псевдонаучное догматическое мышление, к которому Поппер относил марксизм, фрейдизм и т.п. - psD. Такого вида догматику он считал ошибочной. Подлинно научное мышление должно ее избегать. В-третьих, в схеме указана по самому своему определению не-научная или, лучше сказать, вне-научная догматика D¬S, в частности - догматика в области религии rD. Она не исключает и не исключается sD в той же мере, в какой религия и наука признаются независимыми проявлениями духовной активности человека. Иначе говоря, D¬S по своему определению не есть сферой действия научной критики постольку поскольку она базируется par excellence не на разуме, а на вере и других нерациональных основаниях. Итак, критическое мышление - характерный атрибут научного познания. Однако оно не существует без оправданного в определенных рамках мышления догматического, позволяющего не только накопить материал для последующей критики, но и способствовать взращиванию ее культуры. 133 Цит.из: Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. - М., 1979. - C.224. 41 2. Два начала критического мышления 2.1.3. Критическое мышление и апологетика: проблема демаркации Дилемма «критическое мышление - догматическое мышление» имеет философско-методологический статус, который определяется ее принадлежностью к одной из наиболее глубоких тем философии духа, связанной с осмыслением соотношения веры и разума, рационального познания. Указанная дилемма, с другой стороны, требует дальнейшей конкретизации, один из путей которой состоит в исследовании видов догматического мышления. Три вида догматики были выделены в предыдущем параграфе. Далее уместным представляется обратиться к рассмотрению родственных по теме рассуждений, принадлежащих одному из учеников Карла Поппера - Марку А. Ноттурно.134 М.Ноттурно использует понятие защитного (defensive thinking) апологетического мышления как противоположности рациональной критике. или Защитное мышление мотивируется потребностью ощущать безопасность. Мыслить апологетически - не спрашивать, являются ли ваши убеждения истинными, а продуцировать основания для демонстрации их обоснованности или, по крайней мере, для демонстрации того, что обоснована ваша вера. Защитное мышление часто отождествляется с критическим постольку, поскольку обоснование (justification) отождествляется с поиском истины. Однако мыслители-апологеты мотивированы не поиском истины, а желанием защитить себя от ошибки. Таким образом, апологеты концентрируют внимание на доказательствах, которые поддерживают их убеждения, и не интересуются тем, что выявляет проблемы, считает Ноттурно.135 Но можно ли согласить с его позицией безоговорочно? Описанная позиция приемлема тогда, когда апологетический способ мышления без ограничений используется в рассмотрении научных проблем. В этом случае апологетическое мышление выступает как один из видов догматики psD и, конечно же, подлежит отрицанию. Но следует иметь в виду, что апологетика имеет еще и, так сказать, собственную область применения, в частности - сферу религии.136 Тут апологетическое мышление, которые может иметь форму дедукции из сверхразумного содержания Ветхого и Нового Завета или прозрений святых отцов, представляется вполне уместным, не вступая в противоречие с критическим методом научных рассуждений. Более того, претензии критического метода в сфере религии столь же спорны, сколь и чистый догматизм в сфере науки. Ради примера вспомним историю знаменитого средневекового схоласта Пьера Абеляра, который исповедовал кредо «Понимаю, чтобы верить». Он стремился очистить христианское учение от темных мест и «противоречий» посредством рациональной критики. 134 М.А. Наттурно (род. 1953, США) на протяжении ряда лет является директором Popper Project в Центрально-Европейском университете (Будапешт, Венгрия). 135 См.: Ноттурно М.А. Розум і довіра: мета критичного мислення і авторитет // Вісник Університету внутрішніх справ. - Харків, 1997. - №2. - С.238-239. 136 Общеизвестно, что христианская апологетика является первой фазой развития средневековой философии, соответствующей тому историческому периоду, когда христианство подвергалось гонениям со стороны языческого Рима. Виднейшим ее представителем, например, был Квинт Септимий Флорент Тертуллиан, живший в на рубеже II - III веков от Р.Х. Его апологетические произведения см., напр., в: Тертуллиан. Избр. соч. - М., 1994. Однако явление апологетики наблюдается и вне временных рамок указанной фазы, актуализируясь конкретными условиями существования той или иной религии в той или иной «точке пространства-времени» человеческой культуры. 42 2. Два начала критического мышления В сочинении французского мыслителя «Да и нет» эти трудности оказались предметом специального исследования. Абеляр взял на себя смелость не только их зафиксировать, но и истолковать не как проявления сверхразумной небесной мудрости, а как досадные дефекты повседневных человеческих трудов, возникшие по совершенно земным причинам. Первая из них состоит в том, что одни и те же слова использовались разными авторами в разных значениях. Это - весьма распространенное в любом естественном языке явление полисемии. С точки зрения логики, оно порождает ошибки подмены понятий или тезисов. Установление различных смыслов рассуждений, построенных с использованием омонимов, позволяет, по мысли Абеляра, легко избавиться от кажущихся противоречий вероучения. Во-вторых, различные ошибки и неточности возникли вследствие многократного переписывания книг, ведь переписывание было во времена Средневековья единственным способом их тиражирования. Исправление таких дефектов кажется чисто техническим делом. Однако в случае отсутствия первоисточников и длительного воспроизведения ошибки приобретали значение оригинальных элементов текста и сакрализовались. Их исправление превращалось если не в невозможное, то тяжелое и очень часто весьма опасное занятие.137 Абеляр, наконец, отважился признать, что даже сами пророки и апостолы не избежали ошибок постольку, поскольку иногда были лишены Божьей благодати. Поэтому не удивительно, что и у святых отцов что-то оказывается вымолвленным или написанным ошибочно.138 Это было уже явное покушение на авторитеты, которого церковь стерпеть не смогла. Один из известных противников Абеляра епископ Бернар Клервосский так выразил общее мнение католических иерархов: «Осмеивается вера простых, раздирается сокровенное бога, безрассудно обсуждаются вопросы, касающиеся высочайшего, подвергаются поношению отцы за то, что они сочли должным об этих вопросах скорее молчать, нежели делать попытки их разрешить... человеческий разум пытается... постичь то, что выше его, он исследует то, что сильнее его, он врывается в божественное и скорее оскверняет святыню, чем открывает ее, запертое и запечатанное не раскрывает, но раздирает, и все, что он находит для себя непостижимым, считает за ничто, не удостаивая веры».139 Папа Иннокентий II, разделяя такую оценку, осудил своим рескриптом Абеляра как еретика к вечному молчанию. Церковь преградила путь попытке не ограниченного верой критического мышления, даже вопреки тому, что таковая имела целью усовершенствовать вероучение.140 137 Хорошо известно, что исправление церковных книг оказалось одним из мотивов европейского исторического процесса - Реформации, которого не минула и Россия. Сила, которой достигало столкновение противоположных сторон этого процесса, засвидетельствовал, например, один из русских «старолюбцев» - протопоп Аввакуум (как активного противника реформ его самого сожгли живьем в 1682 году). См.: Житие Аввакуума и другие его сочинения. - М.,1991. 138 См.: Абеляр П. Пролог к «Да и нет» // Абеляр П. История моих бедствий. - M., 1959. - C.115 116. 139 См.: Письма современников и участников Сансского собора // Абеляр П. История моих бедствий. - C.129. См. также: Рабинович В. Урок Абеляра: текст - жизнь // Августин Аврелий. Исповедь. Петр Абеляр. История моих бедствий. - М., 1992. - С.314 и др. 140 Справедливости ради надо отметить, что этот приговор не был приведен в исполнение. См.: Неретина С.С. Абеляр и особенности средневекового философствования // Абеляр П. Теологические трактаты. - М., 1995. - С.38 - 39. 43 2. Два начала критического мышления В какой-то части выводы Абеляра были оправданы, но в целом - чрезмерно претенциозны. Целиком их может принять лишь пан-сайентист, то есть человек, который не допускает принципиальной самостоятельности религиозной веры наряду с научным познанием. Какими бы «реакционными» не выглядели решения церковных иерархов, с одной стороны, а исследования Абеляра - искренним возвышением человеческого разума - с другой стороны, нельзя не признать, что в конце концов тут произошла попытка экстраполяции научного мышления за границы его применимости, с чем соглашаться вряд ли уместно. Конечно, рассуждая последовательно, нельзя не прийти к вопросу о предельном соотношении веры и разума, религии и науки. До сих пор основные подходы к решению этого вопроса подразделялись на два больших класса: либо утверждение явного примата одной из альтернатив, либо «разведение» их по тем или иным основаниям по независимым сферам применимости, как, например, в концепции двойственной истины Авиценны. Не входя сейчас в глубины многовековых споров, я хочу обратить внимание на возможность использования в характеристике соотношения веры и разума понятия дополнительности, которое было введено физиком-теоретиком Нильсом Бором только в ХХ веке. Онтологическим основанием такой гипотезы является целостность человеческой личности.141 Итак, существует демаркационная линия между оправданным критицизмом и уместными апологетическими рассуждениями там, где пролегает граница между научным познанием и религиозной верой как двумя дополнительными видами активности человеческого духа. Вторжение каждой из этих противоположностей в сферу действительности второй не невозможно, однако требует осторожности и специального обоснования. 2.2. Социальные истоки критического мышления В предыдущем разделе предпринят гносеологический анализ статуса критического мышления, а также очерчены некоторые его границы. Их признание является, в конечном счете, следствием широкого осмысления целостности духовной активности человека, не сводимой только к познанию и, тем более, к рациональному мышлению. Однако понимание природы и границ критицизма зависит от рассмотрения человека не только как индивидуума, обладающего некими внутренними атрибутами, но и как существа социального, чья жизнь и деятельность существенно зависит от окружающих его ему подобных, от специфики их сообщества. Поэтому далее я обращаюсь к рассмотрению социальных истоков критицизма, специфики его статуса и возможных границ - как явления общественной жизни. 2.2.1. О социальных истоках критицизма по Карлу Попперу Общий подход к социальному обоснованию критицизма можно обнаружить в знаменитом сочинении Карла Поппера «Открытое общество и его враги». В Открытом обществе я подчеркнул, что критический метод ... может быть обобщен до уровня того, что я описал как критическую или рациональную позицию. Я обосновал, что один из наилучших смыслов «разума» или «разумности» - это открытость критицизму, то есть готовность быть подвергнутым критике, а 141 «...Цельность живых организмов и характеристики людей, обладающих сознанием, а также и человеческих культур представляют черты целостности, отображение которых требует типично дополнительного способа описания», - отмечал Бор. См.: Бор Н. Квантовая физика и философия // Бор Н. Избранные научные труды в 2-х т. - М., 1971. - Т.2. - С.532. 44 2. Два начала критического мышления также стимулирование самокритики; я попытался доказать, что это критическое понимание разумности следовало бы распространять как можно шире... Этой позиции внутренне присуще понимание, что мы всегда будем жить в несовершенном обществе. Так будет не только потому, что даже очень хорошие люди весьма несовершенны, и не потому, что мы часто допускаем ошибки вследствие ограниченности своих знаний. Более важным, чем оба этих основания, является тот факт, что всегда существуют неразрешимые столкновения ценностей: очень многие моральные проблемы неразрешимы вследствие возможных конфликтов моральных принципов...142 Идею о принципиальном несовершенстве человеческого общества, сформулированную в годы Второй мировой войны, Поппер повторил почти пол века спустя, оценивая итоги всего ХХ столетия. В интервью 1991 года он, прежде всего, присоединился к мнению Черчилля о том, что «демократия является наихудшей формой правления, за исключением всех остальных, которые еще хуже». Затем он добавил: демократия является всего лишь способом избежать тирании - и это все.143 Итак, социальным фундаментом универсальности критицизма оказывается неизбывное несовершенство социума, вызванное как ограниченностью его составных элементов - человеческих существ, так и неустранимой противоречивостью общества в целом. Даже демократия, обычно преподносимая в качестве желанной формы общественного устройства, является отнюдь не идеалом, а всего лишь наименьшим из зол, заслуживающим своей порции критики. Полученный выше вывод расширяетт негативное обоснование критицизма, сообщая ему социальное измерение. Может ли он быть поколеблен обращением к той идеальной модели, которая под именем открытого общества получила распространение в научной и публицистической литературе с легкой руки самого Карла Поппера? В дальнейшем, согласно Попперу, магическое, племенное или коллективистское общество мы будем именовать закрытым обществом, а общество, в котором индивидуумы вынуждены принимать личные решения - открытым обществом ... Даже само возникновение философии, на мой взгляд, может рассматриваться как ответ на крах закрытого общества и его магических верований. Философия - это попытка заменить утраченную магическую веру рациональной верой. Она модифицирует традицию теории или мифа и закладывает новую традицию традицию постановки под сомнение теорий и мифов и их критического обсуждения...144 Итак, понятие открытого общество существенным образом апеллирует к претендующему на универсальность критицизму. Однако допускает ли оно критику по отношению к самому себе? На поставленный вопрос следует дать положительный ответ. Карл Поппер вполне определенно осознавал проблемы открытого общества, например связанные с обеднением межчеловеческих отношений. 142 См.: Popper K. Unended Quest. An Intellectual Autobiography. - P.115-116. 143 Далее Поппер разъяснил, как же избежать тирании - это достигается лишь через неукоснительное сохранение главенства закона («...democracy may be said to be a way of preserving the rule of law»). См.: Popper K. The Lesson of this Century. With Two Talks on the Freedom and the Democratic States. - London and New York, 1997. - P.44. 144 См.: Поппер К. Открытое общество и его враги. - М.,1992. - Т.2. - С.218,234 и др. 45 2. Два начала критического мышления Вследствие потери органического характера открытое общество постепенно может стать тем, что я хочу назвать «абстрактным обществом». Оно может в значительной степени потерять характер конкретной или реальной группы людей или системы таких реальных групп... Имеется множество людей в современном обществе, которые или совсем не вступают в непосредственные личные связи, либо вступают в них очень редко, которые живут в анонимности и одиночестве, а следовательно, в несчастье. Дело в том, что хотя общество стало абстрактным, биологические устройство людей изменилось незначительно. У людей есть социальная потребность, которую они не могут удовлетворить в абстрактном обществе... Конечно, разъясняет Поппер далее, нарисованная картина - это большое преувеличение. Никогда не было и не может быть совершенно абстрактного или даже по преимуществу абстрактного общества. Люди всегда образуют те или иные реальные группы, вступают в действительные социальные связи всех видов и пытаются в меру возможностей удовлетворить свои эмоциональные потребности. Однако большинство социальных групп современного открытого общества (за исключением некоторый счастливых семейных групп) являются не более, чем суррогатами, поскольку они не создают действительных условий для общественной жизни. И многие из них не обладают никакой реальной функцией в жизни общества в целом.145 Приведенный фрагмент важен не только как эмпирическая констатация обеднения человеческих отношений в современном обществе и на его пути ко все большей его «открытости». Он позволяет артикулировать несколько интересных теоретических выводов. Во-первых, выявляется существенный аспект внутренней противоречивости современного общества, определяемый, с одной стороны, стремлением к свободе и автономии личности, а с другой - к полноценному человеческому бытию, невозможному при условии полного разрыва биологических или «органических» связей внутри социума. Во-вторых, становится ясным, что реальное общество никогда не станет открытым или, если использовать соответствующий термин Поппера, «абстрактным» полностью, поскольку ценность биологической или «органической» компоненты человеческого бытия не сойдет на нет никогда. 2.2.2. Неизбывность негативных социальных истоков критицизма Современное состояние общества - это, согласно Попперу, процесс революционного перехода от закрытого к открытому обществу, который начался в Древней Греции более двух с половиной тысячелетий назад и который не завершен до сих пор.146 Однако может ли он быть завершен в принципе? Хотелось бы предостеречь от некритической уверенности в скорое и неизбежное «пришествие» открытого общества, подобной вере в наступление «светлого коммунистического будущего» уже при жизни «нынешнего поколения». Во-первых, подобный рецидив «историцизма» вступил бы в противоречие с общей методологией и вытекающей из нее склонностью самого Поппера к концепции «социальной технологии». На этой основе описанный рецидив может быть подвергнуты той же критике, которую мыслитель развил по отношению ко всему множеству «историцистских пророчеств», в частности к марксизму.147 145 Поппер К. Открытое общество и его враги. - Т.2. - С.219-220. 146 См. Поппер К. Указ. соч. - С.220. 147 См. там же. - С.104, 139-140 и др. 2. Два начала критического мышления 46 Во-вторых, нужно ясно отметить недопустимость онтологизации идеальной модели открытого общества, что иногда поощряется текстами Поппера. Реальное общество никогда не сводится к «закрытой» или «открытой модели», а представляет собою ту или иную «смесь» характерных для них институтов и процессов: R = c1Op + c2Cl. Здесь R обозначает реальное общество, которое было, есть и будет «смесью» открытого Op и закрытого Cl общества, причем их вес в этой смеси определяется коэффициентами c1 и c2. Сосуществование в реальном обществе элементов открытого и закрытого обществ - одно из неизбывных противоречий общественной жизни рода homo sapiens, о которых - без излишней конкретизации спектра возможностей - мудро предупреждал Поппер. Перспектива общественного прогресса поэтому состоит не в полном вытеснении элементов закрытости из общественного бытия, а, во-первых, в нахождении оптимального их баланса с элементами открытости, то есть в оптимизации отношения коэффициентов (c1 / c2). При этом нужно помнить, что реальное общество в целом или те или иные составляющие его группы - это динамичные открытые системы. Следовательно, оптимальное отношение (c1 / c2) вряд ли может быть установлено «для всех времен и народов», оно зависит от реального исторического контекста здесь-итеперь. Не менее важной задачей, чем оптимизация отношения (c1 / c2), является оптимизация скорости его изменения, то есть темпов перехода от преимущественно закрытого к преимущественно открытому обществу. Языком математики эта задача выражается как оптимизация производной зависящей от времени функции f(t) = (c1 / c2), то есть df/dt. Дело в том, что слишком быстрое изменении f(t) способно порождать разнообразные социальные конфликты, например связанные с очень резким имущественным расслоением населения, большим процентом бедности, что наблюдается сегодня в ряде пост-советских стран. С другой стороны, излишне медленное увеличение f(t) может привести к фатальному отставанию той или иной страны от мировых лидеров, превращению ее в вечного аутсайдера и даже к исчезновению. Возвращаясь к осноповополагающему вопросу о социальных источниках критицизма, следует согласиться с Поппером, что таковые кроются в неизбывных ограничениях или имманентных противоречиях любых социальных систем. Ни реальное демократическое, ни даже идеальное «открытое общество» не избегают этого и поэтому в принципе не выводимы из области критического анализа. 2.2.3. О позитивном истоке критического мышления. Критицизм и толерантность - две манифестации свободы Сказанное выше обнаруживает социальные корни критицизма, которые уместно назвать негативными. Но тогда неизбежно возникает вопрос, а существуют ли в обществе его позитивные истоки? Направленность поиска ответа на этот вопрос задается высказанной ранее гипотезой о характере критицизма и толерантности как взаимосвязанных проявлений одной сущности148, а также эволюционным подходом к исследованию их взаимосвязи. 148 См.: Тягло О.В., Воропай Т.С. Толерантність та критичність як зміст освітніх інновацій // Філософія: класика і сучасність. Матеріали ІІІ Харківських міжнародних Сковородинівських читань. - Харків, 1996. - С.58. 2. Два начала критического мышления 47 Обращаясь к изучению эволюции любого объекта, следует согласовать «систему отсчета», то есть те главные характеристики «оси времени» и единицы измерения, которые необходимы для констатации изменений исследуемого. В первом приближении цели дальнейших поисков отвечает общее разделение истории человечества на времена доиндустриального - индустриального - постиндустриального общества. 2.2.3.1. Критицизм и толерантность в доиндустриальном обществе В рамках доиндустриального общества обычно выделяют (У.Ростоу и др.) его типичные виды - традиционное и переходное общества. Очень приблизительно и без уточнения региональных особенностей, первое из них доводят до конца Средневековья (в основном XIII-XIV столетия), а второе связывается с эпохой Возрождения (XIV-XVI столетия).149 Но даже такое приблизительное определение не избегает возражений с учетом того, что некоторые «страны Востока» с традиционной организацией не только существуют по сей день, но и рассматриваются в качестве альтернативы «западным» державам, которые в недалеком прошлом считались безоговорочными лидерами прогресса человечества.150 Более того, существуют убедительные доказательства, что жизнедеятельность обществ «западного» типа включает традиции не как случайность, а как существенные элементы. Традиции или традиционные правила поведения присущи, например, такому атрибуту «западного» образа жизни, как рынок.151 Поэтому естественно прийти к выводу, что на самом деле не традиции сами по себе, а традиции определенного вида и специфика их функционирования определяют то состояние человеческого общества, которое обычно называют традиционным. Традиционное общество Наиболее общее значение понятия традиции (от лат. traditio - передача) состоит в том, что господствующим способом урегулирования отношений между отдельными людьми или человеком и различными социальными институтами признаются факторы, неизменные от случая к случаю, переданные из прошлого в настоящее и будущее. Важным видом такой ситуации оказывается случай, когда традиция признается даром богов, превзойти который смертным не по силам: поэтому лучшее, на что они способны - это безусловное подчинение своей жизни священным принципам. В таком случае принято говорить о «традиционном обществе» или «традиционной цивилизации». «Традиционной цивилизацией, писал современный приверженец традиционализма Рене Генон, - мы называем цивилизацию, основанную на принципах в прямом смысле этого слова, т.е. такую, в которой духовный порядок господствует над всеми остальными, где все прямо или косвенно от него зависит, где как наука, так и общественные институты являются лишь преходящим, второстепенным, не имеющим самостоятельного значения приложением чисто духовных идей».152 Этот 149 Если же обратиться к долгое время господствовавшей в отечественной литературе формационной схеме истории человечества, то традиционное общество существует до завершения феодализма, а переходное связано с формированием предпосылок капитализма. См.: Философская энциклопедия. - М., 1967. - С.526. 150 См., напр.: Стефанов Ю.Н. Рене Генон и философия традиционализма // Вопросы философии. 1991. - №4. - С.38 и др. 151 См.: Хайек Ф.А. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. - М.,1992 - С.29,42 и др. Вспомним также, что в одной из приведенных выше цитат Поппера говорится характерной для открытого общества традиции критицизма. 152 Цит. по: Стефанов Ю.Н. Указ. соч. - С.36. Также см.: Генон Р. Традиция и бессознательное // Вопросы философии. - 1991. - №4. - С.51-53. 48 2. Два начала критического мышления «духовный порядок» имеет не сознательное или «сверхсознательное», сверхчеловеческое происхождение. подсознательное, а Сейчас навряд ли уместно углубляться в обсуждение природы многообразных традиций или «принципов», но факт их господства в самых разных сферах жизнедеятельности человеческих сообществ на протяжении очень больших временных периодов подтверждается как историческими данными, так и интерпретативными исследованиями ученных.153 Традиция в узком понимании - как дарованный небом «духовный порядок» - не предоставляет простора для свободы мысли и слова или, по меньшей мере, ограничивает ее узком руслом однородных решений. Ограничение человеческой свободы в традиционном обществе имеет характер универсальной нормы, из которой не должно быть исключений даже для тех, кто находится на вершине социальной пирамиды и, казалось бы, имеет право жить по своей воле. Интересным примером в таком отношении является свидетельство историка периода эллинизма Диодора относительно образа жизни египетского фараона: его день и ночь были расписаны по часам, в которые царю надлежало неукоснительно исполнять предписания законов, а не собственные желания. Далее Диодор подтверждает, что упомянутые предписания распространяются не только на административную деятельность фараона. Они не оставляют ему свободы гулять, купаться и даже по своей воле проводить время с собственной женой. Однако, по свидетельству историка, в этих условиях фараоны были вполне счастливы, ведь считалось, что люди, следующие своим естественным эмоциям, впадают в ошибки, тогда как цари, строго исполняющие законы, свободны от личной ответственности за неудачи. Таким образом, отчуждение человека от свободы ведет к устранению его персональной ответственности за совершенное и самой возможности его критиковать.154 Кроме того, точное следование традиции делает практически излишней и терпимость. Она излишня как относительно активного носителя традиции постольку, поскольку все, что он делает, признается законным и под категорию отклонения от установленного порядка, которое следует терпеть, не подпадает, так и относительно того, с кем этот носитель общается, разве что терпимость сама оказывается элементом традиции (например, древний обычай миловать осужденных во время религиозных праздников). Дальнейшее рассмотрение взаимосвязи критицизма и толерантности уместно конкретизировать через учет фундаментальной оппозиции «мы - они». Бинарная оппозиция «мы - они» с самого начала человеческой истории служила основанием формирования и функционирования отношений между разными группами людей, в том числе и между культовыми сообществами.155 Причем отношения в рамках группы «своих» считались принципиально хорошими, правильными, справедливыми и т.п., тогда как «они» практически всегда ошибаются, олицетворяя несправедливость и зло. Например, типичный житель Древнего Египта различал, с одной стороны, «людей», Можно заметим, что такое «традиционное общество» родственно «закрытому обществу» в духе Поппера. 153 См., напр.: Вейнберг И.П. Человек в культуре Ближнего Востока. - М.,1986. - С.36, 50 и др.; Г.Франкфорт, Г.А.Франкфорт, Дж.Уилсон, Т.Якобсен. В преддверии философии - М.,1984. - С.87 и далее. Сравн.: Хайек Ф.А. Пагубная самонадеянность...- С.42-44 и др. 154 Напомню, что именно отсутствие персональной ответственности Поппер считал характерной особенностью закрытого общества. См., напр., Поппер К. Открытое общество и его враги. - Т.2. С.217 и др. 155 Ср., напр.: Вейнберг И.П. Человек в культуре Ближнего Востока. - С.108-109. 49 2. Два начала критического мышления а с другой - ливийцев, африканцев и азиатов. Иначе говоря, египтяне «людьми» признавались, а иноземцы - нет. «Представление о том, что только «мы» - народ, что иноземцы - не вполне люди, не ограничивается одним лишь современным миром»,отмечают в такой связи Г.Франкфорт, Г.А.Франкфорт, Дж.Уилсон, Т.Якобсен.156 Однако более точно утверждать обратное. Оппозиция «мы - они», закрепленная жестокими требованиями борьбы за существование еще во времена первобытных человеческих стад, транслировалась традицией в масштабах тысячелетий и континентов. Эта оппозиция вообще имеет какую-то фундаментальную биосоциальную природу. Стремление к созданию особенных групп («мы») и противопоставление иным («они») наблюдается до сегодняшнего дня, возрождаясь иногда в непредсказуемых формах. Так, Майкл Даммит справедливо заметил, что даже если бы каким-то образом все человеческое сообщество выработало единый язык, религию, культуру и т.п., то в ней все равно искусственным путем возникали бы отдельные группы, противопоставляющие себя другим, наподобие групп футбольных болельщиков.157 Из традиционной оппозиции «мы - они» вытекала крайне ограниченная возможность терпимости: в жизненно важных случаях терпимое отношение к «чужим» практически неприемлемо; к «своим» же, то есть к законным носителям устоявшейся нормы, она почти что излишня, ведь тут должны действовать отношения иного рода легитимное подчинение и господство, взаимная поддержка и т.п. Критицизм, напротив, должен направляться против «чужих», а в рамках «своей» традиции он воспринимался, в лучшем случае, как результат временного недоразумения или как отношение совершенного принципа к каким-то случайным продуктам вырождения. Итак, в типичных случаях традиционного общества, характерных для Древнего Востока, терпимость и критицизм имели разные области определения: терпимость встречалась как по сути случайное или, реже, точно предписанное традицией явление в сфере отношений с более или менее «своими», тогда как критицизм набирал силу в отношении к «иным» (в том числе и к «когда-то своим», если они вышли за рамки устоявшихся норм). Кроме того, оба эти явления общественной жизни имели слабо развитый характер, кто соответствовало ограниченности свободы человека. Во времена классической Древней Греции, которые хронологически «погружаются» в эпоху традиционализма, статус свободы человека возвысился, по крайней мере для «своих» - свободных граждан полиса. Разнообразие форм и распространенность критицизм и толерантности возросли. Но проявление терпимости и критического мышления греков следует воспринимать, так сказать, cum grano salis. Прежде всего, демократические полисы, в особенности главнейший из них Афины эпохи Перикла, по сути крайне тяжело подводить под категорию традиционного общества, ведь здесь нарождались новые формы социального бытия, в частности демократическая государственность. Этот факт был осознан уже современниками, и тот же Перикл в одной из своих публичных речей подчеркнул его совершенно сознательно. Для нашего государственного устройства мы не взяли за образец никаких чужеземных установлений. Напротив, мы скорее сами являем пример другим, нежели в чем-нибудь подражаем кому-либо. И так как у нас городом управляет не горсть людей, а большинство народа, то наш государственный строй называется народоправством. В частных делах все пользуются одинаковыми правами по законам. Что же до дел государственных, то на почетные государственные должности выдвигают каждого по достоинству, поскольку он чем-нибудь отличился не в силу принадлежности к определенному сословию, но из-за личной доблести. Бедность и 156 См.: Г.Франкфорт, Г.А.Франкфорт, Дж.Уилсон, Т.Якобсен. В преддверии философии. - С.47. 157 См.: Dummet M. Tolerance // La tolerance aujourd’hui. Analyses philosophiques. - Paris,1993. - P.16. 50 2. Два начала критического мышления темное происхождение или низкое общественное положение не мешают человеку занять почетную должность, если он способен оказать услуги государству. (2) В нашем государстве, отмечает Перикл, мы живем свободно и в повседневной жизни избегаем взаимных подозрений: мы не питаем неприязни к соседу, если он в своем поведении следует личным склонностям, и не выказываем ему хотя и безвредной, но тягостно воспринимаемой досады.158 Хотя в последнем замечании лидера афинской демократии явно подмечена связь терпимости со свободой, однако, по большому счету, толерантность не получила в Греции достаточного позитивного обоснования и поэтому воспринималась или как случай или как принуждение каким-то внешним для человека фактором. Так, терпимость de facto нашла обоснование еще у скептиков (Пиррон и др.), которые считали уместным удерживаться от категорического суждения в пользу той или иной позиции и отрицания всех других возможностей вследствие принципиальной недостижимости окончательной истины.159 Однако это - лишь негативное обоснование, которое представляет терпимость как следствие неустранимого несовершенства человеческого ума. Далеко не все греки в ним соглашались, в особенности те, которые держались, как принято говорить, позиции гносеологического оптимизма. Иная, хотя и не однозначная ситуация сложилась в связи с критицизмом. Скептицизм предоставлял свободу критиковать любую позицию, однако следствия этой критики сами по себе были шаткими и не составляли достаточного основания общепринятого отрицания того, что было раскритиковано: в чем неопределенность, полученная посредством критики другой неопределенности, превышает ее качественно?! Тут действовали только субъективные склонности, например в духе принципа, провозглашенного старшим софистом Протагором: человек есть мера всех вещей... С другой стороны, возвышение рационального познания и создание его первого органона - логики, весьма способствовало укоренению и упорядочению взаимной критической активности ряда различных философских школ. Более того, критика получила права и в рамках ряда «парадигм», то есть по отношению к «своим». Символом позитивной критики, которая не склоняется ни перед каким авторитетом, выступает философская активность Сократа. Этот выдающийся афинянин олицетворяет, с одной стороны, критическое мышление, которое вытесняет из сферы познания истины все, что не выдерживает систематической проверки разумом, а с другой - терпимость к вещам и явлениям повседневности, случайного и текучего быта.160 К сказанному уместно добавить, что рациональная критика с времен Древней Греции сама начала приобретать силу универсальной традиции, отличной от того типа традиций, которые основывались на «местных ценностях».161 Таким образом открылась возможность критиковать «чужих» и «своих» в содержательном плане, но на длительное 158 Фукидид. История. - М., 1993. - C.80. 159 Конечной целью скептики считают воздерживаться от суждений, за которым, как тень, следует бестревожность... Впрочем, иные говорят, что конечная цель для скептиков бесстрастие, а иные - что мягкость. См.: Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. - М., 1979. - С.393. 160 Тут традиционно ссылаются на многочисленные свидетельства об отношении Сократа к своей жене - Ксантиппе. См., напр.: Диоген Лаэртский. О жизни... - С.115 и др. 161 В признании рационального мышления как ценности иногда усматривают один из существенных источников расхождения между традиционным «восточным» обществом и обществом «западного» типа. См., напр.: Игнатьев А.А. Ценности науки и традиционное общество // Вопросы философии, 1991. - №4. - С.7 и др. 2. Два начала критического мышления 51 время в западноевропейской культуре почти сакральный характер приобрел органон критики - аристотелевская логика. Наконец, отмечу, что в исследованиях Древности иногда встречается феномен, который можно было бы назвать квазитолерантностью. Этим термином, в частности, уместно обозначить отношения, которые выглядят толерантными с точки зрения современного человека, но которые никак не квалифицировались таким образом во времена минувших исторических эпох. Иначе говоря, это «созданная руками исследователя» толерантность, следствие применения современных понятий к реалиям прошлого, не соответствующим этим понятиям (имеется в виду, например, отношение в Древней Греции к специфическим сексуальным проблемам - «любовь к мальчикам» и проч.).162 И в типичных для традиционной цивилизации «странах Востока», и в демократических Афинах терпимость оставалась случайным явлением, ведь ее позитивное основание ясно установлено не было. Выявление же негативного основания, состоявшего в несовершенстве человеческого существа, позволяло истолковывать толерантность как неустранимый вид девиантного поведения. Она практиковалась почти исключительно по отношению к «своим», а радикальный выход за границы «мы» угрожал самым широким спектром проявлений нетерпимости - вплоть до физического уничтожения или обращения в рабство. Критицизм, приемлемый в типичных традиционных сообществах относительно «чужих» или - в случаях, отвечающих традиции - «сверху вниз» среди «своих», в условиях античной демократии получил существенное развитие и распространение на «своих» - как проявление признания свободы мысли и, в неких рамках, поступка. Наталкиваясь на возможность терпимости, критицизм, как правило, исключал ее. Можно сказать больше: критицизм стимулировал нетерпимость и поэтому вступал с толерантностью в категорическое противоречие. А разъяснить это состояния дел можно таким образом: признание человеком собственной свободы, если оно вообще допускалось, в Древности ставилось выше признания свободы другого; когда же свобода не признавалась вообще, то критицизм и толерантность оказывались в одинаковой мере лишенными положительных оснований. Переходное общество Эпоха Возрождения, как известно, базировалась на переходе от сельской к городской культуре. В городе жизнь характеризуется высокой интенсивностью и изменчивостью, резко контрастируя с естественно-плавным ритмом феодальнокрестянского бытия. Разрослись торговля, банковское дело, ремесло, появились первые мануфактуры: все это выходило за границы уклада жизни Средневековья и составляло зародыши нового. Умножение и концентрация этих зародышей взаимосвязаны с изменением не только содержания или организации труда, но и с существенной трансформацией менталитета урбанизируемого человека. Мастер - ремесленник, купец или художник - не возможен без глубокого уважения к своему труду, а значит - и к самому себе как его субъекту. Он не существует без свободы выбора и готовности нести за него ответственность. Поэтому вызванное к жизни городом массовое мастерство стимулировало возрастание значимости личностных начал человека, а также самого широкого их общественного признания. 162 Интересное исследование этих отношений, осознающее проблему квазитолерантности и стремящееся ее избежать, предложил М.Фуко в известной «Истории сексуальности». См. также реферат З.А.Сокулер: Жизнь и власть в работах Мишеля Фуко. Реферативный сборник. - М.: ИНИОН РАН, 1997. - С.112-113 и др. 52 2. Два начала критического мышления Понятие личности было введено еще Августином Блаженным и с тех пор закрепилось в европейской религиозно-философской мысли. Но во времена Средневековья рядом с совершеннейшей персоной Бога земной человек считался неполноценным, лишенным целостности. Оригинальность интенций Возрождения состояла в отбрасывании всяких принципиальных ограничений земного развития человека, в возвышении его до божественного уровня. Приобретая статус действительно богоподобного существа - титана, человек становился главным предметом духовных исканий, вытесняя из фокуса внимания даже Бога. Поэтому смысловым стержнем Ренессанса оказывается идеи полноценной человечности или гуманизма. Специфика ренессансного гуманизма состояла, как известно, в том, что он являлся ничем не ограниченным в мысли и действии светским индивидуализмом. Мы привыкли произносить слово «гуманизм» в безусловно позитивном значении. На первый взгляд кажется, что и гуманизм эпохи Возрождения полностью подтверждает эту традицию. Действительно, как не сочувствовать могучему стремлению человека к свободе?! Как не приветствовать деабсолютизацию власти церкви, тем более, что она основательно подпортила свою репутацию многочисленными и разнообразными злодеяниями - от преследования философоввольнодумцев до буквальной охоты на ведьм?! Позитивная оценка гуманизма кажется тем более уместной, что Ренессанс дал богатейшие, до сих пор поражающие воображение плоды в духовной и материальной сферах: тут и возникновение светской интеллигенции, и изобретение ткацкого станка, и введение гелиоцентрической картины мира... Но углубленное исследование приходит к весьма неожиданному выводу: тот гуманизм, который превратил человека в ничем не ограниченного титана, имеет не только лицевую и светлую, но и обратную сторону. По своей темноте она не уступает темнейшей полночи Средневековья. Несколько примеров подтвердят это обобщение.163 С именем Лоренцо Медичи справедливо связывают всесторонний расцвет Флоренции. Обретя славу политического деятеля и военачальника, он в то же время прославился возобновлением в 1459 году деятельности Платоновской академии и вообще вошел в историю как чистейшее воплощение Ренессанса. Так этот великий покровитель наук и искусств отбирал приданное у девушек, казнил и вешал, жестоко разграбил город Вольтерру и отнюдь не пренебрегал интригами, связанными с ядом и кинжалом. На все времена прославилось своими преступлениями семейство Борджиа, глава которого, папа Александр VI Борджиа, соединял честолюбие, корыстолюбие и развращенность с блестящими дарованиями и энергией. Он торговал должностями, милостями и отпущением грехов. Современники сообщают, что он сожительствовал со своей дочерью Лукрецией, которая также была любовницей своего брата Цезаря, и что эта Лукреция родила ребенка не то от отца, не то от брата. Кроме того, ее по политическим и династическим расчетам четырежды выдавали замуж. Описанный способ жизни был весьма распространенным среди известнейших деятелей Ренессанса и выдающихся гуманистов. Навряд ли это было случайностью, которую можно легко отделить от имманентных проявлений титанизма. Скорее таким образом раскрывается необходимое дополнение его светлой стороны, то есть темная сторона возрожденческой формы гуманизма. Каждый человек-титан в своем неудержимом стремлении к свободе хочет все в мире охватить и все подчинить себе. На этом пути он не признает никаких норм и ограничений, даже тех, которые санкционированы церковью как условия вечного 163 См.: Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. - М., 1982. - C.129 и далее. 53 2. Два начала критического мышления спасения. Но отбрасывание общезначимых норм влечет за собой допустимость любых пороков и преступлений, на которых остановится свободный выбор человека-титана. Дальнейшее развитие идеи ренессансного гуманизма обнаруживает возможность совершенно уничтожающей для него критики. Действительно, ни один человек не в состоянии существовать в полном одиночестве. В то же время, каждый человек-титан стремится к абсолютной свободе, ничем не ограниченной власти и на пути к исполнению этой своей мечты наталкивается на подобные устремления других титанических личностей. От самых острых противоречий и смертельной «войны всех против всех» здесь уклониться невозможно: она же ведет титанов к «гарантированному взаимному уничтожению». Таким образом обнаруживается парадокс абсолютной индивидуальной свободы. Здесь он выведен теоретически, однако многочисленные проявления парадоксальной ситуации нетрудно найти в исторических свидетельствах.164 Их широкое распространение было одним из действенных источников самоотрицания Возрождения.165 Абсолютистское проявление свободы повлияло на характеристики ренессансного гуманизма и терпимости. Они тоже приобрели абсолютистскую окраску в том смысле, что ни критицизм, ни терпимость ничем не ограничивались извне. Если допускался критицизм, то - полный, причем не только в словесной форме, но и через насилие вплоть до физического уничтожения оппонента (и его близких). Если силу набирала терпимость - то тоже полной мерой, вплоть до принятия самого тяжелого греха. Единственной их основой и детерминантом признавалась свободная воля титана. Феномен титанизма трансформировал имевшую ранее силу оппозицию «мы - они» в «я - они». Господство индивидуализма расширяет область критики, объектом которой может стать всякий и все, что угодно, даже «своя» церковь и ее авторитеты.166 Но и сфера терпимого находит расширение, поскольку ее границы теперь определяются только волей личности, а не каким-то традиционным разделением на «своих» и «чужих». Итак, явление абсолютной свободы или, по крайней мере, ее провозглашение как нормы человеческого бытия в переходном обществе влияет на изменение областей действия критицизма и толерантности, которые, в обличие от традиционного общества, теперь практически совпадают. Но соотношение терпимости и критицизма в этих условиях оказывается весьма простым: они не находят позитивных оснований для какого бы то ни было сосуществования и поэтому исключают друг друга категорически. Однако Ренессанс не только продемонстрировал идеал абсолютной свободы и его фатальные последствия. В рамках этой эпохи были выработаны некие рецепты относительно того, как их избежать. Один предложен Лоренцо Валла в концепции 164 См., напр., историю Цезаря Борджиа, описанную в: Макиавелли Н. Государь. - M., 1990. - C.2025. 165 Парадокс титанизма, к сожалению, часто проявляется и до сих пор, особенно в сообществах со слабыми правовыми традициями. Его опасность следует учитывать элите новых независимых государств. 166 Тут можно напомнить смелую критику принципиально важной для католической церкви грамоты о даровании императором Константином власти над половиною Римской империи папе Сильвестру І (ІV ст. н. э.), развернутую в ХV ст. Лоренцо Валла из Рима. Свой критический пафос гуманист обобщил таким образом: «Но помни, - писал он, - не всегда следует верить авторитетам, которые даже если и сказали многие вещи хорошо, иногда, как свойственно людям, ошибались. Поэтому считаю большим глупцом любого, кто всецело доверяет книгам и тщательно не исследует, истинно ли они говорят». См.: Валла Л. Об истинном и ложном благе. О свободе воли. - М., 1989. - C.23. 54 2. Два начала критического мышления наибольшего блага. Для нас важным является продемонстрированная здесь готовность ограничить человеческую свободу, а также соответствующие выводы касательно критицизма и терпимости. Концепция Валлы важна потому, что в ней свободный выбор человека находит некое естественное ограничение вследствие утверждения приоритета большего блага над меньшим. Ссылаясь на Эпикура, итальянский гуманист утверждал: сильно заблуждаются те, кто меньшие виды блага предпочитают большим, как, например, больной, который исключительно ради сладости питься пренебрегает сохранением здоровья.167 Но достижение наибольшего блага часто зависит не только от самого человека, но и от окружающих. Поэтому чтобы достичь цели - наибольшего блага, следует принимать во внимание и их интересы, даже если для этого нужно отказаться от каких-то благ меньших. Валла резюмирует данное обстоятельство таким образом: хотя я действую только в собственных интересах, но при этом хочу быть полезным другому, с тем чтобы равным образом быть полезным самому себе. Это решение проблемы преодолевает антагонизм неограниченно свободных личностей и, по крайней мере частично, балансирует индивидуальные и социальные факторы человеческой жизнедеятельности, хотя бы и за счет подчинения последних первым. Но, видимо, это не самое плохое решение проблемы. Свою теоретическую находку Валла удачно иллюстрирует рассмотрением одной «проблемной ситуации»: должен ли человек, нашедший деньги, возвратить их владельцу? Тут, разъясняем гуманист, возможны два варианта. В первом из них найденные деньги будут наибольшим благом, например, если они спасут человека от смерти: тогда их возвращать не следует и это не будет позорной кражей. В ином же случае их целесообразно вернуть, причем таким образом, чтобы это видели как можно больше людей: приобретя их уважение, человек получит возможность добиться большего блага, чем оставив деньги у себя.168 Всегда руководствуясь индивидуальными интересами и стремясь к собственному благу, личность должна находить к нему правильный путь. Средством ориентации здесь выступает концепция наибольшего блага. Добродетель - это умение находить оптимальные решения, причем не только собственными силами, но также и с привлечением сил других людей или даже Бога. Таким образом каждый используем «других» как средство достижения личного блага, но и сам оказывается подобным средством для них. Разве не является такая форма самоограничения индивидуализма в поисках человеческого счастья и приемлемых норм поведения более привлекательной, чем безудержность абсолютного титанизма? Императивом поведения сознательной личности выступает, согласно Валла, стремление к наибольшему личному благу - оно диктует критику или же толерантное отношение к чему-то «иному». Поэтому критика и терпимость теперь признаются не исключающими друг друга проявлениями абсолютистской свободной воли, которые взаимно исключают друг друга, а двумя «переменными» общей функции - 167 См.: Валла Л. Апология // Валла Л. Об истинном и ложном благе. О свободе воли. - М., 1989. C.391. См. также: Валла Л. Об истинном и ложном благе. // Валла Л. Об истинном и ложном благе. О свободе воли. - М., 1989. - С.154. 168 См.: Валла Л. Об истинном и ложном благе. О свободе воли. - C.170-171. В проведенном анализе Валла оставил вне анализа экстремальную ситуацию, когда одни и те же деньги будут условием спасения и того, кто их потерял, и того, кто нашел. Насколько морально спасать свою жизнь ценою жизни другого человека - вот в чем вопрос! 55 2. Два начала критического мышления человеческого блага, оптимальное соотношение которых позволяет достигнуть желаемого. Рассуждения Валлы интересны тем, что теоретически учитывают наличие хотя и родственных конкретной человеческой личности, но не подвластных ей факторов бытия. Это «иное» должно не игнорироваться или подавляться - ведь это, хорошо понимал Валла, не всегда уместно или возможно, а трезво учитываться в момент выбора оптимального пути достижения собственного блага. Итак, критицизм и толерантность находят, наконец, некоторое общее позитивное основание как факторы достижения наибольшего блага личности. 2.2.3.2. Критицизм и толерантность в индустриальном обществе Каковы основания трансформации толерантности и критицизма во времена становления и дозревания индустриального общества, то есть, в хронологическом отношении, на протяжении ХVII, XVIII, XIХ и первой половины XX века? История дает несколько отличающихся друг от друга вариантов ответа на этот вопрос. Изучая их, обратимся, прежде всего, к классическому наследию Джона Локка, которую в интересующем нас аспекте исследовала англичанка Сьюзен Мендус.169 Локк не выработал позитивного доказательства терпимости самой по себе как блага, он приводит, в лучшем случае, негативное обоснование иррациональности подавления «иных». Случай, который он изучал, был исторически специфическим и касался только взаимной терпимости ряда христианских конфессий. Он имел целью доказать, что пренебрежение терпимостью в случае такого разнообразия является нерациональным, а не его моральную несостоятельность. Поэтому на вопрос: «В чем состоит обоснование толерантности?», - Локк не дал полного ответа. Предложенное им обоснование служит оправданию религиозной толерантности и даже в этой ограниченной области он доказывает не то, что терпимость - благо, а то, что она - требование рациональности.170 Итак, согласно Мендус, Локк обосновал толерантность как подлинный сын эпохи Просвещения. Для него Разум (Ratio) и Рациональность (Rationality) - превыше всего. Даже в религиозных делах требование рационального упорядочения, гармонизации играет роль первопринципа и влечет обоснование толерантности, так сказать, «от противного» - через установление нерациональности религиозной интолерантности в функционировании государственной власти. Но пойдем дальше и зададим такой вопрос: что является целью рациональной деятельности государства? Согласно Локку, гражданское (политическое) общество и различные государственные институты создаются множеством отдельных индивидуумов для гарантированной защиты своих естественных прав, прежде всего права на жизнь.171 Кроме права на жизнь в момент рождения каждый человек получает естественное право на свободу. Поэтому свобода - неотчуждаемая ценность, которая тоже должна охраняться государством. Но не возникает ли противоречия между свободой отдельного человека и общественным законом? Локк ищет решение этой проблемы, 169 Локк посвятил этому вопросу специальные сочинения «Опыт о веротерпимости», «Послание о веротерпимости» и др. См.: Локк Дж. Соч. в 3-х т. - М.,1988 - Т.3. 170 См: Mendus S. Toleration and the Limits of Liberalism. - 1989. - P.146-148. 171 «Государство, по-моему, - это общество людей, установленное единственно для сохранения и приумножения гражданских благ. Гражданскими благами я называю жизнь, свободу, телесное здоровье и отсутствие физических страданий, владение вещами, такими, как земля, деньги, утварь и т.д.», - писал Локк. См.: Локк Дж. Пославние о веротерпимости // Локк Дж. Соч. в 3-х т. - М.,1988. - Т.3. - С.94. 56 2. Два начала критического мышления унаследованной философской мыслью еще от эпохи Возрождения. Он разделяет два вида свободы, отвечающие соответственно до-государственному, естественному и государственному бытию человека. Естественная свобода человека заключается в том, что он свободен от какой бы то ни было власти на земле и не подчиняется воле или законодательной власти другого человека, но руководствуется только законами природы. Иногда такую свободу понимают как возможность делать все, что понравится, жить, как заблагорассудится, и не быть ограниченным ничем. Такая ситуация возможна, но ее ближайшие последствия - конфликты и войны, что не может удовлетворить большинство людей вследствие перманентных угроз жизни и свободе. Даже те титаны, которые способны постоять за себя в одиночку, навязывая свою волю многим другим, в конце концов обречены на гибель. Поэтому посредством общественного договора создается государство, а феномен свободы подвергается существенной трансформации. Свобода человека в обществе заключается в том, что он не подчиняется никакой другой законодательной власти, кроме той, которая установлена по согласию в государстве, и не находится в подчинении чьей-либо воли и не ограничен каким-либо законом, за исключением тех, которые будут установлены этим законодательным органом в соответствии с оказанным ему доверием, разъясняет Локк. Таким образом, он подводит к пониманию фундаментального баланса противоположных детерминантов человеческого бытия. Во-первых, человек сознательно ограничивает свою естественную свободу, получая в рамках общепризнанного закона полную свободу как член гражданского общества. Во-вторых, закон хотя и сужает сферу допустимой активности отдельного гражданина, однако богатой платой за это должно быть исключение возможности принуждения со стороны других индивидуумов, гарантия неотъемлемых прав.172 Если в перечне естественных прав право на жизнь и право на свободу кажутся вполне понятными, то следующее - право на частную собственность - требует дополнительного обсуждения и обоснования. Действительно, оно не имеет очевидно универсального характера и кажется связанным только с интересами буржуазии одного из ведущих классов индустриального общества, идеологом которого выступал Локк. Хотя земля и все низшие существа принадлежат сообща всем людям, все же каждый человек обладает некоторой собственностью, заключающейся в его собственной личности, на которую никто, кроме него самого, не имеет никаких прав. Мы можем сказать, что труд его тела и работа его рук по самому строгому счету принадлежат ему. Что бы тогда человек не извлекал из того состояния, в котором природа этот предмет создала и сохранила, он сочетает его со своим трудом и присоединяет к нему нечто принадлежащее лично ему и тем самым делает его своей собственностью. Так как он выводит этот предмет из того общего состояния общего владения, в которое его поместила природа, то благодаря своему труду он присоединяет к нему что-то такое, что исключает общее право других людей...173 Приведенную аргументацию понять не трудно. Она основывается, прежде всего, на признании естественного владения человеком своим телом - орудием созидающего труда. Отмечу, что это возможно только для человека свободного. Поэтому свобода в обществе оказывается необходимым условием существования частной собственности. 172 См.: Локк Дж. Два трактата о правлении // Локк Дж. Соч. в 3-х т. - М.,1988. - Т.3 - С.274-275. 173 См.: Локк Дж. Указ. соч. - С.277. 57 2. Два начала критического мышления Но в индустриальном обществе справедливым оказывается и обратное: необходимым условием действительной свободы тут выступает частная собственность. Соединить зафиксированные утверждения не составляет проблемы: действительность частной собственности эквивалентна наличию гражданской свободы. К сожалению, этот простой вывод не всеми осознается или принимается. Расширяя круг и возвышая значение неотчуждаемых прав гражданина, Локк вместе с тем существенно ограничивал сферу влияния и ответственности государства. Из самодовлеющего Левиафана оно превращается в орган управления человеческим сообществом, которое создало его для разрешения своих проблем. Поэтому рационализация государства не имеет самодостаточного значения, а оказывается подчиненной решению основополагающей задачи - защите граждан, прежде всего их естественных и неотчуждаемых прав.174 Таким образом приходим к выводу: хотя, согласно Мендус, непосредственно Локково понимание толерантности находит обоснование в необходимости рационализации государства, однако, поскольку само это государство в конце концов имеет главной целью защиту естественных прав граждан, постольку и толерантность оказывается следствием требования их защиты. Иначе говоря, толерантность выступает одним из проявлений признания неотчуждаемых прав человека в условиях его гражданского бытия. Из сказанного можно также понять, что хотя опосредованно и не прямо, но в трудах Локка кроется уточнение положительного основания толерантности. Оно состоит в признании неотъемилемых прав гражданина на жизнь, свободу и собственность. Следующий крупный шаг в разработке проблемы толерантности сделан соотечественником Локка - Джоном Стюартом Миллем. В отличие от Локка, Милль погрузил свое обоснование толерантности в намного более широкую защиту положительной ценности свободы как базиса автономии личности, отмечает Мендус. Без свободы богатство человеческой природы вырождается в застывшее однообразие, и индивидуумы будут подавлены не только интолерантными законами, но и нетолерантными отношениями в обществе. Поэтому роль свободы в поддержании автономии личности критична, что, по мысли Милля, и порождает терпимость. Это направление мысли является самым сильным в модерном подходе либералов к терпимости, заключает Мендус. Из приведенного фрагмента можно сделать по меньшей мере два важных выводы. Во-первых, Милль сужает положительное основание толерантности, усматривая его в человеческой свободе, которая, в свою очередь, выступает необходимым условием автономии личности. Во-вторых, если в наследии Локка содержится обоснование толерантности в сфере государственной жизни, то у Милля оно охватывает и отношения вне «сферы ответственности государства», то есть в рамках относительно свободного от державной опеки гражданского общества. Итак, из анализа взглядов Валла - Локка - Милля можно выделить такую линию эволюции позитивного обоснования толерантности: от утверждения весьма размытого по своему смыслу «наибольшего блага» - к более узкой и основательной совокупности неотъемлемых прав человека в условиях его государственного бытия - к еще более узкому требованию свободы личности как предпосылки ее автономии и в государственной, и в частной жизни. 174 Существенно, в частности, что настоящим носителем суверенитета теперь признавался народ, а не государство, как у Т.Гоббса. 58 2. Два начала критического мышления Поскольку требование свободы в индустриальном обществе приобретает универсальный статус, то такой же статус получает и принцип толерантности в отношениях - государственных или частных - свободных личностей. Понятно, что свобода и толерантность должны быть ограничены общепризнанными законами государства и нормами общественной морали. На этом пути устраняется угроза возрождения парадокса абсолютной свободы, опасность которой со времен Ренессанса западное общество вполне осознало. Сегодня понимание толерантности углубляется далее. Поль Рикер, например, отмечает связывает толерантность со справедливостью. На таком пути он подчеркивает необходимость не только гарантий свободы легитимному «иному», но и предоставления слабому «иному» неких преимуществ для самореализации. Точнее, предоставление преимуществ слабым «иным» следует сочетать с минимизацией ущерба для более сильных в оппозиции «своих».175 Представляется, что такой ход мысли является очень актуальным в пост-тоталитарных обществах. Здесь усиление разнообразной поляризации общества (имущественной, политической, этнической, конфессиональной и т.п.) при сохранении традиционной нетерпимостью к «иным» чревато не только острейшими конфликтами, но и подавлением перспектив позитивных изменений. От толерантности-терпимости как чисто случайной или негативно окрашенной вынужденно пассивной реакции на «иное» - через, по крайней мере, нейтральное восприятие и защиту иного в рамках, очерченных законом и моралью - к сознательному предоставлению «иному» некоторыми преимуществами в разнообразных сферах человеческого бытия: вот уже осознанные человечеством метаморфозы толерантности.176 В свободе как естественном праве человека в обществе находит позитивные истоки не только толерантность, но и критицизм. Толерантность - это обоснованное тем или иным образом признание свободы иного человека быть иным и отстаивать свою «инаковость», особенность. Критицизм же выступает, так сказать, проявлением внутренней свободы человека, который волен не соглашаться и тем или иным законным способом опровергать другого или другое. Поэтому толерантность и критицизм являются двумя манифестациями единой сущности - свободы, они придают ее проявлениям должную полноту.177 175 Сравн.: Рикер П. Терпимость.Нетерпимость. Неприемлемое // Сollegium. - Київ, 1995 - № 1-2. С.6-7 и др. 176 Чтобы зафиксировать разные виды толерантности используют термины «слабой» и «сильной» толерантности. Я присоединяюсь к точке зрения англичанина Майкла Даммита в том, что разумно ввести в употребление два родственных, но не тождественных английских слова: toleration (терпимость) - для обозначения толерантности-терпимости и tolerance (толерантность) - для обозначения совершенной толерантности. Сравн.: Dummet M. Tolerance // La tolerance aujourd’hui. Analyses philosophiques - Paris, 1993 - P.17. Итак, толерантность в широком понимании содержит как свою слабую форму - терпимость, так и сильную - совершенную толерантность. 177 Признание свободы человека в обществе выступает достаточным основанием толерантности, однако не исчерпывает ее обоснования, в которое целесообразно включить еще и различные онтологические и гносеологические соображения. В таком связи см., напр.: Тягло О.В. Толерантність в сучасному світі: досвід міждисциплінарного дослідження // Вісник Харківського державного університету. - Харьков,1998. - №414. - С.134-137. 59 2. Два начала критического мышления 2.2.3.3. Перспективы критицизма и толерантности в постиндустриальном обществе В развитых странах переход к постиндустриальному обществу разворачивается со второй половины ХХ столетия. Одним из внешних свидетельств тут признается превышение числа «белых воротничков» (то есть работников умственного труда) соответствующего числа «воротничков синих» (то есть рабочих): в США, например, это произошло в 1955 году. Показательно, что почти в это же время увидел свет известный доклад Вольфендена (1957), в котором принцип толерантности был положен в основу разрешения проблемы урегулирования отношений между полами. Доклад рекомендовал реформу законодательства относительно гомосексуализма и проституции исходя из того, что до неких сфер человеческой жизни «закону нет дела». Этот документ иногда оценивается как кульминация длительных дебатов касательно статуса и границ толерантности.178 Такая оценка может показаться субъективной и чрезмерно сильной, однако сам факт и момент появления доклада свидетельствует о какой-то корреляции между продвижением к постиндустриальному состоянию общества и возвышением статуса толерантности до уровня признанного фактора практических решений в широком спектре проявлений человеческой активности. Если опереться на результаты предшествующих исследований, то возможное объяснение этой корреляции кроется в увеличении свободы человека постиндустриального общества, причем не только в количественном, но и в качественном отношении. Существенной составляющей развития постиндустриального общества признается повышение в нем роли производства, распространения и потребления информации, например, на базе компьютерной техники и сетей типа «Internet» (поэтому постиндустриальное состояние общества часто называют информационным). Вследствие этого информационная свобода не просто увеличивается, а приобретает абсолютно новое измерение, что может существенным образом повлиять как на биопсихическое, так и социальное бытие человечества. Но обратной стороной возрастания свободы оказывается расширение возможностей критики. Если возвратиться к той же проблеме отношений между полами, то наряду с легитимизацией в ряде стран Западной Европы браков между мужчинами, абсолютно спокойной демонстрацией сексуальных отношений между женщинами в отнюдь не эротических фильмах и т.д, и т.п., можно наблюдать повышение уровня критики относительно наименьшего покушения на свободу субъектов такого рода отношений или даже только намека на ее нарушение. Хотя и не академическим, но вполне показательным тут выступает пример судебных тяжб президента США Билла Клинтона, в частности, с молодой сотрудницей Белого Дома Моникой Левински. Закон и мораль постиндустриального общества крайне агрессивно-критически относятся к любым нарушениям свободы личности. В тот же время им, как кажется, в самом деле «нет дела» относительно частных отношений свободных граждан, какими бы специфическим они не были. Возрастание индифферентности государства или граждан к свободным поступкам отдельных личностей связано, по моему мнению, с изменением статуса толерантности: она утрачивает вес добродетели, превращаясь в повседневную норму поведения, в нормальное безразличие. Конечно, она не перестает быть нормой и даже возвышается еще более как норма устоявшаяся. Но вместе с этим утрачивается ее очевидная и 178 См.: Almond B. Councelling for tolerance // Journal of Applied Philosophy - 1997 - Vol.14, No 1. P.20. 60 2. Два начала критического мышления непосредственная моральная поддержка: негативную реакцию и осуждение вызывает только нарушение нормы. Итак, период существования толерантности как добродетели охватывает, строго говоря, только период генезиса, расцвета и схода со сцены истории индустриального общества: ранее она не является добродетелью постольку, поскольку не получает достаточного обоснования, а позже - потому, что превращается в привычный элемент повседневности. К подобным выводам относительно изменений в условиях постиндустриального демократического общества можно прийти и относительно критицизма, критического мышления. Правда, утрачивая значение добродетели, принципиальная реализация которой требует значительных усилий или даже жертв, и превращаясь в серую норму повседневности, критицизм до сих пор часто оказывается проявлением смелости и моральности на уровне индивидуальных поступков. Это обстоятельство, которое, видимо, никогда не будет преодолено до конца, вполне ясно отметил, например, М.А. Ноттурно.179 Описанное возрастание индифферентности государства и граждан по отношению к свободным поступкам отдельных личностей все чаще вызывает беспокойство общественного мнения. Провозглашенная сначала против религиозного угнетения, которое направлялось на контроль внутренней жизни индивидуума и его сокровенных верований, а во времена Милля - против общественного подавления и тирании большинства относительно вопросов частной жизни, в двадцатом столетии толерантность, кажется, начинает отождествляться с полной моральной бесконтрольностью (laissez-fair). Вследствие распространения толерантности на все более сомнительные области человеческой жизни, нет ничего удивительного в ее критике поборниками общественных и гражданских идеалов, ведь значительная часть проблем либеральных сообществ кроется в либеральном индивидуализме и в некритической толерантности (uncritical tolerance), которая с ним связывается. Эти болезни общества охватывают различные преступления и угрозу преступлений, порнографию, утрату вкуса и матер, распад семьи, совершенно оправданно замечает современный исследователь из Великобритации Бренда Элмонд.180 В приведенном фрагменте констатируется не только определенная угроза, а и ее источник: таковым на самом деле является некритическая толерантность. Но тогда естественно предположить, что обращение к толерантности критической способно сохранить общий принцип и, в то же время, преодолеть угрозу, порожденную первым из названных его видов. Иначе говоря, соединение толерантности с критицизмом, каким бы внешне противоречивым это не казалось, ведет к их совершенному балансу в разрешении общественных или частных проблем. Первое условие желаемого баланса заключается в признании двух мер толерантности - особенной и всеобщей. Первая из них определяется характерными для конкретного сообщества законом и моралью, иначе говоря - особенными ценностями. Но поскольку они оказываются, вообще говоря, относительными, то релятивным будет и первый вид меры толерантности. Второй ее вид имеет абсолютный характер: в этом случае мера достигается вследствие столкновения с антитолерантностью: толерантность трансформируется в свое инобытие - нетолерантность, но не в антитолерантность. Уже такая возможность перехода толерантности в нетолерантность опровергает 179 Див.: Ноттурно М.А. Розум і довіра: мета критичного мислення і авторитет // Вісник Університету внутрішніх справ - 1997 - №2 - С.238-239. 180 Almond B. Councelling for tolerance - P.20-21. 61 2. Два начала критического мышления упрощенное отождествление толерантности с некритичностью, с абсолютным свободным или вынужденным - игнорированием критики. Вторая - более - глубокая - основа балансирования толерантности и критицизма уже очерчена ранее, она состоит в признании естественного родства рассматриваемых реалий как двух проявлений одной сущности. Толерантность - это обоснованное тем или иным способом признание свободы другого человека быть иным и отстаивать свою «инаковость», особенность. Критицизм же является, так сказать, проявлением собственной свободы человека - он свободен не соглашаться и всеми законными способами критиковать и опровергать иного или иное. Уместно сформулировать и более точное суждение касательно соотношения толерантности и критицизма: они выступают двумя актуализациями человеческой свободы и находятся в отношении дополнительности. Понятие дополнительности (complementarily), как уже упоминалось, введено в оборот Нильсом Бором в исследованиях микромира.181 Его суть может быть выражена утверждением о существовании некой фундаментальной потенции, актуализация и проявления которой зависят от обстоятельств ее наблюдения, от внешнего способа ее фиксации. Наиболее интересно то, что отдельные проявления одной и той же потенции в разных условиях могут находиться в отношении исключения (как это случается во время наблюдения квантового объекта - при одних условиях он демонстрирует свойства корпускулы, а при других - волны). Дополнительность имеет силу и за границами мира физики, на что обратил внимание сам Бор. В атомной физике слово «дополнительность» употребляют, чтобы характеризовать связь между данными, которые получены при разных условиях опыта и могут быть наглядно истолкованы лишь на основе взаимно исключающих друг друга представлений. Употребляя теперь это слово в том же примерно смысле, мы поистине можем сказать, что разные человеческие культуры дополнительны друг к другу. Действительно, каждая культура представляет собой гармоническое равновесие традиционных условностей, при помощи которых скрытые потенциальные возможности человеческой жизни могут раскрыться так, что обнаружат разные стороны ее безграничного богатства и многообразия...182 Подобное отношение дополнительности обнаруживается между толерантность и критицизмом. Хотя они - как актуализированные элементы действительности - и исключают друг друга, но потенциал свободы общественного человека не будет понятен до тех пор, пока не будет учтена возможность обоих ее манифестаций, что определяется конкретными внешними условиями. И напротив, если признать всю полноту человеческой свободы, то уклониться от необходимости принятия естественности и законности обеих рассматриваемых ее актуализаций никак нельзя. Только на таком пути появляется шанс избежать искажения или преувеличения значимости каждой из них. 181 Понятие доподнительности достаточно обстоятельно исследовано как физиками, так и философами. В рамках данной работы вряд ли необходимо повторять уже известное. См. относительно дополнительности: Бор Н. О понятиях причинности и дополнительности // Бор Н. Избранные научные труды - М., 1971. - Т.2. - С.391-398; Алексеев И.С. Концепция дополнительности. Историко-методологический анализ. - М.,1978; Джеммер М. Эволюция понятий квантовой механики. - М,. 1985 - Гл.7. 182 См.: Бор Н. Философия естествознания и культуры народов // Бор Н. Избранные научные труды - М., 1971 - Т.2 - С.287. См. в этом же томе: С.398,532 и др. 62 3. Эволюция логико-философских оснований критического мышления 3. Эволюция логико-философских оснований критического мышления Критицизм практикуется на различных основаниях. Одно из наиболее общих присущий каждому нормальному взрослому человеку здравый смысл или естественная логика. Для преодоления значительной части бытовых и даже профессиональных затруднений, главным образом вне сферы умственного труда, обращения к здравому смыслу достаточно. Однако если встает проблема решения нетривиальной задачи посредством переработки большого объема информации при условии ограниченных временных ресурсов и естественных или искусственных «помех», что является общей ситуацией в информационном обществе, то здравый смысл часто оказывается недостаточно эффективным. Обостряется необходимость обращения к науке логики, позволяющей оптимизировать процесс мышления и сознательно оценивать его течение с тем, чтобы избегать собственных ошибок и не попадаться на уловки оппонента. Поэтому далее обратимся к рассмотрению эволюции научных оснований критического мышления, предоставляемых, прежде всего, различными видами логико-философский исследований. 3.1. Принципиальная ограниченность формально-логических оснований критического мышления Логика изучает законы и формы правильного мышления (или рассуждения).183 Следовательно, по самой своей природе любое логическое исследование несет на себе признак формальности. Однако в общем русле «науки рассуждать» выделяют ее специфический вид - формальную логику, которой сегодня противопоставляется логика неформальная. Такое разделение осуществляется, прежде всего, на основании разного уровня формализации исследуемых рассуждений, а не наличия или отсутствия в их исследовании указанного признака формальности. В какой мере логика формальная, то есть имеющая дело с в значительной мере формализованными рассуждениями, является оправданной гносеологически и приемлемой дидактически? Исследование мышления, которое полностью - хотя бы в идеале - абстрагируется от его содержания и принимает во внимание только точно определенные связки и кванторы, соединяющие оговоренным заранее способом множество символов, не лишено смысла. Оно подтвердило свою продуктивность не только в собственно логике, но также в некоторых разделах математики и родственных ей наук. Однако даже в этих высоко абстрактных областях знания метод формализации и формализованные исчисления не имеют безусловного значения. Для понимания этого обстоятельства уместно напомнить, что в конце ХІХ столетия математика, точнее ее основания, претерпела значительные изменения. Этому способствовал существенный прогресс логики, который породил надежду на полную логизацию математического знания. В разработке соответствующей программы логицизма ведущую роль сыграл ученый из Германии Готлоб Фреге (1842 - 1925). Стремясь к сведению математики к формально-логической системе и опираясь на разработку расширенного исчисления предикатов, он пришел, в частности, к формализации арифметики. Со временем появилась фундаментальная работа англичан Бертрана Рассела и Альфреда Норта Уайтхеда «Рrincipia mathematica» (1910-1913). Эти исследователи значительно продвинулись к поставленной цели, что способствовало распространению 183 О соотношении мышления и рассуждения как воплощения мыслительного процесса в языке см, напр., статью: Сорина Г.В., Меськов В.С. Логика в системе культуры // Вопросы философии, 1996. - №2. - С.93 и далее. 63 3. Эволюция логико-философских оснований критического мышления мнения: адекватной формой научного знания вообще должна быть упорядоченная (или перестроенная) на основе точных форм логики совокупность простейших фактов и фундаментальных законов. Концептуальное оформление эта позиция нашла в рамках логического позитивизма. Но в 30-х годах выяснилась неэффективность попыток логизации любого научного знания, превращения его в формальное исчисление «атомарных фактов». Системы, которые разрабатывались в рамках такой идеологии, хотя и имели утонченную логическую форму, однако оказывались излишне усложненными, весьма небогатыми по содержанию и почти бесплодными с точки зрения реального развития науки. Человеческая мысль, как кажется, натолкнулась здесь на фундаментальную дилемму познания, которая своими составляющими имеет, с одной стороны, совершенство логической формы, а с другой - полноту и «практикабельность» содержания. Эта гносеологическая гипотеза находит обоснование в самих логикоматематических исследованиях. Я имею в виду, прежде всего, результаты австроамериканского ученого Курта Геделя (1906 - 1978). Его теоремы, опубликованные в начале 30-х годов, касаются неполноты и непротиворечивости формальных систем. Согласно первой из них, если арифметическая формальная система непротиворечива, то она неполна. Отсюда, в частности, следует, что для непротиворечивой формальной системы не существует способов доказательства ее непротиворечивости с помощью средств самой этой системы. Если попытаться решить эту задачу, то нужно выйти за рамки исходной системы и создать более широкую. Но и для нее возникнет вопрос непротиворечивости, который повлечет выход за ее рамки и т.д. до бесконечности. Не погружаясь сейчас в детализацию выводов Геделя, подчеркну их концептуальное значение: непротиворечивая формализация знания не совместима с его полнотой и всегда оставляет без ответа некие существенные вопросы. Понимание этого обстоятельства кладет конец претензиям логического позитивизма в духе программы логизации Фреге - Рассела на исчерпывающую и непротиворечивую формализацию человеческой мысли и ее продуктов.184 Следовательно, метод формализации не является «абсолютным оружием» познания, а формализованные системы - безусловным идеалом представления его результатов. В мыслительной активности большинства не только «людей с улицы», но и ученых логическая формализация вообще не находит широкого и регулярного применения. В таком случае прагматическая ценность формальной логики не отвечает тем усилиям, которые необходимы для овладения ею и поддержания выработанных умений после завершения курса обучения. Рассуждения и их критический анализ, которые постоянно практикуются за узкими рамками интересов логика-профессионала или специалиста по основаниям математики, не требуют обращения к формализованным языкам, даже если это в какойто мере и не удовлетворяет стремления к идеалу высшего совершенства. Поэтому, в частности, вузовские курсы для студентов, не специализирующихся в области логики или математики, не должны ориентироваться на формальную - высоко формализованную - логику. Что же должно быть для них ориентиром? Здесь уместно вспомнить о существовании логики неформальной. Это может показаться невероятным, но в учебнике, например, Ирвина Копи и Кита БургесДжексона «Неформальная логика» я не нашел ни одного самого простого логического 184 Ср.: Стройк Д.Я. Краткие очерки истории математики. - М.,1978. - С. 313-314; Современная западная философия. Словарь. - М.,1991. - С.72. 64 3. Эволюция логико-философских оснований критического мышления значка типа конъюнкции, дизъюнкции и т.п.185 Вместе с тем, это весьма полезная, насыщенная логически корректным и практически значимым материалом книга, которая издается одним из авторитетных в мире издательств уже третий раз. Ситуация разумной деформализации учебного курса логики может не понравиться кому-то из специалистов, однако я убежден, что именно на таком пути кроется значительный резерв трансформации этой академической дисциплины, в особенности ее преподавания тем, кто не готовится к карьере профессионального логика или математика. Что же представляет собой альтернатива формальной логике - логика неформальная? Каким образом она соотносится с критическим мышлением? Обзор современной литературы по этому вопросу будет приведет в третьей части книги, сейчас же я рассмотрю лишь отдельные конституирующие отличия двух видов «науки рассуждать». 3.2. Неформальная логика как современное основание критического мышления Некоторые приверженцы неформальной логики считают необходимым совсем отказаться от формализации и чисто формальных средств исследования мышления. На мой взгляд, это неправильно. Не входя в глубокие теоретические рассуждения, отмечу тот факт, что неформальная логика уже пришла к созданию своих собственных формальных средств, в частности метода диаграммирования аргумента.186 Поэтому оправдан не категорический отказ от разнообразного формально-логического инструментария, а лишь осмысление принципиальной ограниченности формального подхода в целом и условий приемлемости обращения к тем или иным его средствам в частности. Ограничение формального подхода к мышлению далеко не исчерпывает существенных признаков неформальной логики. В отличие от логики формальной, которая концентрирует внимание на связях отдельных элементов мыслительного процесса с их логическими значениями «самими по себе», логика неформальная принимает во внимание их контекстуально-зависимый смысл. Одной из важных новаций, которая определила расширение поля исследований неформальной логики, явилось обращение к понятию перформативов или перформативных высказываний (performative utterances). Последовательно это понятие было введено британским философом языка Джоном Л. Остином (1911 - 1960).187 Позиция Остина основана на понимании разнообразия функций языка, что ведет, в частности, к различению дескриптивных и перформативных высказываний. Первые 185 Copi I.M., Burgess-Jackson K. Informal logic. - Upper Saddle River, N.J. - 1996. Ср. также другую книгу по неформальной логике: Fogelin R.J. Understanding arguments. An introduction to informal logic. - N.Y. e.a. - 1978. Было бы поспешным утверждать, что полное исключение формализации и отказ от использования соответствующих формализованных исчислений является необходимым признаком неформальной логики. Отношение к инструментарию формальной логики дебатируется приверженцами логики неформальной, и я коснусь этой проблемы в третьей части работы, посвященной обзору современных североамериканских исследований. 186 См., напр.: Тягло А.В., Воропай Т.С. Критическое мышление. Проблема мирового образования XXI века. - Харьков, 1999. - Приложенние. О диаграммной технике анализа аргумента. 187 См. о Джоне Остіне в: Современная западная философия. Словарь. - М., 1991. - С.224; Bkackburn S. The Oxford dictionary of philosophy. - Oxford, New-York, 1994. - P.30. 65 3. Эволюция логико-философских оснований критического мышления дают более или менее отстраненное описание реальности, они могут быть истинными или ложными. Традиционная формальная логика преимущественно изучает высказывания именно такого вида. Пеформативы же не просто описывают нечто, они еще и что-то «делают», свершают какое-то действие.188 Примером перформативного высказывания является вызов на на дуэль: «Я вас вызываю». Понятно, что это речевой акт - целенаправленное действие, которое влечет за собой определенные последствия, возможно и невербальные. Для всесторонней оценки перформативов следует использовать более богатые понятия, чем логическое значение. Какие именно? Рассмотрим иллюстративный пример, приведенный Остином. Представим себе, что некий мужчина говорит своей жене «Я разрываю наш брак», причем оба они живут в христианской стране и являются христианами, а не мусульманами. В этой ситуации можно сказать, что он не достигнет желаемого, потому что мы признаем иные вербальные или невербальные процедуры развода. Можно бы даже сказать, что мы не признаем процедуры развода вообще - брак является нерушимым. Итак, по мысли Остина, перформативы находят оценку в терминах приемлемости или неприемлемости. Эта оценка осуществляется в соответствии с социальными конвенциями относительно произнесения определенных слов определенной личностью в определенных обстоятельствах.189 Критическое мышление на базе неформальной логики направлено на выяснение правильности и приемлемости рассуждений с учетом не только их формы, но и содержания. Более того, анализу теперь подлежат такие языковые образования, которые ранее оставались за границами внимания, в частности перформативные высказывания. Для их оценки нужно принимать во внимание многоуровневый контекст, включая и социокультурные условия их произнесения, природу субъекта и др. Все это ведет к тому, что неформальная логика предоставляет критическому мышлению более обширное поле действия по сравнению с тем, которое определяет использование только формально-логических средств. 3.3. Развитие оснований критицизма в структуре глобальных изменений современной культуры Запада Важные соображения относительно фундаментальных изменений в природе познавательного процесса и в соответствующих приоритетах его логико-философского осмысления, которые разворачиваются на протяжении последних десятилетий, предлагает известный представитель постпозитивизма Стивен Тулмин.190 Рассмотрю их под углом зрения возможного влияния на основания и статус критического мышления. Тулмин резюмирует традиционную модель познания - фон, на котором лучше просматриваются указанные изменения. Начиная со второй половины XVII столетия, когда Лейбниц предложил свои аргументы в пользу универсального языка (characteristica universalis), и до времени «Логико-философского трактата» Витгенштейна, философы были обольщены 188 Див.: Austin J.L. How to do things with words. - Cambridge (Massachusetts), 1994. - P.25. 189 Див.: Austin J.L. How to do things with words. - P.26-27. 190 См.: Toulmin S. Rationality and reasonabless: From propositions to utterances // Rev. Intern. de Philosophie. - Bruxelles,1996. - Vol.50, No 196. Реферат этой статьи см. в: РЖ «Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Философия». - М., 1997. - Вып. 1. С.211-213. 66 3. Эволюция логико-философских оснований критического мышления идеей, что конечными объектами или единицами мысли могут - или даже должны быть «суждения», которые прямо представляют нам «реальное состояние дел». В «Трактате» соотношение между фактами и суждениями установлено таким образом: Wir machen uns Bilder der Tatsachen. Это означает: «Мы сами выбираем способ подачи фактов». Витгенштейновское Bilder не есть «ментальные картины» как, кажется, считают Пирс (Pierce) и Макгинес (McGuiness), на самом деле это - «языковые выражения». Поэтому его мысль касается не вопроса психологии, а природы смысла (meaning). Лейбниц был бы очень рад услышать это утверждение. Он поверил бы также, что различные языки олицетворяют глубокие различия культур, поэтому они способны одевать одни и те же факты в разные вербальные одежды. Однако оба исследователя считали фундаментальные структуры языка и реальности «изоморфными»... Итак, цель философских исканий состояла в таком прояснении отношений между языком и фактами, мыслью и реальностью, которое избегало бы искажающих расхождений особенных языков и культур, отмечает Тулмин. Следовательно, даже признание Витгенштейном некоторой активности мысли и языка не вывело его за рамки той позиции, который ищет фундаментальные, определяемые самой реальностью, инварианты, а влияние языковой и социокультурной ситуации рассматривает как неизбежное, но досадное искажение, помеху на пути к объективной истине. В конце ХХ столетия фокус профессиональной философии наконец сместился от изучения вневременных «суждений» к интересу к «высказываниям», сделанным в особенным момент времени в особенной ситуации и с точки зрения особенных человеческих интересов, - в этом состоит, по Тулмину, соль новейших изменений.191 Следовательно, происходит переориентация философов с поисков каких то в конце концов объективно истинных «ментальных отпечатков реальности» на исследование локализованных в «пространстве и времени» высказываний субъекта познания, контекстуально-зависимых языковых конструкций. Процесс замены базовых единиц - суждений на высказывания - исследовали философы языка Джон Серль, Джон Остин и др. Что же кроется за этой заменой? В чем сущность этого явления? Последствия замены суждений высказываниями как единицами смысла касаются самой сердцевины философии. Указанная замена означает переход от традиционной рациональности к современной разумности. Она определяет, в частности, путь примирения логики и риторики. Наличное возрождение риторики является частью более масштабного сдвига в культуре Запада, считает Тулмин. Этот сдвиг разворачивается вместе с изменениями в науке конца ХХ столетия, вследствие чего в исследованиях философов науки экология занимает место рядом с теоретической физикой. Экология ставит ударение не на универсальности законов, а на особенности, даже на единичности конкретных ситуаций. Экстраполируя сказанное на проблему оснований критического мышления, можно утверждать, что современный критицизм должен расширить свой предмет за счет выявления соответствия или несоответствия высказывания той конкретной точке социального пространства-времени, в которой оно сделано. Очевидно, что такая рекомендация по сути однородна рекомендации перехода от критического мышления на 191 Toulmin S. Rationality and reasonabless: From propositions to utterances // Rev. Intern. de Philosophie. - P.298. 67 3. Эволюция логико-философских оснований критического мышления базе формальной логики в критике, которая базируется на логике неформальной, учитывающей, в частности, перформативы . Последний процесс неоднократно отмечался и обсуждался, например на примере работ того же Дж.Остина. Поэтому ценность статьи С.Тулмина состоит не столько в открытии чего-то нового, сколько в установлении природы рекомендуемых трансформаций как момента универсальных изменений в современной западной культуре. Иначе говоря, проясняется весьма общий сегодня-на-Западе статус тенденции перехода критицизма к неформально-логическому основанию. 3.4. О диалектической логике как основании критицизма В литературе марксистско-ленинской ориентации одним из стержневых является понятие о диалектической логике, которая противопоставляется формальной. Поэтому может возникнуть предположение о ее идентификации как разновидности логики неформальной. Избегая какой-либо идеологической предубежденности, рассмотрим вкратце суть диалектической логики и оценим ее способность выступать основанием критического мышления.192 Прежде всего следует заметить, что марксизм-ленинизм вообще подчеркивает свою принципиальную склонность к критицизму. Так, В.И.Ленин прямо отмечал: «Маркс всю ценность своей теории полагал в том, что она «по самому существу своему - теория критическая и революционная»...»193 С первого взгляда это утверждение представляется внутренне согласованным. Действительно, разве не является критика адекватным способом обоснования необходимости революционных изменений в обществе?! Но, с другой стороны, разве является признание именно революционных изменений безусловным выводом непредубежденной критики? Критицизм не является универсальной нормой марксизма-ленинизма. Он был действенным в рамках этой идеологии до тех пор, пока сохранялись основания критики капитализма образца ХІХ столетия и вытекающие из нее надежды на установления революционным путем коммунистического строя, который считался более прогрессивным.194 После того, как капиталистическое общество вследствие ряда существенных трансформаций существенно усовершенствовалось, его марксистколенинская критика и призыв к социалистической революции утратили свое основание и актуальность. В этот момент «революционная идеология пролетариата»м вступила в противоречие с подлинно научным критицизмом. Побежденным, по крайней мере временно, оказался критический способ мышления. В сфере ортодоксального марксизма-ленинизма набрал силу догматизм, который так обескураживал Карла Поппера и других независимых мыслителей. Всякие попытки критики марксизма изнутри начали квалифицироваться как неприемлемый «ревизионизм». Критицизм сохранился разве что как «буква», а не «дух» завета классиков или как ограниченная с своих правах «служанка идеологии», а не суверенное установление научного познания. 192 Неслучайность обращения к такой проблеме подтверждается наличием посвященных ей исследований в литературе США. См., например: Eveling C. «On the significance of military materialism»: Dialectic-materialist logic and critical thinking // Nature, Society, and Thought. A journal of dialectic and historical materialism, 1991. - Vol.4, No 3. - P.331. 193 См.: Ленин В.И. Что такое друзья народа и как они воюют против социал-демократов // Ленин В.И. Полн. собр.соч. - Т.1. - С.340-341. 194 Правда, К.Поппер утверждал, что «капитализм» Маркса никогда не существовал. См.: Поппер К. Открытое общество и его враги. - М.,1992. - Т.1. - С.11-12. Я считаю это обобщение излишне категоричным. Маркс имел реальные, хотя и временные, основания критики капитализма. 68 3. Эволюция логико-философских оснований критического мышления Тут уместно вспомнить достаточно обоснованную критику, которой Энгельс подверг Гегеля за то, что его диалектический метод был подавлен стремлением построить «всеобъемлющую, раз навсегда законченную» философскую систему.195 В конце концов подобной ошибки марксизм-ленинизм не избежал и сам: его критический запал был, с одной стороны, догматизирован, а с другой - выхолощен ради сохранения «пророчеств» касательно пролетарской революции и коммунизма. Догматический характер марксизма-ленинизма значительно укрепился после того, как это «руководство к действию» было положено в основу государственной политики СССР. Этому способствовало физическое уничтожение или изгнание из страны «прослойки» высокообразованной свободомыслящей интеллигенции, с одной стороны, и активное просвещение широких «народных масс», основанное на подаче учения Маркса - Энгельса - Ленина (а позднее и Сталина) как «единственно верного», с другой. Нельзя отрицать ни того, что сам В.И.Ленин совершенно искренне призывал «молодых строителей коммунизма» настойчиво «учиться, учиться и еще раз учиться», ни известных успехов СССР в ликвидации неграмотности рабоче-крестянского населения. Но основой всех проявлений этой активности была некритическая вера в универсальную истинность коммунистической идеологии. Ленинизм является интернациональным учением пролетариев всех стран, пригодным и обязательным для всех без исключения стран, в том числе и для капиталистически развитых, утверждал И.В.Сталин - «гениальный теоретик и вождь пролетариата, великий соратник и друг В.И.Ленина, продолжатель учения и дела Маркса, Энгельса и Ленина».196 Безапелляционная универсальность такого рода «истин» вкупе с почти сверхчеловеческими характеристиками их авторов, санкционированная всей силой тоталитарного государства, долгое время не оставляла никаких шансов даже для возможности сколько-нибудь серьезной критики марксизма-ленинизма. Сказанное выше касается догматического перевоплощения марксизма-ленинизма в целом, однако оно не ставит под сомнение потенциал его существенной составляющей - диалектической логики - как возможной базы критического мышления. Поэтому далее уместно обратиться к анализу изложения В.И.Лениным принципов диалектической логики и к сравнительному анализу ее с логикой формальной. Сделаю это на классическом примере «стакана воды».197 Логика формальная, которой ограничиваются в школах ... берет формальные определения, руководствуясь тем, что наиболее обычно или что чаще бросается в глаза. Если при этом берутся два или более различных определения, и соединяются вместе совершенно случайно (и стеклянный цилиндр и инструмент для питья), то мы получаем эклектическое определение, указывающее на разные стороны предмета и только. Логика диалектическая требует того, указывал далее В.И.Ленин, чтобы мы шли дальше. Чтобы действительно знать предмет, надо охватить, изучить все его 195 См.: Энгельс Ф Развитие социализма от утопии к науке // Марк К., Энгельс Ф. Соч. - Т.19. С.206-207; Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец немецкой классической философии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. - Т.21. - С.276 - 279 и др. 196 Цит. по: Краткий философский словарь / Под ред. М.Розенталя и П.Юдина. - М.,1951. С.260,493 и др. 197 Диалектической логике во времена СССР был посвящен значительный объем исследований. См., например, обзор, написанный ведущими советскими философами: Философская энциклопедия. - М.,1964. - Т.3. - С.209-221. Но я ограничусь только отдельными вопросами, прямо связанными с темой раздела. 69 3. Эволюция логико-философских оснований критического мышления стороны, все связи и «опосредования». Мы никогда не достигнем этого полностью, но требование всесторонности предостережет нас от ошибок и от омертвения. Это во-1-х. Во-2-х, диалектическая логика требует, чтобы брать предмет в его развитии, «самодвижении» (как говорит иногда Гегель), изменении. По отношению к стакану это не сразу ясно, но и стакан не остается неизменным, а в особенности меняется назначение стакана, употребление его, связь его с окружающим миром. В 3-х, вся человеческая практика должна войти в полное «определение» предмета и как критерий истины и как практический определитель связи предмета с тем, что нужно человеку. В 4-х, диалектическая логика учит, что «абстрактной истины нет, истина всегда конкретна», как любил говорить, вслед за Гегелем, покойный Плеханов.198 Первый из указанных Ленином принцип всесторонности описания представляется приемлемым при условии ограничения существенными сторонами и связями предмета. Если этого ограничения не ввести, то описание превратится в бесконечную констатацию случайностей на уровне явления, за что Ленин критикует формальную логику. Правда, возникает вопрос: «Что является существенным признаком?» На него отвечает третий пункт рассмотренного фрагмента. Но тут сразу же следует вспомнить вывод самого же Ленина об относительности критерия практики.199 Согласно этому критерию знание о том или ином предмете всегда оказывается более или менее временным и диспозиционным: на протяжении развертывания - в общем случае бесконечного познавательного процесса оно может измениться. Такого рода изменения детерминируются как изменчивостью субъекта познания, его интересов и практических достижений, так и изменениями самого предмета. Уместно добавить также, что учет изменений в гегелевско-марксистско-ленинской диалектике связано с конкретной моделью «самодвижения», движения через «единство и борьбу противоречий» и т.п.200 Но эта модель изменений не является ни универсальной, ни исчерпывающей. Она справедлива для преимущественно закрытых систем, в которых поляризация элементов того или иного вида и соответствующие внутренние противоречия имеют исключительное значение. Однако на протяжении последних десятилетий благодаря успехам синергетики ограниченность такого класса систем и перспективность рассмотрения систем открытых были установлены вполне определенно. Я имею в виду, прежде всего, исследования Ильи Пригожина и его последователей.201 Поэтому результаты диалектического исследования, которое ограничивается моделью закрытой системы, не будут безусловными. 198 См.: Ленин В.И. Еще раз о профсоюзах, о текущем моменте и об ошибках тт.Троцкого и Бухарина // Ленин В.И. Полн. собр. соч. - Т.42. - С.289-290. 199 См., напр.: Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм // Ленин В.И. Полн. собр. соч. - Т.18. - С.145-146. 200 См., напр.: Энгельс Ф. Диалектика природы. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. - Т.20. - С.384-385; Ленин В.И. Философские тетради // Ленин В.И. Полн.собр.соч. - Т.29. - С.202-203. 201 См., напр.: Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. - М.,1986. - С.54-56 и др. Не имея намерения углубляться сейчас в результаты теории открытых систем, отмечу один стимулирующий мысль вывод: только открытые системы именно благодаря интенсивному взаимодействию с окружающей средой способны к прогрессирующей самоорганизации. И еще одно: нельзя не обратить внимание на перспективность проведения аналогии между дилеммами открытых и закрытых систем в природе и в обществе. Ср.: Тоффлер О. Наука и изменение // Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. - С.29 и др. 70 3. Эволюция логико-философских оснований критического мышления Из сказанного можно понять, что позитив ленинской характеристики диалектической логики ближайшим образом состоит в утверждении относительно объекта познания общеметодологических принципов развития (если бы еще и без ограничения его моделей!) и универсальной связи, а также детерминации форм и результатов познания интересами и уровнем практических достижений субъекта. Все это можно рассматривать как содержание итогового афоризма «абстрактной истины нет, истина всегда конкретна». Следовательно, предметом основанной на диалектической логике критики может быть провозглашение каких-то «абстрактных истин» вследствие игнорирования тех или иных требований диалектикоматериалистического метода познания. Итак, диалектическая логика действительно обладает чертами неформальности в том смысле, что она не абстрагируется от связи формы мысли с ее содержанием, а также от зависимости процесса познания от особенностей познаваемого предмета, которые берутся в конкретный исторический момент. Вместе с тем понятно, что диалектическая логика не является логикой в традиционном значении этого слова. В.И.Ленин прямо писал, что «не надо 3-х слов», ведь «логика, диалектика и теория познания» - «одно и то же».202 Поэтому диалектическая логика не является, строго говоря, видом логики неформальной. Ее уместно считать особенной теорией познания, которая опирается на концептуальный каркас гегелевско-марксистско-ленинской версии диалектики. Она «поглощает» логику формальную и, по ленинскому выражению, «идет дальше», вообще выходя за пределы науки логики. При условии принятия ряда предостережений, часть которых сформулирована выше, в ней можно усмотреть одно из полезных логикогносеологических оснований критицизма. 202 См.: Ленин В.И. Философские тетради // Ленин В.И. Полн. собр.соч. - Т.29. - С.301. 71 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках Рассмотренный в предшествующей части логико-философский материал позволяет зафиксировать некую закономерность развития оснований критического мышления: от установки на абсолютную «прозрачность» логического значения текста, который является в идеале однозначным и рано или поздно «постижимым» для разума, через сознательное уяснение ограниченности такого рода установки вследствие «не до конца прозрачной» природы продуктов мышления и языковых форм их выражения - к многокритериальному пониманию текста как обладающему множеством смыслов, зависящих как от автора, так и от читателя, причем в условиях их специфической социокультурной определенности. Этот процесс выражается в переходе от формальной логики к логике неформальной, от логики мышления к грамматике и риторике языка, а также к другим основаниям критицизма. А что же далее? Поскольку возникла проблема смысла текста и проблема его понимания, то естественно предположить: новые возможности развития сопряжены с последовательным исследованием герменевтических оснований критицизма и, в более широком смысле, с использованием соответствующих методологических подходов в сфере гуманитарного познания. 4.1. Традиционные проблемы герменевтики Представление об универсальном методе в области гуманитарных наук традиционно связывают с герменевтикой.203 В современном гуманитарном познании герменевтика является теорией интерпретации текста и наукой о понимании смысла. «Инструментом» интерпретации считается сознание воспринимающей произведение личности, т.е. интерпретация рассматривается как производная от восприятия литературного произведения. Классическая герменевтика уходит своими корнями в систему древнегреческих исследований, когда интерпретация и критика были связаны с толкованием произведений Гомера и других поэтов. Школы риторов и софистов сделали первый шаг к познанию правил интерпретации. Александрийская филология проделала огромную работу по собиранию памятников прошлого и их описанию. Герменевтическая проблематика специфическим образом актуализируется в рамках средневековой экзегезы, где она была связана с толкованием неясных мест в религиозных текстах. Ренессансная стадия герменевтики отмечена стремлением понять духовную жизнь языческой и христианской античности. Прослеживая путь становления герменевтики, следует выделить тот ее этап, когда было осознано, что классическая и библейская герменевтика, развивающиеся параллельно друг другу, пользуются во многом общими способами интерпретации и, следовательно, существует некое всеобщее искусство интерпретации. В конце ХVIII - начале ХIХ века, благодаря развитию классической филологии и исторических наук, экзегеза приводит к появлению герменевтики как особой области познания. Диапазон герменевтической активности расширился, она стала заниматься истолкованием любых текстов, принадлежащими более ранним эпохам или иным культурным традициям. Деятельность интерпретатора, призванная преодолевать культурную дистанцию, отделяющую читателя от чуждого ему текста, породила общую проблему понимания. Под герменевтикой стали понимать «теорию операций 203 Герменевтикой называют дисциплину об искусстве понимания текстов. Этимология греческого слова ερµηνεια - толкование, объяснение. Его связывают с именем бога Гермеса, который, согласно древнегреческой мифологии, приносил и объяснял повеления олимпийских небожителей людям. Гермесу также приписывалось изобретение письменности. 72 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках понимания в их отношении с интерпретацией текстов», а само слово «герменевтика» стало означать последовательное осуществление интерпретации.204 И истолкование и интерпретация при этом опираются на понимание. Поль Рикер пониманием называет «искусство постижения значений знаков (выделено мною - Т.В.), передаваемых одним сознанием и воспринимаемых другими сознаниями»205. Первичной реальностью являются, таким образом, не тексты, а знаки. Следовательно, проблема интерпретации должна опираться на некую теорию знака и значения. Понимание и истолкование деятельность первого порядка, герменевтика - деятельность второго порядка. Постижение значений знаков, их осмысление очерчивает сферу деятельности понимания и истолкования. Герменевтика - как дисциплина второго порядка занимается общими правилами истолкования. Соблюдение точности терминологии требует, по мнению П.Рикера, «закрепить слово «понимание» за общим явлением проникновения в другое сознание с помощью внешнего обозначителя, а слово «интерпретация» употреблять по отношению к пониманию, направленному на зафиксированные в письменной форме знаки».206 На эту связь интерпретации, взятой в строгом смысле как толкование текста, с пониманием, трактуемым в широком смысле как постижение знаков, указывает, по мнению П.Рикёра, одно из традиционных значений самого слова «герменевтика», которое восходит к Аристотелю («Об истолковании»). Знаменательно, что у Аристотеля hermeneia относится не только к аллегории, а ко всему значащему дискурсу; более того, как раз значащий дискурс и есть hermenеia, именно он «интерпретирует» реальность даже тогда, когда в ней сообщается «что-то о чем-то»; hermeneia существует постольку, поскольку высказывание оказывается овладением реальностью с помощью значащих выражений. Таково, согласно П.Рикеру, «первейшее, самое что ни на есть изначальное отношение между понятиями интерпретации и понимания; оно устанавливает связь между техническими проблемами истолкования текста с более общими проблемами значения и языка».207 Философское измерение герменевтика приобретает благодаря немецким ученым Шлейермахеру и Дильтею. Фридрих Даниэль Эрнст Шлейермахер (1768-1834), соединивший в себе филолога-классика и протестантского теолога, автор трактатов «Диалектика», «Герменевтика», «Критика», считается основоположником современной герменевтики. В ходе размежевания с филологами своего времени Шлейермахер осуществил конструирование герменевтики как науки, а Дильтей придал ей статус исторического органона. Если предшествующая герменевтика строилась как «научение искусству», и имела не самостоятельное, а подчиненное значение, то в творчестве Шлейермахера проблемой становится понимание как таковое. Происходит осознание проблемы универсальности герменевтики, которая имеет место повсюду, где «не происходит непосредственного понимания, либо где приходится принимать в расчет возможность недоразумения».208 Проект универсальной герменевтики Шлейермахера предполагал обособление искусства понимания в специальную методику. Герменевтика 204 См.: Рикер П. Герменевтика. Этика. Политика. - М.,1995. - С.3. 205 Там же. П.Рикер опирается в этом на Дильтея, согласно которому операция понимания становится возможной благодаря способности, которой наделено каждое сознание, проникать в другое сознание не непосредственно, путем «переживания», а опосредованно, путем воспроизведения творческого процесса, исходя из внешнего выражения, т.е. через знаки. 206 Рикер П. Герменевтика. Этика. Политика. - С.4. 207 Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. - М.,1995. - С.5. 208 Гадамер Х.-Г. Истина и метод. - М.,1988. - С.226. 73 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках рассматривается в качестве универсального методологического инструмента, метода исторической интерпретации при анализе целостных культурных образований, отличных от европейских. Вместе с немецкими романтиками Шлейермахер подчеркивал своеобразие и взаимную несводимость различных культур. Особенностью метода Шлейермахера, в отличие от греческих интерпретаторов, трактовавших все акты интерпретации как логические и риторические категории, является такое понимание природы творческого акта, когда бессознательное выступает в качестве первоначального импульса. «Понимание» и «интерпретация» трактуются Шлейермахером как инстинкт и активность самой жизни. Другими словами, герменевтика у Шлейермахера выступает не только как средство понимания содержательно-предметных, мыслительных образований, но и как способ постижения мыслящей индивидуальности, стоящей за текстом. В связи с этим Шлейермахер формулирует известный принцип, который на долгое время стал в девизом герменевтической интерпретации: «Понимать автора лучше, чем он сам себя понимал».209 Целостность понимания произведения художника или мыслителя достигалась не путем изучения хронологической последовательности его работ в их внешней логике, а постижением логики их единой, цельной конструкции. Эта задача не стояла, пока художественное произведение понималось как «подражание природе». Но к концу 18 века в философии искусства произошло то, что Ч.Тейлор назвал «экспрессивистским поворотом».210 Художник не имитирует нечто феноменально пред-существующее, мир не отражается, копируется, а осуществляется в творении, и личность творца не может быть из него элиминирована. Согласно романтической эстетике, «произведение искусства теперь не столько манифестирует нечто видимое за пределами себя, сколько конституирует себя как локус манифестации».211 Произведение искусства, «конституируя себя как локус манифестации», выражает субъекта произведения, автора, творца. Эту мысль вместе со Шлейермахером разделял Шелли и другие романтики. «С точки зрения Шлейермахера, в любом историческом тексте, в любом художественном, религиозном или философском памятнике прошлого необходимо различать предметно- содержательный и индивидуально-личностный аспект, развивает это чрезвычайно важное положение П.Гайденко. - В любом тексте есть то, о чем говорит его автор: так, в поэме Гомера «Илиада» повествуется о троянской войне. Но помимо этого, всякий текст выражает также и индивидуальность самого автора, и эта последняя выявляет себя в том, как повествует текст о данном событии, допустим о той же войне греков с троянцами».212 Эта индивидуальность автора и должна быть восстановлена герменевтическим путем. Искусство герменевтики, по Шлейермахеру, необходимо для того, чтобы понять «экспрессивный» момент, понять как исследуемого текста, чтобы постигнуть индивидуальность пишущего через написанное им, «чтобы через множество частных выразительных средств - особенностей стиля, речи, построения фразы и построения всего 209 Гадамер так комментирует это широко известное высказывание: художник, создающий образ, не является его признанным интерпретатором. В качестве интерпретатора он не является высшим авторитетом и не имеет принципиального преимущества перед реципиентом. Поскольку он сам себя осмысливает, он выступает как собственный читатель. И не более. Мнение, к которому он приходит в результате осмысления, не является последней инстанцией. Мерило истолкование одно - смысловое содержание самого творения. См.: Гадамер Х.-Г. Истина и метод. - С.241. 210 См.: Taylor Ch. Sources of the Self. - Cambridge, 1989. - Ch.21. 211 . Taylor Ch. Sources of the Self. - Р.378-379. 212 Гайденко П.П. Прорыв к трансцендентному. - М.,1997. - С.393. 74 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках произведения в целом - постигнуть стилистическое единство произведения, и тем самым понять духовную целостность индивидуальности его автора».213 Таким образом, предметом герменевтики для Шлейермахера является план выражения, а не план содержания, «как», а не «что», потому что именно здесь проявляется неповторимая индивидуальность автора. Искусство герменевтики у Шлейермахера отличается и от диалектики, и от грамматики. Диалектика и грамматика помогают понять «что», то есть предметное содержание произведения, но бессильны в раскрытии его выразительных особенностей. Эта позиция Шлейермахера нашла сегодня свое развитие в теоретических взглядах Поля де Мена, считающего, что из трех составляющих средневекового тривиума логики (средневековой диалектики), грамматики и риторики, только риторика, риторическое измерение языка является определяющим для искусства литературы, то есть определяет «литературность» как таковую. Следующий этап развития герменевтики связан с именем Вильгельма Дильтея. Его эссе «Происхождение герменевтики» стало классическим текстом в истории герменевтики. Образцом герменевтики у Дильтея, как и у Шлейермахера, служит достигаемое между «Я» и «Ты» конгениальное понимание. Понимание текстов обладает той же самой возможностью совершенной адекватности, что и понимание «Ты». Интерпретатор абсолютно одновременен со своим автором, и мнение автора следует уяснить непосредственно из авторского текста. Но задача Дильтея не совпадала с задачами романтической герменевтики Шлейермахера. Дильтей стремился согласовать способ познания наук о духе с методологией естественных наук и тем самым гносеологически обосновать науки о духе. Если для Шлейермахера герменевтика была универсальным инструментом духа, то у Дильтея она – универсальная среда исторического сознания, для которого не существует другого познания истины, чем понимание выражения и в выражении – жизни.214 Природу мы объясняем, а душевную жизнь понимаем, говорит Дильтей. Метод историка - понимание, а основа его науки - понимающая психология в отличие от объясняющей психологии естественных наук. Совершая перенос герменевтики на историческую науку, Дильтей исходил из того, что в истории все является понятным, ибо все есть текст. Аналогичную позицию отстаивают сегодня Альтюссер и Джеймисон, для которых история становится предметом исследования лишь в форме текста.215 Исследование исторического процесса Дильтей, как и Шлейермахер, мыслил как расшифровку и реконструкцию. Подобно тому, как общетеоретической посылкой герменевтики Шлейермахера была его философия индивидуальности, герменевтика Дильтея базировалось на его философии жизни. Стремясь «понять жизнь из нее самой», Вильгельм Дильтей предпринял попытку соединить элементы историзма, доминирующие в мировоззрении ХIХ века, с элементами философии жизни. Изначальной данностью для него выступает взаимосвязь жизни и сознания, а ключом к их пониманию является история. Но почему история? Почему нельзя для понимания сущности жизни обратиться к интроспекции, внутреннему самосозерцанию? «Внутренний опыт, - пишет Дильтей, - при котором я углубляюсь в свои собственные состояния, никогда не даст мне возможности осознать свою индивидуальность. Только в сравнении себя с другими я имею опыт 213 Там же. 214 См.: Гадамар Х.-Г. Истина и метод. - С.292. 215 «История не дана нам непосредственно, а только как текст, и любая наша попытка постичь ее, как и саму реальность, неизбежно проходит через стадию ее текстуализации в политическом бессознательном». // Jameson F. Political Unconscious. - London, 1981. - P.35. 75 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках относительно индивидуального во мне; я осознаю только то, что во мне отличается от другого».216 Люди и социумы могут быть поняты только исторически, поэтому изучение истории и ее методы должны находиться в центре внимания ученого. Подобно другим сторонникам философии жизни, Дильтей полагал, что позитивистская попытка приложить методы естественных наук к изучению и пониманию человеческой жизни неизбежно искажает существенные черты человеческого бытия. Но критика механистических и материалистических импликаций научных оснований, предпринятая романтизмом и философией жизни, легко могла превратиться в субъективный и не очень продуктивный протест. Дильтей никогда не недооценивал рациональность, объективность и демонстративную силу естественных наук. Гуманитарные науки, «науки о духе» Дильтей оценивал очень высоко, поскольку они исследуют самосознание человека, так называемую «внутреннюю реальность», в отличие от естественных наук, обращенных лишь ко внешним фактам. Для постижения «внутренней реальности», духовной жизни Дильтей предлагает систематическое, упорядоченное понимание относительно постоянных «выражений жизни» -- интерпретацию. Искусство понимания он основывал преимущественно на интерпретации литературных произведений. Принципиальным методологическую важность в работе Дильтея «Происхождение герменевтики» играет тот факт, что он отводит интерпретации место на стыке теории познания, логики и методологии гуманитарных наук, считая ее их надежным связующим звеном. Дильтей полагал, что все знание полностью выводимо из опыта. Он испытывал влияние английского эмпиризма в духе Локка и Юма, а также критической философии Канта. Он разделял эмпирический взгляд, что знание основано на «внутреннем опыте» или на «фактах сознания». Философия, предшествующая эмпиризму, уделяла слишком много внимания когнитивному и интеллектуальному опыту, игнорируя эмоции и волю. «Историчность», историческое расширение человеческого опыта, являлись центральным пунктом, в котором позитивизм неизбежно терпел неудачу. «Для Дильтея настоящее являлось не расширяющимся мгновением, но маленькой структурной частью потока, в котором непосредственный опыт всегда обогащается сознанием прошлого и участием в будущем. Поэтому каждый момент жизни имеет особое значение согласно его месту во временной последовательности....Эта связь между временной структурой и категориями жизни сделала человека историческим существом».217 Косвенным образом даже интеллектуальный или когнитивный образ имеет место внутри потока человеческого опыта, который является неизбежно историческим. Дильтеевская оценка человеческого опыта предлагала концепцию, которая вступала в противоречии с романтизмом и идеализмом, с одной стороны, и позитивизмом, с другой. Дильтей понимал, что жизненная реальность, «жизнь» ускользает и от естественнонаучного опосредования, и от психологической интуиции. Необходим третий путь - «познание себя через другого». Избрав этот путь, Дильтей надеялся обеспечить твердое эпистемологическое основание «наук о духе», которое могло бы оправдать качества как исторической субъективности, так и стремление к объективности и строгости наук о природе. Путь, которым двигался Дильтей, отличался как от естественнонаучного познания, так и от художественного постижения и требовал принципиального нового метода - герменевтики. Для того, чтобы обезопасить «науки о духе» от искажающего влияния позитивизма, Дильтей проясняет различие методологии и нормы объективности внутри таких дисциплин, как история, история литературы, 216 Цит. по: Гайденко П.П. Прорыв к трансцендентному. - С.397. 217 См. «Введение» Рикмана в: Dilthey, W. Selected Writings. - Cambridge and New York, 1976.- P.17. 76 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках антропология и психология. Чтобы заложить фундамент для изучения общества и истории, важно осознать различные основания объективности в науках о духе. В отличие от объектов, изучаемых астрономией, механикой или другими физическими науками, человеческое бытие имеет как ментальные, так и физические атрибуты и должно, следовательно, изучаться другими методами. Дильтей описывает две противоположные операции познания – понимание и объяснение. Объяснение есть преимущественная цель естественных наук и включает формулировку общих причинных законов. Под объясняющими науками он понимает те, которые подводят и распределяют феномены под причинную связь методом ограниченного числа недвусмысленно определенных элементов. Объяснительные науки являются главным предметом кантовской критики чистого разума, доминирующей моделью познания у позитивистов. Объяснение тем не менее не является единственной адекватной моделью в науках о духе, чьим «объектом» изучения является именно гуманитарное знание. Человеческие существа имеют физическую природу и могут, следовательно изучаться методами объяснительной науки. Но гуманитарные науки более тесно связаны с различными выражениями разума и духа. Гуманитарные науки имеют дело с действиями, выражениями, институтами и артефактами, которые, в отличие от явлений физического мира, имеют внутреннее значение и поэтому требуют специфических когнитивных подходов: «Мы называем процесс, посредством которого мы осознаем некоторое внутреннее содержание знаков... пониманием. Понимание есть процесс осознания ментального состояния посредством чувственно данных знаков, которыми оно выражено».218 Там, где формы понимания являются частью «систематического процесса с контролируемой степенью объективности», Дильтей говорит об «интерпретации». Специфическими для наук о духе Дильтей считает также сравнительный метод, но Гадамер называет это сомнительным пунктом дильтеевской теории. Сравнение, будучи подчиненным вспомогательным средством и приводя к успеху в таких науках, как языкознание, юриспруденция, искусствознание, не может претендовать на центральное значение в историческом познании.219 Однако Дильтею не удалось уйти от психологического обоснования наук о духе, хотя он и наметил контуры возможного выхода за пределы традиционнопсихологической трактовки понимания. В ХХ веке получила развитие не столько дильтеевская герменевтика, сколько то «понимание понимания», которое сформулировал один из наиболее авторитетных критиков Дильтея - Г.Риккерт. Вопреки убеждениям Дильтея, Риккерт считает, что мы не можем понять психическое состояние другого индивида. Непосредственным предметом понимания являются не реальные эмпирические состояния, а смысловые образования, принадлежащие надэмпирической (логической) сфере значения. Эта сфера представлена сознанию так же непосредственно, как и сфера эмпирического. Только к сверхчувственным смысловым образованиям может быть отнесен термин «понимание». Другими словами, понимать можно только то, что имеет смысл. Нельзя понять говорящего, но можно понять сказанное им. 218 Dilthey W. Selected Writings. - P. 248. М.М.Бахтин усматривал в этих определениях «не до конца преодоленный монологизм Дильтея» и пояснял: «При объяснении - только одно сознание, один субъект; при поминании - два сознания, два субъекта. К объекту не может быть диалогического отношения, поэтому объяснение лишено диалогических моментов (кроме формальнориторического). Понимание всегда в какой-то степени диалогично». - См.: Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. - С.289-290. 219 Гадамер Х.-Г. Истина и метод. - С.284. 77 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках Однако вряд ли Дильтей согласился бы с такой интерпретацией понимания. И Дильтей, и Шлейермахер были убеждены в односторонности интеллектуального рационалистического понимания. Понимание, по их мнению, требует всех духовных способностей человека, «целостности нашего существа», а не только рациональной его составляющей. 4.2. Эволюция герменевтики: от эпистемологии к онтологии понимания В традиционной герменевтической доктрине субъект понимания может постичь смысл текста или другого «Я», лишь абстрагировавшись от своего реального исторического опыта, своей социокультурной среды путем вживания, вчувствования и эмпатии. В герменевтическом истолковании субъект понимания и субъект-создатель текста заведомо неравноправны. Роль понимающего субъекта здесь носит вспомогательный, пассивный характер, тогда как автор текста - это демиург всех возможных смыслов, обнаруживаемых в нем. М.М.Бахтин, критикуя Дильтея и Риккерта, писал, что в их герменевтике происходит «потеря своего места», своего «Я».220 Коммуникация как подлинное взаимодействие в традиционной герменевтике отсутствует, ибо смысл текста существует здесь до, вне и независимо от субъекта понимания. Объективную основу для понимания герменевтика пытается обрести в языке. «Только в языке духовная жизнь находит свое наиболее полное и исчерпывающее выражение, обеспечивающее объективное понимание», - писал В.Дильтей.221 Дальнейшее развитие герменевтического подхода внутри гуманитарных наук отражает осознание возрастающих трудностей понимания и взаимопонимания. В герменевтике ХХ века происходит то, что в современной критической литературе называют «децентрацией субъекта». По мнению Дэвида Веста, традиционная герменевтика предполагала только временную децентрацию субъекта, аналогичную децентрации субъекта в марксизме или психоанализе. «Герменевтические принципы апеллировали не только к текстам, представлявшим явные трудности для интерпретации, но и к взаимопониманию между субъектами, которое никогда не бывает само собой разумеющимся, - пишет английский комментатор. - Понимание любого текста или выражения предполагает знание социального и лингвистического контекста, в котором оно создано – понимание части зависит от понимания целого. Осознание этого положения подрывает в дальнейшем позицию субъекта дискурса, поскольку значение не может больше считаться полностью подконтрольным индивидуальному говорящему или пишущему».222 Тем не менее, традиционная герменевтика считала эту зависимость поправимой. Так, согласно Дильтею, восстановление оригинальных интенций или авторских значений может быть достигнуто посредством изучения более широкого культурного или лингвистического контекста. Практика герменевтики обещала постоянно совершенствующуюся, хотя никогда не достигающую идеального завершения, интерпретацию значения и, следовательно, постоянно увеличивающуюся степень взаимопонимания между субъектами. Радикальная герменевтика в лице Хайдеггера и Гадамера представляет более решительный разрыв с гуманистической (в смысле субъект-ориентированной) традицией. Хотя в своих поздних работах Хайдеггер недвусмысленно дистанцируется от гуманизма, его уход из эпистемологии в онтологию в действительности демонстрирует 220 Бахтин М.М. К философии поступка// Философия и социология науки и техники. - М.,1986. С.93. 221 Цит. по: Михайлов А.А. Современная философская герменевтика. - Минск, 1984. - С.47. 222 West D. An Introduction to Continental Philosophy.- Cambridge, 1996. - P.159-160. 78 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках отказ от преувеличенной роли субъекта в современной западной философии. Фундаментальной стартовой точкой хайдеггеровской философии является неделимое единство «бытия - в - мире» (единства субъекта и объекта). Хайдеггеровская критика субъект-объектной дихотомии западного мышления вместо оправдания «мышления» ведет к оправданию трансцендентального Бытия. Мышление должно быть понято не как прямая активность сознательного субъекта, а как безличная открытость и восприимчивость мира.223. Хайдеггер считает необходимым перейти от разработки герменевтики как метода познания к разработке ее как способа бытия. Вводя термин Dasein, или тут-бытие, Хайдеггер обозначает специфический способ бытия человека, который он описывает с помощью системы экзистенциалов. Введение этого термина Хайдеггер обосновывает тем, что все слова, с помощью которых философы раньше обозначали человеческое бытие - сознание, субъект, личность, душа - несут на себе печать тех философских систем, в которых они употреблялись, а потому и само их применение не может не вести к использованию предпосылок этих систем. Кроме того, в термине «тут-бытие» находит свое выражение специфически «пространственный» характер человеческого существования - не физически пространственный, а экзистенциально пространственный: «В отличие от чистого Я трансцендентального идеализма, «тут-бытие» Хайдеггера всегда уже характеризуется расположенностью (Befindlichkeit), опять-таки не физической, а экзистенциальной, - поясняет П.П. Гайденко. - Оно «расположено» не в пространстве, а скорее во времени, т.е. в мире культурно-историческом, а не физическом. «Тут» - это «место» его в самой историчности, которая и составляет предпосылку всякого понимания; а потому «тут бытие» всегда уже и есть понимание (выделено мною - Т.В.)».224 Открытость человеческого «бытия-в-мире» и составляет понимание. Истолкование, интерпретация уже заложены в понимании и не существуют отдельно от него; понимание, по Хайдеггеру, скрывает в себе возможность истолкования. Итак, понимание у Хайдеггера - это изначальная форма реализации человеческого существования, способ бытия человека. Понятие понимания у него становится не методологической, а изначальной бытийной характеристикой самой человеческой жизни.225 «Хайдеггер открыл проективный характер всякого понимания, - пишет Гадамер, - и мыслил само понимание как движение трансцедентирования, возвышения над сущим».226 Язык, по Хайдеггеру, так же изначален, как понимание и истолкование, но не язык как идеальное образование, а язык как речь, как экзистенциально-онтологический фундамент языка, как его осуществление и протекание. Речь у Хайдеггера - это аналог гуссерлевской категории интенциональности, ибо речь - это всегда речь о чем-то и как таковая она составляет конститутивный момент бытия-в-мире. Язык как «дом бытия» могущественнее и важнее, чем человек. Не человек говорит языком, а язык говорит посредством человека, в нем и через него. Язык - это событие и свершение, это «судьба» тех, кем говорит этот язык. Герменевтика для Хайдеггера - это умение истолковать слово как весть судьбы, таким всегда являлось поэтическое слово великих поэтов. Мы должны услышать, понять и истолковать Слово, сказанное через поэтов самим бытием. Таким образом, из искусства истолкования герменевтика у Хайдеггера превращается в «свершение бытия»» или - «установление бытия». Поэт называет, и тем самым вызывает вещи к бытию. Неназванное не 223 West D. An Introduction to Continental Philosophy. - С.160. 224 Гайденко П.П. Прорыв к трансцендентному. - С.410-411. 225 См.: Гадамер Х.-Г. Истина и метод. - С.311. 226 Там же. 79 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках существует, «сущее именуется тем, что оно есть, только благодаря слову поэта». «Таким образом сущее становится известным благодаря существенному слову поэта, утверждает Хайдеггер. - Поэзия - это у-становление бытия с помощью слова».227 Что означает это «у-становление»? Бытие никогда не является сущим. Поскольку и бытие, и сущность вещи в каждом случае не могут быть выведенными из прошлого или с помощью расчетов из того, что уже существует, - они «должны быть созданы, установлены и подарены». Именно в этом состоит суть становления. Поэзия, по Хайдеггеру, это у-становление бытия через слово и при помощи слова. Не сущность поэзии вытекает из сущности языка, а, наоборот, и язык и бытие становятся возможными благодаря поэзии. «Язык не является материалом, который застает поэзия, чтобы его потом обработать - именно поэзия делает язык возможным».228 Поэзию Хайдеггер называет праязыком исторического народа, и сущность языка следует понимать, исходя из сущности поэзии. Важным этапом в современном развитии герменевтики является творчество Ханса-Георга Гадамера. Его книга «Истина и метод. Основные черты философской герменевтики» является своеобразным итогом развития герменевтики за два столетия. В своем исследовании Гадамер широко использует опыт герменевтики, накопленный историей европейской философии. Он убежден в исключительной важности феномена понимания для разработки актуальных проблем гуманитарного знания. Для него герменевтика не является только методом познания в «науках о духе». В «понимании» истины познаются не за счет методологической активности познающего субъекта, а за счет их освоения, базирующегося на погружении в определенную культурноисторическую традицию. Феномен понимания затрагивает сущностную сторону отношения человека к миру. По сути у Гадамера мы имеем дело с онтологической герменевтикой, которая представляет менее противоречивое и более последовательное развитие герменевтического подхода Хайдеггера. Задача, которую ставит перед собой Гадамер, близка всему так называемому постмодернистскому направлению: «...доказать несостоятельность того понимания бытия, познания и человека, которое сложилось в эпоху Просвещения и через философию Канта, а также романтиков и близкой к ним немецкой исторической школы сохранилось по сегодняшний день, хотя и в измененном виде».229 Гадамер отталкивается от картезианского убеждения, которое обосновывает существование как объективного мира, так и разума самообосновывающим и прозрачным сознанием. Для Гадамера субъект онтологически производен. Он существует только внутри нередуцируемой интерсубъективной среды языка и понимания. Понимание - это не только главное измерение знания, как это было для Дильтея, но скорее среда, в которой субъект обретает свое существование. Таким образом, Гадамер повторяет путь Хайдеггера от эпистемологии к онтологии. В дебатах в французскими философами он подчеркивал, что в его собственных поисках особенно важным для него стало «хайдеггеровское углубление категории понимания до экзистенциала, т.е. до основополагающего категориального определения человеческого Dasein».230 Понимание осознаётся им «не как субъективная деятельность человека, противопоставленного объекту, но как способ бытия самого человека». 227 Гайдеггер М. Гельдерлін та сутність поезії // Возняк Т. Тексти та переклади. - Харків, 1998. - С. 353. 228 . Там же. - С.354-355. 229 Гайденко П.П. Прорыв к трансцендентному. - С.420. 230 Гадамер Х.-Г. Текст и интерпретация// Герменевтика и деконструкция. - СПб., 1999. - С.203. 80 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках Соответственно, герменевтика - это не только и не столько специфический метод гуманитарных наук, но и ключ к истине в целом. Вслед за Хайдеггером Гадамер признает, что определение бытия как времени преодолевает субъективизм предшествующей философии, состоящий в том, что истинное бытие носит в ней вневременный характер. В интерпретации Хайдеггера оно носит характер присутствия, понятого как настоящее. По Хайдеггеру, это положение лежит в основе «субстанционализма», свойственного метафизике. Хайдеггер ведет борьбу не против настоящего, а против вечного, в какой бы форме оно не выступало у Декарта, Спинозы или Лейбница. Если для Хайдеггера «бытие есть время», и нет ничего вечного, то это означает, что нет субстанции как вечности, нет субъекта как вечности. Хайдеггер критиковал понятие «субъект» как производное от понятия «субстанции». Понятие субстанции выражает идею самотождественности. Субстанция это онтологизированный логический принцип тождества. У Канта, Шеллинга, Фихте в качестве самотождественного начала вместо субстанции выступает субъект. «Учение Канта о трансцендентальной апперцепции имело целью указать нового по сравнению с докантовским рационализмом носителя вечности, и потому учение о трансцендентальной субъективности - от Фихте и Шеллинга до Гегеля и Гуссерля сохраняло в себе это самотождественное начало, эту незыблемую точку, Архимедову точку опоры, на которой, как на фундаменте, строилось все здание современной философии» - комментирует эту принципиальное положение П.Гайденко.231 Этот фундамент и стремится уничтожить Хайдеггер, заявляя, что бытие есть время. Допущение чего-то вневременного, вечного, к чему причастен субъект, но что не создано самим субъектом, квалифицируется Хайдеггером как субъективизм. На этих же позициях стоит и Х.-Г. Гадамер. По его мнению, романтики и историческая школа вели борьбу с постулатами Просвещения, не затрагивая главного в Просвещении - вневременного и внеисторического cogito ergo sum, с позиций которого велось всякое научное исследование. Скрытый просвещенческий пафос исторической школы, романтиков и Дильтея в том, чтобы «сделать достоянием человеческого знания то, что человечество несет в себе бессознательно».232 Познать человека и человечество во всей совокупности исторических традиций и влияний - нравственноэтических, теоретических, литературно-художественных, религиозных - значит познать историю, сделать бессознательное осознанным. Традиция перестанет оказывать на нас влияние, если мы осознаем ее. Гадамер решительно возражает против такого оптимизма. Традиция детерминирует нас и тогда, когда мы знаем об этом, и когда мы убеждены в противоположном. Понятие традиции приобретает в герменевтике Гадамера особое значение. «В начале любой исторической герменевтики необходимо выставить требование о преодолении абстрактной противоположности между традицией и историей, между историей и знанием о ней. Предвосхищение смысла какого-то явления духовной жизни не является действием субъективности, оно определяется узами, связывающими нас с традицией», - утверждает Гадамер.233 Эта связь находится в процессе непрерывного образования. Мы сами вырабатываем ее по мере понимания традиции, участия в ее потоке и ответного влияния на нее. Герменевтический опыт, таким образом, характеризуется, с одной стороны, принадлежностью к традиции, а с другой осознаваемой исторической дистанцией, разделяющей говорящего и интерпретатора. В 231 Гайденко П.П. Прорыв к трансцендентному. - С.422. 232 Там же. - С.423. 233 Гадамер Х.-Г. Истина и метод. - С.267. 81 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках задачу герменевтики не входит, по Гадамеру, создание метода понимания, она занята лишь выявлением условий, при которых происходит понимание. Таким образом, тесная взаимосвязь между пониманием и историчностью, уже осознанная Дильтеем, характерна не только для объекта, но и для субъекта актов интерпретации. Это касается не только исторических текстов, которые неотделимы от конкретного культурного, исторического или лингвистического контекста. Субъект расположен не только «горизонтально» в измерении языка и понимания, но и «вертикально» - в измерении истории и традиции. Важность исторического контекста и для понимания и для познания является сегодня очевидной. Естественным выводом исторического видения субъекта является убеждение, что субъект - это такой автор исторического текста, который не может больше рассматриваться как имеющий окончательную власть над своими значениями.234 Деятельность понимания не является исключительным продуктом индивидуального субъекта. В герменевтике Гадамера субъект - будь-то автор или интерпретатор - гораздо менее важен, чем социокультурный контекст, сама окружающая среда языка и понимания. Универсальность притязаний герменевтики стоит, по Гадамеру, вне всяких сомнений. Область герменевтики, считает он, настолько всеобъемлюща, что включает всю сферу искусства и его познание. Герменевтическое сознание превосходит сознание эстетическое; эстетика со всей своей проблематикой должна входить в герменевтику.235 Предметом герменевтики, согласно Гадамеру, должны быть не только литература и искусство, но всё, что «уже не пребывает непосредственно в своем мире, а высказывается к нему и в нем, включая все традиции, искусство наряду со всеми другими проявлениями духовного творчества прошлого, право, религию, философию и т.д.».236 Герменевтическая концепция Гадамера принципиально отличается от предшествующей герменевтической традиции. Это отличие Гадамер делает отчетливым на примере искусства. Согласно Шлейермахеру, аутентичный смысл произведения искусства неразрывно связан с первоначальным историческим контекстом, вне которого произведение теряет свою значимость. Шлейермахер прямо пишет: «Итак, собственно произведение искусства укоренено в своей почве, в своем окружении. Оно уже теряет свое значение, если вырвать его из этого окружения и передать в обращение, оно теперь напоминает нечто, что спасено из огня и теперь хранит следы ожогов».237 Постижение значения произведения представляет тогда его реконструкцию, восстановление первоначального смысла и замысла. Гадамер в корне не согласен с такой ориентацией герменевтической проблематики, ибо она не соответствует специфике и сущности искусства. По его мнению, искусство никогда не принадлежит прошлому и обладает «своим собственным смысловым настоящим». И хотя герменевтики как наука действительно обязана своим появлением становлению исторического сознания, эта историчность в случае искусства преодолевает свои пределы и свою ограниченность. Для собственной концепции Гадамера гораздо ближе историческая позиция Гегеля, согласно которой сущность исторического духа состоит не в восстановлении прошедшего, а в мыслящем опосредовании с современной жизнью.238 234 West D. An Introduction to Continental Philosophy. - P.162-163. 235 Гадамер Х.-Г. Истина и метод. - С.215. 236 Там же. - С.216. 237 Цит по: Гадамер Х.-Г. Истина и метод. - С.217. 238 Гадамер Х.-Г. Истина и метод. - С.220. 82 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках Во временном интервале, разделяющем создателя и интерпретатора текста, Гадамер призывает видеть позитивную и продуктивную возможность понимания. Время не является зияющей пропастью, а служит несущей основой, в которой коренится современность. Задача истинного понимания не может быть достигнута путем отказа интерпретатора от своих собственных понятий и трансплантации себя в дух чужого времени. Позитивная роль временного интервала заключается в его способности служить фильтром; благодаря дистанции во времени снимаются частные познавательные интересы, что ведет к подлинному пониманию.239 Гадамер утверждает, что смысловые потенции текста выходят далеко за пределы того, что имел в виду его создатель. Текст не случайно, а необходимо не совпадает с намерением своего создателя. И в герменевтике Хайдеггера, и в герменевтике Гадамера особую роль играет проблема герменевтического круга. Раз бытие есть время, то ученый или интерпретатор не имеет никакой вневременной и внеисторической позиции. Историческое познание всегда протекает в круге, который носит онтологический характер. И, соответственно, всякое понимание движется в круге, от которого невозможно и не нужно освобождаться. Подходя к произведению, мы всегда имеем некоторое «предварительное понимание». Мы можем уточнять, исправлять, корректировать его, но не можем освободиться от этой предпосылки своего мышления. Беспредпосылочного мышления не существует. Беспредпосылочное мышление - иллюзия рационализма, которая исчезает, когда осознается, что бытие есть время и в индивиде нет никакого следа «вечности». Предварительное понимание как категория герменевтической философии связывается Гадамером со словом «предрассудок», очищенным от отрицательных коннотаций. Предрассудок у Гадамера - суждение, которое выносится до окончательной проверки всех «предметно определяющих моментов». Предрассудок, понимаемый исторически, неотъемлемая характеристика сознания и как таковая не может быть элиминирована из герменевтической философии. Герменевтический опыт - опыт человеческой конечности. Только при наличии такого опыта можно отрешиться от того субъективизма, который побуждает индивида высказывать некоторые абсолютные оценки исторических событий. Конечность человеческого опыта делает невозможным беспредпосылочное мышление, к которому стремился традиционный рационализм; мышление всегда начинается с предпосылки, и такая предпосылка - это и есть предварительное понимание, или, в терминологии Гадамера, истинный предрассудок. Понятие герменевтического круга, считает Гадамер, выражает только то, что в сфере понимания нельзя претендовать ни на какое преимущество логического понятия над метафизической метафорой, так что логическая ошибка в доказательстве, вследствие чего может возникнуть логический круг, не является ошибкой метода, а представляет собой описание структуры понимания.240 Если учитывать при этом масштаб, который придается Гадамером понятию понимания, то разговор о герменевтическом круге, в конце концов, указывает на структуру бытия-в-мире, то есть на снятие субъект-объектного расщепления, которое Хайдеггер заложил в основу трансцендентальной аналитики Dasein. Так же, как инструмент исследования не входит а объект, а просто работает с ним, так и понимание не имеет никакого отношения к определенному объекту познания, а к самому своему бытию-в-мире. Таким образом, герменевтика дильтеевского типа превращается у Хайдеггера и Гадамера в 239 См.: Цурганова Е.А. Герменевтика// Современное зарубежное литературоведение: Словарь. М.,1996. - С.198. 240 Гадамер Х.-Г. Текст и интерпретация// Герменевтика и деконструкция. - С. 204. 83 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках герменевтику фактичности, главным руководящим вопросом для которой становится вопрос о бытии. Отдельная страница в истории современной герменевтики связана с именем Поля Рикера. Конечная цель его поисков – осуществить «прививку герменевтики к феноменологии». Согласно гипотезе французского философа, возможны два пути осуществления такой «прививки»: первый – обоснование онтологии понимания, когда понимание выступает не как метод познания, а как метод бытия, а рассуждения о методе оказываются необязательными. «Вопрос: при каком условии познающий субъект может понять тот или иной текст или историю, заменяется вопросом: что это за существо, бытие которого заключается в понимании?»241 Второй путь, который П.Рикер называет окольным и более трудным, состоит в выяснении того, что представляет собой эпистемология интерпретации, когда она соприкасается с онтологией понимания.242 Согласно П.Рикеру, надо вообще отказаться от мысли, будто герменевтика и ее основное орудие - понимание - является методом, способным на равных конкурировать с методом наук о природе.243 Мы разделяем мысль Рикера о том, что разрабатывать метод понимания - значит оставаться в рамках предположений об объективном познании, субъект- объектной проблематике и всего того, что постмодернисты называют логоцентризмом, а сам Рикер - предрассудками кантианской теории познания. Рикер задается целью разорвать заколдованный круг субъект-объектных отношений и, опираясь на позднего Гуссерля и Хайдеггера, перейти от эпистемологии к онтологии понимания. Понимание как основная данность и цель герменевтики «не является более возражением наук о духе против естественнонаучного объяснения, оно касается способа бытия рядом с бытием, представляющего встречу с отдельными существами.... То, что как предел стояло перед наукой - признание историчности бытия, - превращается в основание бытия; то, что было парадоксом: принадлежность интерпретатора своему объекту, - становится онтологической чертой».244 Герменевтика Рикера сопротивляется всяким попыткам отделить истину, свойственную пониманию, от метода, свойственного дисциплинам, исходящим из истолкования. Переход от понимания как способа познания к пониманию как способу существования связан с новым осмыслением языка, которым можно владеть и пользоваться как средством, но который можно интерпретировать как способ бытия. Наиболее важным моментом герменевтики Рикера, совпадающим с задачей наших собственных поисков, является момент связи семантического и рефлексивного подхода, когда субъект понимания и интерпретации становится одновременно включенным в деятельность самопонимания. Субъект, который интерпретируя знаки, многозначные и символические выражения, интерпретирует себя, больше не является Соgito, отмечает Рикер. «Это - существующий, который через истолкование своей жизни открывает, что он находится в бытии до того, как полагает себя и располагает 241 Рикер П. Конфликт интерпретаций. - С.8. 242 Там же. - С.9. 243 Попытки экстраполировать герменевтическую проблематику на науки естественнонаучного цикла были интересными научными гипотезами, бурно обсуждавшимися в философии и психологии 10-20 лет назад, но никакими особенными результатами не ознаменовались.(См., напр.: Объяснение и понимание в науке. М.,1982; Васильева Т.Е., Панченко А.И., Степанов Н.И. Истолкование физической теории как философская проблема// Теоретическое и эмпирическое в современном научном познании. - М.,1984 и др.). 244 Рикер П. Конфликт интерпретаций. - С.13. 84 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках собой».245 Герменевтика становится у Рикера интерпретированным бытием, семиотическая проблематика становится проблематикой Соgito, опосредованной всем универсумом знаков. 4.3. Деконструктивизм - современный проект критического мышления 4.3.1. Об источнике и парадигме деконструктивизма Деконструктивизм - это критическая методология и литературно-критическая практика постструктурализма. На протяжении 80-х годов деконструктивизм был самым влиятельным литературным критическим направлением, да и сейчас продолжает сохранять свои позиции. Деконструктивистские идеи глубоко проникли сегодня в самые различные сферы гуманитарных наук (социологию, политологию, историю, философию, теологию и т.д.). 246 Термин «деконструкция» ввел в интеллектуальный оборот Ж.Деррида, первоначально применив его к переоценке Ф.Ницше таких понятий, как текст, письмо, интерпретация.247 Подводя «баланс» своего мышления в докторской диссертации, защищенной в Сорбонне в 1980 году, он говорит, что на первом месте для него стоит не философское содержание тех или иных тезисов, не философемы, поэмы, теологемы или идеологемы, а прежде всего неотделимые от них сигнификативные рамки, институциональные структуры, педагогические или риторические нормы, возможность права, авторитета, оценки, репрезентация их на фактическом рынке стало быть, вообще условия философского мышления.248 Дэвид Эллисон во «Введении переводчика» к английскому переводу «Речи и феномена» отметил, что термин «деконструкция», пока несколько необычный, не представляет никаких трудностей в этой работе. Он означает проект критического мышления, задача которого локализовать и разобрать на части те понятия, которые выполняют роль аксиом или правил в некоторые периоды мышления, те понятия, которые обусловливают разворачивание всей эпохи метафизики. Эллисон добавляет, что «деятельность деконструкции состоит не в простом указании на структурные пределы метафизики. Она, скорее, разрушает и демонтирует основания этой традиции. Её задача - и показать источник парадокса и противоречия внутри системы, т.е. внутри самой аксиоматики, и установить возможность для нового типа мышления (meditation), которое больше не базируется на метафизике присутствия».249 Деконструкция не только разрушает основания систем метафизики. Она показывает конфликт и столкновение значений внутри этих систем и отрицает претензию на доминирование одних смыслов над другими. Но есть и другие оценки. Мишель Руан в книге «Марксизм и деконструкция» пишет: «Деконструкция состоит в серии полемических выпадов против философии, а не в разработке самостоятельной философской системы; её цель заключается в том, чтобы показать, что философская систематизация является вопросом стратегии, которая стремится быть базой сложных систем самоочевидных трансцендентальных аксиом».250 245 Рикер П. Конфликт интерпретаций. - С.16. 246 См.: Deconstruction and Criticism. - New York, 1979. 247 См., напр.: «Differеnce» в «Speech and Phenomena». - Р.129-160. 248 См.: Штегмайер В. Жак Деррида: деконструкция европейского мышления. Баланс // Герменевтика и деконструкция. - СПб., 1999. - С.70. 249 250 D. Ellison. Translator’s preface // Derrida J. Speech and Phenomena. - P. XXXII-XXXIII. Michael Ryan. Marxism and Deconstruction: A Critical Articulation. - Baltimore,1982 - P.33-34. Глубокое объяснение и критика понятия «деконструкции» содержится в работах: Paul de Man. 85 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках Приведенные выше оценки и определения относятся к деконструкции в «широком смысле». Если определять деконструкцию в «узком смысле», как значение слова, то оно означает не только «разрушать» и «уничтожать», но прежде всего - упорядоченно сносить и расчищать. «Деконструировать» - означает разбирать, упорядочивать, перекладывать. Однако сам Деррида вряд ли согласился бы с таким определением, ибо неоднократно заявлял, что ни разу не мог определить точное значение «деконструкции», более того, сама достижимость этого досадно бы его удивила. Строго говоря, разнообразные попытки точно и внятно определить деконструкцию некорректны, ибо являются проявлением того самого «логоцентризма», деконструировать который является одной из целей деконструкции. По словам Деррида, деконструкция не может быть «узурпирована и одомашнена» академическими институтами, потому что она не является ни анализом, ни критикой, ни методом.251 Деррида характеризует свои тексты как парафразы - описание других текстов посредством выявления точек зрения, которые содержатся в них, но не являются видимыми, и которые стратегически исключают достижение какой бы то ни было целостности. Но там, где нет целостности, нет и понимания. Потому так трудно воспринимать тексты самого Деррида. «Интерпретация, осознавшая себя как деконструкцию, - пишет Вернер Штегмайер, - уже не стремится иметь внешнюю точку зрения на то, что она деструирует, и не может и даже не хочет прийти в дефинитивным выводам».252 Деконструкция не обладает ни единством предмета, ни единством точки зрения, она принципиально множественна и поливалентна. Цель деконструкции состоит в том, чтобы вскрыть «апорию», неразрешимость в мышлении, которое считает себя достоверным. Ницше связывал такие неразрешимости с европейским нигилизмом. Деконструкция, считает Деррида, «подрывает метафизику логоса, присутствия и сознания в ее самой бесспорной очевидности». Вместе с тем, необходимо еще раз подчеркнуть, что деконструктивная критика является не только негативной, но и одновременно конструирует (строит и перестраивает) нечто новое. 4.3.2. У истоков деконструкции: Ф.Ницше Глубокое влияние на всю теорию деконструктивизма оказал Ницше. В «Воле к власти» он объясняет, к примеру, как может возникать понятие причинности. «Когда два явления, определенное ощущение и визуальный образ, появляются вместе, мы заключаем, что одно есть причина другого. Тем не менее заключение, что одно есть причина другого является метафорой, заимствованной из понятий Воли и Действия».253 Время, пространство, причинность - по преимуществу метафоры, которыми люди объясняют явления, которые их окружают. Любое знание и понимание является, согласно Ницше, актом деноминации. Некая абстракция собирает бесчисленные виды свойств вместе и требует идеи (value) как их причины. Какая абстракция (качество) способна сосредоточить многообразие вещей?... Метонимия! The Rhetoric of Blindness // Blindness and Insight: Essays in the Rhetoric of Contemporary Criticism New York, 1971; Paul de Man. Allegories of Reading: Figural Language in Rousseau, Nietzsche, Rilke and Proust -New Haven, 1979; Gayatri Chakravorty Spivak. Translator’s Preface to Jacques Derrida’s «Of Grammatоlogy» - Baltimore,1976; Rudolph Gasche. Deconstruction as Criticism - Glyph, 1970; Jonatan Culler. Jacques Derrida // Structuralism and Since: From Levi-Strauss to Derrida - New York,1979. Две полезные антологии по деконструктивной критике выпущено Гарольдом Блумом: Deconstruction and criticism - New York, 1979; Робертом Янгом: Untying the Text: A PostStructuralist Reader - Boston and London,1981. 251 Деррида Ж. Письмо японскому другу// Вопросы философии. - 1992. - №4. - С.55. 252 Штегмайер В. Жак Деррида: деконструкция европейского мышления. Баланс. - С.79. 253 Цит. по: Saldivar R. Figural language in the novel: The flowers of speech from Servantes to Joyce -. Princeton, 1984. - P.16. 86 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках Фальшивый силлогизм. Всякий предикатов (дефиниций)254. предикат дезорганизуется (confused) суммой Ницше считает, что слова стали идеями и концептами не потому, что они напоминают отдельные, оригинальные и индивидуальные, вещи или опыт, но в результате усилий подогнать под одно имя бесчисленные подобные, но не одинаковые случаи. Идеи таким образом возникают через уравнивание неравного. Мы фактически не знаем, что явилось сущностным качеством каждого понятия («сила», «истина», «смелость» и др.). Следовательно, во всех случаях отбрасывание индивидуального и реального дает нам только метафорическое подобие произошедших обобщений, которые формируя каждую новую интерпретацию, и отображают действительность и искажают её.255 В работе «Истина и заблуждение в их экстра-моральном смысле» Ницше ясно формулирует родственное утверждение: «Что есть истина? ...Подвижная армия метафор, метонимий и антропоморфизмов, - короче сумма человеческих отношений, которые были усилены, транспонированы и приукрашены поэтически и риторически и которые после долгого употребления кажутся окончательными, каноническими и обязательными для людей: истины - это иллюзии, о которых позабыли, что они иллюзии... .монеты, на которых стерлось изображение и которые теперь имеют значение только как железки, но не как монеты».256 Общие понятия и имена возникают из многообразия индивидуальных качеств только в том случае, когда забыто дифференциальные различия этих индивидуальных сущностей. Как следствие этого, синтетическое качество человеческого суждения, которое описывает вещи в соответствии с условными качествами их появления, а затем идентифицирует и обобщает их как сущностное качество, есть в действительности только риторический процесс, метонимический и метафорический процесс ложной субституции.257 Обоснование и суждение начались, по Ницше, с риторических фигур. Так возникает, в терминологии Ницше, «пафос истины»: истинные суждения не могут сообщать о некотором трансцендентальном условии или состоянии логической определенности; все, на что они могут претендовать - чтобы лингвистическая иллюзия сознательно не была допущена. Следовательно, «иллюзия» уже присутствует как само «основание» философии и языка. Искусство может быть в привилегированной позиции только тогда, когда художник понимает, что язык основывается преимущественно на тропологических структурах: «Искусство, таким образом, рассматривает видимость как видимость; оно не намерено обманывать и является, следовательно, истинным».258 Произведение искусства как репрезентация предлагает видеть мир как чистую видимость (appearance) и, поступая так, ближе подходит к природе действительности, чем научный или философский дискурс. Поскольку метафоры обычного дискурса составлены метафорами поэтическими, они, налагаясь одна на другую, как складки вуали, открывают механизмы - а в действительности иллюзии создания истины. 254 Ibid. 255 Op. cit. - P.16-17. 256 Magnus B. Nietzshe and postmodern criticism //Nietzshe Studien: Intern. Jb. fur NietzsheForschung.- B.;N.Y.,1989. - Bd 18. - P.307. 257 258 Saldivar R. Figural language...- P.17. Op.cit. - P.18. О тропологических структурах у Ницше см. также: Michel Foucault. Nietzsche, Genealogy, History // Language, Counter-Memory, Practice: Selected Essays and Interviews. - Ithaca, 1977. - P. 139 - 164. 87 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках Когда мы говорим о «естественном» языке и «реалистическом» искусстве, заявляет Ницше, мы забываем, что процесс, который мы называем риторическим, для того чтобы обозначить уловки чрезмерно застенчивого искусства, здесь всегда уже присутствует - и в произведениях, и во всех актах концептуализации и лингвистического выражения. «Нетрудно продемонстрировать ... что риторическое является некоторым распространением приёмов, запечатлённых в языке при ясном свете разума. Не существует нериторического «естественного» языка, к которому можно было бы апеллировать: язык сам является результатом чисто риторических схем... Человек, изобретающий язык, не воспринимал вещи и явления как таковые, а только стимулы: он не репродуцирует ощущения, но скорее изображает (images) их... Вместо самой вещи ощущение получает только метку вещи. Это первая сторона: язык риторичен, но он передает доксы, а не эпистемы».259 Наиболее важным инструментом риторики являются тропы, непрямые обозначения. Тропы есть самые ранние обозначения и от них, по Ницше, ведут свое происхождение все слова. В «Курсе риторики» Ницше говорит о трех важнейших группах тропов. Вначале речь идет о синекдохе как введении частного, отдельного вместо целого, завершенного. Ницше обращает внимание, что синекдоха демонстрирует неспособность языка выразить нечто исчерпывающим образом. Она всегда стремится только показать, что целое иносказательно, путем перестановки своих наиболее ярких элементов. Затем определяется метафора, второй троп в иерархии, как краткое сравнение, транспозиция обычных значений из одного слова в другое. Метафора не создает новых значений, она просто переставляет значения. Третьей и наиболее важной фигурой, которую упоминает Ницше, является метонимия, радикальная транспозиция причин и следствий (metalepsis в классической риторике). Метонимия приобретает особенную важность для Ницше в его теории происхождения понятий причины и следствия, истины и моральной ценности, а также для представления об устойчивости и самотождественности субъективности. Ницше использует структуру метонимии как элемента деконструкции следующим образом: абстрактные понятия вызывают иллюзию, что они являются сущностями вещей, которые, в свою очередь, являются причиной отдельных свойств, в то время как в действительности, отмечает Ницше, они (т.е. абстрактные понятия) существуют только благодаря тем самым отдельным свойствам, переносный смысл которых приписан абстракциям.260 По мнению Ницше, тропы не просто сближают слова, но формируют саму природу слов. Не существует никаких точных значений, которые могут передаваться только в отдельных случаях. Подобно тому как для Ницше не существует различия между словами и тропами, для него не существует и различия между «нормальными» и «риторическими» дискурсами; он не устает заявлять, что нормальный дискурс есть синтаксическая форма риторического дискурса. Риторическое, согласно Ницше, не может более пониматься только как руководство по технике убеждения или манипуляции. Риторичность собственная характеристика языка, она формирует фундамент всех семантических интерпретаций. Другими словами, тропы не выводятся из структуры языка, но конституируют сами языковые структуры. Согласно этой позиции, Ницше пересматривает традиционный взгляд на миметическую репрезентацию экстра-лингвистического референта как определитель языкового значения. Теперь первостепенное значение приобретают интра259 Цит. по: Paul de Man. Allegories of Reading. - P.105. 260 Цит. по: Saidivar R. Figural language in the novel. - P.20. 88 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках лингвистические элементы. По мнению Ницше, читатель, который распознает «риторические формы» языка в целом будет находиться в преимущественном положении, поскольку он сможет успешно сопротивляться логическим обольщениям, из-за которых метафорический дискурс становится буквальным. Он должен неустанно стараться сохранить глубокую интуицию о том, что язык метафоричен и создает буквальные значения только благодаря своей способности изобретать семантические цепи из бесконечных художественных звеньев. Итак, эпистемологическая власть языка демонстрируется общим процессом мистифицирующей субституции и кардинальным изменением свойств и значений элементов языка. Осознание этого должно способствовать критическому восприятию репрезентативных форм и структур нарративов. То, что Ницше проделал с тропологическими фигурами есть не что иное, как процедура деконструкции, которую современные постмодернисты пытаются проделать с любыми текстами. 4.3.3. Деконструктивная критика: варианты и инварианты Большое влияние на развитие деконструктивизма оказала американская деконструктивная критика (Поль де Мен, Джон Хиллис Миллер, Раймон Сальдивар, Дж.Хартман, Х.Блум и др.), известная в науке как Йельская школа. Американский деконструктивизм окончательно сформировался с появлением в 1979 году так называемого «Йельского манифеста» - сборника статей Ж.Деррида, Поля де Мена, Х.Блума, Дж.Хартмана и Дж.Х.Миллера, озаглавленного «Критика и деконструкция».261 Теоретиками Йельской школы было обосновано ключевое понятие течения - деконструкция - и разработан тот понятийный аппарат, который лег в основу практически всех версий литературоведческого деконструктивизма. Джон Хиллис Миллер в заключительной статье этого сборника «Критик как хозяин» не считает процедуру деконструкции изобретением постмодернизма. «Современная процедура «деконструкции», одним из основателей которой был Ницше, не является нашим собственным изобретением, - пишет он. - В той или иной форме она регулярно повторялась во все времена, начиная с греческих софистов и риторов, в действительности начиная с Платона, который в «Софисте» воплотил свою собственную само-деконструкцию в канон собственного сочинения».262 По оценке Миллера, «деконструкция не имеет отношения ни к нигилизму, ни к метафизике, а является просто интерпретацией как таковой», призванной отыскать нигилизм в метафизике и метафизику в нигилизме, опираясь только на метод «тщательного прочтения».263 Но и сама критика не может избежать процедуры собственной деконструкции, ибо язык как инструмент критики и язык как объект критики является одним и тем же. Ясное представление о методологии и специфике американской деконструкции даёт книга Р.Садьдивара «Художественный язык романа». Осуществляя критический обзор этой работы, попытаемся уточнить как понятие деконструкция, так и практику деконструктивистского анализа. Сальдивар, перефразируя Троллопа, пишет, что беллетрист фактически должен быть автором системы выражений, прежде чем он может стать автором индивидуальных выражений264. Свою задачу американский ученый видит в том, чтобы 261 Deconstruction and criticism/ Ed. Bloom H. - New York, 1979. - P.229. 262 Deconstruction and criticism. - P.229. 263 Op. cit. - Р.230. 264 Saldivar R. Figural language in the novel. - Princeton, 1984. - P. XI. 89 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках «исследовать процессы, благодаря которым нарратив определяет грамматику и синтаксис, характерные для выражения его собственных индивидуальных значений».265 При этом центральным вопросом каждого литературного текста является, по его мнению, вопрос «Как может быть рассказана данная история?», а интерпретация текста всегда апеллирует к нарративу как способу познания. Задачу, которую ставит перед собой американская школа деконструкции, - выявить эстетическую структуру познания266. Проблема интерпретации - это не частная литературоведческая практика, а проблема проблем гуманитарного знания. Традиционная теория литературы считала, что интерпретация достигается обыкновенным чтением и идет от языка к определенным экстралингвистическим объектам. Сальдивар предлагает противоположную теорию чтения и интерпретации, которая имеет дело как с тканью произведения и риторическими ресурсами языка, так и с формальными и референциальными аспектами произведения, включая и его социально-психологический контекст. Прочитать - это значит задать тексту вопрос и понять ответ, понять, в первую очередь, возможности риторических ресурсов языка. Как видим, бахтинская концепция относительно вопросно-ответной структуры понимания нашла своих приверженцев и за океаном. Понимание возможностей риторических ресурсов языка означает, по Сальдивару, эстетический аспект познания. Критическое осознание риторического каркаса (screen) может обеспечить проникновение в смысл любых утверждений, целью которых является описание реальности. Процедура интерпретации, по Сальдивиару, такова - переосмыслить текст в контексте его индивидуального своеобразия применительно к истории, которая рассказывается. Необходимо дать возможность тексту сформулировать свою собственную теорию интерпретации, чтобы затем поместить эти разрозненные данные в историю литературы, историю жанра. Долгое время считалось, что критический дискурс нейтрален и не влияет на предмет обсуждения. Однако сейчас достигнут такой уровень исследования литературы, когда больше невозможно игнорировать тот факт, что литературная критика влияет на чтение, помогает ему и расширяет его горизонты. По мнению Колина МакКейба, сегодня наивно претендовать на то, что мы можем идти прямо к тексту, так же как и верить в то, что текст является простым и легко определимым объектом. Каждый текст уже артикулирован другими текстами, которые детерминируют поле его возможных значений. Нет ни одного текста, который был бы свободен от других литературно-критических дискурсов, которые его упоминают, называют или идентифицируют. Г.Флобер в одном из писем писал, что «критика занимает самое низкое место в литературной иерархии; что касается формы - это верно почти всегда, что касается «нравственных идей»- это неопровержимо. Она уступает даже акростихам и игре рифм, которые требуют, по крайней мере, изобретательности».267 Традиционно низкая оценка критики творцами искусства связана, по моему мнению, не только с тем, что творчество и критика питаются разными импульсами, но и с тем, что критика, с тех пор как она существует, испытывает трудности в выработке адекватного языка описания (объяснения, интерпретации, оценки) художественного произведения. Очень часто она просто запаздывает и применяет вчерашние критерии к сегодняшнему искусству. Критичность и креативность в истории искусстве составляют совсем не мирную пару. 265 Saldivar R. Figural language in the novel. - Р. XII. 266 Saldivar R. Op. cit. - P.XII. 267 The Letters of Gustave Flaubert 1830-1857.- Cambridge, 1980. - Р.XV. 90 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках Для иллюстрации этого положения Р.Сальдивар обращается к одной из самых ранних работ Ф.Ницше «Рождение трагедии из духа музыки». Здесь Ницше исследует историю возникновения греческой трагедии и драмы. Художественный инстинкт природы у греков, по мнению немецкого философа, связан с двумя богами- Аполлоном и Дионисом. Аполлон - бог всех сил, творящих образами, пластическими формами, аполлоническое искусство - дополнение и завершение бытия. Дионис - это бог безумия, экстаза и вдохновения, дионисийские художественные силы «прорываются из самой природы, без посредства художника-человека»268 Аполлон- бог пластики и эпики, Дионис - бог лирики и музыки. Дионисийское начало - это преодоление своей единичности и конечности, слияние с Первоединым, с природой и с Богом. «Под чарами Диониса не только вновь смыкается союз человека с человеком: сама отчужденная, враждебная или порабощенная природа снова празднует праздник примирения со своим блудным сыном - человеком».269 Греческое искусство - своеобразный симбиоз аполлонического и дионисийского начал. Скульптура, с этой точки зрения, проявление аполлонического начала, трагедия дионисийского. Аполлоническое начало - светлое, оно позволяет забыть ужас бытия, страдание и смерть; к нему приложима категория прекрасного, принцип мимесиса. Дионисийское - вне категорий и подражаний, здесь человек сам на время сливается с божеством. Но вот появляется критик. Он начинает размышлять и анализировать, и высокое искусство трагедии умирает. Одним из первых теоретиков в греческом мире был, по мнению Ф.Ницше, Сократ. Сократическое знание представляет собой конструкцию, основанную на эмпирически данных элементах и эмпирически обозримых взаимосвязях. В отличие от аполлонического видения, которое никогда не забывало, что представляет знаки, а не вещи, сократическое знание воображает, что видит действительность саму по себе.270 При этом любого теоретика, будь-то Сократ или Лессинг, процесс поиска истины занимает гораздо больше, чем сама истина. Критик верит, что усилиями познания можно проникнуть в глубочайшие мистические представления искусства, исправлять, просвещать и поучать его. Ницше называл этот критический импульс великой метафизической иллюзией. Но проблема состоит вовсе не в том, оправданы или не оправданы усилия критика. Четко очерченной оказалась сама парадигма литературно-критического дискурса, ибо дионисийское, аполлоническое и сократическое начало всегда представлены в творческом и критическом акте.271 Критика как рефлексия об искусстве, и шире - как самосознание культуры- оказалась деятельностью необходимой и оправданной, неотторжимой от любого творческого процесса. Применительно к литературной продукции, в широком ее понимании, основная цель критики - элиминировать ошибки и двусмысленности при чтении текстов. Задача критики в сущности сливается с герменевтикой и состоит в прояснении значения произведения, а для этого необходимо «снять» его двусмысленность и многозначность. Но здесь возникает радикальная проблема: «Что такое значение?» Значение в свете новейших лингвистических исследований существует не как независимый концепт, проступающий из трансцендентальных глубин человеческой 268 Ницше Ф. Сочинения в 2-х т. - М.,1990. - Т.1. - С.62-63. 269 Ницше Ф. Ук. соч. - С.62. 270 Saldivar R. Figural language in the novel. - Р.6 271 Saldivar R. Op.cit.. - Р.7. 91 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках речи, а как возможный (contingent) элемент. Сами идеи как корреляты значений не существуют до процесса означивания, до знаков, которыми мы эти идеи представляем.272 Многозначность и двусмысленность - не внешний недостаток языка, но его сущностное базисное свойство; двусмысленность не может быть снята без ущерба для адекватной интерпретации.273 По выражению Н.Хомского, двусмысленность регулярный механизм само-порождения (self-generation) семантики лингвистических знаков в любом сигнификативном процессе.274 Поэтому интерпретация текста не является больше узкой филолого-философской прерогативой, но центральной проблемой для всех, кто хочет разумно читать и вразумительно писать, эффективно осваивать произнесенное или написанное кем-то другим. Интерпретация неотделима от критического мышления в той мере, в какой это мышление вынуждено пользоваться языком и манифестировать себя в текстах. Относительно всего корпуса литературы необходимо строго различать проблему значения и проблему двусмысленности языка, потому что эти проблемы не просто содержатся в тексте, но часто обнаруживаются (делаются очевидными) в формальнориторических моделях литературных художественных произведений. Некоторые современные теории нарратива утверждают, что проблемы формы художественных прозы, такие как введение многочисленных или ненадежных повествователей, разрушенный сюжет, задержанные или пропущенные вводные главы, наличие противоречащих стилей повествования внутри одного и того же текста, являются показателями глубинных языковых проблем, которые они выражают. Сказать, что эти формальные приемы применяются в нарративах с целью создания определённого художественного эффекта - значит не сказать ничего. Проблема, которая должна быть предметом обсуждения - возможность создания специфических эффектов посредством формально-риторических манипуляций, которая определяется, в первую очередь, природой поэтического языка и определенным видом значения, которое может быть ясно представлено.275 Поисками этих значений и озабочен деконструктивизм. Американская деконстуктивная критика (сами американские ученые ассоциируют ее иногда с «новой критикой») попыталась создать критическую методологию, которая исследует литературные тексты как автономные целостные блоки значений. При этом она отталкивается от признания глубинной связи между смыслом выражений и сущностью вещей, с одной стороны, и между значением воспринимаемых структур и их пониманием, предполагаемым субъектом, с другой.276 Ошибка структурализма состояла как раз в игнорировании семантического и прагматического аспектов текста (структурализм не столько не хотел, сколько не имел соответствующей понятийной базы для исследования значения и понимания). И «новые критики» начали построение деконструктивистской методологии с признания этой ограниченности. «Литература существенно детерминирована, внешне и внутренне, историческим процессом, и 272 См.: Derrida J. Speech and Phenomena and other Essays on Husserl’s Theory of Sign. - Evanston, 1973. - P. IX. 273 Англо-американские теоретики употребляют здесь термин «ambiguity» - утверждение, имеющее более одного возможного значения; при этом «ambiguous» не означает «vague» (неопределенный) и не означает «polysemous» (многозначный), общее значение здесь скорее «неопределенная многозначность», в то время как русское слово «двусмысленный» имеет некую отрицательную коннотацию. 274 Chomsky N. Deep Structure, Surface Structure, and Semantic Interpretation //Semantics: An Interdisciplinary Reader in Philosophy, Linguistics and Psychology.- Cambridge, 1973. - P.214. 275 Saldivar R. Figural language in the novel. - P.8-9. 276 Saldivar R. Figural language in the novel. - P.9. 92 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках некоторые из ее наиболее важных жизненных обобщений заимствованы из идеологических систем, существующих до и вне литературы».277 «Библией» современного структурализма, как и структурализма 60-х годов, остаётся «Курс общей лингвистики» Ф.Соссюра, написанный им в 1916 году. Структуралисты от литературы (Тодоров, Греймас, Бремон) уверены в том, что всё, на что может претендовать человеческий интеллект - это систематическое измерение языка как системы. В своей «Грамматике «Декамерона»» Ц.Тодоров пишет: «...Универсальная грамматика есть источник всех универсалий, ее дефиниции могут быть применимы даже к самому человеку. Не только все языки, но и все сигнификативные системы подчиняются одной и той же грамматике. Она универсальна не только потому, что информирует обо всех языках универсума, но и потому, что совпадает со структурой самого универсума» 278. Радикальным критиком современного литературного структурализма является Франк Лентриккия. По его мнению, ограничение возможностей человеческого познания структуралистами выглядят как полёт «романтического иррационализма», который ведет к слишком «платоническому» прочтению Соссюра. Лентриккия убедительно демонстрирует, что диалектические идеи Соссюра, которые его адептами усваиваются слишком неадекватно, позволяют рассматривать литературные и иные дискурсы в человеческом пространстве и культурном времени, а не в некоей формалистической вечности структуралистов.279 Другими словами, новая критика идет от текста к интерпретации, и отделяет себя как от ортодоксальных структуралистов, застывших в формализованной вечности языка как системы, так и от традиционной критики, пропитанной идеологическими стереотипами, и занимающейся не анализом литературы, а её оценкой, измеряя по весьма произвольным критериям ее успехи или неудачи. Деконструктивизм занимается поисками такого метода интерпретации, который мог бы обеспечить твердый фундамент для чтения литературных текстов, одновременно различая логические, семиотические и риторических понятия и отношения лингвистического знака, и приспосабливая эти отношения к культурному контексту.280 В этой связи необходимо прояснить и уточнить по меньшей мере два смысла понятия «риторика». Первый смысл понятия «риторика», стершийся от постоянного употребления, означает манипуляции языком. В этом смысле понятие «риторика» касается применимости или неприменимости определенных типов дискурса к отдельным обстоятельствам. Когда «риторическое» определяется таким образом, связь между грамматикой как логикой и грамматикой как риторикой выглядит простой и ясной. Риторика становится подчиненной категорией логики (иллокутивные и перлокутивные речевые акты Дж.Остина, языковые игры Витгенштейна - все это можно объединить заголовком «риторика»). В этом случае риторика является не проблемой лингвистической формы, но отношением лингвистического выражения к специфическим условиям, в которых их употребление имеет смысл. Основатель современной семиотики Ч.С.Пирс, исследуя теоретическую природу знака, выделял три аспекта его функционирования - грамматику, логику и риторику. Задача риторики, по выражению Ч.С.Пирса, состоит в установлении законов, по 277 Ibidem. 278 Cit. by: Lentricchia F. After New Criticism. - Chicago, 1980. - Р.116. 279 Lentricchia F. After New Criticism. - Р.116. 280 Saldivar R. Figural language in the novel. - Р.11. 93 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках которым «один знак порождает другой». Интерпретация знака, согласно Пирсу, это не значение, но другой знак, и, следовательно при чтении мы имеем дело не со значениями, а с интерпретациями. С тех пор, как люди говорят знаками, новые «значения» образуются изменениями и преобразованиями этих знаков. Семантика знака ведет нас от знака к знаку, но никогда - к абсолютной, трансцендентальной истине. «Значения» не бывают постоянными, искажаясь и видоизменяясь в ежедневном употреблении, они становятся похожими на вновь созданные слова. Этот процесс лингвистической самодостаточности регулируется, согласно Пирсу, риторикой. Риторика является, таким образом, недизъюнктивной трансформационной системой, которая не нуждается в идеологических, этических или каких-либо иных внешних обоснованиях. Второй смысл термина «риторика» означает науку, которая изучает тропы и фигуры. В этом втором смысле риторика рассматривается исключительно в интралингвистическом контексте; но как показал Ф.Ницше, этот контекст огромен. Вместе с анализом Пирса, суть которого состоит в отказе от органической всеобщности значения и следует в направлении «деконструкции» трансцендентального означаемого (signified), деятельность Ницше положила начало критике метафизики истины как цели этого трансцендентального означаемого. Р.Сальдивар подробно анализирует два ранние текста Ф.Ницше - «Книга философа» и «Риторика», которые представляют большой интерес для понимания проблемы нарратива. В этих текстах обсуждается взаимосвязь между языком и риторикой и подчеркивается существенная общность проблем, обусловленных двусмысленностью значения - как в естественнонаучных, так и собственно художественных дискурсах. В сборнике «Das Philosophbuch» (эссе и заметках 1872,1873 и 1875 года) Ницше касается фигуры Философа и набрасывает в общих чертах концепцию философии в её отношениях к искусству, науке и цивилизации в целом. Вначале Ницше обосновывает всеобщую необходимость воображения и искусства в человеческой жизни. Цивилизация началась, согласно Ницше, с искусства обмана. Бесконечное множество индивидуальных характеристик и природных феноменов было редуцировано до общих понятий при помощи создания «тропов сходства» отождествления разных предметов на основании общего для них признака. Необходимость социальной коммуникации сама создает ситуацию, когда два различных объекта обозначаются одним именем. То, чему позднее предстоит называться истиной, есть не что иное как идентификация двух различных объектов под общей рубрикой, возникшая первоначально только из социальных нужд. Со временем многократное употребление метафоры приводит к тому, что она воспринимается буквально и таким образом становится общепризнанной «истиной».281 «Какое дело истине до человека! - пишет Ницше. - Обладание тайной истиной самое высокое и самое убогое, что может быть в жизни. Вера в истину необходима для человека. Истина возникает в силу социальной необходимости: как метастазы, она прилагается ко всему, даже к тому, что не испытывает в этом ни малейшей нужды».282 По мнению Ницше, тот же самый риторический процесс, который создаёт всякое понятие, создал и понятия «причинность», «тождество», «воля», «действие». Эти понятия образуют структуру, которая позднее приведёт к переоценке - деконструкции всех ценностей в «Воле к власти». Процессы повседневной жизни и необходимость веры в истину заставляют людей приписывать переносные обозначения, в сущности буквально, различным предметам и 281 Цит. по: Saldivar R. Figural language in the novel. P.14. 282 Op.cit. - P.14. 94 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках явлениям. Только после многократных повторений, благодаря риторическим «метастазам» быстрого перехода от одних выражений к другим, метафорическое имя начинает восприниматься буквально.283 Другими словами, в историческом процессе функционирования и развития языка память о метафорическом прошлом многих понятий оказалась стертой, и они воспринимаются как изначально «научные» или, по крайней мере, нейтральные понятия. Аргументы Ницше относительно природы основных форм естественного языка, а также их дальнейшую разработку американским деконструктивизмом следует рассматривать как неэлиминируемое основание методологии углубленного критического исследования всякого более или менее неформализованного текста. 4.3.4. Герменевтика и деконструкция: Гадамер и Деррида Прежде чем провести разграничение между деконструкцией и герменевтикой, обозначим их точки пересечения. Общим для герменевтики и деконструкции является то, что обе они работают с текстами и стараются дать их интерпретацию. Философская герменевтика Гадамера исходит из критики наличного, понимаемого как нечто установленное в себе и для себя и отсюда не только несомненно очевидного, но и несомненно рационального. Возможность интерпретации, во-первых, опирается на тот факт, что предмет истолкования является постоянным и неизменным, а, во-вторых, что он в принципе доступен пониманию (напомним, что само греческое слово hermeneuein означает нечто, что само по себе ясно и для каждого понятно). Текст, по Гадамеру, не только открыт для интерпретации, но и нуждается в ней, ибо без интерпретации он не может повторить и представить самого себя, передать смысл.284 Текст сбывается в интерпретации, но нет никаких абсолютных границ для его значений. Каждый интерпретатор, работая «на дистанции», шаг за шагом приближается в изложении излагаемого к самому предмету. «При этом дистанция понимания преодолевается, и предмет предстает как очевидный, ясный и понятный, разъясняет позицию Гадамера В.Штегмайер. - И действительно, трудно помыслить иначе, как нечто может стать «понятным». Всякий, кто хочет подобным способом проделать работу приближения, независимо от того места, где он находится, должен исходить из одного предмета и из одного понимания этого предмета. В конце концов, все должны быть едины в том, что он есть. Необходимо прийти, хотя бы в принципе, к консенсусу относительно «самих вещей» и их понимания».285 Именно на выполнение этого условия - на достижение принципиального консенсуса в понимании направлена герменевтика Гадамера. Но если текст, материя текста, буквы, действительно, остаются одними и теми же и всегда себе равными, означает ли это, что и смысл остается неизменным? Существует ли смысл до и прежде истолкования? В ответе на этот вопрос герменевтика и деконструкция радикально расходятся. Что мы имеем в виду, когда говорим, что понимаем текст? Для Гадамера, как и для всей классической герменевтики, совершенно очевидно, что речь идет о понимании смысла, а не о материи текста. С точки зрения герменевтики, истолкование есть свободное полагание смысла текста, который лежит в тексте и даже пред-положен ему. 283 Ibid. 284 Гадамер отличает тексты и антитексты (например, иронические тексты), псевдотексты (риторические фигуры) и предтексты (идеологемы), которые осмыслены только тогда, когда их обсуждают. 285 Штегмайер В. Деконструкция и герменевтика. К дискуссии о разграничении // Герменевтика и деконструкция. - СПб., 1999. - С.5. 95 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках Можно ли отделить смысл от текста, или, выражаясь более метафизично, положен ли смысл до текста или лежит, положен вместе с ним? И, соответственно, является ли понимание истолкованием или построением смысла? Текст - это письмо, имеющее смысл, единство письма и смысла. В свою очередь, письмо является текстом только тогда, когда имеет смысл. Смысл делает письмо текстом. В единстве письма и текста письмо выступает как внешнее, смысл - как внутреннее. Письмо в герменевтике имеет единственную функцию внешнего носителя смысла. На этом его роль исчерпывается. В деконструктивном дискурсе Деррида, наоборот, на первый план выдвигается письмо (грамма, буква, знак, линия, штрих). Придавая преимущественное значение письму, Деррида тем самым подчеркивает свою программную направленность против абсолютизации смысла. Письмо самостоятельно и не может быть поглощено смыслом. В этом пункте проходит главный водораздел между герменевтикой и деконструкцией. Рабочая программа герменевтики состоит в выявлении смысла и его интерпретации. Деконструкция настаивает на самостоятельности письма по отношению к смыслу. Деррида отталкивается от письма, а не от смысла. Но письмо сохраняет смысл и выражает его в границах определенного игрового пространства. В разное время и в разных обстоятельствах письмо понимается по-разному. Оно и сохраняет смысл, и производит его. Это происходит не вследствие подчинения установленному смыслу, а благодаря тому, что письмо с течением времени понимается по-другому и может согласовывать разные понимания, осуществленные в разное время. Герменевтика тоже исходит из этого, но она на этом и останавливается. «Пренебрегая подчинением письма устойчивому смыслу, который должен все время продуцироваться, деконструкция имеет дело с над- или перестройкой смысла, с над- или перестройкой смысла в акт: смысл дается, конституируется благодаря тому, что новый смысл оценивает ранее заданный смысл, который над- или перестраивается по другому, «деструируется»...».286 Понятие деконструкции теряет в таком изложении всякую агрессивность и воинственность. Оно просто означает отказ от подчинения письма смыслу, которое в герменевтике является неизбежным. Значит ли это, что герменевтика оказывается опровергнутой? Нелегкая полемика Гадамера с Дерридой касается прежде всего этого момента, но позиции сторон остаются непоколебимыми. Для Гадамера герменевтический опыт является универсальным, несмотря на ограниченность человеческого опыта и границы языковой коммуникации. Вся совместная жизнь людей - нескончаемый и неисчерпаемый диалог. Чтение - тоже диалог, но он отсылает не назад, к автору и его голосу, а вперед. Позиция Гадамера очень близка позиции Бахтина, у обоих диалог никогда не заканчивается. «Ни одно слово не является последним, как нет и первого слова, - пишет Гадамер, почти дословно повторяя бахтинскую формулировку. - Каждое новое слово само всегда является ответом и само уже обозначает место нового вопроса».287 Гадамер вполне искренен, когда отказывается видеть здесь «логоцентризм» и «метафизику». «Я не могу следовать Дерриде в том, что герменевтический опыт чего-либо должен иметь дело с метафизикой настоящего, - а именно в том, что это совсем особо касается живого диалога».288 Деррида, в свою очередь, считает, что Гадамер мыслит чересчур традиционно, ибо он рассматривает текст как тотальность, где есть название, начало и конец, а также 286 Штегмайер В. Деконструкция и герменевтика. - С.8. 287 Гадамер Х.-Г. Деконструкция и герменевтика// Герменевтика и деконструкция. - СПб., 1999. С.246. 288 Там же. 96 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках автор и его подпись. Другими словами, для Гадамера тексты являются средствами для диалога, в котором их можно «присвоить». Для Деррида, напротив, тексты открыты для радикальной множественности и дифференциации значений. Он исходит из того, что для любого значения или понимания всегда оказывает влияние различение - differance. Differance - это парадоксальная структура с двойным значением дифференциации и сдвига; она и есть первоначальная дифференциация, согласно которой ничто не может присутствовать само по себе. Процесс обозначения в языке есть формальная игра differance, в которой каждый знак указывает на другие отсутствующие знаки. Все элементы значения конституированы «следами», которые оставлены другими элементами. «Никакое значение не есть просто присутствующее или не присутствующее. Это касается не только знаков и их значений, но и автора, структуры и каждого события в тексте. Differance оказывает свое влияние везде, и: следовательно, никакой субъект не может господствовать над функционированием языка».289 Защищая свою герменевтику от нападок Жака Деррида, Гадамер подчеркивает, что понимание всегда означает понимание Другого: «Только присутствие другого помогает тому, с кем мы встречаемся, преодолеть собственную узость и смущение, прежде чем он откроет рот для ответа. То, что становится здесь для нас диалогичным опытом, не ограничивается сферой основ и контроснов, чьим обменом и объединением мог бы закончиться смысл каждого спора».290 По Гадамеру, понимание означает в первую очередь не идентификацию, а способность поставить себя на место другого и рассмотреть оттуда себя самого. Гадамер признает внутреннюю близость речи и письменного текста; каждое слово языка, считает он, всегда есть «движением к письму». Письмо - это то, что читают, а чтение невозможно без осмысления. Кроме того, Гадамер вполне разделяет мнение Деррида, что текст не зависит от своего автора и его возможных интенций. И все же это ни в коем случае не значит, что смысл умирает, поскольку «автор умер». Деррида критикует преобразование написанного в голос, а Гадамер говорит о преобразовании его в разговор: «...Я читаю текст с пониманием только тогда, когда текст становится говорящим, а это означает, что он модулирует и артикулирует, читается адекватно с подчеркиванием смысла».291 Чтение - это тоже разговор, а следовательно, и диалог. Гадамер искренне не понимает пафоса Деррида, постулирующего гегемонию письма как такового, письма, порвавшего связь с диалогом, разговором, смыслом. «Искусство письма, - продолжает немецкий философ, - это я действительно должен сказать писателю не только уровня Деррида, состоит в том, что писатель так владеет миром знаков, образующих текст, что ему удается возвращение текста языку».292 Почему понимание и чтение с пониманием Деррида называет «метафизикой» остается загадкой и для Гадамера, и для большинства читателей французского мыслителя. Поразительно, но в ситуации Гадамер - Деррида, действительно, имеет место не несогласие, а непонимание. В интервью 1995 года немецкому журналу «Радикальная философия» Х.-Г. Гадамер признался: «Между тем, 289 Коткавирта Ю. Философская герменевтика Х.-Г. Гадамера// Герменевтика и деконструкция. С.61. 290 Цит. по: Коткавирта Ю. Философская герменевтика Х.-Г. Гадамера// Герменевтика и деконструкция. - С.51. 291 Там же. - С.247. 292 Там же. 97 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках Деррида зачаровывает, и я все же надеюсь, что смогу понять его. Но это очень трудно, поскольку он, в высшей степени, является маньеристом».293 Гадамер ставит в упрек позднему Хайдеггеру, что он не прибегает к понятиям герменевтики, хотя продолжает использовать темы «вещи», «истока», «языка», «произведения». Он считает, что отождествление метафизики и логоцентризма - это открытие Хайдеггера, которое Деррида присвоил себе. Более того, Деррида герменевтик par excellence, хотя его герменевтика и называется деконструкцией. Какие еще специфические черты отличают деконструкцию от герменевтики? Герменевтика направлена на единство, целостность, согласие, достигаемые на основе содержательного диалога. Но Деррида считает, что в той мере, в какой Гадамер принимает это соглашение (когерентность), его герменевтика является логоцентрической, ибо она направлена на то, чтобы слышать логос в тексте и сказать то же самое. И хотя Гадамер в оправдание возражает, что его логос является герменевтическим, а не метафизическим, Деррида это не убеждает. Деконструкция знаковый процесс, в котором порядок значения предписан до самого значения. Деконструкция реализуется в форме археологии следа, дополнения, стиля, рассеяния (dissemination) и различения (differance). Дополнение, к примеру, может поглощать понятие и тем самым освобождаться от террора метафизического логоцентризма. «Герменевтика, наоборот, стремиться избавиться от дополнений как отклонений по сути дела и ищет суть дела как ядро значения, - пишет Б.Марков. Дополнения и отступления - это болтовня, поэтому она (герменевтика - Т.В.) непримирима с деконструкцией, в действительности ограничивающей ее универсалистские притязания, на которые уже покушались критика идеологии (Хабермас) и психоанализ (Лакан)».294 Герменевтика стремится к консенсусу, для деконструкции важна не однозначность, а многозначность, неопределенность, размытость. И герменевтика, и деконструкция не исчерпываются работой с текстами. Х.Г.Гадамер разрабатывает не только герменевтику текста, но и герменевтику любых переговоров и диалогов, и шире - герменевтику бытия человека в мире. В коммуникации, считает он, мы не только осуществляем работу с тем, чтобы понять друг друга, но и понимаем нечто третье, по отношению к которому «горизонты нашего понимания сливаются». Понимание текстов менее проблематично, потому что тексты (и их смыслы) сохраняются уже тем, что истолковываются и интерпретируются. В диалоге, живом разговоре сохранение общего смысла, вокруг которого протекает разговор, всегда проблематично, и потому особенно важно совпадение, касающееся этого общего. Для герменевтики это общее сводится к смыслу, для деконструкции - к письму, которое автономно по отношению к смыслу. Вместе с тем существует позиция, особенно среди «практикующих деконструкторов», рассматривать деконструкцию как своего рода герменевтику, как «набор методов рассмотрения текстов, как некое множество текстуальных стратегий, направленных преимущественно на подрыв логоцентризма. Дж. Р. Серль выделяет три такие стратегии. Первая сводится к «переворачиванию» иерархии бинарных оппозиций. Для интеллектуальной культуры Запада традиционными являются оппозиции: речь / письмо, мужское / женское, правда / вымысел, буквальное / метафорическое, действительность / видимость, обозначение / знак. Деконструктор пытается подорвать эти оппозиции, обратив их иерархию, сместив статус превосходства с левого термина на правый. Цель этой операции состоит в том, чтобы переместить, 293 Литература плюс. - 1999, квітень. - С. 6. 294 Марков Б. От опыта сознания к опыту бытия // Герменевтика и деконструкция. - С.186. 98 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках разобрать, заменить оппозициями.295 всю систему ценностей, выраженную классическими Вторая стратегия состоит в поиске некоторых ключевых слов в тексте, которые «выдают игру» автора. Для Дерриды такими словами являются «parergon»у Канта, «pharmakon» у Платона, «дополнение» у Руссо и «гимен» у Малларме. Как правило, это наиболее уязвимые звенья деконструкции, а откровения «вознаграждающего комментария» иногда выглядят более чем двусмысленно. Исключение составляет анализ Деррида мыслеобраза «khora» в платоновском диалоге «Тимей».296 Третья стратегия состоит в том, чтобы обращать пристальное внимание на риторические особенности текста, которые можно рассматривать как ключи к наиболее важным пластам «письма». С большим успехом эта стратегия развивалась американским теоретиком Полем де Меном. Любимый пример самого Деррида, который он приводит в качестве иллюстрации деконструктивной стратегии, касается оппозиции письмо / речь. Основной пафос Деррида состоит в провозглашении того, что для «целой эпохи всемирной истории», включая современность, речь ошибочно наделялась привилегированным статусом по отношению по письму. Однако не только Дж. Серль, но и множество других ученых, не считают этот принципиальный для Деррида тезис достаточно обоснованным.297 Хотя различение письма и речи достаточно традиционно для французского постструктурализма. В частности, Ролан Барт поясняет это различие следующим образом: «Письмо и обычная речь противостоят друг другу в том отношении, что письмо явлено как некое символическое, обращенное вовнутрь самого себя, преднамеренно нацеленное на скрытую изнанку языка образование, тогда как обычная речь представляет собой лишь последовательность пустых знаков, имеющих смысл лишь благодаря своему движению вперед». Речь, по Барту, состоит в «изнашивании слов», корни же письма, напротив, уходят во внеязыковую почву, и в этом смысле письмо антикоммуникативно. В любом письме можно обнаружить двойственность, продолжает Барт, свойственную ему как особому объекту, который одновременно является языкового выражения и формой принуждения (в случае политического письма - Т.В.): в глубине письма всегда залегает некий «фактор», чуждый языку как таковому, откуда устремлен взгляд на некую внеязыковую цель.298 Для деконструктивизма не столько важно доказать, установить или подтвердить, сколько подвергнуть сомнению, преодолеть или раскрыть неявное противоречие. Предмет деконструкции - не только конкретный литературный или философский текст, но вся западная концепция рациональности и лежащих в ее основании представлений о науке, языке и здравом смысле. Главной мишенью деконструкции являются дистинкции между истиной и вымыслом, действительностью и видимостью, и целью является демонстрация условного характера этой дистинкции. В итоге появляются хорошо известные заключения, что литературу нельзя отличить от философии, метафору от истины, правду от вымысла и т.д. Однако, когда популяризаторы деконструкции начинают приводить примеры, то они, мягко говоря, не очень убеждают: маргинальное есть на самом деле центральное, буквальное есть метафорическое, истина есть род 295 Серль Дж. Р. Перевернутое слово// Вопросы философии. - 1992. - №4. - С.59. 296 Деррида Ж. Хора// Деррида. Эссе об имени. - СПб, 1998. 297 См.: Серль Дж. Р. Перевернутое слово. - С.63-65; Rorty R. Is Derrida a transcendental philosopher?// Essays on Heidegger and other. - Cambridge, 1991. - P.119 - 128; Norris C. Limited Think: how not to read Derrida// What’s wrong with postmodernism. - New York, London, 1990. - P. 134-163. 298 Барт Р. Нулевая степень письма// Семиотика. - М., 1983. - С.315. 99 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках вымысла, понимание есть форма недоразумения, психическое здоровье есть своего рода невроз, мужчина есть разновидность женщины и т.д.299 Дж. Серль считает главным пороком Деррида даже не интеллектуальную слабость и неубедительность его деконструкции, а ту веру в необходимость метафизических оснований (оснований знания, морали, искусства и т.д.), которую Деррида разделяет с той традицией, которую он стремится деконструировать. «Деррида правильно замечает, что таких оснований нет, но затем он допускает ошибку, характеризующую его как классического метафизика, - пишет Серль. - Ошибка классического метафизика состояла ведь не в его вере в некие метафизические основания, а в том, что он верил, что такие основания необходимы, а если их не окажется, то нечто будет потеряно, или подорвано, или поставлено под сомнение».300 Поскольку Деррида фактически отождествляет всю европейскую культурную традицию, то он оказывается бессилен выйти за рамки ее языка и ее принципов. 4.4. Проблема автора в контексте критической герменевтики 4.4.1. «Смерть автора»: анализ первоисточников Прошло более тридцати лет с тех пор, как Р.Барт и М.Фуко объявили о смерти автора. Шокирующая фраза была быстро подхвачена литературной и критической публикой, всеми пишущими и читающими. Эта парадоксальная формулировка «смерть автора» - уступает по популярности и частоте цитирования разве что ницшевской - «Бог умер». Однако, как это часто бывает в гуманитарных науках, констатацию факта о смерти автора сочли очередным постмодернистским откровением, перепутали с другим, постмодернистским же, но имеющим совершенно другой смысл, утверждением о смерти субъекта и не сделали никаких выводов – ни для теории и философии литературы, ни для литературной критики, ни для методологии гуманитарных наук. Я считаю возврат к этой знакомо-незнакомой теме своевременным и очень актуальным. Проблема автора является сегодня одной из интереснейших - и не только для литературоведения, но и для всех гуманитарных наук, имеющих дело с текстом. Вопрос об авторстве состоит не только в различных видах, разновидностях и формах авторства, которыми так богата современная литература, не только в разнообразных способах повествовательной идентичности. Парадокс проблемы автора состоит в том, что автор-человек, эмпирический, живой автор в произведении не присутствует, присутствует «образ автора» либо «авторская маска», которые имеют своего автора, но все герменевтические усилия - от Шлейермахера до Рикера - были направлены на автора-человека, то есть того автора, которого в тексте, строго говоря, нет. Другой аспект этой проблемы - антропологический, связанный со способами выражения и самовыражения человека средствами письма, с теми сложными отношениями, которые возникают между человеком и текстом. То есть, в конечном счете, проблема автора это проблема человека в одном из его социокультурных измерений. И, наконец, третий аспект проблемы автора связан с философской проблемой идентичности, но связь эта неочевидна и требует дальнейшего рассмотрения и обоснования. Для начала вернусь к первоисточникам – коротенькой статье Р.Барта «Смерть автора», написанной в 1968 году и более пространной и глубокой работе М.Фуко «Что такое автор?» - его выступлению на заседании Французского философского общества 22 февраля 1969 года в Коллеж де Франс. Необходимо проанализировать весь круг 299 См.: Серль Дж. Р. Перевернутое слово. - С.65. 300 Серль Дж. Р. Перевернутое слово. - С. 66. 100 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках проблем, намеченных в этих пионерских работах, тем более, что сейчас это сделать проще, чем тридцать лет назад. Истекшее время трудно назвать «большим временем», но оно обеспечило необходимый культурный контекст, в котором рассматриваемые вопросы могут черпать дополнительные «за» и «против». На первый взгляд кажется, что проблема автора обязана своим возникновением художественной литературе постмодернизма, в которой разрывы идентификации Ясубъекта стал не только излюбленным эстетическим приемом, но и своеобразным автотематизмом, вокруг которого строится повествование. В действительности же трудность обнаружения субъекта повествования в равной мере свойственна и литературе классической. Р.Барт приводит для иллюстрации этого положения цитату из новеллы Бальзака «Сарразин», где говорится о переодетом женщиной кастрате: «То была истинная женщина, со всеми ее внезапными страхами, необъяснимыми причудами, инстинктивными тревогами, беспричинными дерзостями, задорными выходками и пленительной тонкостью чувств». Кто говорит это? Кто может так говорить? Эту фразу не говорит никто, но по мнению Барта, она может быть приписана по крайней мере четырем субъектам: Бальзаку-человеку, рассуждающему о женщине на основании своего личного опыта, Бальзаку-писателю, исповедывающему «литературные» представления о женской натуре, некой общечеловеческой мудрости, кристаллизовавшей именно такие черты «истинной» женщины либо романтической психологии (в духе Стендаля или Жорж Санд). Мы никогда не узнаем, кому именно принадлежит этот обобщенный портрет, ибо, по мысли Барта, понятие об источнике высказывания уничтожается в письме. «Письмо - та область неопределенности, неоднородности и уклончивости, где теряются следы нашей субъективности, чернобелый лабиринт, где исчезает всякая самотождественность, и в первую очередь телесная самотождественность пишущего», - так очерчивает Барт наиболее общий горизонт проблемы автора.301 Утверждение чрезвычайно сильное. По Барту получается, что письмо разрушает идентичность пишущего и формула «Я есть Я» перестает работать. Cегодня достаточно много говорится о том, что идентичность человека теснейшим образом связана с языком (а, следовательно, и с письмом). О связи языка и идентичности, но в смысле, противоположном бартовскому, пишут американские психологи Б.Слугоский и Дж.Гинзбург. Они считают язык средством обоснования идентичности в противовес широко известной «психосоциальной идентичности» Э.Эриксона, которая переживается как «чувство непрерывной самотождественности».302 Слугоский и Гинзбург выступают против чисто психического, внутреннего обоснования персональной идентичности, считая, что язык, будучи средством социального и межличностного общения, укоренен в социокультурной реальности и ценностях общества. С точки зрения американских психологов, присущее человеку чуство «собственного континуитета» основывается исключительно на «континуитете», порождаемом самим субъектом в процессе «самоповествования». Стабильность этого автонарратива поддерживается стабильностью системы социальных связей индивида и общества, к которому он принадлежит.303 Но меня в данном разделе интересует не абстрактная идентичность субъекта повествования, а идентичность субъекта как автора. Начало проблемы автора следует, по моему мнению, искать не в постмодернизме, а в начале письменной традиции, когда письмо отделилось от устного слова и стало жить своей самостоятельной жизнью, то есть в начале Литературы. Герменевтика 301 Барт Р. Смерть автора// Барт Р. Избранные работы. - М.,1989. - С.384. 302 Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. - М., 199 303 См.: Ильин И.П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. М.,1998. - С.96-97. 101 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках получает свое подлинное значение именно тогда, когда начинает работать с письменным преданием. Неслучайно, что главный предмет экзегезы - Писание и Предание - имели письменную форму. А всякое предание, «пере-данное в письменной форме современно любой современности»,304 и требует поэтому понимания и интерпретации. Современное понимающее сознание имеет свободный доступ к тому, что ему пере-дано письменно, пишет Гадамер, оно получает возможность расширения и перемещения своих горизонтов и тем самым возможность обогатить свой собственный мир, углубив его на целое измерение. Отношения к письменной традиции в принципе герменевтично и диалогично, в то время как отношение к устной традиции не-ответно. Это хорошо просматривается на примере современного изучении фольклора и этнографии, где живыми оказываются их носители и хранители, а значит, и интерпретаторы. В письме, литературе слово приобретает идеальность и следовательно, становится открытым. Фольклор - это осколочек прошлого, он говорит о многом памяти, традиции и «душе народа», но он не нуждается для своего существования в рефлексивном понимании, в том своеобразном сосуществовании прошлого и настоящего, которое всегда питало герменевтику. Существуя в настоящем, фольклор как бы выключен из настоящего. Письменность, в отличие от культуры устного слова, предполагает самоотчуждение, и поэтому «лишь письменное предание способно отделить себя от простого бытия остатков исчезнувшей жизни, позволяющих человеческому бытию строить догадки о себе самом».305 Отсюда и вытекает та особая роль «письма» для культуры, о которой пишут многие современные философы, в особенности Ж.Деррида, для которого «письмо» служит краеугольным камнем мировидения. Для устной традиции проблема автора не только невозможна «по определению», но и несущественна, даже там, где мы можем говорить о предполагаемом авторстве. Что изменится в нашем понимании «Илиады», если вдруг будет обнаружено, что ее написал не Гомер, а другой автор, или много разных авторов? Более того, в культурной традиции, отличной от греческой, установление авторства только помешало бы и десакрализовало то божественное начало, которое явилось источником Вед или «Эпоса о Гильгамеше». Не знала автора не только древняя традиция, но и более близкая к нам средневековая культура. Автор как культурный феномен появляется вместе с утверждением либерализма, рационализма и достоинства человеческой личности. Поэтому Р.Барт имеет все основания сказать, что «фигура автора принадлежит Новому времени». Эта фигура становится центральной в средостении того образа литературы, который утверждается в европейской культуре. С этого времени внимание критика и историка сосредоточивается на фигуре автора в гораздо большей степени, чем на произведении, им созданном. Истолкование произведения ищут в создавшем его человеке, в его вкусах и страстях. Вполне оправдана ирония Барта по поводу критики, которая и по сей день видит все творчество Бодлера - в его житейской несостоятельности, все творчество Ван Гога - в его душевной болезни, все творчество Чайковского - в его пороке.306 Двадцатый век значительно расширил список авторов, биографии которых небезупречны с точки зрения традиционной морали, но это не приближает нас к пониманию сущности их произведений. Явно или неявно критика нового времени допускает, что именно автор - хранитель Главного Смысла, а все произведение является заложником авторских интенций. Герменевтика ХIX стремилась сделать эти интенции прозрачными. Лозунг Дильтея, который он разделял со Шлейермахером - «понимать 304 Гадамер Х.-Г. Истина и метод. - С.453. 305 Гадамер Х.-Г. Истина и метод. - С.455. 306 Барт Р. Смерть автора. - С.385. 102 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках автора лучше, чем он себя понимал» - свидетельствует не только об определенной претензии, но об идеале, пути и горизонте всякого герменевтического исследования. Биография автора, его дневники, письма, интервью на протяжении двух последних столетий находятся в фокусе неусыпного внимания историка и критика и часто оказываются решающими аргументами в споре и «конфликте интерпретаций». Каждая новая страница жизни автора, неизвестный штрих биографии рассматриваются как ключи к осмыслению и пониманию его произведений. Внимание к автору являлось и все еще является столь пристальным потому, что объяснение произведения ищут в создавшем его человеке. Начиная с конца прошлого века абсолютное всевластие автора оказывается поколебленным. Задолго до Фуко и Барта, модернист Малларме заявлял, что говорит не автор, а язык как таковой, а само письмо является изначально обезличенной деятельностью. Это означает то самоотчуждение в процессе письма, о котором пишет Гадамер, то внимание к жизни языка как «дома бытия», о котором писал Хайдеггер. По сути в модернизме, задолго до современных семиотических теорий, произошло переключение внимания с языка-как-инструмента на язык-как-предмет, с письма как дублирования устной речи на письмо как самостоятельную и не вполне «прозрачную» деятельность. Эта обезличенность не равносильна обезличенности метода писателяреалиста, цель которого состоит в правдивом отражении объективного и «общего для всех мира». Для писателя-реалиста язык продолжал оставаться средством и инструментом для изображения чего-то гораздо более значимого - человека и его жизни. Вслед за Малларме «подверг сомнению» автора Поль Валери, подчеркивая «нечаянный» и «непреднамеренный» характер его деятельности и не уставая повторять, что суть литературы - в слове, а не в душевной жизни писателя. Поэзия, по мысли Валери, относится к такому древнейшему состоянию человечества, которое предшествует и письму и критическому мышлению. Тайна сущего выражается в ней не через «тайну» автора, а через тайну языка. Действенность слова не тождественна его понятности. В статье, посвященной Стефану Малларме, Поль Валери писал: «То, что люди поют или изрекают в самые торжественные и в самые роковые минуты жизни; то. что они шепчут и стонут в порывах страсти; то, что утешает ребенка и несчастного; то, что свидетельствует о правдивости клятвы, - все это слова, которые невозможно выразить в четких понятиях, ни оторвать от определенного тона и строя, не делая их тем самым бессмысленными либо тщетными. Во всех этих словах акцент и звучание голоса важнее их смысловой внятности: они взывают скорее к нашей жизни, нежели к нашему рассудку»307.Слова эти, полагает Валери, понуждают изменяться в большей степени, чем понуждают понимать. Эту «непреднамеренность» слова хорошо описана другим француским поэтом - Полем Верленом. В его стихотворении «Искусство поэзии» целью искусства объявляется не то, что сказано по законом риторики, а то, что нечаянно сказалось, «выболталось», где точность «точно под хмельком». Показателен финал этого стихотворения: Так музыки же вновь и вновь! Пускай в твоем стихе с разгону Блеснут в дали преображенной Другое небо и любовь. Пускай он выболтает сдуру 307 Валери П. Я говорил порой Стефану Малларме...// Валери П. Об искусстве. - М.,1993. - С.370. 307 Французские стихи в переводе русских поэтов Х1Х -ХХ вв. - М.,1975. 103 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках Все, что впотьмах, чудотворя Наворожит ему заря... Все прочее – литература. (Перевод Б.Пастернака)То, что у Верлена манифестируется достаточно ясно, у Малларме является движущим принципом творчества, которое, казалось, никогда не ставило себе целью быть понятным и было обречено, говоря современными терминами, на коммуникативный провал. «Малларме познал язык так, как если бы сам его создал, отмечает Валери. - Он, писатель весьма темного склада, так глубоко познал это орудие понимания, что на место авторских влечений и помыслов, наивных и всегда личностных (выделено мною - Т.В.), поставил необычайное притязание уразуметь всю систему речевых выразительных средств».308 Другими словами, Малларме пытался создать собственный поэтический язык, настолько оторвавшийся от естественного языка общения, что проникнуть в этот продуманный, «кристаллографический» мир могли только немногие посвященные. Но начало было положено – сам язык, в своей темной и бездонной глубине, начал приобретать право голоса. Типичным примером современного письма Р.Барт считает роман М.Пруста «В поисках утраченного времени». «Он совершил коренной переворот: вместо того, чтобы описать в романе свою жизнь, как это часто говорят, он самую свою жизнь сделал литературным произведением по образцу своей книги...», - замечает Р.Барт. Если применить семиотическую терминологию, то это значит, что означающее и означаемое поменялись местами: означаемое, жизнь, стала означающим, а письмо, литература - означаемым. Автор, рассказчик и герой у Пруста не являются жестко маркированными персонами, а как бы сосуществуют в весьма неопределенном и диффузном расщеплении. Между автором и его героем Марселем не существует отношения генетического порождения в том смысле, в каком герой - это плод авторского вымысла. Связь между ними взаимная и двунаправленная. Герой Марсель так же зависит от своего автора, как автор зависит от того, что ему удается обнаружить в своем герое. Но не так, как это бывало в реалистической прозе, когда герои начинали жить своей собственной жизнью, подчиняясь своей собственной логике развития (Татьяна у Пушкина, Анна Каренина у Толстого). Марсель у Пруста - это орудие самопознания и самореализации, способ самостановления и самоутверждения, хотя у внимательного читателя и добросовестного критика язык не повернется назвать этот образ автобиографическим. Собственно проблема, которая метафорически названа Бартом «смертью автора» и означает эту невозможность строго отграничить реального, эмпирического автора от всех тех Эго его произведений, которые авторами не являются. Автор как бы лишается своего места, твердого основания, критериев выделения и, тем самым десакрализуется, то есть утрачивает священное право быть диктатором всех тех смыслов, которые обнаруживаются или могут быть обнаружены в его произведении. Современная лингвистика внесла свой вклад в дело десакрализации образа Автора. Результатом ее развития стал следующий тезис: каждый акт высказывания должен рассматриваться как практика, преобразующая и обновляющая значение (семантику); значение и субъект одновременно производятся в акте дискурса, в динамике текста.309 Современная семиотика, хотя она не является ни теорией познания ни теорией искусства, имеет одно твердое логическое основание, главную пресуппозицию: существование Эго говорящего субъекта предопределено самим актом говорения.310 Язык знает 308 Валери П. Я говорил порой Стефану Малларме... - С.379. 309 Степанов Ю.С. Вступительная статья// Семиотика. - М.,1983. - С.34. 310 Степанов Ю.С. Ук. Соч. - С.35. 104 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках «субъекта», но не «личность», и этого субъекта, определяемого внутри речевого акта и ничего не содержащего вне его, хватает, что исчерпать все возможности языка.311 Факт удаления или «очуждения» автора существенно изменяет весь современный текст, весь «порядок дискурса». Иной становится временная перспектива. Если в традиционной литературной парадигме автор и произведение мыслились как существующие в линейной временной последовательности «до» и «после» (автор предсуществует произведению, вынашивает и, наконец, рождает его), то современный писатель (Барт называет его скриптором) рождается одновременно с текстом, он не является тем субъектом, по отношению к которому его книга была бы предикатом. Почти как в мифе, каждый текст пишется здесь и сейчас, он знает только вечное настоящее. Барт торопится провести здесь аналогию между процессом письма и перформативным высказыванием, которое не заключает иного содержания, кроме самого акта высказывания («Сим объявляю вас мужем и женой»). Аналогия с перформативом представляется нам в данном контексте сомнительной. Перформативы - особый тип высказывания, имеющие место в сравнительно узкой сфере речевой деятельности (судебная практика, ритуальное чтение клятвы, инаугурационная речь и т.п.) и предполагающие вполне определенную систему конвенций.312 Изменение функции или образа автора не означают ни конца литературы, ни конца света. Однако Барт настаивает на глобальных переменах, произошедших в современной культуре. «Скриптор, пришедший на смену Автору, - пишет он, - несет в себе не страсти, настроения, чувства или впечатления, а только такой необъятный словарь, из которого он черпает свое письмо, не знающее остановки; жизнь лишь подражает книге, а книга сама соткана из знаков, сама подражает чему-то уже забытому, и так до бесконечности».313 Бартовский скриптор смахивает, правда, больше на графомана, чем на художника. Увлекшись своей метафорой, Барт доводит ее до реализации, и глубокая проблема автора превращается в апологию псевдолитературы эпохи всеобщей грамотности. Необъятный словарь у всех под рукой, ремесло скриптора освоили многие, но почему-то автором быть так же нелегко, как и во времена Гомера. Действительная проблема состоит не в том, что на место чувств и страстей пришел необъятный словарь, а в том, что с устранением автора любые герменевтические усилия становятся проблематичными, если не сказать тщетными. «Присвоить тексту Автора – это значит как бы застопорить текст, наделить его окончательным значением, замкнуть письмо», - пишет Р.Барт. В замкнутом пространстве любая интерпретативная и критическая деятельность чувствует себя довольно комфортно и уверенно. Действительно, там, где связка «автор - произведение» существует в своей монолитной цельности, критическая мысль плавно движется от автора к произведению и обратно, деловито отмечая достоинства и недостатки произведения и «снимая» слой за слоем смысловые пласты содержания. «Смерть автора» (его «очуждение», удаление, трансформация) - это не просто очередной эстетический прием или новомодный формальный эффект. До основания меняется вся рецептивная и герменевтическая деятельность, связанная с литературой. Меняется литературно-критическая парадигма и вся система ролевых функций. Как необходимо правильно читать, тем более, если «удовольствие от текста» представляется весьма сомнительным? К кому или к чему должен апеллировать критик? Как быть с традицией и инновацией в ситуациии, когда «автор умер» и т.п.? 311 Барт Р. Смерть автора. - С.387. 312 См.: Austin J.L. How to do things with words. - Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1994. - Lecture III. 313 Барт Р. Смерть автора. - С.389. 105 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках Как выглядят читатель, автор и критик в современной литературной ситуации? Современный автор, вместо того, чтобы простосердечно вступать в диалог с читателем, так сказать от сердца к сердцу, путает его, мистифицирует, играет с ним и напускает порой такого трансцендентного тумана, что говорить о старой доброй герменевтической эмпатии просто не приходится. По удачному выражению Р.Барта, в многомерном письме современной литературы «все приходится распутывать, а расшифровывать нечего». Читатель вынужден формировать в процессе чтения свой собственный образ автора (Умберто Эко назвал его Author on the Threshold пограничный, пороговый автор), который имеет очень мало общего с реальным эмпирическим автором. Но забавнее всего в новой литературной ситуации выглядит позиция критика, принципы профессиональной деятельности которого сложились в рамках старой парадигмы – формировать вкусы читающей публики, выносить вердикты, формулировать оценки. В новой ситуации критик чаще всего продолжает старую традицию - ищет классического, целостного, серьезного, правдивого и правильного автора. Он не хочет и не может принять множественность и неопределенность образа автора как свершившийся факт литературной эволюции. Отсутствие самотождественности воспринимается не менее болезненно, чем самый скандальный сюрреалистический трюк. Критик не в состоянии осмыслить многоликость автора адекватно, а тем более вывести из нее необходимые эстетические и философские следствия. Особенно сложно критику с авторами модернистской и постмодернистской ориентации, которые не укладываются в прокрустово ложе традиционных литературных представлений .314 Но если «автор умер», кто является гарантом целостности произведения? Читатель – вот то пространство, где, по мнению Барта, запечатлеваются все до единой 314 Приведем наглядный пример такой некритической критики. В солидном литературоведческом журнале читаем: «Центральный вопрос, который необходимо уяснить каждому пишущему о Набокове, заключается в следующем: относится ли писатель всерьез к лицам и ситуациям, ставшим предметом его изображения, или же все то, что выходило из-под его пера, было не более чем словесно-образной забавой, эманацией изощренного, но вместе с тем досужего и пресыщенного воображения?» Другими словами, имеют ли ценность для Набокова первичные реальности человеческого существования: супружеская и родительская любовь, упоение творчеством, стремление к обновлению мира, страдание как следствие страха чаяний и упований? Критик со стажем Н.Анастасьев, опираясь на анализ романа «Отчаяние», утверждает, что нет, не имеют. Другой критик Ф.Мулярчик возражает, что таково мнение не автора, а его героев и предлагает: «Если отделить писателя от вроде бы тесно с ним сросшихся Германа Карловича («Отчаяние»), Смурова («Соглядатай») Гумберта Гумберта («Лолита»), - а эту операцию необходимо совершить в целях достоверности критических суждений, - то нашему взору, преодолевающему пелену словесных ужимок и оговорок, откроется Набоков-моралист, добропорядочный и благомыслящий джентльмен, достойный наследник этических заветов как чеховской России, так и викторианской Англии». Столь пространную цитату я привела как нагляднейший пример уродливой асимметрии литературы периода «смерти автора» и критики периода «автор - произведение». Набоков, самый многоликий из всех когда-либо существовавших писателей, автор, произведения которого могут составить внушительную хрестоматию к теоретическому постулату о «смерти автора» («Соглядатай», «Отчаяние», «Дар», «Пнин», «Истинная жизнь Себастьяна Найта», «Ада» и др.), сталкивается с критическим усилием редуцировать его до чего-то одномерного и однозначного (хорошего или плохого, не столь важно). Критика бессознательно воспроизводит классическую схему: с одной стороны - хороший автор, с другой - герои : хорошие и разные. И между ними - стена. И дело вовсе не в том, что «достойного наследника этических заветов» из писателя Набокова не получается. Критиков раздражает одно - невозможность понять, как сам автор относится к тому, что он изображает. Традиционное критическое пространство не способно адаптироваться к ситуации многоликости и многофункциональности автора. 106 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках цитаты и сходятся воедино все штрихи, из которых слагается письмо. Текст обретает единство не в происхождении, а в предназначении, в его адресованности читателю. Рождение читателя оплачивается смертью автора, так заключает свою статью Барт. Воодушевление студенческой революции конца 60-х, на гребне которой эта статья появилась, давно улеглось. Утихли споры о «революции поэтического языка». Полемический пыл и резкость бартовских формулировок больше не находят отклика в нейтральном свете современности. И если учесть эту поправку на исторический контекст, если пренебречь крайностями, следует признать, что в целом проблема автора, поднятая Бартом, является реальной проблемой, исподволь созревавшей в недрах литературы и культуры и ничуть не потерявшей своей актуальности по сей день. Этп проблема находится как бы на границе двух парадигм: старой, где в основании лежит единство «автор - произведение», и новой, постмодернистской, основание которой еще нужно обозначить. Работа М.Фуко «Что такое автор?» написана по следам и словно «вдогонку» бартовской статье, содержит скрытую полемику с ним. Но, оставляя в стороне все полемические крайности и эмоциональной перегибы Барта, меняя угол зрения, Фуко как бы заново вписывает и «переописывает» проблему автора в историю человеческой культуры. Теряется легкость и изящность стиля, но появляется глубина и добротность аргументации. Проблема автора, по мысли Фуко, возникает не только в истории литературы, но и в истории науки, истории философии, везде, где перед нами разворачивается история идей. Фуко не касается историко-социологического понятия «автор». Он пытается поновому взглянуть на единство автора и произведения, единство, которое считается первичным и наиболее фундаментальным в гуманитарном знании. Французский философ делает вроде бы невинную операцию – рассматривает это единство с конца, с другой стороны, то есть идет не от автора к тексту, а от текста к фигуре автора. «...Я хотел бы рассмотреть только отношение текста к автору, пишет он, - тот способ, которым текст намечает курс к этой фигуре - фигуре, которая по отношению к нему является внешней и предшествующей, по крайней мере с виду».315 Т.е. Фуко отталкивается от письма, пытаясь как можно более глубоко и детально специфицировать это понятие, соблюдая при этом этическую нейтральность и эстетическую незаинтересованность в источнике этого письма, субъекте, авторе. «Какая разница кот говорит, какая разница кто говорит», - эта цитата из Беккета в значительной мере обусловливает собственный принцип анализа французского философа. Эта позиция не может не шокировать. Но разве не стала она реальностью давным-давно, и разве де достигла она пика в современной поп-культуре, мало озабоченной фигурой автора? «Письмо» у Фуко не является ни жестом физического письма ни обозначением (кто-то выражает какую-то мысль посредством акта письма). Понятие письма вводится Фуко для того, чтобы «мыслить условие существования любого текста».316 Письмо сегодня, утверждает Фуко, освободилось от темы выражения и отсылает лишь к себе самому. «Это означает, - пишет далее автор, - что письмо есть игра знаков, упорядоченная не только своим означаемым содержанием, сколько самой природой означающего...». То есть понятие письма, которое очерчивает Фуко, абсолютно идентично понятию письма у Дерриды и других представителей постструктурализма. 315 Фуко М. Что такое автор?// Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. - М.,1996. - С.12-13. 316 Фуко М. Что такое автор? - С.17. 107 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках Но если письмо – это игра, если оно разворачивается и осуществляется как игра означающих, то куда девать автора, того, кто является режиссером этой игры, кто раздает, по выражению М.М.Бахтина, все голоса другим? По мысли Фуко, проблема и состоит «в открытии некоторого пространства, в котором автор не перестает исчезать».317 Но разве это не все пространство произведения? С точки зрения здравого смысла, автор «не перестает исчезать» в границах своего произведения. Но из чего складывается пространство произведение? Из единиц языка, которые не изобретаются автором, а находятся готовыми. Из цитат, отсылающих к тысячам культурных источников, из множества разных типов письма, которые вступают друг с другом в отношения спора, пародии, иронической интерпретации, комментария, из тысяч реминисценций и аллюзий, скрытых или явных ссылок и намеков. Если бы имелась в виду только классическая литература, то мы возразили бы Фуко, что невзирая на разные типы письма, автор ответствен за целостность произведения, за единство стиля, за неустранимое личностное начало, пафос, в конце концов. Но если в качестве примера брать не Флобера или Толстого, а такого «классика мировой литературы», как Владимир Набоков, то возразить Фуко будет нечего Но это одна сторона проблемы. Другая звучит более неожиданно. Это родственность письма и смерти, на которой делает акцент Фуко. Если в греческом мифе герой умирал молодым, то жизнь его, прославленная подвигом и смертью, переходит в сказание, а значит – в бессмертие. Сказание – это выкуп за принятую смерть. Фуко приводит пример «Тысячи и одной ночи», где сказки Шахерезады – «...отчаянная изнанка убийства, это усилие всех этих ночей удержать смерть вне круга существования». Эту тему письма, рожденного, чтобы заклясть смерть, современная культура изменила и преобразовала. «Письмо теперь – это добровольное стирание, которое и не должно быть представлено в книгах, поскольку оно совершается в самом существовании писателя», - пишет Фуко.318 Письмо может прославить и даровать бессмертие, но может получить право убить своего автора. Фуко по сути материализует метафору Барта, вкладывая в нее буквальный смысл. Пример Пруста здесь опять как нельзя более кстати. Ведь роман Пруста - это ни в коей мере не автобиография и не психологическая «история души». Но это и не классический «роман вымысла», как это прекрасно показали В.Вейдле и М.Мамардашвили. Связь физического, эмпирического автора и его alter ego - героя Марселя - оказалась неизмеримо более сложной. Растворяя себя в герое, автор не то обретает себя, не то окончательно утрачивает. Так же, как герой Марсель по сюжету смог начать писать только тогда, когда действительный роман был закончен, так и жизнь самого Пруста подошла к концу, как только был написан последний том и стал виден конец эпопеи. Но даже если и не соглашаться с излишней категоричностью Фуко, что теперь автор «исполняет роль мертвого в игре письма», то нельзя не видеть очевидного, что иллюстрирует вся современная литература, будем ли мы называть ее постмодернистской или не будем. «Всевозможными уловками, которые пишущий субъект устанавливает между собой и тем, что он пишет, он запутывает все следы, все знаки своей особой индивидуальности; маркер писателя теперь – это не более чем своеобразие его отсутствия; ему следует исполнять роль мертвого в игре письма», -- именно эту особенность современного письма Фуко называет «смертью автора».319 Причина этого явления – не только в очередной эстетической инновации. Ведь прием всегда инструментален и имеет целью содержание, если пользоваться категориями гегелевской эстетики, говорящей о форме и содержании. Очевидно, что 317 Там же. - С.14. 318 Там же. 319 Фуко М. Указ. соч. - С.14-15. 108 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках нельзя усматривать причину авторского самоустранения ни в странностях нынешних авторав, ни в требованиях новой литературной моды. Наиболее простое объяснение этого явления связано с тем, что по мере осуществлением акта письма автономность приобретает не только текст, который начинает жить своей самостоятельной жизнью, но и «образ автора». В рассказе Борхеса «Борхес и я» эта дуальность реального человека и его литературного образа, живущего отдельно от него, описана очень убедительно. «Не стоит сгущать краски: мы не враги - я живу, остаюсь в живых, чтобы Борхес мог сочинять свою литературу и доказывать ею мое существование. Охотно признаю, какие-то страницы ему удались, но и эти страницы меня не спасут, ведь лучшим в них он не обязан ни себе, ни другим, а только языку и традиции».320 Если фундаментальным единством предшествующей парадигмы гуманитарного мышления было единство «автор - произведение» и если вдруг элемент «автор» оказался сомнительным и само-фальсифицируемым, то внимание критической мысли должно переместиться на другой элемент -- «произведение». Это и пытался осуществить структурализм – анализировать произведение в его структуре, в его архитектуре, в присущей ему форме и в игре его внутренних отношений. Но возникает вопрос – что такое произведение? Разве это не есть то, что написал автор? Но все ли то, что после себя оставил написанным автор может входить в состав его сочинений и иметь статус «произведения»? Если среди черновиком и набросков находят справку, счет из прачечной или записку о свидании – куда отнести эти жанры письма? Где основание выделения произведения или критерий отделения его от не-произведения? Данные вопросы отнюдь не так риторичны, как это кажется на первый взгляд. Можно ли считать, что «Строматы» Климента Александрийского или «Жизнеописания» Диогена Лаэртского – это одно произведение? Или статус произведения им был придан позднейшими переписчиками и издателями? Теории произведения, которая смогла бы ответить на эти вопросы, не существует, констатирует Фуко.321 И здесь с ним трудно не согласиться, ибо понятие произведения долгое время считалось интуитивно ясным и простым. Произведение держалось единством и идентичностью автора, а когда эта идентичность перестала быть самотождественной, понятие произведения оказалось лишенным надежных атрибутов. Конечно, «Война и мир» или «Божественная комедия», не перестают от этого быть произведениями. Но само слово «произведение», единство и целостность, которое оно всегда обозначало, стало вдруг проблематичным. Понятие письма, на котором настаивает постструктуралистская мысль, является попыткой снять проблематичность и возникшую двусмысленность слова «произведение». Если письмо есть условие существование любого текста, условие пространства, где этот текст распространяется и времени, где он разворачивается, то не является ли оно только транспозицией эмпирических характеристик автора? Наделить письмо статусом изначального - разве это не есть иной способ высказать теологическое утверждение о его священном (сотворенном) характере и критическое утверждение о его творящем характере? Принимая изначальность письма, мы остаемся в рамках традиционной герменевтической проблематики - признаем принцип сокровенного смысла и соответствующую необходимость интерпретировать (прямая аналогия экзегезы) и одновременно признаем критический принцип имплицитных значений и соответственно необходимость комментировать. Тем самым мы повторяем другими словами известный эстетический принцип продолжения жизни произведения после смерти автора, «его сохранения по ту сторону смерти и его загадочной избыточности по отношению к автору».322 Т.е. мы продолжаем осмысливать 320 Борхес Х.Л. Проза разных лет. - М., 1989. - С.233-234. 321 Фуко М. Что такое автор? - С.16. 322 Фуко М. Что такое автор? - С.18. 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках 109 проблемы современной эстетики и современного дискурса в рамках историкогерменевтической традиции ХІХ века. По мнению Фуко, и он тут полемизирует с Бартом, такое употребление понятия «письмо» вместо понятия «произведение» «заключает в себе риск сохранить привилегии автора под защитой a priori».323 Само событие исчезновения автора, событие, которое начиная с Малларме без конца длится, до сих пор не имеет концептуальных средств для своего адекватного осмысления и описания. Фуко стремится освободиться от трансцедентализма ХІХ века и от религиозно-герменевтической традиции понимания произведения как вечно творимого. То есть его позиция откровенно антигерменевтична. Задача, которую ставит перед собой Фуко, кажется, на первый взгляд, чрезвычайно отвлеченной: «То, что действительно следовало бы сделать, так это определить пространство, которое вследствие исчезновения автора оказалось пустым, окинуть взглядом распределение лакун и разломов, выследить те свободные места и функции, которые этим исчезновением обнаруживаются». Однако последующий анализ сосредоточивается на очень конкретных и даже вроде бы мелких проблемах. Например, как функционирует имя автора в качестве имени собственного? Имя автора как имя собственное не только указывает и не только означает. Имя «Аристотель» в качестве имени собственного является эквивалентным дескрипциям типа «автор Аналитик», «основатель онтологии», и т.д. То есть имя собственное является синонимичным данным дескрипциям. Но если обнаружится, что Гомер не писал «Илиады» или Рембо «Духовной охоты», то ни имя автора, ни имя собственное не изменят от этого свой смысл. «Имя собственное и имя автора оказываются расположенными где-то между этими двумя полюсами: дескрипции и десигнации; они, несомненно, имеют определенную связь с тем, что они называют, полагает Фуко, - но связь специфическую: ни целиком по типу дескрипции, ни целиком по типу десигнации».324 Трудности, которые обнаруживает Фуко в связи с именем автора, касаются отсутствия изоморфности имени собственного и именуемого индивида и имени автор с тем, что оно именует. То есть отношения: «Аристотель - историческая личность» знак (имя) денотат «Аристотель - автор «Аналитик»» (имя) имя не являются тождественными. Имя автора не есть такое же имя собственное, как все другие грамматические имена собственные. Если мы говорим «Иванова не существует», то это означает, что никто в мире денотатов не носит имени Иванов. Если же мы говорим, что Гомера, Гермеса Трисмегиста или Шекспира не существует, то это означает, что несколько авторов были объединены под одним именем или что подлинный автор не обладает ни одной из черт, традиционно приписываемым таким персонам, как Гомер или Гермес Трисмегист. Имя автора, в отличие от грамматического имени собственного, обеспечивает по отношению к дискурсу функцию классификации, в том числе приведение текстов в определенные отношения между собой. (Гермеса Трисмегистра не существовало, но то, 323 Там же. 324 Там же. - С.19. 110 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках что ряд текстов поставлен под одно имя означает, что между ними установлено отношение гомогенности, преемственности, взаимного разъяснения и т.д.). Кроме того, имя автора характеризует определенный способ бытия дискурса. В отличие от обыденной, немедленно потребляемой, мгновенно преходящей речи, речь, имеющая автора (текст, высказывание, афоризм), приобретает в данной культуре определенный статус (яркий пример таких афоризмов с маркированным авторством «Познай самого себя» или «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!»). Имя автора «обнаруживает событие некоторого ансамбля дискурсов и отсылает к статусу этого дискурса внутри некоторого общества или некоторой культуры».325 Автора имеют только определенные дискурсы, имеющие свой особый способ бытия. Частное письмо имеет подписавшегося, но не автора, так же как надпись на стене, листовка, рекламный ролик, анекдот имеют составителя, но не имеют автора. Из всей проблематики, касающейся автора, Фуко вычленяет функциональные особенности авторского текста. Основное внимание в его работе уделено анализу авторства как функции. Какими свойствами должен обладать в нашей культуре дискурс, чтобы иметь функцию «автор»? Фуко выделяет четыре характерных черты таких дискурсов, четыре функции понятия «автор». Во-первых, произведение является объектом присвоения. Этим авторские тексты нового времени отличаются от средневековых или античных текстов, которые функционировали как действия или культурные жесты. В древности сказания и песни аэдов были действиями, то есть своеобразными формами деятельности. «Зачем ты приобрел список Гомера? Ты что, аэдом собираешься стать?». Приобретать текст как ценность, как вещь для чтения было не в обычае той эпохи. Здесь текст - еще не продукт, но атрибут деятельности. Произведения читаются на олимпийских играх, произведениями состязаются, как если бы это была такая же деятельность, как бег или метание копья. И хотя греки имеют список лиц, прославившихся в области пайдейи, интеллектуальный труд и его продукт, пайдейа, еще не имеет особого статуса, не является специализированным. Рыцарские песни, которые могли быть объектами дарения, а значит актами платы, уже приобретают черты вещи, имущества, но функция авторства (авторства письменного, а значит, отчужденного, текста) в них еще очень слаба. Лишь когда в новое время дискурс стал полноценным продуктом, вещью, имуществом, для него был установлен режим собственности. Именно в конце ХVІІІ начале ХIХ века появляются строгие законы об авторском праве, об отношением между автором и издателем, о правах перепечатывания и т.д. Именно в это время могло быть сказано: «Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать». Тексты включаются в круговорот собственности. Письмо и писательство становится действием, сопряженным с риском, или, как говорит Фуко, с опасностью преступания. Хотя наказание за дерзкий стих или позорящую песенку предусматривали уже римские Дигесты, но именно в ХIХ веке эта опасность преступания посредством текста приобретает зловещую систематичность. Новиков и Радищев, Пушкин и Лермонтов, Чернышевский и Достоевский, Сковорода и Шевченко во всей полноте испытали в своем отечестве этот риск и опасность писательского труда. Во-вторых, функция «автор» в наши дни вполне применима лишь к литературным произведениям.326 Именно в художественном творчестве эта функция приобретает все выгоды и невзгоды, присущие собственности. Научные тексты не имеют такой прямой зависимости от маркера «автор». В средние века, наоборот, тексты, касающиеся космологии, медицины или географии принимались и несли ценность истины, только 325 Фуко М. Что такое автор? - С.22. 326 Фуко М. Что такое автор? - С.25. 111 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках если они были маркированы именем автора. «Гиппократ сказал», «Плиний рассказывает», «Аристотель пишет» и т.п. Имена «были индикаторами, которыми маркировались дискурсы, дабы быть принятыми в качестве доказанных».327 Очевидно, это было закономерно в эпоху, когда способы научной верификации не были развиты. Переворачивание произошло с началом научной революции. Становление Науки в ее рациональном и объективном статусе должно было вести к тому, что «научные дискурсы стали приниматься благодаря самим себе, в анонимности установленной или всегда заново доказываемой истины».328 Гарантию научному дискурсу придает его принадлежность систематическому целому объективного и рационального знания, а отнюдь не ссылка на открывшего истину индивида. В науке имя автора используется теперь для того, чтобы дать имя теореме или закону, географическому пространству или патологическому синдрому.329 Напротив, литературные дискурсы могут полноправно функционировать в культуре, только будучи снабжены функцией «автор». Мы покупаем книгу «автора», смысл имени которого является для нас гарантией качества или ценности. Третья характеристика функции «автор» связана со способом реконструкции формы - автор, исходя из самого дискурса и его контекста. «Функция эта, - пишет Фуко, - является результатом сложной операции, которая конструирует некое разумное существо, которое называется автором»330. При этом, по мысли Фуко, изначальное место письма, творчества находится не в индивиде, а является проекцией «некоторой обработки, которой подвергаются тексты: сближений, которые производят, черт, которые устанавливают как существенные, связей преемственности, которые допускают, или исключений, которые практикуют.» 331. То есть мы должны произвести некие операции с текстом, чтобы приблизиться к автору. Способ реконструкции автора зависит от эпохи и типа дискурса. «Философского автора» конструируют не так, как романного, критика не так, как поэта. При этом, чтобы «обнаружить автора в произведении, современная критика использует схемы, весьма близкие к христианской экзегезе, когда последняя хотела доказать ценность текста через святость автора. Когда имеют дело с текстологическим анализом индивидуальной метки автора недостаточно. Святой Иероним в «De viris illustribus» перечисляет следующие критерии идентификации автора: постоянный уровень ценности, поле концептуальной связности, стилистическое единство и единство места - определенного исторического момента, места встречи определенных событий. Те четыре модальности, соответственно которым современная критика приводит в действие функцию «автор» в основном совпадают с четырьмя критериями подлинности по святому Иерониму. Во-первых, форма-автор должна удовлетворять некоторому единству письма, а имеющие место различия должны быть объясняемы с помощью принципов эволюции или возможных влияний. Вовторых, форма-автор должна иметь ключ (хотя бы потенциально) для преодоления противоречий, обнаруживаемых в серии текстов, фундаментальные принципы связывания и распределения несовместимых элементов, то есть принцип теоретической связности. В-третьих, автор - это источник выразительной 327 Фуко М. Указ. соч. - С.24. 328 Что такое автор? - С.24. 329 Фуко отмечает, что в разных областях естественнонаучного знания ссылка на автора играет разную роль. Так, в биологии и медицине, в отличие от математики, ссылка на автора является своеобразным индикатором «надежности», ибо несет информацию о техниках и объектах эксперимента, которые использовались в соответствующую эпоху в определенной лаборатории. 330 Фуко М. Указ соч. - С.25. 331 Там же. - С.25-26. 112 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках целостности, стилистического единства, которое может быть обнаружено во всех более или менее завершенных текстах. И, наконец, в-четвертых, форма автор позволяет объяснить присутствие в произведении определенных исторических событий, различные их трансформации и модификации».332 Четвертая характеристика функции автор обнаруживает себя не через контекстуальный анализ, а через сам анализируемый текст. Фуко исходит из следующего постулата: «Текст всегда в себе самом несет какое-то число знаков, отсылающих к автору».333 Это личные местоимения, спряжения глаголов, наречия времени и места и др. Если текст лишен функции «автор» - письмо, записка, разговорная речь, - эти грамматические средства отсылают к реальному говорящему или пишущему, его пространственным и временным координатам. В литературном дискурсе (романе, лирическом стихотворении) знаки локализации никогда не отсылают ни к писателю, ни к моменту, когда он пишет, ни к самому жесту письма. Они отсылают к alter ego автора рассказчику, герою или некоему недифференцированному посреднику. При этом дистанция между автором и его alter ego может существенно меняться по мере развертывания произведения. Равно неверно искать автора как в направлении реального писателя, так и в направлении фиктивного рассказчика. Функция «автор» осуществляется в самом расщеплении - в разделении и в дистанции, в самоотчуждении «Я».334 Близкую позицию в отношении автора занимал М.М.Бахтин. Образ автора, писал он, это образ особого типа, отличный от других образов произведения, но это образ, который имеет своего автора, создавшего его. Чистый автор как носитель изображающего начала отличается от изображенного, показанного «образа автора», будь то рассказчик в рассказе от первого лица, автобиографический герой или герой лирический.335 Все эти образы измеряются и определяются своим отношением к авторучеловеку, проникают в самую его сердцевину, но все они остаются изображенными образами, имеющими своего автора. Однако эта «сердцевина» живого, реального автора не может стать и никогда не становится образом произведения. И здесь Бахтин, по сути, солидарен и с Р.Бартом и с М. Фуко. Множественность «Я» характерна не только для художественного дискурса, но для любого, наделенного функцией «автор». Например, в предисловии математического трактата «Я» не тождественно тому «Я», которое появляется в форме некоторого «я заключаю» или «я предполагаю». В первом случае - это реальный незаместимый индивид, во втором - любой индивид, который принял ту же систему символов, аксиом и доказательств. Фуко считает, что в научных текстах «можно засечь» и третье Эго, которое говорит о смысле проделанной работы, полученных результатах, встреченных или предполагаемых проблемах. Это Эго располагается в контексте научных дискурсов - тех, которые уже существуют или тех, которые должны появиться - и говорит как представитель этого типа дискурсов. Итак, автор - это поливалентная функция дискурсов. Все сказанное о функции автора можно резюмировать, вслед за Фуко, следующим образом. «...Функция автор связана с юридической институциональной системой, которая обнимает, детерминирует и артикулирует универсум дискурса. Для разных дискурсов в разные времена и для разных форм цивилизаций отправления ее приобретают различный вид и осуществляются различным образом; функция эта определяется не спонтанной 332 Фуко М. Что такое автор? - С.26-27. 333 Там же. - С.28. 334 Там же. - С.29. - 335 М.М.Бахтин. Эстетика словесного творчества. - С.288. 113 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках атрибуцией дискурса его производителю, но серией специфических и сложных операций; она не отсылает просто-напросто к некоему реальному индивиду - она может дать место одновременно многим Эго, многим позициям-субъектам, которые могут быть заняты различными классами индивидов»336. Но автор может быть автором чего-то большего, чем книга или собрание сочинений. В порядке дискурса можно быть автором теории, традиции, дисциплины, внутри которых, в свою очередь, могут разместиться другие книги и другие авторы. Такую позицию автора Фуко называет «транс-дискурсивной». Транс-дискурсивная позиция автора - устойчивый феномен, инвариант культуры. «И Гомер, и Аристотель, и Отцы Церкви сыграли именно такую роль, равно, как и первые математики или те, кто стоял в истоке», - пишет Фуко.337 Но только в ХIХ веке в Европе появились весьма своеобразные типы авторов, которых не спутаешь ни с великими литературными авторами, ни с авторами канонических религиозных текстов, ни с основателями наук. Фуко называет их «основателями дискурсивности». Например, Маркс и Фрейд создали не только новые виды дискурса, то есть тексты, положившие начало новым теориям, но нечто большее: возможность и правило образования других текстов.338 Маркс и Фрейд задали правила, по которым могут создаваться новые дискурсы того же вида. Однако множество этих правил открыто. Поэтому обнаружение нового, ранее неизвестного текста Маркса или Фрейда изменит представления о марксизме или психоанализе. Этот текст будут анализировать, к нему будут возвращаться. И решающее значение для отношения к тексту будет иметь то, что данный текст действительно принадлежит данному автору. Здесь авторство имеет решающее значение. Однако причина этого, как стремится показать Фуко, лежит не в том, что автор как естественная данность и естественная причина текста имеет решающее значение для его понимания и оценки. Ничего естественного и само собой разумеющегося тут нет. Сам факт, что «здесь авторство имеет решающее значение», есть одно из правил тех дискурсов, которые сформировались текстами Маркса или Фрейда и практикой их обсуждения. Особое отношение между текстом и их автором – это черта именно данных дискурсов. В них, например, предполагается постоянное возвращение к текстам основоположников и проверка того, правильно ли и полностью ли они были поняты – проверка «чистоты», идущей от текста основоположников традиции. Для контраста Фуко ссылается на пример дискурса иного типа. Обнаружение нового, ранее неизвестного текста Галилея или Ньютона ничего не изменит в классической механике, несмотря на то, что Галилей и Ньютон являются ее основоположниками. Изменится представление о них, но не о механике. Так что тут мы имеем дело с дискурсом, функционирующим по иным правилам, и значение того, «кто говорит» имеет в нем совершенно другое значение.339 «Когда я говорю о Марксе или Фрейде как «учредителях дискурсивности», то я хочу сказать, что они сделали возможным не только какое-то число аналогий, они сделали возможным - причем в равной мере - и некоторое число различий, - уточняет свою мысль Фуко. - Они открыли пространство для чего-то, отличного от себя и, тем не менее, принадлежащего тому, что они основали».340 Основание дискурсивности основание того же плана, что и основание научности. Но есть и существенное различие. 336 Фуко М. Что такое автор? - С.30. 337 Фуко М. Указ. соч. - С.31. 338 Там же. 339 Сокулер З.А. Мишель Фуко и его концепция «власти-знания» (Предисловие)// Жизнь и власть в работах Мишеля Фуко. - М.,1997. - С.10. 340 Фуко М. Что такое автор? - С.32. 114 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках В случае научности акт, который ее основывает, принадлежит тому же плану, что и ее будущие трансформации, он является частью той совокупности модификаций, которые он делает возможными. То есть, акт основания некоторой научности всегда может быть введен внутрь того механизма трансформаций, которые из него проистекают. В отличие от научности установление дискурсивности «всегда гетерогенно своим последующим трансформациям».341 Распространить некий тип дискурсивности – это значит открыть для нее поле возможностей ее приложения со всеми возможными следствиями. В отличие от основания науки установление дискурсивности не составляет части последующих трансформаций, но остается как бы в стороны от них. Так, в примере с Фрейдом может быть выделено какое-то небольшое число высказываний, за которыми признается ценность основоположения, другие же понятия и теории, введенные Фрейдом, например, относящиеся к художественной культуре, могут рассматриваться как производные, вторичные и побочные. Все это имеет прямое отношение к проблеме автора. Теоретическую валидность того или иного положения фрейдизма или марксизма определяют по отношению к работам этих установителей, тогда как в случае Галилея или Платона, наоборот, валидность выдвинутых ими положений утверждается как раз относительно того, чем в своей внутренней структуре и нормативности являются физика или космология. «Пересмотр текста Галилея вполне может изменить наше знание об истории механики, -- саму же механику это изменить не может никогда, - пишет М.Фуко. - Напротив, пересмотр текстов Фрейда изменяет самый анализ, а текстов Маркса – самый марксизм».342 Здесь, однако, уместно, усомниться. Пересмотр текстов Маркса в целях обнаружения «подлинного» марксизма предпринимался на протяжении истории неоднократно, однако практику марксизма это не поколебало и не могло поколебать никогда. Различение основания науки и установления дискурсивности Фуко проводит с единственной целью: показать, что функция Я-автор, которая является уже непростой на уровне книги или серии книг, требует дополнительных определений внутри групп произведений или внутри дисциплин в целом. В завершении своей работы Мишель Фуко в общих чертах очерчивает парадигму возможного исследования феномена автора: как, в соответствии с какими условиями и в каких формах нечто такое, как субъект, может появляться в порядке дискурсов? Какое место этот субъект занимает в каждом типе дискурса? Какие функции он выполняет? Каким правилам подчиняется?343 Более лаконично многообразие этой проблематики Фуко выразил в другой своей работе, обозначив ее четырьмя словами - модусы импликации субъекта в дискурсе.344 4.4.2. «Смерть автора»: история непонимания Намеченные Р.Бартом и развитые М.Фуко теоретические аспекты проблемы автора были восприняты неадекватно. Метафора сыграла с их авторами злую шутку. «Смерть автора» была понята буквально – как отрицание субъекта во всех его аспектах, как отрицание человека вообще. Перспективу исследования фундаментальной для гуманитарных наук проблемы авторского Я восприняли как перспективу упразднения автора. Хотя ни Барт, ни тем более Фуко, как показывает проделанный анализ, нигде не говорят о том, что автора не существует. У Барта речь идет об историчности фигуры автора, полифоничности и многомерности современного письма, об удалении автора в 341 Фуко М. Указ. соч. - С.34. 342 Фуко М. Что такое автор? - С.37. 343 Там же. - С.40. 344 Фуко М. Порядок дискурса// Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. - М.,1996. 115 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках брехтовском смысле «очуждения», то есть о радикальной смене условностей и конвенций в современной литературе по сравнению с классической. Фуко рассматривает «функцию-автор» как изменчивый и неоднозначный феномен человеческой культуры. Фукольдианский анализ феномена авторства вплотную выводит на проблему человека, на более сложное понимание взаимотношения человека и порожденного им произведения, чем то, которое было прежде в гуманитарных науках вообще и в герменевтике в частности. «Смерть автора», о которой писали Фуко и Барт, подразумевала главным образом смерть специфического - всеведущего, назидающего, учительствующего - автора; смерть автора, герои которого являлись рупорами его идей и мнений. Такой автор в ХХ веке действительно умер. Главное неудовольствие критиков и литературоведов и связано с тем, что постструктурализм оперирует не традиционной категорией «автор», а термином «образ автора». Образ автора размещается в верхнем слое художественного материала, внутри самого текста, он не имеет привилегированной и беспредпосылочной позиции вне текста.345 Согласно Полю де Мену, автор не «владеет» текстом, а сам находится в его власти. Основной упрек, который предъявляется в этой связи постструктурализму, состоит в том, что автору отказано в функции «олицетворять единство и идентичность произведения».346 По мнению Маттиаса Фрайзе, сторонники концепции «исчезновения автора» «математически пустую функцию авторства понимают как смысловую сущность автора», и произведению становится неоткуда черпать свою «человеческую релевантность». 347 За «человеческую релевантность», то есть релевантность в человеческом мире, отвечает не абстрактный автор и не образ автора, а автор реальный, говорят критики структурализма. Художественный текст не может быть самодовлеющим, как математическая формула. С этим нельзя не согласиться. Но здесь же критики проговариваются: «Автор нужен исследователю как адресат эстетических требований».348 И не только эстетических, добавлю от себя, но и идеологических, политических, социальных и всех прочих. Для литературоведа «смерть автора» - это конец литературоведения, для критика - это трагедия еще большая, ибо обессмысливается его деятельность. Критик хочет продолжать учить (и читателя и писателя), а не учиться - учиться понимать новую манеру повествования и жить по новым «правилам игры» в мире литературы. Другой упрек авторам «смерти автора» касается неспецифичности понимания ими феномена художественного авторства, в косвенном игнорировании эстетической функции художественного произведения. Авторство -- это не только то, что вплетено в ткань текста, говорят критики. В новой теории реальный мир за текстом оказывается фиктивным, а фиктивный, вымышленный, художественный мир становится реальнее самой реальности. Этическая категория ответственности, без которой невозможно художественное творчество, содержится не в тексте, а между текстом и автором, причем автором не абстрактным, как в структурализме, а вполне конкретным. Таким образом, автор перестает быть субъектом текста, его человеческим центром и в результате - как и «образ автора» - становится объектом, овеществляется. Так говорят критики. В какой мере справедливы эти упреки? «Образ автора» создали не Фуко с Бартом, и даже не Деррида. «Образы автора» создают сами авторы. Постструктурализм зафиксировал то, 345 См.: De Man P. Allegories of Reading. - New Haven; London, 1979. 346 Фрайзе М. После изгнания автора: литературоведение в тупике?// Автор и текст. - Спб.,1996. С.26. 347 Фрайзе М. После изгнания автора... - С.28. 348 Там же. - С.29. 116 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках что произошло в реальном литературном процессе, и произошло гораздо раньше, чем появились и структурализм и постструктурализм. Разве у Джойса мы не встречаем осознанный процесс того, как автор беспрестанно «ткет и распускает образ автора», свой собственный образ? Разве не этот образ является конституирующим моментом романной архитектоники у Пруста? Разве не образ автора достигает небывалой силы, сложности и многоликости в русскоязычных и особенно англоязычных романах Набокова? Разве у всех этих авторов, и у Набокова в особенности, не происходит постоянного нарушения того правила или того закона, которое Бахтин считал основополагающим для литературы: «Автор должен находиться на границе (выделено нами -Т.В.) создаваемого им мира как активный творец его, ибо вторжение его в этот мир разрушает его эстетическую устойчивость».349 Вторжение, тем не менее, произошло и об этом свидетельствует вся литература ХХ века. Формы отношения автора и героя, описанные Бахтиным, оказались не приложимы ни к В.Набокову, ни к М.Фришу, ни к Борхесу, ни к И.Кальвино, ни к Х.Кортасару, ни к У.Эко. «Нарушение эстетической устойчивости» само оказалось очень устойчивым и долговременным событием литературы. Работа М.М..Бахтина «Автор и герой в эстетической деятельности» писалась в середине 20-х годов и по сути была теоретическим обобщением классической литературе классицизма, романтизма и реализма.350 Может быть, работа потому и осталась незавершенной, что реалии литературного творчества стали меняться с головокружительной быстротой. Новая авангардная проза делала свои первые шаги. Как бы то ни было, литература модернизма оказалась вне поля зрения глубочайшего из философов литературы. Но Бахтин неоднократно предостерегал от смешивания в эстетическом анализе автора-творца (образа автора), который является моментом произведения, и автора-человека (эмпирического автора), который является моментом этического и социального бытия.351 В современной критике, несогласной со всевластием автора и кардинальным изменением его функций в целом текста, речь идет именно об этическом моменте. «Культурный процесс двадцатого века, начиная с формализма и кончая постструктурализмом, - пишет М.Фрайзе, - имел одну цель: отвязаться от автора для того, чтобы тем самым отвязаться от его наиболее существенной категории: ответственности».352 Но парадоксальным и непостижимым образом, современный роман гораздо больше говорит нам об авторе, чем вся предшествующая литературная традиция. 349 Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности// Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. - М.,1979. - С.166. 350 В этой работе М. Бахтин описал три известных литературе формы отношения автора и героя. Первый случай - герой завладевает автором, который не может найти убедительной и устойчивой ценностной точки опоры вне героя. К этому типу относятся главные герои Достоевского, некоторые герои Толстого (Пьер, Левин), Кьеркегора, Стендаля. Второй случай автор завладевает героем, отношение автора к герою становится отчасти отношением героя к самому себе. Герой начинает сам себя определять, рефлекс автора влагается «в душу» или уста героя. Таков герой классицизма и романтизма (типичный пример здесь - байронический герой). Наконец, третий случай - герой сам является своим автором, осмысливает свою собственную жизнь эстетически. Такой герой, по Бахтину, в отличие от бесконечного героя романтизма и неискупленного героя Достоевского самодоволен и уверенно завершен. Но в каждом случае эстетическое событий, по мысли Бахтина, возможно только при двух участниках, предполагает два несовпадающих сознания. Когда герой и автор полностью совпадают либо полностью противопоставляются, эстетического события не происходит, но может происходить этическое, познавательное или религиозное событие в соответствующих жанрах. 351 Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности. - С.12. 352 Фрайзе М. После изгнания автора: литературоведение в тупике? - С.32. 117 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках Самоотчуждаясь и меняя свою традиционную роль, автор гораздо больше утверждает себя, свое «Я», свою самость, свой мир. Диктат самовыражения автора столь велик, что иногда заслоняет образы созданных им героев, которые кажутся вторичными по сравнению с авторским «Я». «Образ автора» как совокупность его приемов, как бесконечная игра означающих без означаемых основана на эпистемологии, не уверенной в познаваемости мира, настаивают критики. Образ автора является только авторской маской, навязывающей читателю свою интерпретацию произведения. Ответственности лишается не только писатель, но и читатель. Авторская маска призвана компенсировать недостаток человеческого начала во фрагментарных, разорванных и нарочито хаотических дискурсах постмодернисткой литературы и зачастую является единственным реальным героем повествования, не уверенным однако в своей «повествовательной идентичности». Агрессивно-вездесущий и подчеркнуто-ироничный образ автора признак слабости, а не силы, эстетической неуверенности, а не мастерства. «В композиционном плане, который в принципе есть выражение авторского замысла, попытка добиться успешной коммуникации, - пишет И.Ильин, - достичь, пусть даже на уровне иронии, взаимопонимания если не с массовым, то по крайнем мере с «культурным читателем» – уже служит свидетельством опасения «коммуникативного провала».353 Автор, навязывая себя читателю на страницах своего произведения, как бы выдает свое беспокойство по поводу художественных достоинств своего творения, он «вынужден брать слово от своего имени, чтобы вступить с читателем в непосредственное речевое общение и лично растолковать ему свой замысел».354 Образ автора становится главным смысловым центром постмодернистского дискурса и практически единственным средством поддержания коммуникации с читателем. Мне представляется, что господство образа автора на страницах новейшей литературы не исчерпывается задачей избежать коммуникативной неудачи. Многообразие способов выражения авторского «Я» рождает подозрение, что литература перерастает свои границы и ставит перед собой задачу исследования человеческой субъективности средствами письма. Разнообразие терминов, стремящихся зафиксировать авторское «Я» в художественном тексте (нарратор, имперсональный нарратор, актор, ауктор, эксплицитный автор, имплицитный автор, авторская маска и др.), обнаруживает проблемное поле, не сводимое только к вопросам повествовательной техники или художественной риторики. Одна из проблем теории и философии литературы - исследование различных модусов и модальностей субъекта дискурса как субъекта, а не только предмета эстетической и этической объективации. Было бы однако преувеличением утверждать, что рецепция проблемы «смерти автора» шла только в отрицательном ключе. Задолго до Барта и Фуко проблему авторства интенсивно разрабатывал русский филолог В.В.Виноградов, ставивший задачу проследить изменение образа автора в «в разных литературных течениях»355 Исследования В.В.Виноградова касались в основном стилистического аспекта художественного текста и не содержали далеко идущих «теоретизмов» и «философем». С чисто филологических, историко-литературных позиций проблема автора продолжает исследоваться и сегодня.356 С философско-методологических позиций 353 Ильин И. Авторская маска // Современное зарубежное литературоведение. - С.193. 354 Там же. 355 Виноградов В.В. О теории художественной речи. - М.,1971. - С.107. См. также: Виноградов В.В. Проблема авторства и теория стилей. - М., 1961. 356 См., напр.: Манн Ю.В. Автор и повествование// Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. - М.,1994. 118 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках разрабатывают проблему автора Л.А.Гоготишвили и Н.К.Бонецкая.357 Эти исследователи смотрят на проблему авторства с бахтинский позиций, а как мы уже отмечали, бахтинская концепция авторства основывалась на «ретроспективном» материале и к анализу современных художественных текстов приложима с трудом либо вообще неприложима. М.М.Бахтин разрабатывал проблему автора не как герменевтическую, а как онтологическую проблему. Авторский голос, по его мнению, есть единственный доступный человеку способ сообщить именную характеристику анонимному бытию, не совпасть с ним, стать нетождественным кому бы то ни было, то есть состояться как личность.358 Противопоставляя свою позицию структурализму, М.М.Бахтин утверждал, что абстракция текста наполняется смыслом лишь при понимании текста как авторского. Авторство в культуре, писал Бахтин в «Философии поступка», произведено от авторства в жизни и построено на нем целиком. Обращался к проблеме автора и Владимир Библер, испытавшей глубокое влияние «диалогизма» М.Бахтина.359 В.Библер совершенно недвусмысленно считает эту проблему ведущей в культуре ХХ века. «Замысел и смысл культуры ХХ века возможно сосредоточить в антитезе: «Смерть автора (читателя, произведения) - Рождение автора (читателя, произведения)». Это - и «предмет» культуры, в особенности - искусства ХХ века (в его проекции на век ХХI), и тема и пафос этой культуры», - пишет философ.360 В.Библер совершенно справедливо отмечает, что «рождение произведения есть собственная тема произведения именно ХХ века». Для этой особенности современной художественной прозы теоретики сегодня изобрели термин «металитература», имея в виду не только литературу постмодернизма, но именно главную особенность искусства ХХ века. А поскольку рождение произведения становится главной темой произведения, то совершенно очевидно, что перипетии, связанные с «рождением и смертью» автора, выходят в искусстве на первый план. В.С.Библер связывает новое звучание темы авторства, во-первых, с новой онтологией, когда «прочтение-созидание» произведения есть не что иное как «прочтение-созидание» всеобщего бытия, «мира впервые», а, во-вторых, со своей излюбленной темой диалога культур. В искусстве ХХ века, поясняет он свою мысль, проблема авторства приобретает антитетический характер: «Все современное искусство держится на «стравливании» и «взаимоостранениии» смысловых доминант: Античных, Нововременных, Средневековых, на постоянном монтаже и режиссировании общения разных культур....Тем самым авторство как бы уходит в тень. Современность - в первом эстетическом акте - воспринимается как смерть автора, как опустошенное поле встречи самоостраняющихмя ...художественных миров. Некая игра в эрудицию, в спор цитат. Автор как бы и не нужен». Но это только одна, негативная, сторона антитезы. Вторая, позитивная, связана с тем, что «смерть автора» провоцирует его же рождение, и не только в читательском сознании. «...Лирическое, да еще претендующее на онтологию, начало современного авторства с особой напряженностью и эгоцентричностью стремится к своему случайному голосу - этому, сиюсекундному, от-всех-отличному».361 357 См.: Гоготишвили Л.А. Лосевская концепция авторства//Начала. - М.,1994, №№1,2,4; Бонецкая Н.К. Проблема методологии анализа образа автора// Методология анализа литературного произведения. - М., 1988; Большакова А.Ю. Теория автора у М.М.Бахтина и В.В.Виноградова// Диалог. Карнавал. Хронотоп. - Москва-Витебск, 1999. №2. 358 Басина Н.И. Проблема авторства в культурологии М.М.Бахтина // Культура. Творчество. Традиции. - Ростов-на-Дону, 1996. - С.80. 359 Библер В. Рождение автора - тема искусства ХХ века (к статье Ролана Барта «Смерть автора) // Вопросы искусствознания. - М., 1993. - №2-3. 360 Библер В. Рождение автора... - С.7. 361 Библер В. Рождение автора... - С.9. 119 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках В.Библер совершенно справедливо ставит под сомнение итоговый бартовский тезис о том, что рождение читателя покупается смертью автора. Всевластие читателя мнимо. «Читатель (созерцатель чужих картин, чужих книг), соединяющий бесчисленные фрагменты и высказывания в своем «несчастном сознании», подчистую вытесняет автора, радостно свергает его диктатуру, предполагает подменить читательским произволом - авторскую свободу...Но сразу же, в том же действии - уничтожает себя как читателя (то есть всегда - соавтора, внимательного к своему alter ego), уничтожает смысл и идею произведения, которое творится заново только в той мере, в какой оно извечно и самотождественно».362 Без автора читатель превращается в захудалого «чтеца», ибо нарушается диалог, а без диалога произведение превращается в замкнутую и самодостаточную «вещь в себе». Бесспорно, В.С.Библер ближе всех из отечественных теоретиков подошел к пониманию философского значения проблемы авторства, ее места в культуре ХХ века. И хотя дальнейшее освещение и исследование этой проблемы будет вестись мною вне пределов той парадигмы, которая очерчена В.Библером, еще раз подчеркнем важное положение о недопустимости смешения фактического, эмпирического автора и «образа автора», которого в разных формах проецирует произведение и с которым - и только с ним - имеет дело читатель. В сущности диалог «автор - читатель», так же как и диалог «автор - образ автора», происходит на металитературном уровне, поскольку образ автора - это образ особого рода, не рядоположенный образам героев. Тематическая напряженность авторства в культуре ХХ века состоит не только в том, что функцияавтор отграничивает «произведение» от «не-произведения», но и в том также, что различные исторические формы авторства, синтезируясь и вступая во взаимодействие в современной литературе, обозначают новые и важные аспекты отношения субъект текст, важные не только для понимания текста, но и для понимания субъекта. 4.4.3. Автор как проблема повествовательной инстанции Какие формы и виды может принимать авторство в литературе? Или, другими словами, какова функция различных повествовательных инстанций в тексте? Эксплицитный автор, или рассказчик, как он традиционно назывался в литературоведении, принадлежит миру художественного вымысла и выступает как персонаж данного художественного текста, ведущий повествование от своего лица. Это,например, Цейтблом в «Докторе Фаустусе», пасечник Рудый Панько в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Гоголя, Максим Максимыч в «Герое нашего времени» Лермонтова... Эксплицитный автор, занимая промежуточное положение между автором и рассказанной историей, как бы повышает кредит доверия к вымыслу, являясь дополнительным гарантом того, что так было и так произошло, то есть создает дополнительную иллюзию реальности. Имплицитный автор - повествовательная инстанция, не воплощенная в художественном тексте в виде персонажа-рассказчика и воссоздаваемая читателем как подразумеваемый «образ автора». Наиболее последовательно концепция имплицитного автора была разработана в 60-х годах американским критиком Уэйном Бутом.363 Бут вводит понятие «имплицитный автор» (наряду с ним он использует терминологический перифраз «авторское второе я») в качестве наиболее универсальной категории авторского присутствия в тексте. «Aler ego» более субстанционально, чем любая человеческая индивидуальность, оно более раскованно, в то время как за ним маячит довольное своей выдумкой настоящее биографическое «Я» писателя, надежно 362 363 Библер В. Рождение автора... - С.9. См.: Бут У.К. Риторика художественной прозы (главы из книги) // Вестник Московского университета. - Сер.9. Филология. - 1996. - №3. 120 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках защищенное от соглядатаев и критиков. Именно этот «имплицитный автор», живет на страницах его книг и в памяти читателя, который может ничего не знать о реальном авторе. Создавая произведение, писатель, по мысли У.Бута, попутно творит «имплицированную версию самого себя», которая может получать у разных писателей разную степень актуализации и персонификации.364 Более того, подчеркивает Бут, в разных произведениях одного и того же писателя читатель сталкивается с различными имплицитными авторами. Например, у Филдинга в «Джонатане Уайдле» подразумеваемый автор «очень озабочен общественными делами и последствиями необузданного честолюбия «великих людей», достигшими власти в этом мире». Тогда как имплицитный автор, «приветствующий нас на страницах «Амелии», отличается «сентенциозной серьезностью», а в «Джозефе Эндрусе» кажется «шутливым и беззаботным». В этих трех романах Филдинг создал три отличающихся друг от друга имплицитных автора. В современной нарратологии выделение инстанции имплицитного автора противопоставляется фигуре реального автора, и, следовательно, повествовательные нормы имплицитного автора не могут иметь ценностного или нравственного характера (так, Данте не может нести ответственности за «католические идеи» «Божественной комедии», а Конрад - за «реакционную позицию» в «Секретном агенте»). Имплицитный автор - структурный принцип, организующий все средства повествования, он не может быть отождествлен с определенной исторической фигурой.365 В то же время имплицитный автор не должен смешиваться с повествователем, особенно в случае имперсонального повествования в третьем лице. Американский исследователь С.Чэтман отмечает: «Строго говоря, все высказывания, разумеется, «опосредованы», поскольку они кем-то сочинены. Даже диалог должен быть придуман каким-то автором. Но совершенно ясно (общепризнанно в теории и критике), что мы должны проводить различие между повествователем, или рассказчиком, т.е. тем, кто в данный момент «рассказывает» история, и автором, верховным творцом фабулы, который также решает, иметь ли рассказчика, и если да, насколько важной должна быть его роль».366 Другими словами, реальный, эксплицитный и имплицитный автор не должны смешиваться в теории, поскольку в художественной практике они жестко разделены по своим структурным и функциональным особенностям. В отличие от эксплицитного автора, повествователя или рассказчика, который является образом создаваемого художественного мира, имплицтный автор существует как бы «на границе», «в промежутке» между реальным автором и текстом и актуализируется в читательском восприятии. Эксплицитного автора в произведении может не быть, тогда как имплицитный автор присутствует всегда, но имеет различную степень персонификации. Термин «имплицитный автор» очерчивает поле для выражения субъекта дискурса в различной степени его актуализации и различной степени «родства» с биографическим автором. Но какую функцию выполнят тогда в теории литературы термин «образ автора»? Этот термин связывают, в первую очередь, с литературой постмодернизма. Фрагментарность, разорванность и открытость постмодернистского романа требует связующего центра, способного превратить разрозненный и гетерогенный материал в художественное целое. Предполагается, что таким связующим центром является образ автора или авторская маска. Именно она служит камертоном, который настраивает и 364 Бут У.К. Риторика художественной прозы... - С.133. 365 Ильин И. Имплицитный автор// Терминология современного зарубежного литературоведения. - М.,1992. - Вып.1. - С.59. 366 См.: Ильин И. Имплицитный автор. - С.58. 121 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках организует реакцию имплицитного читателя, обеспечивая тем самым необходимую коммуникативную ситуацию.367 Часто писатели-постмодернисты расширяют пространство произведения за счет мета-текста - коннотаций, добавляемых читателем к прямому текстуальному смыслу, т.е. прямому денотативному значению слов в тексте. В литературе постмодернизма автор посягает на эту читательскую прерогативу, вводя «металитературный комментарий» в повествование и тем самым навязывая читателю (часто иронически) свою интерпретацию. «Автор» как действующее лицо постмодернисткого романа выступает в специфической роли своеобразного «трикстера», высмеивающего не только и не столько условности классической, а гораздо чаще - массовой литературы с ее шаблонами, банальностями и общими местами. Автор как действующее лицо издевается над ожиданиями читателя, над его «наивностью», над стереотипами его литературного и практически-жизненного мышления.368 Строго говоря, «образ автора» не относится ни к «эксплицитным», ни к «имплицитным» авторам. Отличие «образа автора» от «эксплицитного автора» состоит в том, что этот образ апеллирует к читателю как бы «поверх текста», он заинтересован в прямом диалоге с ним, тогда как эксплицитный автор - вымышленный персонаж, который рядоположен другим героям художественного мира, хотя и существует в иной плоскости. Эксплицитный автор усиливает иллюзию реальности и достоверности нарратива, а «образ автора», наоборот, эту иллюзию разрушает и делает это разрушение эстетически значимым. С другой стороны, «образ автора» отличается и от «имплицитного автора». Для того, чтобы «опознать» имплицитного автора, нужна определенная критическая и литературоведческая искушенность, определенное усилие и определенный навык, особенно в случае безличного, имперсонального повествования. Напротив, «образ автора» не надо искать, он сам выскакивает, как «бог из машины», навязывая себя ошеломленному читателю. Но будучи легко различимым в ткани художественного произведения, «образ автора», совсем не прост по своей структуре и способам локализации. В современной литературе образ автора приобретает необычайную многоплановость и становится особым предметом эстетического изображения. Термин «образ автора» приобретает релевантность только в паре «автор читатель». Эксплицитный и имплицитный авторы создаются реальным эмпирическим автором и выступают по отношению к этому автору в таком же отношении, что и любой другой вымышленный персонаж. Вступает ли автор в монологические или диалогические отношения со своими героями369, он находится с ними в одной плоскости текстуальной стратегии. Но создавая «образ автора», исторический автор вступает в пространство метатекста. Он не рядоположен своим героям, а находится над ними как их творец, комментатор и судья. Он уже не персонаж, один среди многих, а некое самоотраженное «Я», которое может быть воспринято и оценено только читателем. «Образ автора» находится одновременно и в тексте и над текстом. Он не может сам себя оценить так же, как он оценивает своих героев. Нужен Другой для того, чтобы оценить не только творение, но и творца. «Образ автора» адресован читателю и только читателем может быть конституирован в этом своем качестве. «Ты сам свой высший суд», - так художник может сказать по поводу созданного - произведения, героя, сюжета, но не по поводу своего сотворенного образа. 367 Ильин И. Авторская маска//Современное зарубежное литературоведение. - С.192. 368 Там же. - С.193. 369 М.М.Бахтин типичным монологическим типом повествования Л.Н.Толстого, типичным диалогическим - творчество Ф.М.Достоевского. считал творчество 122 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках 4.4.4. «Авторские маски В.В. Набокова (по роману «Отчаяние») Интересно обратиться к живому литературному материалу и для того, чтобы проиллюстрировать обозначенные теоретические дефиниции, и для того, чтобы наметить дальнейшие перспективы исследования. Творчество Владимира Набокова представляет в этом отношении богатую «эмпирическую базу». Набоков - один из первых писателей, который принес в мировую литературу не новые образы героев, тем более не новые социально-психологические типы (неприязнь его ко всякой «густопсихологической» тематике хорошо известна), а новый образ автора. Роман «Отчаяние» в этом отношении может считаться хрестоматийным. Этот роман был написан в середине тридцатых годов и по формальным признакам может быть назван модернистским. Приемы, впервые примененные здесь Набоковым не без влияния Пруста и Джойса, перекочевали позднее в арсенал постмодернистской литературы и в конце столетия стали едва ли не штампами. Эпигоны эксплуатируют чужие приемы, классики придумывают свои. Набоков - классик литературы ХХ века. Философская глубина его поэтики требует скрупулезного герменевтического анализе, а имманентная ироничность его прозы требует от герменевтики повышенной критичности. Фабула «Отчаяния» представляет пародию на входивший в моду детективный жанр. Главный герой романа Герман Карлович («коммерсант средней руки с замашками») однажды, путешествуя по казенной надобности, наталкивается на спящего бродягу-немца, который показался ему совершеннейшим его двойником, решает заманить нищего бродягу в лес, убить его, переодеть в свою одежду и разыграть собственную смерть, чтобы жена, получив за него в Германии крупную страховку, воссоединилась с ним где-нибудь во Франции. Своеобразие этого «детектива», вопервых, в том, что убийца заранее известен, а, во-вторых, в том, что преступление задумывается как гениальное «произведение искусства». И корысть, меркантильный соображения не играют в нем решающей роли. Преступление вынашивается как безупречное произведение в пику всем маститым мастерам жанра, и прежде всего – Достоевскому. Но «гениальное» преступление терпит крах (Герман забывает на месте преступления улику - палку с именем убитого двойника) и когда приближается развязка, герой в качестве художественного самооправдания, пишет свою версию – повесть «Отчаяние»370. Она сочиняется как бы на глазах читателя с дверьми, широко раскрытыми в творческую мастерскую. Главный герой романа является одновременно и рассказчиком, а весь сюжет мы видим глазами убийцы и несостоявшегося гения. По идее, позиция автора (В.Набокова) и позиция героя-рассказчика (убийцы - Германа Карловича) диаметрально противоположны. Но в том-то и весь фокус, что провести четкую грань между авторам, рассказчиком и героем никак не удается. Рассказчик, кроме того, очень ненадежный повествователь. Когда мы относимся к нему некритически, сразу же попадаем в ловушку. Рассказчик маниакально убеждает нас в двойничестве с Феликсом, тогда как оно - продукт воображения героя. «Художник видит разницу, - объясняет зацикленному на двойничестве Герману Ардалион. - Сходство видит профан».371 Герой-рассказчик 370 Двусмысленность возникает уже на уровне жанра. С точки зрения рассказчика и его монологического видения «Отчаяние» - это повесть, с точки зрения читателя и интерпретатора – это, конечно, роман. 371 Андрей Арьев считает это высказывание ослепительным по своей значимости: «в нем и эстетическое кредо, и ключевая фраза ко всему роману, ключ к его сюжету». См.: Арьев А. И сны, и явь (О смысле литературно-философской позиции В.В.Набокова) // Знамя. - 1999. - №4. С.206. Тему убийства «двойника» взяла на вооружение сегодня и массовая литература, которая не очень озабочена проблемой мотивации. Так, в романе популярного автора многочисленных детективов 123 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках снисходительно сообщает нам, как преданно любит его недалекая жена Лида, хотя у читателя есть все основания сомневаться в этом. Повествователь убеждает нас в совершенстве задуманного преступления, тогда как оно вполне заурядно. «Морда модернизма» в романе многолика. Обращение к читателю и игра с ним – едва ли не на каждой странице. «Если мое лицо то и дело выскакивает, точно из-за плетня, раздражая, пожалуй, деликатного читателя, то это только на благо читателю». Появление «образа автора» в «Отчаянии» вводит в повествование тему литературы и литературного творчества, это как бы один бесконечный автотематизм, наложенный на основной сюжет. Своеобразный эффект палимпсеста: под криминальной фабулой проступает другой роман -- о драме художника и отчаянии творца, не способного поверить в предмет своего творчества, как писали об «Отчаянии» В.Вейдле и Вл.Ходасевич. Тогда центральным событием романа будет не крах незадачливого преступника, а крах идеи о том, что вымысел искусства правдивее жизненной правды – тема, звучащая в «Даре», а затем в «Аде». А под этим вторым виднеется еще один слой - аберрации самоидентификации в связи с классической темой двойничества и всеми аллюзиями, с ней связанными. Но в классической литературе двойничество всегда драматично, ибо связано с расширением или трансформацией сознания героя. У Набокова эта проблематика не слишком серьезна, поэтому читатель вправе идти дальше и глубже. А глубже - любовный треугольник с Лидой, Ардалионом и «слепым» Германом Карловичем, упрекающим в слепоте забулдыгу-художника Ардалиона. А еще глубже... и так далее и тому подобное. Иллюзия реальности в романе постоянно нарушается. Сначала - «ненастоящее» начало, то есть, как бы проба пера и прикидка, как можно было бы начать роман. «Покойный мой отец был ревельский немец, по образованию агроном, покойная мать чисто русская. Старинного княжеского рода. Да, в жаркие летние дни она, бывало, в сиреневых шелках, томная, с веером в руке, полулежала в качалке, обмахиваясь, кушала шоколад, и наливались сенокосным ветром лиловые паруса спущенных штор». Откровенная пародийность этих сенокосных ветров рядом с кушающей шоколад maman очевидна. А для тех, кому она неочевидна, несколькими строками ниже объясняется: «Маленькое отступление: насчет матери я соврал. По-настоящему она была дочь мелкого мещанина, - простая грубая женщина в грязной кацавейке». Роли не играет, какому поначалу поверит читатель и поверит ли. А рядом с этим уже требующее доверия и интригующее: «У меня руки дрожат, мне хочется заорать или разбить что-нибудь, грохнуть чем-нибудь об пол....У меня сердце чешется, - ужасное ощущение». Здесь герой-рассказчик уже не пытается играть в сочинителя, а кричит о наболевшем и сокровенном. Он говорит «Я» и требует доверия к своему нарративу. Сам автор (или образ автора?) как бы хочет сказать: я хотя и нарушаю все эти реалистические условности о доверии к вымыслу и об иллюзии реальности, а заставлютаки вас выслушать свою историю. В классическом произведении литературы, когда соблюдены требования литературного этикета и автор надел маску, доверие читателя к тому, что так было и так произошло, подразумевается само собой. В романе Набокова встречаются замечания, двусмысленность которых не сглаживает, а подчеркивает литературную условность. Ожидая Феликса, мнимого своего двойника, для решающего свидания, Герман Карлович «почему-то подумал, что Феликс прийти не сможет по той простой причине, что я сам выдумал его, что создан он моей фантазией, жадной до отражений, повторений, масок». Может быть то, что нам рассказано как действительная история, и не происходило вовсе? Короче, а был ли мальчик? А.Марининой «Чужая маска» действуют сразу три пары двойников, и то, что не удалось Герману в «Отчаянии», с поразительной лихостью удается героям Александры Марининой. 124 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках Кроме своеобразной модернистской завязки, нам демонстрируется четыре варианта начала третьей главы. Прием повествования от первого лица, то есть «от лица настоящего или подставного автора», автору «Отчаяния» не подходит, потому что «этим приемом злоупотребляют, литературные выдумщики измочалили его». Повествование от третьего лица, сразу выводящее на сцену героя, автору тоже не подходит - хотя это прием «популярный и доброкачественный», но слишком щеголеват. Третий, кинематографический вариант, на письме которому соответствует сакраментальная фраза «А между тем...», тоже отбрасывается автором как «баловень старины». Рассказчик Набокова говорит о себе: «Я знаю о литературе все», но это чрезмерное знание мешает ему. Глава все же начинается, начинается от лица подставного «образа автора», который рассказывает о своих литературных вкусах и пристрастиях и о «легкой вдохновенной лживости», свойственной его персоне и его стилю. Это своеобразное псевдо-биографическое «Я», персона без протагониста, недостоверный нарратор, честно предупреждающий нас о своей недостоверности. И все же... Если мы, подобно Р.Барту, зададим вопрос по отношению ко многим фрагментам текста: «Кто это говорит?», на него будет не так просто ответить. Кто является субъектом многочисленных авторских отступлений от детективного сюжета – рассказчик, герой или настоящий автор? Кто является автором двух финалов, один из которых - литературная пародия? Кто является автором блестящего отрывка о «небытном Боге», написанного утрированно «достоевским» стилем? Кто является автором размышлений о будущей судьбе книги и саркастических вставок об СССР? Если обилие цитат и псевдоцитат можно отнести к герою-рассказчику, который, как сообщается в начале романа, прочел тысяча восемнадцать книг, если ему же можно «вменить» поиски названия своей повести и игру стилями (у Германа Карловича, как известно, двадцать пять почерков, и он их поочередно демонстрирует), то останется еще множество «анонимных» фрагментов. Вопрос - «Кто говорит?» - остается актуальным на всех этапах и уровнях повествования. Искушенный читатель может заметить, что понять, кто является субъектом той или иной повествовательной части (автор, герой или рассказчик) не так сложно, если внимательно читать. Понять-то несложно, но это понимание -- тоже часть текста, но уже другого, надстраивающегося над первичном. Поиски автора относятся не столько к тексту, сколько к метатексту, уровень рефлексивности которого очень высок. Можно сказать так: реальный, подлинный автор создает образ автора, который временами сливается с главным героем произведения, а временами резко от него отходит. Когда Герман Карлович, потенциальный, а затем и реальный убийца, цитирует пушкинское «Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит», - как-то это нехорошо и неловко, и мы вправе усматривать здесь тень другого автора - подлинного. А случайно оброненный, относящийся к сюжету с точностью до наоборот, «эпиграф»: «Литература - это любовь к людям»? Разве может он принадлежать графоманствующему Герману Карловичу? Тем более, что в романе приводятся образцы «литературной пошлятины» - упражнения героя в области художественной прозы. Но ведь и «Отчаяние» по сюжету выходит из-под пера Германа Карловича, но его «авторские права» все время под подозрением, создавая напряжение между произведением и его субъектом. Иногда автор «забывает», что рассказывает не он, а Герман, и тогда его голос заглушает голос введенного им же рассказчика. Автор и «образ автора» в этом случае неотличимы. Как, например, в следующем отрывке: «Сказать по правде, я испытываю некоторую усталость. Я пишу чуть не от зари до зари, по главе в сутки, а то и более... Бывали дни, третьего дня, например, - когда я писал с двумя небольшими 125 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках перерывами девятнадцать часов подряд». Или: «...не я, не разум мой пишет, а только память моя, только память». Или еще одна «я-вставка», прекрасная автохарактеристика»: «Я слишком привык смотреть на себя со стороны, быть собственным натурщиком – вот почему мой слог лишен благодатного духа непосредственности». Эта самооценка никак не может быть отнесена к героюрассказчику, мономану, абсолютно лишенному способности смотреть на себя со стороны, глазами других людей. Очевидно, данная цитата имеет в виду действительного, а не подставного автора. Иногда действительный автор доминирует, нимало не заботясь о связи со своим героем-рассказчиком: «О как я лелею надежду, что несмотря на эмигрантскую подпись, книга моя найдет сбыт в СССР!». А какой из авторов может не просто пародировать, а топтать ногами несчастного Федора Михайловича (в английском переводе романа названного Dusty - «пыльный»): «бутафорские кабаки имени Достоевского», «кровь и слюни» и т.д.? Литература у Набокова - не высказывание о мире, она сама - Мир. В такой ситуации личность автора и его образ стремительно вырастают в своем значении. И не будет большим преувеличением сказать, что именно Автор, многоликий, амбивалентный и неуловимый Автор - главное действующее лицо «Отчаяния». По сравнению со статичными и карикатурными героями, которые лишены в романе собственного голоса и собственного взгляда на вещи, автор является демиургом и диктатором своего художественного мира. Вступать в диалог читатель может только с автором, потому что диалог с героями (сочувствие, сопереживание, любовь, негодование, осуждение) оказывается невозможным. Об этих героях нечего додумывать и договаривать. К героям, лишенным самостоятельной логики развития, вообще невозможно как-либо относиться. Поэтому злодейство Германа Карловича и его последующие метания воспринимаются с абсолютной эмоциональной незаинтересованностью, предзаданной нам самим автором. Слишком много авторского «Я» роздано этим героям, чтобы они могли претендовать на автономное художественное бытие. Писатель щедро наделяет героев, в том числе самых несимпатичных, своими качествами, особенностями, привычками и предрассудками, поскольку это его единственный и самый надежный творческий арсенал. Набоков не стремится к так горячо любимой реалистами «жизненной правде», ибо его герои по определению принадлежат не жизни, а литературе. Им отказано в одушевленности, движении и саморазвитии. Они объекты, а не субъекты повествования, персоналии, а не живые люди. Живым оказывается только автор и поэтому только «образ автора» может быть предметом понимания и интерпретации. Образ автора приобретаем многомерность, рассеивается и усложняется одновременно, и задачей критической герменевтики является его вос-создание.372 Главной герменевтической проблемой в связи с интерпретацией образа автора становится проблема самотождественности «Я», или, другими словами, проблема повествовательной идентичности. Классическое произведение (философское, художественное, публицистическое) всегда предполагало единство авторского лица и 372 В романе «Дар» эта амбивалентность образа автора проявляется еще отчетливее. Здесь мы наблюдаем постоянное жонглирование между «Я» (автора) и «он» (Годунова-Чердынцева); alter ego автора является вымышленный классик Страннолюбский и вымышленный философ Делаланд. Эпизодические образы Ширина и Владимирова - пародийные ипостаси писательского «Я». Или вдруг неожиданно «Я» автора прячется за умирающего Александра Яковлевича. И за каждой рецензией на роман о Чернышевском мы видим новое «Я» - авторефлексию. Таким образом «образ автора» - это не унитарный художественный образ, а некая абстракция, которой в тексте романа соответствует около десятка действующих лиц. 126 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках авторской субъективности. Лишь будучи автором собственной мысли, можно мыслить и быть субъектом, утверждать универсальность cogito. У Набокова это единство превращается в многообразие, которое не дано явным образом и требует значительных герменевтических усилии. В сущности речь идет об археологии человеческой субъективности, о модусах импликации субъекта в дискурсе, о которых писал М.Фуко через тридцать с небольшим лет после написания «Отчаяния». Не такой большой срок для осознания столь глубокой проблемы. 4.4.5. Автор в лабиринте интертекстуальности Один из критиков насчитал в тексте набоковской «Лолиты» более двухсот аллюзий, относящихся к разным художественным произведениям мировой литературы. Наверное, в «Аде» их можно было бы насчитать тысячи. Всегда ли сознательно автор «разбрасывает» по своему тексту реминисценции, которые потом с восторгом обнаруживает высоколобый критик? Вероятно, это зависит от степени «высоколобости» самого автора. Читателю легче, он может не распознать мириады этих намеков, относящих к другим тестам, и тем не менее не чувствовать себя ущемленным или обманутым. Многослойность постмодернистской литературы не сбрасывает со счетов и эту возможность. Профанное и элитарное прочтение «Имени Розы» или «Бледного пламени» различаются разительно - как будто речь идет о разных произведениях. Но речь сейчас не об этом, а об интертестуальности, которая является сегодня одним из наиболее интересных направлений гуманитарных исследований. При интертекстуальном исследовании. «статус слова...определяется горизонтально (слово в тексте принадлежит пишущему субъекту и адресату) в равной мере как и вертикально (слово в тексте ориентировано в направлении предшествующего или синхронического корпуса литературы)», - со ссылкой на Бахтина писала Ю.Кристева в книге «Любовь к языку». Ничего странного в опоре на интертекст нет. В начале всякого слова всегда было какое-то чужое слово, литература занята собой и собственной генеалогией больше, чем всем остальным и потому пропитана интертекстуальностью.373 И хотя очень часто интертекстуальный анализ обнаруживает, что «весь корабль сколочен из чужих досок» (Мандельштам), это не наносит ущерба оригинальности и своеобразию произведения. В поэтике интертекста, каковыми и являются по преимуществу произведения постмодернизма, цитата перестает играть роль простой дополнительной информации, отсылки к другому тексту, «цитата становится залогом самовозрастания смысла текста».374 «Но, может быть, поэзия сама - одна великолепная цитата», - писала Анна Ахматова. При этом, критик, как правило, ищет в цитациях «источники» и «влияния», читатель же констатирует цитату как уже где-то читанную и на этом может ограничиться. Но это не значит, что цитаты не играют своей роли в процессе чтения. «Свойство интертекстуальности, - пишет ученик Барта Л.Женни, - это введение нового способа чтения, который взрывает линеарность текста. Каждая интертекстуальная отсылка - это место альтернативы: либо продолжать чтение, видя в ней лишь фрагмент, не отличающийся от других,... или же вернуться к текстуисточнику, прибегая к своего рода интеллектуальному анамнезу, в котором интертекстуальная отсылка выступает как смещенный элемент».375 Современная поэтика отводит проблеме интертекста одно из центральных мест, что связано с преодолением структурализма и отказом от имманентного рассмотрения литературного произведения. Но, как считает Г.Блум, всякий оригинальный талант 373 Жолковский А.К. Блуждающие сны: Из истории русского модернизма. - М., 1992. - С.18. 374 Руднев В.П. Интертекст// Руднев В.П. Словарь культуры ХХ века. - С.113. 375 Цит. по: Руднев В. Словарь культуры ХХ века. - С.115. 127 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках испытывает «страх влияния» со стороны литературной традиции, где все слова уже сказаны и все места уже заняты классиками, и художник подсознательно бунтует против отцов, невольно искажая (misreading) их наследие.376 При интертестуальном анализе произведения развертыванию и повторной интерпретации подвергаются не столько конкретные тексты предшественников, сколько схемы мышления, системы приемов, текстуальные модели, принятые в предыдущих литературных школах и направлениях. Интертекстуальный анализ обладает большой долей доказательности и убедительности не только при анализе поэтики, но и при анализе того, что принято называть «философией романа». Очень глубокое интертекстуальное исследование набоковского «Отчаяния» предложил И.С.Смирнов. Разобрав по словечку текст этого романа, И.Смирнов возводит фабульное ядро «Отчаяния» к истории Мартина Герра, которая упоминается Монтенем в третьем томе «Опытов», в очерке под заголовком «О хромых» (1588). В действительности делу Мартина Герра Монтень посвящает один абзац, очень лаконично сообщая о странной историю двойничества: «В детстве я был свидетелем процесса по поводу одного необыкновенного случая. Данные об этом процессе опубликовал Корас, советник тулузского парламента, и речь шла о том, что два человека выдавали себя за одно и то же лицо...». Далее Монтень выражает несогласие с решением суда по этому запутанному и странному делу (одного из двойников приговорили к повешению). Монтень не касается деталей из биографии Мартина Герра, которыми насыщены как судебный отчет Кораса, так и роман Набокова «Отчаяние». Совпадения между двумя этими текстами неслучайны. И.П.Смирнов уверен, что Набоков, обращался к отчету Кораса, брошюра которого выдержала несколько изданий и издавалась раньше (в 1561 году), чем впервые увидели свет «Опыты» Монтеня. Знакомился ли Набоков с раритетом Кораса в подлиннике или по косвенным источникам, но совпадения поражают. Мартин Герр, пиринейский крестьянин из французской деревни, женился на некой Бертране де Роль, но потерпел сексуальное фиаско; позднее, рассорившись с отцом, бежал в Испанию, где стал лакеем в доме тамошнего кардинала. Мартин знакомится с Тилем, удивительно похожим на него самого, и Тиль появляется вскоре в пиренейской деревне, выдав себя за вернувшегося в лоно семьи супруга Бертраны, во что поверили как она, так и односельчане. Обман обнаруживается, когда местный сапожник вспоминает, что размер ступни у Мартина-1 был значительно меньше, чем у Мартина-2. (В сцене убийства в «Отчаянии» выясняется, что башмаки Германа жмут переодетому в его одежду Феликсу). Таким образом, изображая жизненную ошибку Германа, принявшего Феликса за свое второе «я», Набоков отображает этот промах на уровне реминисценции. Но роман остается романом о ложной идентичности, усугубленной нечеткой границей между образом героя и образом автора. Продолжая сопоставление «Отчаяния» с судьбами Мартина и Тиля, И.П.Смирнов отмечает: «Герман, покидающий Лиду и намеривающийся позднее жениться на ней во второй раз под именем Феликса, стремится объединить в себе Мартина и Тиля. В изложении Германа и тот, кого он держит за своего двойника, получает черты то Тиля ..., то Мартина.... Истребляя Феликса, Герман двояко, т.е. с философической полнотой, ревизует результат судебного разбирательства в возрожденческой Тулузе. С одной стороны, Герман наказывает в лице Феликса не только самозванца, но и того, чья собственность была захвачена. С другой стороны, и Мартин и Тиль могли бы продолжить жизнь, если бы Герману удалась спланированная им авантюра. В 376 Блум Х. Страх влияния. Карта перечитывания. - Екатеринбург, 1998. 128 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках жажде пересмотреть фактическую сторону истории Герман руководствуется идейным почином Монтеня».377 Интертекстуальный анализ оказывается необходимым не только для выявления архетипического сюжета, но и для понимания смысла сюжетных перипетий анализируемого произведения. Исходный сюжет с Мартином Герром не просто заимствован Набоковым, но существенно переосмыслен и реконструирован, он получил новое метафизическое измерение. Хотя, трудно отделаться от «заземленного» восприятия, что исходный сюжет более правдоподобен и жизнен - у средневекового бродяги Тиля было больше оснований присвоить себе чужую идентичность (и сразу обрести кров, дом и социальный статус), чем у «шоколадного короля» Германа Карловича, который все это потерял в один момент, разделавшись с двойником. Действия героя «Отчаяния» (как бы ни испепелял Набоков Фрейда) кроме как психоаналитически мотивированы быть не могут; Смирнов прямо называет роман «психоаналитическим текстом о вытеснении». Следует сказать, что в англоязычном переводе психоаналитических элементов в романе гораздо больше, чем в русском оригинале. Сверхзадачу Германа, которая подвигла его на «гениальное преступление», трудно изложить внятно без того чтобы не прибегнуть в феноменам ложной памяти, кризиса идентичности и прочим фрейдистским сюжетам. Если Монтень исходил из того, что трудно постичь различие между прообразом и копией, ибо разум здесь бессилен, то Герман «онтологизирует неразличимость».378 Он устраняет из бытия не двойника, но свое подобие, которое кажется ему кощунственным и вызывающим, ибо бытие для него - абсолютная тавтология. Двойничество в «Отчаянии» не исчерпывается образом незадачливого Феликса. В VI главе романа, где Герман доказывает небытие Божье и отсутствие бессмертия, тема двойников возникает еще раз. «Бога нет, как нет и бессмертия, - это второе чудище можно так же легко уничтожить, как и первое. В самом деле, - представьте себе, что вы умерли и вот очнулись в раю, где с улыбками вас встречают дорогие покойники. Так вот, скажите на милость, какая у вас гарантия, что это покойники подлинные, что это действительно ваша покойная матушка, а не какой-нибудь мелкий демонмистификатор, изображающий, играющий вашу матушку с большим искусством и правдоподобием. Вот в чем затор, вот в чем ужас, а ведь игра-то будет долгая, бесконечная, никогда, никогда, никогда душа на том свете не будет уверена, что ласковые, родные души, окружившие ее, не ряженые демоны, - и вечно, вечно, вечно душа будет пребывать в сомнении, ждать страшной, издевательской перемены в любимом лице, наклонившейся к ней». «Раковинный гул вечного небытия», согласно автору «Отчаяния», лучше, чем «белые, холодные собачки» ложной райской идентичности. Здесь, по мнению И.П.Смирнова, Герман спорит с Е.Н. Трубецким. Изображение рая, данное В.В.Набоковым, соответствует в перевернутом, зеркальном виде концепции ада как мира симулякров, изложенной Трубецким в «Смысле жизни» (1918), где «неумирающая смерть», ад есть «действительность призраков». Е.Н.Трубецкой был сторонником идеи «всеединства» Плотина - Соловьева, Герман же выступает за «всеединство», но безрелигиозное, посюстороннее, комбинаторное. Как только Герман перестает верить в свое двойничество с Феликсом, в его внутреннем монологе тотчас всплывает и Бог, и заголовок книги Трубецкого: «Двойник мой, вероятно, уже в том же городе, что и я... Я здесь представлен в двух лицах....А может быть (продолжал я думать, соскакивая с мысли на мысль) он 377 Смирнов И.П. Философия в «Отчаянии»// Звезда. - № 1999. - №4. - С.176. 378 Там же. - С.177. 129 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках изменился и больше не похож на меня, и я понапрасну сюда приехал. «Дай Бог», - сказал я с силой, и сам не понял, почему я это сказал, ведь сейчас весь смысл моей жизни заключался в том, что у меня есть живое отражение, - почему же я упомянул имя небытного Бога, почему вспыхнула во мне дурацкая надежда, что мое отражение исковеркано?» Философема ада, выдвинутая и развитая Трубецким, олицетворена в Германе. Герман живет прошлым, налагая его на восприятие настоящего. Не имея места в настоящем, он боится быть забытым и учит Лиду мнемотехническим приемам, чтобы она запомнила место его посмертного пребывания. Однако сам Герман страдает и амнезией и ложной памятью (как он путается, вспоминая работу Ардалиона, - две розы и трубка, которые сохранила его память, оказываются двумя большими персиками и стеклянной пепельницей). Несмотря на все претензии и декларации, Герман оказывается на поверку «бессамостным призраком». «В то время как фиктивный автор «Отчаяния» пытается развернуть перед нами свою, претендующую на оригинальность философию, реальный автор романа аскетически ограничивается тем, что подтверждает правоту уже существующего умозрения», - пишет И.П.Смирнов. 379 И.П.Смирнов указывает также на интертекстуальные пересечения «Отчаяния» и «Рассуждения о методе» Декарта. В качестве одного из примеров ненадежности органов чувств Декарт приводит восприятие реальности больным гепатитом, видящем все в желтом свете. Германа преследует образ «желтого столба», который упоминается в «Отчаянии» одиннадцать раз. Герман, вполне по Декарту не способный к различению, убивает своего лже-двойника именно у этого столба. И.П.Смирнов полагает, что «Отчаяние» принадлежит к жанру антинигилистической литературы, так же как «Отцы и дети» или «Братья Карамазовы». «Этот жанр, центрированный на персонажеидеологе, - пишет И.П.Смирнов, - который терпит крах из-за неверия в бога, можно назвать художественным опровержением на опровержение теодицеи».380 Кроме реминисценций из Монтеня, Декарта и Трубецкого, И.П.Смирнов находит в «Отчаянии» аллюзивное использование Вольтера, Юма и Киркегора. На Киркегора, в философии которого отчаяние является одной из центральных категорий, в частности, намекает само название романа Набокова. Кроме того, «Отчаяние» в повествовательнокомпозиционном плане напоминает раннюю работу Киркегора «Повторения» - оба текста имеют дневниковую основу. В конце «Повторения» Киркегор «обнажает прием», сообщая читателю, что включенная в него переписка вымышлена. В «Отчаянии» таких «обнажений» великое множество, в том числе и таких, которые указывают на онтологическую недостоверность Феликса. В книге Киркегора повествователь Константин Константинус уверен, что только повторение удостоверяет существование реальности. От философской притчи Киркегор переходит к критике Гегеля, пытаясь убедить нас, что не всеобщее берет начало над индивидуальным, но, напротив, исключительное, случайное и мыслящее себя является универсальным, в том числе и в самом мыслительном акте. Решить спор между всеобщим и исключительным, считает Киркегор, так же трудно, как убить человека и одновременно оставить его в живых. Но именно эту головоломную процедуру предпринимает набоковский Герман, пытаясь узурпировать идентичность поверженного Феликса. Герман скорее гегельянец, чем экзистенциальный философ, хотя в предисловии в английскому переводу «Отчаяния» он и назван «отцом экзистенциализма». События в «Отчаянии» совершаются скорее по Киркегору, чем по Гегелю. Вживание в роль другого не помогает Герману превозмочь в себе ложное сознание. И у Набокова, и у Киркегора в повторение вмешивается случай (в «Отчаянии» 379 Смирнов И.П. Философия в «Отчаянии». - С.178. 380 Там же. - С.179. 130 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках - палка Феликса с его инициалами, в «Повторении» - замужество бывшей возлюбленной поэта). В развязке романа Герман снова становится Германом, деидентификация исчезает, но повторное обретение «я» не приносит удовлетворения герою Набокова в отличие от героя Киркегора. «Я снова стал самим собою. Мое «я», которое не нужно никому другому, снова стало только моим. Внутренний разлад кончился, я снова обрел сам себя.... Разве же это не повторение? Разве мне не отдано все снова, да еще в двойном размере? Не возвращена ли мне моя самость, - и вдобавок таким образом, что я должен вдвойне почувствовать ее значение?...Я снова стал самим собою, машина пущена в ход, тягостные чары развеяны, снято заклятие, мешавшее очнуться. Никто больше не властен надо мной, мое освобождение непреложно, я родил самого себя!» - это у Киркегора.381 Обретение идентичности воспринимается героем Киркегора как освобождение, а собственное удвоенное сознание становится повторением. Герман в «Отчаянии» обретает идентичность не добровольно, не как дар, а насильственно, ибо полиция ни на секунду не усомнилась, что убитый - не он. Германа поражает и оскорбляет, что газеты вообще не упоминают о его сходстве с двойником. «В этом игнорировании самого ценного и важного для меня было нечто умышленное и чрезвычайно подлое...». То есть, свою идентичность, которая ни у кого не вызвала ни малейших сомнений, воссоединение с ней, Герман воспринимает как поражение - не криминальное, но прежде всего творческое и художественное. Вместо ликующей «минуты творческого торжества» - злорадство здравомыслящей толпы. Мир не признал двойника, не увидел повторения. В отличие от философствующего романиста Германа, реальный автор «Отчаяния» не проявляет философской активности, хотя и создает в итоге уникальный и парадоксальный философский роман. В.В.Набоков взял на себя роль не интерпретатора философских доктрин, многочисленные следы которых можно найти на страницах его произведения, а всего-навсего читателя, сталкивающего в причудливой мозаике абстрактные учение, по-видимому, одинаково ему чуждые. Какую роль играет интертекстуальный анализ для понимания литературного произведения? Бесспорно, «Отчаяние», прочитанное сквозь призму Монтеня, Декарта и Киркегора, очень сильно отличается от детективной истории, пусть и по-модернистски замысловатой, которую прочтет читатель, не обремененный излишними интертекстуальными познаниями. Но дело даже не в широте герменевтического «захвата». Интертекстуальность позволяет увидеть характер освоения писателем культурного и философского материала, помогает с большой степенью достоверности воссоздать образ автора в тексте. Анализ «Отчаяния», проведенный И.П.Смирновым, показывает, что философская позиция героя-рассказчика не совпадает, а иногда и диаметрально расходится с философской позицией реального автора. В.В.Набоков, заставляя Германа олицетворять собой философему ада, выдвинутую Трубецким, заставляя его спорить с Декартом, в конце концов обрекает его на поражение. Дистанцирование с героем происходит у автора, так сказать, по «последним вопросам» бытия и познания. Что не означает, конечно, что сам Набоков - убежденный картезианец и т.п. В то время как фиктивный автор «Отчаяния» претендует на создание некой оригинальной философии, реальный автор занимает своеобразную аскетическую позицию «вне игры». Реальный автор, в отличие от автора фиктивного, не мог позволить себе ошибаться. 381 Керкегор С. Повторение. - М.,1997. - С.111. 131 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках 4.4.6. Субъект и дискурс: проблема повествовательной идентичности Проблема, к которой мы подошли путем рассмотрения метаморфоз авторского «Я» в произведениях В.В.Набокова, не исчерпывается областью поэтики. Речь идет о проблеме человеческой субъективности и тех формах, в которых эта субъективность может быть дискурсивно представлена. В философской традиции, которая ведет свое начало от Декарта и которую в постмодернизме называют логоцентризмом, философия субъективности не могла возникнуть. Логоцентризм стремился получить доступ к понятиям вещей в их чистой незамутненной форме. Субъект здесь выполняет роль не «Я» или Эго, а субстрата, субсаннции. «Этот subjeсtum не есть еще человек и ни в коем случае «Я», - заявляет П.Рикер. - Благодаря Декарту произошло то, что человек превратился в первичного и реального subjeсtum, в первичное и реальное основание».382 В современных работах, посвященных «генеалогии», «археологии» и «герменевтике» субъекта, субъект не является больше предпосылкой и основанием, но становится объектом анализа в своей «самости». Повествовательная идентичность - один из аспектов теории субъективности. В наиболее общем виде эта проблема поставлена Полем Рикером в его фундаментальной работе «Время и повествование». «Под «повествовательной идентичностью», -пишет французский ученый, - я понимаю такую форму идентичности, к которой человек может прийти посредством повествовательной деятельности».383 По мнению Рикера, задача состоит в том, чтобы исследовать многочисленные возможности установления связей между постоянством и изменением, которые соответствуют идентичности в смысле «самости».384 На первый взгляд, такой подход плохо согласуется с современным положением дел. Модернистский и постмодернистский дискурс свидетельствуют скорее о кризисе идентичности, чем о ее поиске. «Согласно Деррида и Фуко, идея целостной личности не принимает во внимание тот факт, что идентичность является функцией различения (differance), - пишет Р.Холлингер. - Лакан предлагает, в противоположность Веберу и Фрейду, личность без единства. Фуко, Лиотар и Деррида, в полном согласии с Лаканом, не признают целостной личности. Подобно тем, кто от Ницше до Фрейда и от Фрейда до Рорти описывает многоплановость личности, они определяют личность как многообразие (multiple)».385 Согласно точке зрения Ницше, многообразие личности проявляется в напряжении между дионисийским избытком желания и аполлоническим принципом порядка. По мнению Холлингера, Батай, Лакан, Делез и Гваттари доводят этот избыток до предела. Они делают акцент на дионисийском начале, на теле, сексуальности и желании, на игре для того, чтобы провозгласить фрагментарность личности, в которой модернисты усматривают источник отчуждения.386 Проблема, в том виде, в каком ее ставит Рикер, состоит не в установление некоей монолитной и не допускающей многообразия идентичности, а в осознании «неизбежной и неразрешимой» антиномии устойчивости и изменчивости внутреннего опыта личности и изображения этой антиномии средствами литературы. Повествовательный жанр жизненной истории (life-story) представляет поле развертывания этой антиномии. Рикер 382 Рикер П. Конфликт интерпретаций. - М., 1995. - С.362. 383 Рикер П. Герменевтика. Этика. Политика. - М.,1995. - С.19. 384 Там же. 385 Hollinger R. Postmodernism and the social sciences: A thematic approach.. - London, 1994. - P.113. 386 Hollinger R. Postmodernism... - P.114. 132 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках исследует тип идентичности, которую он называет «идентичность персонажа». Именно на идентичности персонажа держится, по его мнению, идентичность интриги и идентичность самого повествования. «Если возможно представить целостную историю как цепь преобразований – от исходной до завершающей ситуации, - полагает Рикер, - тогда повествовательная идентичность героев может быть лишь определенным стилем субъективного преобразования...».387 Интрига придает идентичность персонажу, а персонаж сообщает свою идентичность целому повествования. Находясь с этим целым в отношении однозначного соответствия (как часть и целое герменевтического круга) персонаж изменяется, не теряя своей идентичности и будучи равным самому себе на протяжении всей истории. Дело меняется с появлением «экспериментального» романа и романа «потока сознания». Здесь мы имеем дело не только с принципиально новой повествовательной техникой, но с новыми формами субъективности. В литературе такого рода идентичность персонажа подвергается действительному испытанию. Преобразование персонажей является центральным моментом повествования. «Современный театр и современный роман стали настоящими лабораториями мыслительного экспериментирования, при котором повествовательная идентичность персонажей оказывается подчиненной бесчисленным воображаемым ситуациям», - отмечает Рикер.388 Классическая литература, и реалистическая литература в особенности, налагала негласные табу на репертуар возможных воображаемых ситуаций. Изображая «типического героя в типических обстоятельствах», она предельно сужала горизонт человеческого бытия и человеческого сознания. Модернизм и восстал не против истины добра и красоты, а против этой немыслимой узости литературы. Старая парадигма изображения человека оказалась исчерпанной к началу ХХ века. Разрушение этой парадигмы затрагивает, в первую очередь, изображение персонажа. Утрата идентичности персонажа ведет к тотальному распаду повествовательной формы, литература становится по преимуществу эссеистической. Роман Роберта Музиля «Человек без свойств» ярко демонстрирует эту распавшуюся идентичность персонажа, который в мире, полном качеств, но бесчеловечном, не может быть идентифицирован. Однако утрата героем идентичности не означает конца проблематики субъекта. Она означает только конец эпохи бесхитростных повествований. Как остроумно заметил Рикер: «Не-субъект, если сравнивать его с категорией субъекта, не есть ничто».389 Не-субъект так же является изображением субъекта, хотя и осуществляется оно негативным образом. Проблема, которая волнует Рикера, сводится в сущности к следующему: что вносит новая поэтика повествования в проблематику самости? Традиционная повествовательная техника в основном использовала в познании человека ведущую роль третьего лица. Для того, чтобы вложить в уста героев, описанных от третьего лица, заявления, сделанный от первого лица, литература с успехом использует «метод» кавычек - прямую речь. В нарратологии это называют само-описанием (self-ascribable) или цитируемым монологом (quoted monologue). Таков небогатый инвентарь классического нарратива. Современный роман стал использовать, наряду с традиционными, и другие приемы, среди которых наиболее неординарным можно считать стиль свободной косвенной речи. Доррит Кон охарактеризовала его как повествовательный монолог 387 Рикер П. Герменевтика. Этика. Политика. - С.26. 388 Рикер П. Герменевтика. Этика. Политика. - С.27. 389 Рикер П. Указ. соч. - С.29. 133 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках (narrated monologue). Это монолог, при котором слова по своему содержанию являются словами персонажа, но излагаются рассказчиком во временной форме, соответствующей моменту повествования (как правило, в прошедшем времени), и с позиции рассказчика. В отличие от цитируемого монолога, повествовательный монолог подчинен задаче включения мыслей и слов других лиц в ткань повествования; речь рассказчика продолжает речь персонажа, заимствуя при этом его стилистику и манеру речи. В модернистском романе прием повествовательного монолога усложняется за счет отказа от кавычек. Повествование от третьего лица чередуется с повествованием от первого лица, но без кавычек. Пример не придется долго искать. Откроем наугад «Улисса»: «С усмешкой на лице мистер Блум неспешно шагал в сторону Брансвикстрит. -(Повествование от третьего лица). - Моя дражайшая как раз получила. Писклявое сопрано в веснушках. Нос огрызком. Не без приятности, в своем роде: для небольшого романса. Но жидковато. Вы да я, мы с вами, не правда ли? Как бы на равных. Подлиза. Противно делается. Что он, не слышит разницы? - (Мысли самого Блума, вспоминающего недавний разговор со знакомым Маккоем, жена которого, как и жена Блума, тоже певица, но слабая и плохая)». Подобная техника повествования позволяет понять эффект слияния повествования от третьего лица, передающего речь, и повествования от первого лица, выполняющего функцию рефлексии. В приведенном отрывке мысли Блума и представляют собой такую рефлексию. В романе «Улисс» такая «рефлексия без кавычек» - не что иное, как попытка показать средствами литературы работающее сознание, сознание как оно есть, и занимает по объему почти такое же место, как и описание событий. Новые повествовательные приемы расширяют возможности проникновения в человеческую субъективность, правда, за это приходится платить утратой непосредственности и популярности у широкого читателя. По мнению Рикера, посредством новых повествовательных функций вводится некий «специфический элемент, дающий новое направление анализу самости». Цель этого анализа - овладение персонажем, или, по терминологии Рикера, рефигурация «Я».390 В чем смысл этого термина? Он означает у Рикера нечто, очень близкое подражанию, мимезису. Но не в том смысле, в каком этот термин употреблял Аоистотель, Лессинг или Чернышевский. Раньше, когда речь заходила о мимезисе, говорили о подражании природе, жизни, но на самом деле имели в виду подражание старым литературным образцам. Рикер связывает «рефигурацию» с подражанием деятельности людей, имея в виду как само действие, так и вскрытие его подлинной основы. Рефигурация связана с самопознанием. «Благодаря повествованию, - пишет Рикер, - рефигурация демонстрирует самопознание, выходящее далеко за границы области повествования: «сам» познает себя не непосредственно, а исключительно опосредованно, через множество знаков культуры»391. Действие символически опосредуется. От этого символического опосредования отпочковывается опосредование, производимое повествованием. Тем самым Рикер стремится продемонстрировать, что «повествовательное опосредование показывает, что в самопознании значительную роль играет интерпретация самости».392 Основным проводником этой интерпретации является, по мысли Рикера, идентификация читателя с вымышленным персонажем. Идентификация себя самого с другим является необходимым этапом на пути к самоидентификации. Именно в этом, по мнению Рикера проявляется опытный характер мышления. «...Овладеть образом персонажа путем 390 Рикер П. Герменевтика. Этика. Политика .- С.33. 391 Рикер П.Ук. соч.- С.33. 392 Там же. - С.34. 134 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках идентификации с ним означает подвергнуть самого себя игре созданных воображением изменений, которые становятся созданными воображением изменениями самости».393 Однако такая идентификация характерна лишь для идеального доверчивого читателя бесхитростных повествований. Действительное расширение и изменение сознания, которое происходит в процессе чтения, является не результатом идентификации, а результатом диалога, при котором усвоение или переживание чужого не требует утраты своего места и своего голоса. Диалог шире идентификации, ибо предполагает все многообразие отношений между «Я» и «другим». Аргументация Рикера сводится к двум утверждениям: первое - изображение «я» через «другого» может стать подлинным средством для самораскрытия «я»; и второе конституировать самого себя означает сделаться тем, кем ты являешься, то есть стать самим собой. Если объединить оба эти положения, то мы получим тот же вывод, к которому приходит М.Фуко в своей теории «заботы о себе»: для самоидентификации и самовыражения необходим посредник, «другой». Не-субъект становится субъектом через полноту его отношений к собственному «Я». Обязательно необходимо вмешательство «другого», посредника, философа для того, чтобы никто, не-субъект создал себя как субъекта.394 Фуко раскрывает понятие субъективности через «переописывание» античного этического принципа epimeleia, Рикер - через понятие рефигурации и герменевтику восстановления смысла. И у Рикера, и у Фуко герменевтическая проблематика перерастает свои собственные границы и становится проблемой поиска своего «Я» - самопознанием, самоосуществлением и самореализацией. «Я есть ничто» и «Я есть другой» промежуточные этапы этого поиска. Герменевтика текста становится герменевтикой (историей, теорией и практикой) человеческой субъективности. 4.4.7. Автор в металитературе, или Кто написал «Бледное пламя»? В качестве иллюстрации проблемы повествовательной идентичности, разрабатываемой Рикером, остановимся подробнее на одном примере - романе В.Набокова «Бледное пламя», изданном на английском в 1962 (русский перевод появился в 1997). Композиция романа необычна. Она состоит из предисловия к поэме, самой поэмы в 1000 строк, которая носит то же название, что и весь роман, обширного комментария и небольшого указателя, касающийся персоналий загадочной Земблы. Автор поэмы - поэт по фамилии Шейд, он же - и главный герой комментария. Обширный, больше чем на двести страниц, «комментарий» к поэме, составляет основной массив романа, но как выясняется по мере чтения, этот комментарий имеет к поэме достаточно косвенное отношение. Составитель этого комментария - геройрассказчик Чарльз Кинбот, воспользовавшись случаем, использовал поэму Шейда как фон для своей собственной истории. Эта история (вымышленная или реальная?) о фантастической, далекой и прекрасной Зембле, где произошла революция, королю Земблы удалось бежать, и он прячется под маской Кинбота. Повествовательная идентичность романа представляет неразрешимое противоречие -действительно ли Кинбот король или «королевство» и вся его «история» - плод его больного воображения, параноидальный художественный бред? Удивительный факт обнаруживается при изучении англоязычных интерпретаций этого романа. Оказывается, главным предметом дискуссий американских набоковедов, анализирующих «Бледное пламя», является вопрос: считать ли Шейда творцом Кинбота 393 394 Там же. См.: Фуко М. Герменевтика субъекта// Социо-логос. - М.,1991.- С.293-296. 135 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках или, наоборот, Кинбот (который одновременно является Боткиным) сочинил и Шейда, и его поэму, и весь роман? Для читателя, который не очень искушен в поэтике современного метаромана, предмет спора может показаться верхом абсурда. Действительно, кого из двух персонажей романа следует считать его действительным автором? Почему нельзя бесхитростно предположить, что обоих придумал писатель Набоков? Потому и нельзя, что в амальгаме набоковской прозы причудливое соединение многих «я» погружено в лабиринт сознания, которое не является тождественным самому себе. Проблема авторства в поэме чрезвычайно затемнена. Даже внимательному читателю не вполне понятно, кто является автором каждой составной части романа, как непонятно и то, являются ли реальными сами главные герои. Сам писатель скрыт за двумя героями, один из которых к тому же сумасшедший, а текст романа не имеет центра, опираясь на который, можно было бы претендовать на более-менее правдоподобную интерпретацию. А понимание романа в значительной степени зависит от того, какую версию мы примем. И хотя содержательная канва романа не претендует на серьезность (вспомним высказывание Р.Барта о современной литературе: «Тут нечего понимать, но все надо расшифровывать»), она требует от читателя сверхсерьезного и сверхвнимательного к себе отношения. Действительно, если в неимоверно постмодернистском комментарии дойти до строки 181, то можно увидеть намек на то, что Кинбот и Шейд - это одно и то же лицо.395 Но в целом противоречие относительно авторства, сознательно заложенное писателем, не может быть решено однозначно. Граница между автором и героями в «Бледном пламени» не очень четкая. Как и во всяком постмодернистском произведении, автор не остается за границами текстам, а вмешивается время от времени в ткань повествования, и условность метароманного действия ощущается на всех уровнях. К сложному привыкаешь быстро. Но появись какой-нибудь «простец» в духе Николая Кузанского и будет достаточно сложно объяснить, почему Кинбот, от лица которого ведется повествование, это никакой не рассказчик, а вымысел другого персонажа, более симпатичного, поэта Шейда. Или, наоборот, что Шейд - это не герой, а порождения фантазии слегка безумного Кинбота, его перевернутое отражение. Сам писатель, который создал этот нарративный софизм, не забыл наделить их обоих своими собственными чертами: «Я никогда не благодарил за печатные похвалы, хотя порой испытывал желание прижать к груди то или иное блестящее воплощение способности к здравому суждению; но я так же ни разу не потрудился высунуться из окошка, чтобы осушить мой скорамис над головой какого-нибудь горестного писаки».396 Это признание Шейда, запротоколированное в черной записной книжке Кинбота, почти дословно повторяет признание самого Набокова, данное им в одном из интервью. Набоков никогда не скрывал, что Шейд «в самом деле заимствует некоторые мои мнения».397 Но и Кинбот не вполне анти-герой. В конце романа его монолог звучит вполне поавторски: «Я еще поживу. Я, может статься, приму иные образы и обличья, но я еще поживу. Я могу еще объявиться в каком-нибудь кампусе в виде пожилого, счастливого, 395 См.: Комментарий С.Ильина и А. Люксембурга к кн.: Набоков В.В. Собрание сочинений в 5 томах. - СПб, 1997. - Т.3.- С.677. 396 397 Набоков В.В. Собрание сочинений в 5 томах. - СПб., 1997. - Т.3. - С.412-413. Два интервью из сборника «Strong opinions» // Владимир Набоков: pro et contra. - СПб., 1997. С.146. 136 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках крепкого, гетеросексуального русского писателя в изгнании - без славы, без будущего, без читателей, без ничего вообще, кроме его искусства».398 С таким же успехом можно считать главным героем «Бледного пламени» ни Шейда, ни Кинбота, а саму Поэму. Кинбот одержим желанием воплотить свою легенду о Зембле, но сам не в состоянии это сделать. Ему необходим Автор, и вот судьба посылает замечательного поэта Шейда. Как жалок и смешон этот несчастный Кинбот в своих тщетных усилиях быть другом и советником престарелого поэта, вдохновить его своим экстравагантным сюжетом. А, может, просто использовать? Смерть Шейда воспринимается им без тени отчаяния, доминирует голый прагматизм - спасти Поэму! Но не без корыстной цели - стать ее главным истолкователем. Даже когда оказывается, что там нет ни слова ни о Зембле, столь близкой сердцу Кинбота, ни о ее Короле. Комментарий возникает не ради поэмы Шейда, это лишь форма, в которую воплощается собственная «поэма» Кинбота. Он сам в конце -концов вынужден стать автором. Связь обоих поэм, каждая из которых читается через призму другой, составляет сюжетную ткань «Бледного пламени». И весь роман может быть прочитан как роман об Авторе. Но это также роман об идентичности. По крайней мере он может быть прочитан и интерпретирован в этом ключе. Так, к примеру, считает американская исследовательница Патриция Во: «Форма триллера использована Набоковым в «Бледном пламени» для того, чтобы экспериментально исследовать состояние помешательства от тотальной утраты себя, - пишет американская исследовательница. - Оно является комическим исследованием во многих отношениях, и потому что передано через идиосинкразически выраженный солипсизм безумного Кинбота (или Боткина?), который ведет повествование от первого лица и может или не может быть королем Земблы. Кинбот написал подробнейший «академический» комментарий к поэме Шейда «Бледное пламя». Поэма появилась, чтобы стать биографией самого Кинбота, который является Карлом Возлюбленным, королем Земблы. Но является ли он им на самом деле? Является ли поэма вообще поэмой о нем? И не является ли все сочинение не трудом Набокова, а созданием некоего галлюцинирующего психотика? «Тень» появляется в первых строках поэмы, пускаясь своим путем в «отраженное небо». Рефлексии, формы удвоения всегда играют большую роль в триллерах, и у Набокова в особенности (например, роман «Отчаяние»). Не является ли «преследователь» Кинбота таким же порождением его безумия? Или он создан для разрушения поэтики Тени? Не является ли «изгнание» преследуемого «короля» изгнанием из самого себя?»399 и т.д. Нашей задачей здесь не является та или иная версия романа; обращением к роману В.В.Набокова я хотела проиллюстрировать концепцию повествовательной идентичности Рикера как новую и перспективную область критической герменевтики. 4.4.8. Феноменология стиля (на материале творчества М.Пруста) В теории повествовательной идентичности П.Рикера речь идет о процессе восприятия повествования читателем и раскрывается процесс овладения (рефигурации) образом персонажа как промежуточной процедуре на пути к самоидентификации. Но как быть с теми многочисленными произведениями современной литературы, где главным персонажем является сам автор? Даже если отвлечься от воинстующепостмодернистких творений, нельзя не согласиться, что первой личностью в литературе был автор. «Что бы не изображал художник, - святых, разбойников, царей, лакеев, - мы 398 Набоков В.В. Собрание сочинений в 5 томах. - Т.3. - С.533-534. 399 Waugh P. Metafiction. - P.85. 137 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках видим и ищем только душу самого художника», - писал Л.Н.Толстой.400 Между этим высказыванием Толстого и требованием Чехова «Выбрасывать себя за борт всюду, не совать себя в герои своего романа, отречься от себя хоть на 1/2 часа»401 пролегла целая литературная эпоха, стилевая революция в отношении автора и героя повествования. В творчестве А.П.Чехова завершился процесс «отделения» героя от внутреннего автора, потому что концу ХIХ - началу ХХ века прошла пора авторства «апостольства» и авторства пророчества.402 Но началась эпоха модернизма, а затем постмодернизма, и автор снова стал диктатором. На место «профетической» (Н.Бердяев) литературы ХIХ века пришла литература, где уже не душа автора, а только его образ и маска стали стилеобразующей доминантой. По мнению Н.Драгомирецкой, именно Чехов выполнил в этом процессе роль незаменимого «переключателя», который трансформировал стилевую проблематику ХIХ века в стилевую проблематику ХХ века. Функция автора, его роль и место в эстетической деятельности связаны таким образом со сложнейшей проблематикой стиля. Вопрос об отношении автора и стиля ставился М.М.Бахтиным уже в самых ранних своих работах.403 Отношение «автор и герой», «автор и целое произведения» связано с изменением «движущих сил» стиля, стилевых переходов и стилевых сдвигов, которые определяют историческое лицо и эстетические функции повествовательного жанра. Вопрос об авторе и стиле неявно присутствует в спорах, которые постоянно ведутся вокруг постмодернизма. Предельно упрощая, вопрос можно поставить следующим образом: является ли постмодернизм очередным «большим стилем» культуры, какими были барокко, романтизм, и др. или это явление другого разряда, другого плана, другой размерности? И является ли новый образ автора функцией этого стиля? Сами постмодернистские теоретики отвечают на этот вопрос уклончиво. Ж.Ф.Лиотар утверждает, что постмодернизм входит в модерн, но это «не конец модернизма, но модернизм в состоянии зарождения, и состояние это постоянно».404 Или: «постмодернизмом окажется то, что внутри модерна указывает на непредставимое в самом представлении».405 Чтобы не множить определения такого рода попытаемся передать смысл аргументации Лиотара своими словами. Постмодернизм не отмежевывается от модернизма, но интерпретирует его в своем ментальном поле. Для прояснения своей позиции Лиотар обращается к фигурам Пруста и Джойса, в произведениях которых есть, по его мнению, некий намек на непредставимое, на то, «что не дает представить себя, сделать себя присутствующим». Находясь в русле классической литературы -- литературы Бальзака и Флобера - и принадлежа тем самым традиционному институту литературы, Пруст 400 Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. - М,.Л., 1928-1964. - Т.46. - С.71. 401 Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. - М.,1939-1953. - Т.1. - С.155. 402 См.: Драгомирецкая Н.В. Автор и герой в русской литературе Х1Х-ХХ вв. - М.,1991. 403 См.: Автор и герой в эстетической деятельности// Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. - М.,1979. - С.75. 404 Лиотар Ж.-Ф. Ответ на вопрос: что такое постмодерн? // На путях постмодернизма. - М.,1995. С.180. 405 Лиотар Ж.-Ф. Ответ на вопрос... - С.182. « Непредставимое» играет в концепции Лиотара особую роль. Авангардное искусство ХХ века пытается, по его мнению, зримыми представлениями намекнуть на непредставимое. Это, собственно, едва ли не единственная позитивная задача, которую решает постмодернизм. Теоретически мы можем помыслить тотальное, сущее, простое, абсолютно великое, абсолютно могущественное, но не способны дать пример, чувственный объект, который был бы случаем этих идей. Лиотар считает представление этих идей невозможными, и, следовательно, не дающими никакого познания реальности (опыта). 138 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках подрывает этот институт, создав главного героя, который перерос рамки персонажа и стал выражением внутреннего сознания времени. Книга Пруста, несмотря на подрыв институциональных конвенций, остается единой, целостной, тождественной самой себе. Тождественна повествовательная манера, стиль, письмо, и это единство Лиотар с галльским остроумием сравнивает с единством «Феноменологии духа». Джойс пошел дальше. Он начинает экспериментировать уже не только с содержанием, но и с формой: стилем, грамматикой, словарным запасом, нимало не заботясь о сохранении единства и целостности произведения. Непредставимое переходит из содержания в форму. Пруст указывает на непредставимое означаемым, Джойс -- означающим. По-видимому, Лиотар видит путь постмодернизма в падении последних институциональных табу, диктуемых современной «эстетикой возвышенности». «Постмодернистский художник или писатель находится в ситуации философа: текст, который он пишет, творение, которое он создает, в принципе не управляются никакими предустановленными правилами, и о них невозможно судить посредством определяющего суждения, путем приложения к этому тексту или к этому творению каких-либо известных уже категорий».406 Это не постмодернизм без берегов, художник работает для того, чтобы установить правила того, что будет создано. Это парадокс предшествующего будущего (post-modo). Поскольку эксперимент Пруста представляется постмодернистам настолько важным в прояснении их собственного пути, сделаем отступление и остановимся на некоторых философских аспектах стиля и авторского «Я» этого писателя. Восприятие творчества М.Пруста можно выразить словами из его же романа: «Произведение действительно прекрасные, при непосредственном их восприятии, должны особенно разочаровать нас, потому что в наборе наших впечатлений нет ни одного, которое соответствовало бы нашему новому впечатлению»407. Для действительно нового мы используем наши старые слова, мы пытаемся истолковывать и интерпретировать, ибо другого способа нет, чем вливать новое вино в старые мехи. Это ясно видел Марсель Пруст, это понимает каждый творец, открывающий новые, непроторенные пути. К примеру, Пруст описывает свои впечатления от игры драматической актрисы Берма, оценивает достоинства игры - «широту, поэзию, силу, вернее то, что принято обозначать этими словами, так планеты называют Марсом, Венерой, Сатурном, хотя в самих планетах ничего мифологического нет».408 Означающее не связано с означаемым, их связь условна, конвенциональна. Эта соссюровская аксиома давно усвоена гуманитарной мыслью. Что же делает писатель, создавая новые смыслы? Что происходит с языком, который всегда, условно говоря, один и тот же? Личность накладывается на язык, в определенном смысле творит свой язык - так мы говорим о языке Гоголя, Толстого, Набокова, Фолкнера. Но своеобразие языка - это своеобразие стиля, а своеобразие стиля - это своеобразие мышления. «Мы чувствуем в одном мире, мыслим, наименовываем в другом, мы способны установить между двумя мирами соответствие, но не способны заполнить разделяющее их расстояние».409 Модернизм сделал героическую попытку заполнить это расстояние - расстояние между ощущением, впечатлением, переживанием и наименованием, словесным обозначением. Можно ли говорить в этой связи о методе модернизма, как мы ничтоже сумняшеся говорим о методе классицизма, реализма? В искусстве данностью, первичной 406 Лиотар Ж.-Ф. Ответ на вопрос: что такое постмодерн? - С.182. 407 Пруст М. У Германтов. - М.,1980. - С.57. 408 Там же. 409 Пруст М. У Германтов. - С.57. 139 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках реальностью является стиль, а не метод. Метод - это инструмент между моим разумом и миром объективной реальности, стиль - это я сам. Между творческой личностью и её стилем нет щели, зазора, который есть между личностью и методом. Метод инструментален, стиль персоналистичен. Постмодернизм не обладает собственным стилем, он всегда находится, по выражению Деррида, между стилями, и поэтому вынужден постоянно отстаивать свою состоятельность. Отсутствие стиля - это отсутствие голоса, места в искусстве. Эклектика всех ранее бывших стилей, пародирование, пастиш - судорожная попытка заполнить пустоту. Однако зададимся вопросом - что есть стиль? В.В.Набокова, к примеру, называют великим стилистом. Что это означает в чисто культурологическом смысле? Какое качество, какую способность, какое умение? Обращение к филологической литературе, словарям и справочникам не рассеивает тумана, окружающего этот таинственный и всемогущий термин. «Литературный энциклопедический словарь» определяет стиль как общность образной системы, средств художественной выразительности, характеризующей своеобразие творчества писателя, отдельного произведения, литературного направления, национальной литературы. Стиль в широком смысле (а нас пока интересует именно стиль в широком смысле) - «сквозной принцип построения художественной формы, сообщающий произведению ощутимую целостность, единый тон и колорит».410 Связать стиль с целостностью чрезвычайно заманчиво. Но ведь стилем обладают и те произведения, которые сознательно разрушают целостность, отказываются от неё. Жанр эссе, к примеру, лишен целостности по определению, но многие эссеисты обладали и обладают виртуозным стилем. Укажем хотя бы на фигуры Августина Блаженного и Мишеля Монтеня, о который пишет Г.Померанц в связи с природой эссеистического мышления.411 «Исповедь» Августина и «Опыты» М.Монтеня лишены целостности в том смысле, что не включены ни в какую великую систему. Появившись в промежуточные исторические периоды, когда личность могла черпать основу для самостоянья в себе самой, эти произведения стали единственными в своём роде, ни с чем не сопоставимыми памятниками культуры. Они не подчиняются никакому канону, кроме законов собственного «Я»; им невозможно подражать, потому что произведения эти не породили и не могли породить никаких литературных направлений. Постмодернисты поэтому без колебаний относят Монтеня в свой лагерь.412 Стиль ускользает от определений, как ускользает от определения всякая уникальность и единичность. Опять можно сослаться на уже знакомую цитату Пруста. Когда мы встречаем новое имя, новый стиль, «то в наборе наших впечатлений нет ни одного, которое соответствовало бы нашему новому впечатлению». С одной стороны, стилем проникнуто всё, с другой, какой бы элемент поэтики произведения мы стиль», или не предложили для рассмотрения, мы никогда не сможем сказать: «Вот это: «Вот это - элемент стиля». Даже такие маститые авторы, как Р.Барт зачастую вынуждены говорить о стиле метафорически: стиль - это богатство автора и его тюрьма, стиль - это его одиночество; стиль - это некий феномен растительного развития, проявление вовне органических свойств личности; стиль - это всегда метафора, то есть отношение между литературной интенцией актора и «структурой его плоти».413 410 Литературный энциклопедический словарь. - М.,1987. - С.420. 411 Померанц Г. Способы существования в дрейфе (О природе эссеистического мышления) // Континент,92. - 1997. - №2. 412 Лиотар Ж.-Ф. Ответ на вопрос: что такое постмодерн? - С.183. 413 Барт Р. Нулевая степень письма // Семиотика. - М.,1983. - С.310 - 311. 140 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках В семидесятые годы в СССР был издан фундаментальный трёхтомник «Теория литературных стилей», заглавие которого говорит о цели, об исполинской задаче в большей мере, чем об исполнении. Один из томов назывался «Типология стилевого развития 19 века»; однако даже названия глав свидетельствуют об интуиции стиля, а отнюдь не о типологии: «сопряжение пластичности и аналитичности в стиле», «гармония и дисгармония в повествовании и стиле», «синтез простоты и сложности», «многоголосие стилевых систем» и т.д. Традиционное литературоведение, понимая всю важность категории стиля, ограничивалось в его анализе вкусовыми оценками: пластичный, лёгкий, орнаментальный, тяжелый и т.п. Обращение к более новой литературе не облегчает задачи. Литературоведческий словарь 1997 года подчёркивает, что носителями стиля выступают элементы формы художественного произведения: от фабулы и сюжета, композиции до языковых выразительных форм. «Всё это несет на себе стилевую доминанту, которая ощущается в процессе эстетического восприятия произведения, но с трудом поддаётся исследованию и логическому объяснению, когда элементы, которые выражают стилевую определённость произведения, берутся отдельно или даже в совокупности».414 Таким образом, ни отдельные элементы художественной формы, ни вся их совокупность не дают возможности «увидеть» стиль, который тем не менее «ощущается в процессе эстетического восприятия произведения». Мало чем может помочь и сужение проблемы - попытка определить признаки стиля отдельного автора. Стиль конкретного автора можно охарактеризовать с помощью: характера ассоциаций писателя, который лежит в основе его тропики и стилистических фигур, доминирования определенного типа тропов, типов композиции, фабульно-сюжетных особенностей, конструирования пространственно-временного художественного мира творца, читаем в том же словаре.415 Все эти признаки столь же уместны, сколь и избыточны. Если в творчестве одного поэта доминирует метафора, а у другого метонимия, достаточно ли этого, чтобы говорить о разных стилях? Произвольность этого, как и любого другого ряда признаков, достаточно очевидна. Никакая совокупность поэтических средств не даёт представления об индивидуальном стиле; стиль есть выражение чего-то другого, отличного от него самого. Так, например, киновед С.Фрейлих, исследуя стиль Эйзенштейна, приходит к выводу, что стиль у этого режиссёра был «личностным выражением времени».416 В.М.Жирмунский, занимаясь изучением стиля поэтов-символистов, делает заключение о стиле поэта как о «системе связанных между собой приёмов выражения мировоззрения».417 С одной стороны, стиль неотделим от языка, но, с другой, он не может быть сведен к языку. В работе «Нулевая степень письма» Р.Барт разводит язык и стиль по разные стороны Литературы. Язык располагается «как бы по эту сторону Литературы». Стиль же находится едва ли не по другую ее сторону: специфическая образность, выразительная манера, словарь данного писателя - все это обусловлено жизнью его тела и его прошлым, превращаясь мало-помалу в автоматические приемы его мастерства. «Так под именем «стиль» возникает автономное слово, погруженное исключительно в личную, интимную мифологию автора, в сферу его речевого организма, где однажды и навсегда складываются основные вербальные темы его существования, - пишет 414 Лiтературознавчий словник-довiдник. - К.,1997. - С.656. 415 Указ. соч. - С.657. 416 Фрейлих С. Этюды о стиле // Искусство кино. - М.,1983. - С.74. 417 Жирмунский В.М. Введение в литературоведение. - СПб.,1996. - С.410. 141 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках французский ученый. - Как бы ни был изыскан стиль, в нем всегда есть нечто от сырья: стиль это форма без назначения; его толкает некая сила снизу, а не влечет к себе известный замысел свыше; стиль - это человеческая мысль в ее вертикальном и обособленном измерении».418 Стиль - по Барту - сверхлитературное действо, которое больше укоренено в биологической природе, чем в реалиях культуры. Проблема стиля состоит, конечно, не в том, чтобы найти для него подходящее определение или исчерпывающую метафору. Определения в гуманитарных науках немногого стоят, если за ними не открываются новые подходы или новое видение проблемы. По-видимому, дать определение стиля, оставаясь в рамках литературоведения, невозможно. В последующем изложении мы попытаемся дать обоснование стилю как феноменологическому понятию. Вопрос о стиле проблематизирован развитием современного искусства - как модернистского, так и постмодернистского. Во-первых, в метапрозе стиль стал предметом. «Всё, что у меня есть, это мой стиль», - говорил Набоков, и в этом признании не было никакой позы. Если писатели стали писать романы о том, как они пишут романы, то стиль автоматически становится не «единством содержательной формы», а всецело содержательным феноменом. Но это не главное. Может быть, метапроза - это каприз литературы, мгновение самопознания, необходимое для выхода на новые рубежи. Во-вторых, и это представляется более существенным, литература стала свидетельствовать об освоении нового типа опыта. Роман Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» - одно из таких уникальных свидетельств. Этот опыт чрезвычайно мало осмыслен вследствие своей новизны. Вальтер Беньямин писал об этом романе: «Тринадцатитомная эпопея Пруста является результатом...синтеза, адсорбировавшего мистику, искусство прозаика, силу сатирика, эрудицию ученого, самосознание мономаньяка, которые соединились в автобиографическое произведение».419 По сравнению с этим романом все великие произведения литературы стали казаться только частным случаем. Непостижимость эксперимента Пруста прослеживается на всех уровнях: от структуры, которая является одновременно художественным произведением, автобиографией и комментарием к ней, до синтаксиса бесконечных предложений - все нарушает и превышает норму, не вписывается в старые представления о романе.420 Так, А.Михайлов в предисловии к тому «Пленница» замечает, что данный том заполнен «практически ничем», и это совершенно правильно с точки зрения «нормальной» литературы, которой всегда была для нас классика ХIХ века. Все, что так важно для читателя с точки зрения классического содержания - сюжет, интрига, герои - играет у Пруста второстепенную роль. Подлинное содержание другое, то, которое М.Мамардашвили обозначил словами психологическая топология пути.421 Именно так называется внушительная по объему книга философа, посвященная творчеству М.Прусту. Эпопея Пруста - это роман самостановления человеческой личности. Роман у него из нарративного жанра становится жанром феноменологическим. И говорить о стиле такого романа - это говорить о стиле мышления, мышления, которое пытается преодолеть пропасть «между миром, в котором мы чувствуем и миром, в котором мы мыслим и наименовываем». 418 Барт Р. Нулевая степень письма. - С.310. 419 Benjamin W. The Image of Proust // Benjamin W. Illuminations. - New York, 1968. - P.201. 420 Там же. 421 Мамардашвили М. Психологическая топология пути. - СПб.,1997. 142 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках Роман Пруста повествует только об одном, внутреннем «Я» автора, которое даже не всегда сливается с тем «Я», которое воплощено в его теле. Это абсолютное «Я» сращено с длящимся временем, и поэтому в нем содержится в сущности бесчисленное множество «Я». Пруст в своём художественном анализе проделал то же, что одновременно в своей философской системе произвел Э.Гуссерль под названием процедуры «редукции». В «Руководящих идеях к чистой феноменологии» (1913) и в «Картезианских размышлениях» (1931) Гуссерль утверждает, что даже в непосредственных аксиомах познания, таких как «Cogito, ergo sum» Декарта, в действительности имеется по крайней мере два субъекта, два «Я». Одно - то которое мыслит или, как у Пруста, воспринимает мир, - эмпирическое, конкретное «Я». Другое то, которое как бы заставляет сказать «Я мыслю» или «Я воспринимаю мир». Первое, эмпирическое «Я» само принадлежит миру и, по Гуссерлю, должно быть устранено из теоретического рассуждения. Тогда и произойдет «феноменологическая редукция», свершится «эпохэ», а оставшееся, второе «Я» послужит, по мнению Гуссерля, основой философского анализа. Мамардашвили считает, что Пруст лучше и глубже решил феноменологическую проблему, чем Гуссерль. В самом начале ХХ века произошли геологические изменения в культуре - почти параллельно возникают и развиваются модернизм в искусстве и экзистенциализм и феноменология в философии; вследствие этого меняется не только художественный язык, меняется парадигма культуры. Впечатления, которыми наполнена эпопея Пруста - это не объективная реальность и не лабиринты субъективности, это интенциональные акты, эта работа сознания, направленного на: Жильберту, Альбертину, госпожу Сван, бабушку, маркизу де Вильпаризи, герцогиню Германтскую, Сен-Лу и великое множество других персонажей. Если этот роман рассказывает какую-либо историю, то это история не в смысле событий и сюжета, а главным образом история памяти. На протяжении своей многотомной эпопеи Пруст не столько описывал события, впечатления и переживания, сколько ткал и распускал ткань времени, повторяя, по словам В.Беньямина, Пенелопин труд памяти и забвения. «Переживаемое событие конечно или по, по крайней мере, ограничено сферой опыта, - писал в этой связи В.Беньямин,- вспоминаемое событие является бесконечным, потому что только оно является ключом ко всему, что случилось до и случится после него».422 Будучи одержимым культом подобия, изучая бесчисленные сходства, Пруст трансформирует бытие в заповедник памяти. Единство многотомного романа Пруста конституировано не сюжетом и даже не автором, а только actus purus (чистой деятельностью) самой памяти.423 Роман Пруста интересен нам только как событие, так сказать, эпохальное в истории европейского романа, он позволяет по-новому посмотреть на проблему автора и стиля. Понятие стиля связано, на наш взгляд, со способом самоосуществления «Я» в произведении (или в тексте, если пользоваться более современной терминологией). Стиль феноменологичен, ибо снимает грань между миром чувствований (желаниями, мотивами, впечатлениями) и миром наименований, слов. Феноменология, как известно, не разделяет мир на явление и сущность. Анализируя сознание, она исследует субъективное познание и его объект одновременно. Для феноменологии не существует дуализма «внешней» и «внутренней» реальности. Объект - это активность самого сознания»; и если говорить о романе Пруста адекватным образом, то мы не можем и не вправе говорить о форме и содержании, не можем обнаруживать стиль в «своеобразии содержательной формы». Стиль заключен не в словах. Художественный стиль, по выражению М.М. Бахтина, «работает не словами, а моментами мира, ценностями 422 Benjamin W. The Image of Proust. - Р.202. 423 Ibid. - 203. 143 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках мира и жизни, его можно определить как совокупность приемов формирования и завершения человека и его мира (выделено нами - Т.В.), и этот стиль определяет собою отношение к материалу, слову, природу которого, конечно, нужно знать, чтобы понять это отношение».424 Стиль в том, чтобы выразить то, чем «Я» являюсь, чем «Я» становлюсь в процессе письма дискурсивными же средствами. Поэтому мы ищем стиль не в слове, а как бы «сквозь слово», ибо под стилем «залегают такие слои реальности, которые абсолютно чужды слову».425 Текст, книга, произведение тогда не продукт и конечный результат творчества, а что-то наподобие зеркала. В творческом процессе происходит не просто отражение личности, а именно самостановление. Пруст говорил, что в действительности автором произведения не является тот человек, которого мы наблюдаем со стороны в качестве биографического субъекта, - автором произведения является некое «Я», которое само впервые становится посредством этого произведения.426 Этот поразительный феномен открыли не модернисты. Говорят, Лев Толстой, на вопрос, почему он так медленно пишет, отвечал: «Я переделываюсь, когда пишу». Но в ХIХ веке эта проблема еще не была осмыслена. Современная культура изобилует признаниями подобного рода. В интервью, данном Франсуа Эвальду, Мишель Фуко, отвечая на вопрос, почему его «История сексуальности» выходит совсем по другому плану, сказал: «Работа, которая не является попыткой изменить не только то, что ты думаешь, но одновременно даже и то, что ты есть, не очень-то захватывает». Работать, по мнению философа, «это значит решиться думать иначе, чем думал прежде».427 Сам Пруст сердился и недоумевал, когда в его романе видели очередную «психологию души», он настаивал на том, что его произведение не «микроскопично», но «телескопично», его психология была путем к тому человеческому бытию, которое находится вне видимостей, ролей и масок. Он сравнивал романиста с геометром, который стремится ухватить сущности и жесты, которые в философском смысле равносильны понятию Бытия. Юлия Кристева, автор книги «Время и смысл: Пруст и опыт литературы», в интервью, данному Алану Николасу, говорила: «По моему мнению, опыт романа - это единственная вещь, которая может открыть истину значений и смыслов открывая, что Абсолют образуется взаимодействующими сюжетами, неоднозначностью характеров, погружением знаков в ощущения. Именно такова динамика прустовской транссубстанциональности, которую он «заземлил» на прекрасном искусстве метафоры и синтаксиса». 428 Тексты - не окаменевшие продукты мысли, они участвуют в реальной жизни. Литература у Пруста - это способ построения душевной жизни, вернее, говоря словами самого писателя, «открытие нашей истинной жизни», которое может быть сделано только в самом процессе созидания этого произведения. В «Пленнице» герой, многими узами связанный с автором, освобождается от мании собственника посредством текста. Ревнивец-мономан, проходя все круги внутреннего ада, изменяет свое сознание «до уничтожения последней иллюзии». Материал произведения составляется из материала жизни, а вся многотомная эпопея оказывается «единственным способом восстановить утраченное время», то есть подчинена решению смысложизненной, а не только эстетической задачи. 424 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. - С.169. 425 Ролан Б. Нулевая степень письма. - С.311. 426 См: Мамардашвили М. Психологическая топология пути. - С.463. 427 Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. - М.,1996 - С.309. 428 Kristeva J. Proust: A Search for Our Time// Kristeva J. Interviews. - New York, 1996. -P.239. 144 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках Это отношение к искусству было слишком новым и необычным. Даже такой тонкий и глубокий критик, как В.Вейдле, увидел в литературе подобного рода только кризис вымысла, и следовательно, кризис всего искусства. Пруст, по его мнению, обреченный видеть и воплощать во всем доступном ему мире единственную реальность собственного «я», вместо романа написал нескончаемые, лишь отчасти выдуманные мемуары, жизнь и личность растворил в неисчерпаемом потоке единого воспоминания.429 «Пруст и Джойс нанесли роману тяжкий и решительный удар: Пруст - отрицанием формы, Джойс - навязыванием ему насильственной формулы. После них писать романы нельзя, как их писали прежде». Писатели заменили вымысел - самую древнюю, неоспоримую и наглядную форму литературного творчества - познанием. Вейдле увидел в этом грозный симптом того, что силы вымысла в мире иссякли, и сквозь поэзию стал проступать рассохшийся костяк литературы. Упрёк Вл.Вейдле, брошенный современной ему литературе (А.Жид, М.Пруст, Дж.Джойс, Р.Музиль, В.Сирин) касался не только утраты вымысла. Европейский роман хотя и не был, по его мнению, окончательно отделен от своего автора, все же показывал человека и его дела как бы независимо от предварительно воспринявшего их авторского глаза (подчеркнуто нами - Т.В.). Герои романа двигались в некотором не до конца пересозданном и отделенном от автора мире, именно поэтому казавшимся нашим общим миром, миром одинаковым для всех людей.430 Иллюзия объективности, целостной реальности, общего мира оказалась разрушенной. Это произошло не потому, что исчез объект, а потому что радикально изменился субъект. Представления о мимезисе, отражении, предназначении художника в мире оказались не вневременными эстетическими идеалами, а вчерашними литературными условностями. Автор, субъект творческого процесса, который был ранее как бы растворен в вымысле, приобрел вдруг массивную плоть. Искусство стало рассказывать не об общем для всех мире, а о множественности познаваемых миров, множественности «Я», множественности восприятий одного и того же «общего мира». Мир за окном стал менее интересен художнику, чем стекло, сквозь которое он этот мир видел и постигал. То ли вдруг изменились законы искусства, то ли так изменился мир, но герой, характер стал неотделим от автора и от этого вмиг разрушилась иллюзия «общего для всех мира» и державшиеся на этой иллюзии «законы» реалистического искусства. Пруст не отделяет себя от рисуемых характеров - любимых, нелюбимых, величественных, жалких, всяких. Он - один из них, он не по ту сторону, по эту. «Его характеры, - пишет Ю.Кристева, - одновременно лаконичные и противоречивые, одновременно внутренние и внешние по отношению к нарратору – «он один из них», и он высмеивает их»431. По мнению Вейдле, Пруст превзошел и перерос всех современных ему авторов. Этот прикованный к себе писатель «из трепетаний собственного «я» извлекающий всё, чем до краёв полна его гениальная, пленительная, чудовищная книга, где нет ни одного предмета, ни одного лица, которые существовали бы независимо от автора, ни одной страницы, в которой мир бы был наш общий или Божий, а не его собственный, где творческая личность и всесильна и немощна одновременно».432 Отказ от «общего мира» означал, по нашему мнению, радикальный сдвиг, феноменологический поворот, осознание того факта, что для художника ХХ века нет и не может быть независимого «общего» мира, что, может быть, его не бывает вообще. Для Пруста проблема 429 Вейдле В. Умирание искусства. - СПб, 1996. - С.14. 430 Вейдле В. Умирание искусства. - С.29. 431 Kristeva J. Proust: A Search for Our Time. - P.238. 432 Вейдле В. Умирание искусства. - С.17. 145 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках впечатлений и их запечатлений в памяти есть феноменологическая проблема, проблема феноменологического взгляда, в котором устранено сознание видения предмета, содержащего причинную, объясняющую терминологию. Переворот, учиненный Прустом, а затем Джойсом, действительно, явил миру чудовищную литературу. Эта литература разрушала предшествующую эстетику, и вдруг обнаружилось, что нет теории, нет категориального аппарата, приложимого к этой новой литературе. Не оказалось даже языка, чтобы выразить впечатление от восприятия новых произведений. Но этот переворот не был ошибочным или тупиковым ходом. Тем более, он не был солипсизмом, как казалось Вейдле. Эстетический эгоизм модернистов коренился не в солипсизме, а в отказе от соблазна социальности, в отказе думать и познавать за других. Для опыта самосознания вымысел не подходил, и он был отброшен. Пруст одержал победу, писал Вейдле, но вторично победить на этом поле нельзя.433 Но нельзя стало и писать по-старому. За право овладеть новым стилем писатели заплатили утратой популярности, потерей успеха у массового читателя, изгойством элитизма. Какая-то неосмысленная еще закономерность лежит в основе этого процесса - процесса распространения нового стиля. Ведь не так происходит, что появляется гений, основатель нового «большого стиля», а потом, как круги на воде, появляются соперники, эпигоны, подражатели, и, в конце концов, новый стиль побеждает, становится господствующим на некоторое время. Простое объяснение состоит в том, что каждая культурная эпоха требует своего выразительного языка, пресловутый «дух времени» нуждается в материализации посредством стиля. И так же, как научное открытие, потребность в котором назрела, очень часто совершается не одним, а несколькими учеными, художественный стиль рождается и распространяется не из одной точки, а как бы спонтанно и повсеместно. Поэтому так называемые «большие стили» - барокко, классицизм: романтизм, реализм - наднациональны и надиндивидуальны По крайней мере, так было с европейскими стилями Нового времени. После Пруста невозможно стало писать по-старому, как старику невозможно снова стать ребенком, а цивилизованному человеку - дикарем. То новое, что пришло в искусство, нельзя вместить только в понятие стиля, но модернизм облегчил способы нашего теоретизирования о стиле. Чем обусловлены стилевые закономерности и стилевые переходы, стилевые сдвиги в культуре? Стили историчны, но чем обусловлена сама эта историческая изменчивость - определенная изобразительная форма эпохи? О необходимости поисков этом направлении, о необходимости открытия нижнего слоя понятия, относящегося к изображению как таковому писал немецкий историк искусства Г.Вельфлин: «...Дать историю развития западного видения, для которого различие индивидуальных и национальных характеров не имеет большого значения. Раскрыть это внутреннее оптическое различие, конечно, совсем не легко, потому не легко, что изобразительные возможности эпохи никогда не обнаруживаются в отвлеченной чистоте, но, как это естественно, всегда связывается с известной манерой выражения, и благодаря этому исследователь большей частью бывает склонен в выражении искать объяснение всего явления».434 То, что Мишель Фуко проделал в исследовании истории мысли, должно быть проделано и по отношению к истории стилей. Стиль заключает в себе совокупность тенденций, систему предрасположенностей эпохи, которые должны воплотиться в произведении. Рассказчик Пруста «приходит к 433 . Там же. - С.31. 434 Вельфлин Г. Основные понятия истории искусства. - М.-Л., 1930. - С.14. 146 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках выводу», что «...создавая произведение искусства, мы никоим образом не свободны, так как мы создаем его, исходя не из собственной воли, но из того, что предсуществует в нас, и поэтому, так как оно необходимо и сокрыто, мы должны поступать с ним как с законом природы, то есть открывать его».435 Индивидуальный стиль в литературе и в искусстве выражает личность не тогда, когда он творится из ничего, а напротив, когда он возникает из надличного стилистического потока, из «эстетического бессознательного» эпохи. «Стиля нельзя ни выдумать, ни воспроизвести; его нельзя сделать, нельзя заказать, нельзя выбрать как готовую систему форм, годную для перенесения в любую обстановку; подражание ему приводит только к стилизации», - писал В.Вейдле.436 Стилизация (под Джойса, под Фолкнера, под Набокова) всегда повторяет уже найденное когда-то мастером, но не способна к новому слову. Стилизация уходит в дурную бесконечность бесчисленных повторений, поэтому невозможно писать своё чужим стилем. Ролан Барт отмечал, что стиль представляет собой самодовлеющий личностный акт, его нельзя помыслить как продукт выбора или рефлексии писателя относительно Литературы. Марсель Пруст, описывая «стиль» своего персонажа - знаменитого писателя Бергота- замечает, «что любая страница Бергота не имела ничего общего с тем, что мог бы написать кто угодно из пошлых его подражателей, хотя и в газетах и в книгах они, не скупясь, украшали свою прозу образами и мыслями «под Бергота»».437 Красота, особенность языка этого писателя легко узнавалась, пишет Пруст, и все же она была единственной, как открытие, благодаря которому она появилась на свет. Она была новой, следовательно, непохожей на то, что именовалось «стилем Бергота», который представлял неопределенный синтез всех Берготов, которых он уже нашел и выразил и которые не давали бездарностям ни малейшей возможности предугадать, что же ещё он откроет.438 Личность творит себя в процессе своего творчества, она не завершена в своем развитии. Бергот - это синтез всех Берготов, как сам Пруст - синтез всех Прустов, которых мы находим на страницах его романа. Стиль, таким образом, показывает нам топологию пути, историю становления творческого «Я». Стиль - это индивидуальный способ самораскрытия и самосозидания, явления себя самому себе. И, конечно же, ни один новатор не находит его готовым, он не усваивается из мира внешних форм, он появляется из внутреннего «Я» художника. Когда мы утверждаем, что стиль феноменологичен, мы просто по-иному выражаем мысль Пруста о стиле как о форме души. Г.Флобер, повторяя Бюффона, говорил что «стиль - это человек» или «стиль - это сам человек». Л.Витгенштейн замечал по этому поводу: «Первое выражение отличает похвальная меткая лаконичность. Второе, правильное, открывает перед нами совершенно иную перспективу. Оно говорит, что стиль - картина человека»439 Но так же как личность не является «автором» или причиной своей души, она не является единственным истоком своего стиля, своей выразительной способности. Стиль - это одновременно и надличная предопределенность всякого личного творчества. «Стиль и есть предопределение, притом осуществляющееся не извне, а изнутри, сквозь свободную волю человека, и поэтому не нарушающее его свободы как художника, никогда не 435 Цит.по: Рорти Р. Случайность, ирония и солидарность. - М.,1996. - С.133. 436 Вейдле В. Умирание искусства. - С.87. 437 Пруст М. Под сенью девушек в цвету. - М,.1976. - С.134. 438 Пруст М. Там же. 439 Витгенштейн Л. Культура и ценности// Витгенштейн Л. Философские исследования. - М.,1994. С.483. 147 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках предстоящее ему в качестве принуждения, обязанности, закона. Стиль есть такое общее, которым частное и личное никогда не бывает умалено»440. Критическая мысль, осваивая художественный опыт модернизма, упрекала его в уходе от жизни, в утрате веры в единство человека, цельную личность, в потере интереса к живому человеку, в отделении сознания от личности, в этической индифферентности. Но для писателей, которым тесны оказались старые выразительные формы, поэзией стало чувство собственного существования, говоря словами М.Хайдеггера, «фундаментальное событие нашего бытия»441, возможности по-новому осмыслить и отразить это бытие. Пруст выражал это так: то, что я знаю - не моё, моё - только то, что я вырастил из себя.442 Когда герой романа Марсель размышляет о двух способах выражения одного итого же впечатления о девушке: «...ах, как она мила», то это знание есть замаскированное выражение того, что «мне было приятно её поцеловать». Это последнее - правдивая констатация, переживание состояния, тогда как первое - это не моё, чужое, ничейное знание. Знание, не имеющее субъекта. Чужое знание, сколь бы истинным оно не было, не вписывается в силу своей чужеродности в мой индивидуальный опыт. Еще один пример из романа: Марсель знает, что любовница его друга Сен-Лу была раньше десятифранковой проституткой, которую он встречал в публичном доме. Но скажи он об этом Сен-Лу, который действительно и слепо влюблён, разве могло бы это знание разрушить весь тот сложный мир образов, представлений, чувств и заблуждений, которым является любовь Сен-Лу? Для Пруста совершенно невозможно сказать об этом Сен-Лу не по этическим даже, а исключительно по психологическим причинам, ибо Сен-Лу не cпособен принять это знание, которое может разрушить не только любовь, но его собственную самотождественность. Основа достоверности для Пруста -- впечатления, их нельзя измыслить, нельзя получить дедуктивным путем, нельзя предположить гипотетически, нельзя позаимствовать и нельзя внушить другому. Впечатления -- независимые испытания мира. Они могут быть только моими собственными, можно знать о других, чужих впечатлениях, но их нельзя переживать. В рефлексии над своими впечатлениями человек соединяется с самим собой. И это единственный путь в реальность. Путь индивидуальной метафизики, индивидуальной этики и индивидуальной эстетики. Чужие идеалы, ценности, нормы так же невозможно воспринять, как и чужой опыт и чужое знание. И если можно говорить об антигуманизме по отношению к искусству модернизма, то этот очень честный и последовательный антигуманизм - это отказ от утверждения непережитого. ХХ век показал, что гуманизм, утверждаемый извне -- как идеология, нежизнеспособен, он погружается в бездну распада и хаоса при соприкосновении с действительностью. Человек человечен не путём следования идеалам и нормам, а экзистенциально - открывая человека в себе самом. Говорить о стиле - это говорить об особенностях видения автора, об особенностях его изобразительного мышления, о непроизвольности ума. Это гораздо более глубинное в художнике, чем идеи и сюжеты. Пруст описывает своеобразную манеру Бергота говорить о литературе. «Когда Бергот хорошо отзывался о чьей-нибудь книге, он - еще и для того, конечно, чтобы лишний раз отмежеваться от предшествующего поколения, любившего отвлеченности и пышные фразы, - всегда выделял, всегда отмечал образ или картину, не имевшие символического значения. «Да, да! Это хорошо! - говорил он. Там есть девочка в оранжевом платке. Да, это хорошо! Или: «Ну как же! Там есть такое место, где по городу проходит полк. Как же, как же! Это хорошо!»». Позднее подобную манеру говорить о литературе в совершенстве усвоил 440 Вейдле В. Умирание искусства. - С.87. 441 Хайдеггер М. Время и бытие. - М.,1993. - С.20. 442 См: Мамардашвили М. Психологическая топология пути. - С.69. 148 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках В.Набоков. В «Даре», в знаменитом разговоре о русской литературе с воображаемым Кончеевым, протагонист автора в «Братьях Карамазовых» выделяет только ...«след от мокрой рюмки на садовом столе», а у Тургенева «серый отлив черных шелков», у Лескова -«галилейский призрак, прохладный и тихий, в длинной одежде цвета зреющей сливы». Конечно, как и у Бергота, у Годунова-Чердынцева это реакция на избыток социальности и высокопарной идейности предшествующей эпохи, вид художественного снобизма. И у Пруста, и у Набокова речь, очевидно, идет о стиле, о том, что стоит за сюжетами. Как объяснить, что стоит за сюжетом «Шинели»? Вся великая литература, Набоков был убежден в этом, суть феномен языка, а не идей. И тогда «Шинель» - это «бормотание, бормотание, лирический всплеск, бормотание, лирический всплеск, бормотание, лирический всплеск, бормотание, фантастическая кульминация, бормотание, бормотание и возвращение в хаос, из которого всё возникло». На этом сверхвысоком уровне искусства, полагал Набоков, литература не занимается оплакиванием судьбы обездоленного человека или проклятиями в адрес власть имущих. «Она обращена к тем тайным глубинам человеческой души, где проходят тени других миров, как тени безымянных и беззвучных кораблей».443 Стиль, эти «бормотания и всплески», выходит не из сюжетов, хотя сюжет их организовывает и упорядочивает, а из глубин человеческой души. В стиле душа оформляется, становится, осуществляется. Новый способ видения художник утверждает не только для себя, но и для других (или не только для других, но и для себя). Но на это усвоение художественного открытия могут уйти столетия. «Было время , когда все вещи сейчас же узнавались на картинах Фромантена и не узнавались на картинах Ренуара, - замечает Пруст. Люди со вкусом говорят нам сегодня, что Ренуар - великий живописец ХVIII века. Но они забывают о Времени и о том, что даже в конце XIX века далеко не все отваживались признать Ренуара великим художником. Чтобы получить такое высокое звание, и оригинальный художник, и оригинальный писатель действуют по способу окулистов. Лечение их живописью, их прозой не всегда приятно для пациента. По окончании курса врач говорит нам: «Теперь смотрите». Внезапно мир (сотворенный не однажды, а каждый раз пересоздаваемый новым оригинальным художником) предстает перед нами совершенно иным и вместе с тем предельно ясным. Идущие по улице женщины не похожи на прежних, потому что они ренуаровские женщины, те самые ренуаровские женщины, которых мы когда-то не принимали за женщин. Экипажи тоже ренуаровские, и вода, и небо; нам хочется побродить по лесу, хотя он не похож на тот, что, когда мы увидели его впервые, казался нам чем угодно, только не лесом, а, скажем, ковром и хотя в тот раз на богатой палитре художника мы не обнаружили именно тех красок, какие являет нашему взору лес. Вот она, новая, только что сотворенная и обреченная на гибель вселенная. Она просуществует до следующего геологического переворота, который произведет новый оригинальный художник или новый оригинальный писатель».444 Изменение зрения, описанное Прустом, может быть отнесено и к великим научным открытиям или философским системам.445 И, разумеется, для того, кто находится внутри ренуаровской вселенной или гегелевской или ньютоновской, другие вселенные кажутся ложными или несуществующими. Р.Рорти относит Пруста к разряду иронических теоретиков, тех, кто стремится метафизическую метафору отстраненного взгляда (сверху вниз) заменить исторической метафорой отстраненного взгляда на прошлое вдоль горизонтальной оси. «Он хочет 443 Набоков В.В. Лекции по русской литературе. - М.,1996. - С.130. 444 Пруст М. У Германтов. - С..332-333. 445 Ср.: Кун Т. Структура научных революций. - М., 1977. - Раздел Х. 149 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках быть способным подвести итог своей жизни в своих собственных терминах».446 Чтобы возвыситься над судьбой, надо извлечь из нее смысл, а для этого её необходимо переописать (любимый термин Р.Рорти). Это переописание содержит в себе задачу самосозидания, самоидентификации, или, говоря поэтически, задачу расширения души. Этот процесс только внешне напоминает ретроспекцию. Ретроспективное прочитывание жизни Прустом – это беллетризированная биография, мемуары или исповедь. Он не описывает себя, а проходя по улицам и камням своего прошлого впервые обретает, а значит, и понимает то «Я», которое и есть он сам. Это «Я» впервые становится и конституируется в процессе создания текста произведения. «Труд художника, который стремится к тому, чтобы под материей, под опытом, под словом увидеть нечто другое, - говорит Пруст, - этот труд является на самом деле трудом обратным по отношению к тому, что – когда мы живем, отвернувшись от самих себя, -- производят каждую минуту себялюбие, страсть, ум и привычки, когда они наваливаются на подлинное впечатление, чтобы окончательно для нас его закрыть, номенклатурное расчленение мира, практические цели, -- что мы ложно называем нашей жизнью».447 Всё, что проделывает Пруст, есть не проблема метода (этот способ видения невозможно применить кому-либо ещё, невозможно тиражировать, недаром же Вейдле отмечал, что нельзя вторично победить там, где одержал победу Пруст). Это по преимуществу проблема стиля, ибо речь идет о личности, о работе сознания, а не о мышлении, изображении или воспроизведении. Пруст вообще не изображает в традиционном смысле этого слова. В одном из писем он говорит, что никогда не писал, как «некто открыл окно, вымыл руки или надел плащ». В эстетике Пруста, как и в эстетике Набокова, «реалистические» фразы подобного рода являются совершенно пустыми. Стиль у Пруста – это продуктивный механизм жизни, а не носитель «содержательной формы». И это сложное искусство (искусство стиля), которое многим кажется излишней роскошью, «есть единственное живое искусство. Только оно для других выражает и нам показывает нашу собственную жизнь, ту жизнь, которую нельзя наблюдать, и видимые явления чего нуждаются в том, чтобы быть переведенными и прочитанными, часто в обратном смысле, и быть расшифрованными с большим трудом».448 С интуицией о стиле как о продуктивном механизме жизни перекликается высказывание Л.Витгенштейна о том, что «писать в правильном стиле - это значит точно поставить вагон на рельсы».449 Развернем это сравнение. Вагон - это вся глыба содержательного материала. Он может быть прекрасным, новым, но он не способен двигаться, если нет соответствующего ему, уникального и оригинального, своего, или, как говорит Витгенштейн, «правильного», стиля -- рельсов. Найти нужный стиль – это позволить содержанию двигаться и развиваться, разворачиваться и жить. Вагон без рельсов смешон и беспомощен, он никуда не поедет, материал без стиля – мёртв. Находясь в вагоне без рельсов, мы видим из окна вагона одно и то же. Но двигаясь по рельсам, мы открываем мир за окном. И кто знает – вагон мчится по рельсам или рельсы мчат вагон? Стиль – артикулированная конфигурация, которая сама производит определенные эффекты, причем и такие, которые стихийно, естественным путём не могли бы возникнуть. Стиль задаёт произведению импульс саморазвития. 446 Рорти Р. Случайность, ирония и солидарность. - М.,1996. - С.132. 447 Цит. по :Мамардашвили М. Психологическая топология пути. - С. 232. 448 Там же. 449 Витгенштей Л. Культура и ценности. - С.448. 449 Витгенштей Л. Культура и ценности. - С.448. 150 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках Литературоведение различает «большие стили» культуры, стили индивидуальных авторов и стили произведений. Мы делаем акцент на персонологической укорененности философски понятого стиля, только на поверхностном уровне связанного со словом иязыком. Феноменологический сдвиг, обозначившийся в литературе, начиная с Пруста, состоял в том, что художник переходит от гносеологии (познания, отражения, мимезиса) к онтологии (изучению и изображению) функционирования собственного сознания, сознания как творчества. Многообразие авторского «Я» у Пруста и после Пруста- это срезы и «моментальные снимки» творческого сознания. Для Пруста проблема впечатлений и их запечатлений в памяти и есть феноменологическая проблема, проблема феноменологического взгляда, в котором устранено сознание видения предмета, содержащего причинную объясняющую терминологию. Вместо объяснения – понимание, вместо отражения – сознание и стиль. Стиль поэтому надо описывать и изучать не как сумму приёмов, а как целостную структуру сознания. Ключом к внутренней структуре прустовского взгляда может служить описание писателем военного неба над Парижем, где скрещиваются лучи прожектора, выхватывая на какие-то доли секунды самолет или дирижабль в небе. Это физическая метафора того, как устроено художественное зрение писателя, взгляд которого падает на людей и на события, а не просто на ночное небо, освещённое прожекторами. У Пруста все излагается в перекрещивании многих перспектив. Все события и все люди как бы растворены, подвешены в этом небе, и лучи пронзают их так, чтобы слепить то, что они пронзили. Пруст как бы нейтрализует различение среды и выделенного индивида: у него то, что происходит в индивиде, происходит как бы в каком-то «межсредии», или само человеческое существо есть нечто, живущее в «между»; - люди как бы существа среды, а не существа, спрятанные под оболочкой своего тела, которое дискретно и выделенным образом выделяет человека из среды. Это движение объединения того, что на поверхности кажется разъединенным и разделенным, М.Мамардашвили называет «выворачиванием внутреннего и овнутрением внешнего»450. Традиционное различение внешнего и внутреннего при этом исчезает. Искусство ХХ ясно показало, что художник в действительности не реализует предданный образ и предданую мысль, а в пространстве его произведения или его творчества случается событие, после которого кристаллизуется то, что называется образом, пониманием и мыслью. Поэтическое качество мира, которое выражается в произведении, не существовало в мире как возможность, -- написав произведение, художник впервые делает его возможным.451 Таким образом, единство автора и стиля, рассмотренные под феноменологическим углом зрения, с необходимостью ставит задачу изменения методологии гуманитарного исследования. Используя метафору Витгенштейна, можно сказать, что проблемы человеческого сознания, человеческой субъективности и самотождественности приобретают во взаимосвязанных категориях автора и стиля те рельсы, став на которые, вагон «философии литературы» может двигаться дальше. 4.4.9. Проблема автора в философском дискурсе: концептуальные персоны Проблема автора, актуализированная развитием современной художественной прозы, находит своеобразное преломление в истории философии. Единство автора как субъекта философствования, кажется, никогда не подвергалось сомнению. Автор, рассказывающий историю людей и событий, практически не может избежать соблазна 450 451 Мамардашвили М. Психологическая топология пути. -С.383. Там же. - С.381. 151 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках создать свой внутритекстовый эквивалент. Философ, рассказывающий историю идей, всячески избегает такого соблазна. Философия здесь сродни науке. Хотя философ не может не видеть себя как образ в истории своего - историко-философского метанарратива. «Радикальный ироник» Р.Рорти предпринял попытку сравнить нескольких теоретиков - Пруста, Ницше и Хайдеггера - как авторов проекта собственного самосозидания. Но у Рорти сравниваются не внутритекстовые, а внетексовые персоналии в их отношении к «платонистско-кантианскому канону». Более релевантной целям нашего анализа авторства представляется другая попытка, а именно та, которую предприняли Ж.Делез и Ф.Гваттари в своей книге «Что такое философия?»452. Одной из тем этой книги является расшатывание твердыни логоцентризма. Главная особенность логоцентризма, по выражению Дерриды, заключается во всеобъемлющей тенденции западной мысли ассоциировать истину с голосом или «словом» (logos), которое воспринимается как непосредственное выражение самоналичного (self-presence) сознания. Логоцентризм стремится получить доступ к понятиям вещей в их чистой и незамутненной форме.453 Субъект здесь - не автор собственной мысли, а только ее субстанция и основание. В философии ХХ века мы наблюдаем, с одной стороны, попытку вырваться из заколдованного круга субъект-объектной проблематики, с другой, новые способы философствования о субъекте. Dasein Хайдеггера, археология субъекта Фрейда, феноменология Гуссерля, герменевтика субъекта Фуко и Рикера по-разному ставят и решают эту проблему. Кто является субъектом философского дискурса? Какова область значений того «Я», которое говорит «Я мыслю»? В какой мере правомерна идентификация двух понятий - субъекта и «Я»? Один из способов расшатывания логоцентризма - поиски пресуппозиций понятий, в частности тех, которые лежат между понятием и дотеоретической плоскостью. В книге Ж.Делеза и Ф.Гваттари в качестве таких пресуппозиций выступают концептуальные персоны (conceptual personae)454. Концептуальной персоной, согласно авторам книги, является тот субъект, который стоит за понятием, но не может быть отождествлен с самим философом.455 В случае cogito Декарта, к примеру, это - «Идиот»: он говорит «Я» и выдвигает cogito, но тоже имеет субъективные пресуппозиции. «Идиот» является приватным мыслителем в противоположность публичному учителю: учитель опирается на твердо усвоенные понятия, в то время как приватный мыслитель формирует понятия благодаря природной способности, которую находит в себе («я мыслю»). Здесь обнаруживается очень странный тип персоны, которая хочет мыслить и которая мыслит самостоятельно, благодаря «естественному свету». Этот «Идиот» является концептуальной персоной.456 История философской мысли богата примерами концептуальных персон. Иногда они имеют собственное имя, как Заратустра или Дионис у Ницше. Иногда это 452 Deleuze G., Guattari F. What is Philosophy? - London,1996. 453 West D. An Introduction to Continental Philosophy. - Cambridge,1996. - Р.76. 454 В недавно вышедшем переводе этой книги, выполненном С.Н.Зенкиным, слово personae переводится как «персонажи». 455 В определенном смысле понятие «концептуальной персоны» тождественно понятию «образ автора», рассмотренного ранее. 456 Deleuze G., Guattari F. What is Philosophy? - Р.61-62. 152 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках безымянное и скрытое «Я», которое должно быть реконструировано читателем. Принципиальной концептуальной персоной платонизма является Сократ. Паскаль и Киркегор часто извлекали своих концептуальных персон из Ветхого Завета. Постоянно порождая концептуальных персон, история философии не особенно озабочена из изучением. Концептуальные персоны не тождественны образам художественного произведения. Первые производят изменения в плоскости имманентности, которая есть образом Мышления-Бытия (noumenon), тогда как вторые участвуют в создания образа Мира (phenomenon). Различие между концептуальными персонами и эстетическими образами состоит, прежде всего, в том, что первые реализуют сущность и силу понятий, тогда как вторые реализуют сущность аффектов и перцептов (percepts). «Искусство мыслит не меньше, чем философия, но оно мыслит принципиально иначе».457 Концептуальные персоны отличаются и от персонажей философского диалога, лишенных интеллектуальной автономии. Диалогических характеры (например, в сократических диалогах) только номинально совпадают с концептуальными персонами. Персонаж диалога излагает, но не создает понятия. Персонаж диалога излагает концепты; в самом элементарном случае один из этих персонажей, симпатичный, представляет точку зрения автора, тогда как другие, более или менее антипатичные, отсылают к другим философиям, излагая их концепты и тем самым препарируя их для критики или изменений, которым собирается подвергнуть их автор. 458 Концептуальная персона, в отличие от диалогического персонажа, доводит до конца развитие мысли, которое описывает авторскую плоскость имманенции, она играет существенную роль в самом процессе создания понятий. И потому, даже будучи «антипатичными», они всецело принадлежат начертанному данным философом плану и сотворенным им концептам. Концептуальная персона не является представителем, заместителем или уполномоченным лицом философа, но, скорее, наоборот, философ предоставляет лишь телесную оболочку для своей главной концептуальной персоны и всех остальных, которые являются заступниками и истинными субъектами его философии. Концептуальные персоны являются «гетеронимами» философа, а имя самого философа - просто псевдонимом его концептуальных персон.459 Концептуальная персона, утверждают авторы книги, - это становление или же субъект философии, эквивалентный самому философу, так что Кузанец или даже Декарт должны были бы подписываться «Идиот», подобно тому как Ницше подписывался «Антихрист» или «Дионис распятый». То есть по сути они выполняют роль, аналогичную той, которую выполняет «образ автора» в художественной литературе. И так же, как очень неоднозначным является отношение между «образом автора» и эмпирическим автором в литературе, вряд ли можно отождествлять концептуальную персону философского произведения с самим философом. И дело вовсе не в том , отождествлял или не отождествлял себя Ницше с Заратустрой, а Платон, писавший «Диалоги», - с Сократом. Проблема гораздо интереснее и касается, по моему мнению, роли творческого воображения в философском тексте - созданию несобственных мыслительных проектов, выходу за те интеллектуальные пределы, в которых протекает мое мышление. 457 Deleuze G., Guattari F. What is Philosophy? - Р.66. 458 Deleuze G., Guattari F. Op. cit. - Р.63. 459 Deleuze G., Guattari F. Op. cit. - Р.64. 153 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках Главная идея авторов книги состоит в том, что концептуальные персоны играют существенную роль в процессе создания авторских понятий. Попытаемся продолжить и развить эту мысль. Концептуальная персона - это не художественный персонаж философа, ее роль сродни, может быть, роли «имплицитного автора», его «alter ego». Но поскольку автор-философ не может позволить себе такой амбивалентности как автор художественного текста, он прибегает к помощи концептуальной персоны и для того, чтобы сохранить собственную самотождественность и «повествовательную идентичность», и для того, чтобы ввести другой теоретический план, который, как неоднократно подчеркивают Делез и Гваттари, является в то же время планом имманенции самого философа. Концептуальные персоны -- не атрибутом философского стиля, а неотъемлемая составляющая философствования. Философ является индивидуальным порождением его концептуальной персоны, той персоны, которая живет и мыслит в нем. Удел философа - стать концептуальной персоной или персонами, в то же время сами эти персоны отличаются от своих исторических или мифологических протагонистов (Сократ Платона, Дионис Ницше, Простец Николая Кузанского и т.д.). Концептуальная персона становится субъектом философского дискурса вместе с самим эмпирическим философом (так Николай Кузанский или Декарт будут называть себя «Простецами», а Ницше называл себя «Антихристом» или «Дионисом распятым»). Речевые акты повседневной жизни часто отсылают к психологическим типам, которые удостоверяют лежащих в основе третьих лиц: «Я объявляю мобилизацию как Президент Республики», «Я говорю тебе как отец» и т.д. Первое и третье лицо (я и он) здесь взаимозаменяемы Таким же образом и философ, прибегая к концептуальным персонам, выступает в своих речевых актах в третьем лице, в которых он всегда является концептуальной персоной, говорящей «Я»: «Я мыслю как Простец», «Я проявляю волю как Заратустра», «Я танцую как Дионис». Даже бергсоновская длительность нуждается в фигуре бегуна. Философский акт высказывания не является иллокутивным и не производит вещей с помощью слов, но он производит движение с помощью мысли о нем, посредством своей концептуальной персоны. Таким образом, концептуальные персоны являются истинными агентами высказываний типа: «Кто Я?». Это всегда третье лицо. То есть посредством концептуальной персоны («Он») реальный философ («Я») утверждает себя не только как cogito, но и как действительное «экзистенциальное» «Я». Пример Ницше чрезвычайно показателен, ибо немногие философы создали так много и привлекательных («Дионис», «Заратустра») и отталкивающих («Христос», «Священник», «Сверхчеловек») концептуальных персон. Может показаться, что Ницше прибегает к образам, чтобы отказаться от понятий. Тем не менее, он создает сильные и оригинальные понятия («сила», «ценность», «становление», «жизнь», «ressentiment», «больное сознание»), в равной мере представляя и новый план имманенции (бесконечные движение воли к власти и вечное возвращение), критикуя волю к истине и полностью изменяя устоявшийся образ мышления. Характер концептуальных персон у Ницше порождает неоднозначность, которая ведет многих читателей к восприятию его как поэта, духовидца или мифотворца. Но концептуальные персоны и у Ницше, и у кого бы то ни было не являются ни мифическими олицетворениями, ни историческими личностями, ни литературными героями. Дионис Ницше так же мало напоминает мифологического Диониса, как Сократ Платона - исторического Сократа. Становление не есть бытие, и Дионис становится философом в то самое время, когда сам Ницше становится Дионисом. Это началось еще у Платона, который становится Сократом в то самое время, когда заставляет Сократа стать философом.460 460 Deleuze G., Guattari F. What is Philosophy? - Р.65. 154 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках Функция концептуальных персон состоит, следовательно, в том, чтобы продемонстрировать «территорию мысли», а не психологический тип либо художественный образ. Концептуальные персоны - это мыслители и только мыслители, и их личные качества тесно связаны с диаграмматическими чертами мышления и интенсивными чертами понятий. В философе мыслит та или иная концептуальная персона, которая, быть может, до него и не существовала. Благодаря концептуальным персонам философ получает способность к постоянному возрождению. Однако концептуальный персонаж не обязательно проявляется в «интенсивных чертах концептов». Так, например, персонажи Киркегора живут двойной жизнью, выступая и от своего имени, и в качестве оппонента по отношению к другому персонажу, как призрачный способ существования другой персоны. Поразительная черта концептуальных персон Киркегора состоит в том, что они как бы совершенно не зависят от своего автора, но в то же время полностью зависят друг от друга. И не являются ли своеобразными концептуальными персонажами все двенадцать псевдонимов Киркегора? «Планы имманенции» этих авторов не совпадают полностью, а существуют в бесконечном дополнении и развитии. Понятия, персоны и планы имманенции у Делеза - Гваттари неразрывно связаны. При этом, концептуальная персона и план имманенции предполагают друг друга. Концептуальные персоны конституируют точки зрения, в соответствии с которыми планы имманенции различаются друг от друга, они также определяют условия, согласно которым каждый план оказывается «населенным» понятиями одной и той же группы.461 Другими словами, концептуальная персона предоставляет философу большую интеллектуальную свободу творчества, и одновременно служит различению одного образа мышления (или плана имманенции) от другого, являясь своеобразным различительным оператором. Концептуальные персоны - необходима составляющая часть философии. По мнению Делеза - Гваттари философия должна рассматриваться во взаимодействии трех составляющих ее элементов: дофилософского плана, который она очерчивает (авторы называют его планом имманенции), концептуальных персонажей, которые она вызывает к жизни и концептов, которые она творит.462 Если за план имманенции отвечает Разум, за концепты - Рассудок, то изобретение персон - заслуга Воображения. Три вида деятельности осуществляются одновременно и обладают несоизмеримыми отношениями между собой. Эвристическая роль концептуальных персон в этом процессе не подлежит сомнению и нуждается в дальнейшем изучении. 4.4.10. Сотворение автора в критической герменевтике Многообразие терминологии, связанной с проблематикой автора, оправдывается амбивалентностью и многомерностью авторского присутствия в тексте. «Имплицитный автор», «эксплицитный автор», «образ автора», «концептуальные персоны» – не разные термины для обозначения одного и того же, но попытки как можно более точно фиксировать формы, в которых авторская субъективность является самоидентичной, самотождественной и, соответственно, может распознаваться агентом герменевтической деятельности. Более того, именно способность к такому распознаванию относительно автономных «авторов» и их функций в тексте составляет одно из оснований критической герменевтики. Особенностью современного романа является не изобретение многоликого автора, разнообразные маски которого породили метафору «смерти автора», но 461 Deleuze G., Guattari F. Op. cit. - Р.74. 462 Deleuze G., Guattari F. Op. cit. - Р.76-77. 155 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках диалогическое сталкивание субъектов повествования, множество которых и образует некое «Я». Обратимся к примеру. В романе В.Набокова «Истинная жизнь Себастьяна Найта» повествование ведется от третьего лица. Рассказчик, являющийся по сюжету сводным братом умершего героя - писателя Себастьяна Найта, собирает материал для книги о его жизни. Согласно литературоведческой иерархии, налицо «эксплицитный автор». Но вот в конце пятой главы неожиданно появляется еще один автор. Рассказчик слышит голос в тумане: «Себястьян Найт? Кто говорит о Себастьяне Найте?» Несколькими строками позже выясняется, что Голос-в-Тумане прозвучал в самом тусклом закоулке моего сознания, воззвал из глубин моей совести. Так в романе появляется еще одно «Я». Это вроде бы и тот же самый повествователь, но отделившийся сам от себя. Весь отрывок с голосом в тумане - это повествовательная рефлексия повествователя, предостережение читателю: «Помни, что все, что тебе говорится, по сути, тройственно, истолковано рассказчиком, перетолковано слушателем, утаено от обоих героем рассказа». Какую же иронию приобретает сразу название романа! В мире нет нерассказанных историй. Каждая история рассказана, а значит и интерпретирована, кем-то. А история рассказанная - разве может она быть «истинной»? А может именно это и есть истина - соединение в одной точке проекций разных взглядов, разных видений и пониманий? Ведь Себастьян Найт представлен в романе глазами повествователя, глазами пошлого и бездарного г-на Гудмэна, бывшего секретаря Найта, ловко, спекулирующего на его смерти, мадам Лесерф, последней несчастливой любви Найта, и главного арбитра - самого писателя Найта, который «живет, посмеиваясь, в пяти своих томах». В десятой главе повествователь пересказывает роман своего героя «Граненая оправа», и мы видим необыкновенное родство литературной манеры Найта, но не с повествователем, ибо о литературном творчестве последнего нам ничего неизвестно он только собирается писать, а манерой писателя Набокова, который входит в роман таким косвенным и обходным путем. «Чтобы взлетать в высшие сферы серьезных чувств, Себастьян, по своему обыкновению, пользуется пародией как подкидной доской». Или: «Себастьян Найт вечно выискивал живых мертвецов – приемы, когдато сиявшие и поражавшие свежестью, а теперь затертые до дыр, -- подновленную и загримированную под жизнь мертвечину, которую по-прежнему готовы поглощать ленивые умы, пребывающие в блаженном неведении обмана». Мало-мальски компетентный читатель не может не узнать в этих «высказываниях о литературе» творческой кредо самого Мастера, эмпирического и исторического Автора романа. И разве не сам Набоков постоянно пародирует разнообразные литературные стили и блестяще решает проблему, о которой идет речь в нашем исследовании, «проблему стыка повествовательной и прямой речи, с которой изящное перо расправляется, находя столько вариантов формулы «сказал он», сколько их есть в словаре между «ахнул» и «язвительно» добавил»». И разве не подлинно набоковские черты приписаны в романе Найту: «У него была странная привычка: даже самых гротескных своих персонажей он одаривал мыслями, желаниями и впечатлениями, с которыми носился сам»; «Себастьян Найт любил жонглировать темами, сталкивать их или хитроумно сплетать, заставляя обнаруживать скрытое значение...». Таким образом, реальный автор, повествователь и герой произрастают из одного корня, они как бы варианты одного глубинного «Я», которое рассыпается на осколки более мелких, фрагментарных эмпирических «я», которые то сближаются, то расходятся в ткани повествования. И главный герой Себастьян Найт в этой панораме – это в некотором роде alter ego Набокова и является тем самым, согласно литературоведческой терминологии, «имплицитным автором». Взятые порознь все эти 156 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках «авторы» - не новые и почтенные приемы нарратологии, но сведенные вместе на страницах одного романа, они представляют очень странное и притягательное целое. Аналогичная игра авторской «Identity of Self» имеет место в другом англоязычном романе Набокова «Пнин». Здесь повествование от третьего лица о чудаковатом и милом русском эмигранте, профессорствующем в провинциальной американской глубинке, повествование от лица явно «имплицитного» автора» вдруг в конце романа сменяется вторжением инородного, по сути «эксплицитного» повествователя, рассказывающего долгую историю своего знакомства с Тимофеем Пниным, встречавшегося ему еще мальчиком в России. И многообразные детали этого русского прошлого обнаруживают в этом эксплицитном повествователе снова самого Набокова во всей достоверности его биографического «Я». А разве мало общего у Набокове времен его американской преподавательской эпопеи со своим героем - Тимофеем Павловичем Пниным? Но можно ли согласиться с критиком Н.Анастасьевым, автором пухлой книги «Феномен Набокова», что в классическом нарративе отношение «Я» как повествовательной инстанции к Автору было принципиально иным? Прежде «Я» было условностью, пишет Анастасьев, ибо за ним стоял автор. Теперь условностью стал сам автор, что и породило стойкую иллюзию его исчезновения.463 Условность «Я» в литературе всегда была ничуть не больше, чем условность в жизни грамматической формы местоимения первого лица единственного числа по отношению к миру каждого из нас, миру субъектов дискурсов и речевых актов. Автор не стал условностью в современной литературе. Просто местоимение «я» и вся безбрежная область, с ним связанная, стали предметом литературной и философской рефлексии. Местоимение «я» является, прежде всего, фактом языка. Значение «Я» как онтологической сущности возникает в тот момент, когда тот, кто говорит, присваивает себе смысл, чтобы обозначить самого себя. Значение «Я» каждый раз является уникальным, оно соотносится с тем моментом дискурса, который его содержит и который предназначен только ему. Вне этого отношения к индивиду, который, говоря «Я», заявляет о себе, личное местоимение является пустым знаком, который всякий может присвоит себе в данной языке.464 Так герменевтика приводит нас к проблеме онтологической идентичности и феноменологии говорящего субъекта. «Интерес к индивидуальной и коллективной идентичности наблюдается повсеместно, - пишет К.Келхон. - Мы знаем, что нет людей без имени, нет языков и культур, в которых некоторым образом не проводилось или не было бы сделано различие между Я и другим, мы и они. Но хотя само понятие может быть универсальным, тем не менее сами индивидуальности таковыми не являются».465 В ХIХ веке сознаньевые ходы и лабиринты сознания имитировались монологическим нарратором. Это называлось реализмом. Теперь это сознание и самосознание, рефлексию и авторефлексию в литературе хотят наблюдать и фиксировать с добросовестностью ученого-естествоиспытателя. Это стали называть постмодернизмом и «смертью автора». То, чем я занималась в этом разделе, исследуя проблематику автора, является, в сущности, поиском философской теории субъекта, данной через понимание и интерпретацию текста. Мы отчетливо видим и в творчестве Набокова, и А.Жида или В.Вульф, К.Воннегута или М.Фриша, Д.Хеллера или А.Мердок, У.Эко или И.Кальвино, Х.Кортасара или Х.Борхеса не только наличие «имплицитности» либо «эксплицитности» авторства, но различные способы построения модели Автора, 463 См.: Анастасьев Н. Феномен Набокова. - М.,1992. 464 См.: Рикер П. Конфликт интерпретаций. - С.393. 465 Calhoun C. Social Theory and Politics of Identity. - Cambridge, 1994. - P.10. 157 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках структуру авторского сознания, которая неразрывно связана со структурой субъективности в целом. Мы стремимся исследовать идентичность и границы этой идентичности, самотождественность и ее нарушение, ее сломы и сдвиги, игру и серьезность, фрагментарность и целостность. На этом пути нельзя обойти молчанием концепцию авторского «Я», представленную У.Эко в серии его статей, посвященных теории и практике интерпретации. Заслугой Эко является то, что он рассматривает образ автора в неразрывной связи с читателем как активным участником эстетической деятельности. Терминология, которая принята в современном зарубежном литературоведении, делает акцент на различении форм авторского присутствия в тексте. Это приводит к противоречию, когда мы начинаем использовать эту терминологию применительно к одному автору, например, в творчестве Набокова. Мы видим эсплицитного и имплицитного автора, видим образ автора и его маски, но мы видим также органическую связь всех этих «Я», видим их идентичность в смысле со-принадлежности единому сознанию субъекта дискурса. Терминов и понятий для связывание и изучения сложного взаимодействия этих многоликих «Я» теория литературы не предлагает. Речь здесь должна идти о феноменологии и онтологии субъекта, а не о таксономии писательских приемов для выражения «Я». Категория целостности применительно к литературе давно стала лозунгом, а не работающим понятием, и зачастую превращается в своего рода «шаманское камлание», что свойственно для иных отечественных филологических школ. Умберто Эко пытается найти почву для совмещения многомерного и многоликого Автора. Его программная статья на эту тему имеет «говорящее» название - «Между автором и текстом». Между автором и текстом находится, как известно, читатель, и именно он пытается совершить идентифицирующую деятельность различения и объединения «авторов». У.Эко также предлагает классификацию авторов, которые могут быть различимы в современном дискурсе - это эмпирический автор, модель автора, которая является ни чем иным, как развернутой текстуальной стратегией (именно с таким автором имеет дело структурализм и постструктурализм), и, наконец, пограничный (Liminal) или пороговый (Threshold) автор, т.е. тот, который находится на пороге между интенциями данной человеческой индивидуальности и лингвистическими интенциями, проявляемыми и показываемыми текстуальной стратегией.466 Это в большей степени гностическая концептуальная персона, чем художественный образ. Такая фигура порогового автора не дана явно и эксплицитно, ибо она есть функцией указанной взаимодействующей троицы и должна быть реконструирована адекватной герменевтической деятельностью читателя. Этот автор появляется как результат диалога или даже полилога между читателем, автором и текстом. И за этого порогового, призрачного и постоянно меняющегося автора, автор эмпирический уже не в ответе. Если взглянуть сквозь призму описанной У.Эко троицы на роман Набокова «Отчаяние», о котором шла речь выше, хаос и мимикрия авторства начинает приобретать порядок. К эмпирическому, реальному автору в «Отчаянии» отойдут пушкинские реминисценции, растворенный эпиграф «Литература - это любовь к людям», гордое признание «Я знаю о литературе все», и обильное пародирование, и «кровь и слюни», и доказательство небытия Бога. Второму автору, образованному языковой тканью и «текстуальной стратегией», будут принадлежать демонстрация двадцати пяти почерков и стилей, маниакальные мотивы, гримасничанье, дурная 466 Eco U. Between Author and Text // Eco U. Interpretation and Overinterpretation. Cambridge,1994. -P.69. 158 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках бесконечность двойничества и т.д. И третий - это просто тот, кого мы смогли или не смогли полюбить, кто вызвал симпатию или раздражение, то есть «наш автор». Другой вопрос, что эти авторы часто не складываются в целостный образ, множественность и амбивлентность доминирует над устойчивостью и смысловой определенностью единичности. Однако, как отмечает У.Эко, бывают случаи, когда именно замысел эмпирического автора может представлять интерес. Это те случаи, когда еще живой и здравствующий автор может реагировать на критическую интерпретацию и оценку его произведений. Другими словами, когда исторического автора можно спросить, что он на самом деле имел в виду. Так было с самим Умберто Эко после выхода в свет его знаменитого романа, что и вдохновило его написать «Заметки на полях «Имени Розы» развернутый в самостоятельное произведение автокомментарий к своему роману. В любом случае, ответ и мнение реального автора нужны отнюдь не для того, чтобы утвердить или легитимировать ту или иную интерпретацию его текста, но для того, чтобы продемонстрировать несоответствие между замыслом автора и объективным значением текста. Цель подобного эксперимента имеет скорее теоретический, чем практический смысл.467 Могут быть ситуации, когда писатель сам претендует на роль теоретика собственного текста. Теоретическая авторефлексия часто содержится не в «заметках на полях», а в самом тексте художественного произведения (романы Набокова, Кортасара, Борхеса). В таких случаях реакция эмпирического автора может быт различной. Он может сказать: «Нет, я не имел этого в виду, но я благодарен читателю (или критику) за то, что он позволил мне осознать это». Либо: «Несмотря на то, что я не имел это в виду, я думаю, что разумный читатель не примет такую интерпретацию, ибо она выглядит громоздкой и неэкономичной».468 Как бы то ни было, очевидно следующее - понимание герменевтической деятельности У.Эко очень далеко отошло от того сакрально-трепетного отношения к авторству, которое имело место во времена Шлейермахера и Дильтея. Если у истоков герменевтики стояло требование: «Понимать автора лучше, чем он сам себя понимал», то требованием сегодняшней герменевтики могло бы стать требование: «Понимать произведение автора лучше, чем он сам его понимал». История литературы и история герменевтики развивались в ХХ веке согласно своей собственной логике, и сегодняшние результаты теории понимания и интерпретации еще трудно свести в стройную систему взглядов. Итогом герменевтических усилий могут служить слова Франка Кермода: «Мы существуем в мире, о котором можно сказать не то, что в нем возможен плюрализм прочтений (это истинно для всех нарративов), но то, что иллюзия единичного правильного прочтения для него больше невозможна».469 Какая роль отводится читателю в современной литературе? В рамках настоящей работы мы не ставили себе целью исследование изменения читательских функций в современном литературном процессе. Это отдельная большая проблема. Очевидно, что формула «писатель пописывает, читатель почитывает» к сегодняшней литературе мало приложима. Вопросу о том, что значит быть читателем в современном мире литературы, посвящена известная статья Р.Барта «Удовольствие от текста», многие эстетические работы Т.Адорно, У.Эко. Сошлемся не на теоретика, а на романиста Хулио Кортасара, который в романе «Игра в классики» вкладывает в уста писателя 467 Eco U. Between Author and Text. - P.73. 468 Ibid. 469 Kermode F. Novels: Recognition and Deception// Critical Inquiry. -1974, N1. - P.111. 159 4. Эволюция оснований критического мышления в гуманитарных науках Морелли впролне программное заявление о новом читателе. «Попытаться создать такой текст, который не захватывал бы читателя, но который бы непременно делал его собеседником, нашептывая ему под прикрытием условно развивающегося повествования иные эзотерические пути».470 Главное отличие этого читателя в том, что он не является потребителем, или как называет этот читательский тип Кортасар, «читателем-самкой». Идеальный читатель - читатель-сообщник, товарищ в пути. Комический роман, который вынашивает Морелли, основан на идее сотворчестве; роман этот «не взнуздывает эмоций или каких-либо других чувств, но дает ему строительный материал, глину, на которой лишь в общих чертах намечено то, что должно быть сформировано, и которая несет в себе следы чего-то, что, возможно, является результатом творчества коллективного, а не индивидуалистического....То, что автор романа достиг для себя, повторится в читателе-сообщнике».471 Роман Кортасара в известной степени соответствует этому замыслу. Читатель соучаствует в том опыте, через который проходит писатель, «в тот же самый момент и в той же самой форме». В сущности Кортасар говорит о диалоге в бахтинском смысле. Но в целом идея сотворчества представляется столь же прекраснодушной, сколь и утопичной. Читательское соучастие и «сообщничество» культурой не фиксируется до тех пор, пока не принимает форму текста, то есть пока читатель сам не становится писателем. Кратким итогом исследования проблемы автора в настоящем разделе могут служить следующие утверждение. Проблема, поставленная Р.Бартом и М.Фуко под метафорическим названием «смерти автора», имеет глубокие эстетические и философские основания. Она поновому ориентирует направление и специфику герменевтических исследований, фокусируя внимание на модусах импликации субъекта в дискурсе и смещая исследовательский интерес интерпретатора из области семантики в область прагматики текста, а интерес философа – из области гносеологии в область онтологии и феноменологии субъекта. Философский аспект проблемы автора связан с темой идентичности и самоидентичности, находящейся в центре внимания современной европейской философии. 470 Кортасар Х. Игра в классики. - М.,1986. - С.401. 471 Там же. - С.403. 160 5. Толерантность и критическое мышление в перспективе трансформации пост-советского образования 5. Толерантность и критическое мышление в перспективе трансформации пост-советского образования Предыдущие разделы имели своей целью средствами научно-философского анализа прояснить основания, смысл и некоторые закономерности развития принципов толерантности и критического мышления. Далее мы хотели бы подчеркнуть актуальность полученных результатов в чисто прагматическом - педагогическом отношении и довести их до уровня проектов программ курсов или спецкурсов, предназначенных для студентов высших учебных заведений. Такая цель исходит их понимания, что критическое мышление и толерантность выступают одновременно и желаемым продуктом и действенным инструментом трансформации менталитета «постсоветского человека» в направлении усвоения основных ценностей открытого демократического общества.472 5.1. Проект программы спецкурса «Проблема толерантности» Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе Целью спецкурса является ознакомление студентов с основными вопросами проблемы толерантности (предположительно в курсе религиоведения). Достижение цели предполагает выполнение следующих задач: показать историческое развитие толерантности на примере веротерпимости; дать теоретический анализ решений вопроса веротерпимости в монотеизме и политеизме; раскрыть проблему веротерпимости в соотнесении со структурой религии: дать анализ гносеологических оснований толерантности; рассмотреть значение толерантности в современном мире. Общая схема и структура спецкурса Тема 1. История религиозной терпимости На протяжении многих столетий причиной негативного отношения людей друг к дугу была принадлежность их к разным религиям. Но в разные эпохи и в разных странах взаимоотношения верующих строились не одинаково. Отношение к чужеземным культам в античном мире в целом характеризуется как терпимое. Греки и римляне как правило не только преследовали иноверцев, но даже покровительствовали культам покоренных народов и принимали их. При этом на первом плане находились политические цели, поскольку предполагалось, что чужие боги точно так же как и свои могут и помогать и вредить. Редкие исключения из этого правила связаны с "аморальностью" пришлых культов или с проведением религиозных действий в обход государства. Нетерпимость, таким образом, возникает лишь в отношении культа и организации. Именно такими причинами объясняются гонения на христиан, отвергавших религию и нравы предков и создававших общины без всякой санкции правительства. Христианство. Нравственное содержание евангельской проповеди предполагает любовь к ближнему и забота о его спасении. Идея ненасилия должна была бы стать основой для веротерпимости. Однако в своем благочестивом рвении уже первые христиане пытаются навязывать свою веру. Первые века христианства прошли под 472 См. Тягло А.В., Воропай Т.С. Критическое мышление. Проблема мирового образования ХХI века. Харьков, 1999. С. 161 5. Толерантность и критическое мышление в перспективе трансформации пост-советского образования знаком не только гонений со стороны язычников, но и в непрерывной борьба течений. Особенно изменилась ситуация после 325 г., когда официально признанная церковь получила возможность использовать в борьбе со своими противниками рычаги государственной власти. Особое значение веры и догматики приводит к тому, что не христиане преследуются не столько за иную форму почитания божества, сколько за иные о нем представления. В Средние века, после христианизации Европы экспансия западноевропейских народов получает религиозное обоснование и нетерпимость становится идеологическим основанием Реконкисты и крестовых походов. "Охота на ведьм" является ужасным примером разгула насилия на религиозной почве. Однако соотносить ее с нетерпимостью вряд ли оправдано. "Ведьмы" и "колдуна" в подавляющем большинстве таковыми не являлись и в этом случае говорить о подавлении инаковерия или инакомыслия нет никакого смысла. Реформация и религиозные войны явились апофеозом религиозной нетерпимости, но они же стали причиной и мотивом для философской разработки проблемы толерантности и ее практических воплощений. В разных странах Европы вооруженное противостояние представителей различных конфессий завершается юридическим закреплением свободы вероисповедания. Ислам. Уже во времена Мухаммада бал заложен дифференцированный подход к иноверцам. Безусловно отрицательное отношение заслуживают язычники, не знающие истинного бога и исповедующие многобожие. Иудеи и христиане получали откровения Бога, они — «люди книги», но эти откровения были неверно поняты или искажены. И только мусульмане, правоверные, обладают правилной религией. Но именно к мусульманам предъявляются особенно строгие требования в вопросах веры. Например, радикально настроенные секты исмаилитов не преследовали христиан и иудеев, но жестоко карали отступивших от веры в Аллаха. Тема 2. Теория веротерпимости. От веротерпимости к свободе совести Политеизм и монотеизм. Политеизм в принципе допускает существование любых богов, поскольку оно принимается как данность наряду с существованием иных народов. Монотеизм как вера в единого и единственного бога по определению предполагает неподлинность других богов. Отсюда, правда, еще не вытекает требование нетерпимого отношения к иноверцам. Иудаизм, христианство и ислам в разные периоды своего существования весьма терпимо относились к последователям других религий, оставляя им самим распоряжаться своим посмертным существованием. Но единый Бог оказался чрезвычайно ревнив и требовал от верующих не только духовного подвижничества, но и его защиты от других, "мнимых", богов. Иначе говоря, монотеизм логически не ведет к нетерпимости, нетерпимым его делают конкретные люди. Структура религии и терпимость к ее отдельным элементам. В любой зрелой религии можно выделить вероучение, культовую практику и организационные формы. Когда речь идет о толерантности, этого деления обычно не учитывают и это приводит к недоразумениям. Так, совершенно неоправданно рассуждать о веротерпимости древних греков или римлян, поскольку в античной религии вероучения как такового просто не было. Терпимость ил нетерпимость в данном случае можно оценивать лишь по отношению к культу, ритуальной и обрядовой практике. Для христианства же первостепенным было именно учение, отклонение от ортодоксии воспринималось как ересь, непростительный грех, а различия в культе — как схизма, раскол, тяжелое, но все же преодолимое разделение. Невозможность принуждение к вере. Христианство переносит центр тяжести на внутреннее содержание религии, на веру, а не на соблюдение обрядов и других религиозных действий. Физическая сила не может заставить человека уверовать, поскольку она действует как бы "в другом измерении". С другой стороны, в религии 162 5. Толерантность и критическое мышление в перспективе трансформации пост-советского образования речь идет о вечном спасении и человек тем упорнее будет сопротивляться насильственному обращению. Отделение церкви от государства. Религия делит мир и жизнь человека на две части — земную и небесную. Государство и церковь соответственно ведают этими частями. Тему отделения церкви от государство подробно рассмотрел Дж Локк. По Локку, гражданский правитель обладает властью над телом и имуществом человека, тогда как церковь — над его душой; и именно в этом состоит значение и смысл веротерпимости. Свобода исповедания и свобода совести. Свобода исповедания или веротерпимость — признание права человека исповедовать любую религию, а не только официально принятую в данном государстве. Однако в истории веротерпимость распространялась не на все религии. Локк, например, обосновывает с точки зрения политической целесообразности нетерпимость в отношении католиков и атеистов. Свобода совести — более широкое понятие, поскольку она предполагает не только свободное исповедание любой религии, но и возможность вообще не принадлежать ни одной из конфессий, т.е. быть атеистом. Тема 3. Ключевые вопросы философского обоснования толерантности Толерантность, уважение, безразличие: общее и различное, важное и несущественное. Толерантность имеет смысл, когда существуют различия и связанные с ними противоречия между отдельными индивидами или группами. Уважение ориентируется на поиск общего, универсального, и пока это универсальное полагается хотя бы в принципе достижимым, толерантность принимает форму терпимости. Различие в таком случае воспринимается как временное неудобство, которое в данный момент нельзя преодолеть и поэтому приходится с ним мириться. Гносеологический статус толерантности. Толерантность и истина. П. Бейль обосновал необходимость веротерпимости исходя из принципиальной непознаваемости рациональными средствами религиозной истины. Подобным же образом еще и сегодня проводят грань между терпимостью к религиозным, политическим, эстетическим взглядам и нетерпимостью в науке, праве, морали. Толерантность и насилие. Толерантность отвергает насилие, отрицает абсолютность любой ценности, ставит плюралистичность над единообразием. Но сама она предлагает себя в качестве универсальной абсолютной ценности и признает возможность силового воздействия на свою противоположность — интолерантность. Контрольные вопросы В какой мере утверждать, что языческие религии были терпимыми или нетерпимыми? Какие положения христианского учения свидетельствуют в пользу толерантности? Как менялось отношение христиан к иноверцам по мере укрепления христианской церкви? Существует ли прямая связь между христианским вероучением и реальной практикой нетерпимости (крестовые походы, «охота на ведьм», антисемитизм, религиозные войны)? Каковы были причины обоснования принципа веротерпимости в Европе XVI-XVII вв.? Почему монотеизм считается более нетерпимым, чем политеизм? Как проявляется толерантность в разных структурных элементах религии? 163 5. Толерантность и критическое мышление в перспективе трансформации пост-советского образования Почему нельзя принуждать к принятию какой-либо религии? В чем состоит принцип отделения церкви от государства? Сравните понятия "свобода исповедания" и "свобода совести". Как соотносятся понятия толерантности, уважения и безразличия? Как связаны толерантность и принцип относительности истин? Можно ли перенести принцип толерантности в сферу науки, права, морали? Список рекомендуемой литературы Бейль П. Философский комментарий на слова Иисуса Христа «Заставь их войти»…: Сокр. пер. с фр. // Бейль П. Исторический и критический словарь в двух томах. Т. 2. - М., 1968. - С. 265-341. Локк Дж. Опыт о веротерпимости // Локк Дж. Сочинения: В 3 т. Т. 3.- М., 1988.- С.66-90. Локк Дж. Послание о веротерпимости // Локк Дж. Сочинения: В 3 т. Т. 3.- М., 1988.- С.66-90. Слово святого Феодосия, игумена Печерского монастыря, о вере христианской и о латинской // Златоструй. Древняя Русь. Х-ХІІІ вв.- М., 1990.- С.160-162. Поснов М.Э. История Христианской Церкви (до разделения Церквей - 1054 г.).- К., 1991.- 614 с. Лекторский В.А. О толерантности, плюрализме и критицизме // Вопросы философии. - 1997.- № 11.- С. 46-54. Толерантность как культурная универсалия: Материалы международной конференции. Харьков, 1996. - 75 с. Евсеев С.Л. К вопросу о типологии концепций толерантности // Вісник Харківського держ. університету. Наука і соціальні проблеми суспільства. - Харків, 1998. - № 414. - С. 137-140. Евсеев С.Л. Об эпистемологическом статусе толерантности // Вісник Харківського державного університету - Харків, 1996. - № 385/1. -С. 57-59. Тягло О.В. Толерантність в сучасному світі: досвід міждисциплінарного дослідження // Вісник Харківського держ. університету. Наука і соціальні проблеми суспільства. - Харків, 1998. - № 414. - С. 130-137. Roman J. La tolerance, entre indifference et engagement // Esprit, 1996, n° 8-9 (224), p. 95-100. Smith T. Tolerance & Forgiveness: Virtues or Vices? // Journal of Applied Philosophy. - 1997. - Vol. 14, No 1. - P.31-41. 13.Terestchenko M. Philosophie politique. 2. Ethique, science et droit.- P.: Hachette, 1994.- 156 p. 5.2. Проект учебной программы «Логика с элементами курса критического мышления» Цель и задачи курса, его место в учебном процессе Курс “Логика с элементами курса критического мышления” является по своей природе синтетическим и, возможно, переходным. С одной стороны, он отвечает основным требованиям, принятым сегодня в высшей школе Украины. С другой стороны, он направлен на ассимиляцию передовых достижений мирового образования, в особенности распространенного в Северной Америке университетского курса “Критическое мышление” (ККМ), который обычно читается на первом году обучения. Вполне возможно, что со временем ККМ совсем заменит читаемые сегодня элементарные курсы логики. Однако изучение этой возможности требует 164 5. Толерантность и критическое мышление в перспективе трансформации пост-советского образования дополнительных усилий и времени. Более того, оно вряд ли достижимо без практических “проб и ошибок”, чисто умозрительным путем. Поэтому вполне оправдано постепенное введение наиболее полезных и концептуально выверенных элементов КМ в стандартные курсы логики, принятые сегодня в нашей стране. “Логика с элементами курса критического мышления” отличается от традиционного курса “Логика” прежде всего тем, что акцентирует внимание не на тонкостях сложных формализмов, доступных лишь “узким” профессионалам, а на практически распространенных и эффективных алгоритмах рассуждений о повседневной реальности, для которых всегда характерна большая или меньшая мера неполноты и неточности. Он имеет целью не только сообщение знаний, но и выработку устойчивых навыков анализа и построения рассуждений, защиты своей точки зрения и критики аргументов оппонента. Предлагаемый курс строится на материале, включающем нормативные сведения и практические задания по курсу логики, а также на богатом теоретическом и практическом материале юриспруденции, правоохранительной деятельности, общезначимого культурного наследия и т.д. Но не следует думать, что его практическая ориентация сводится к приведению примеров из указанных предметных областей. Нововведения отражены в содержании и структуре курса, прежде всего в ориентации на овладение теми алгоритмами рассуждений, которые важны для современного специалиста в области юриспруденции и правоохранительной деятельности (с этим связан, например, акцент на аналогии и индукции, ведь в деятельности юриста дедукция не занимает того исключительного положения, которое ей отводилось аристотелевской логикой). Значительное внимание уделяется различного рода логическим ошибкам, которые рассматриваются как нарушения законов и правил правильного рассуждения. Первая часть курса имеет целью дать студенту знание основных понятий и законов логики, основных операций с понятиями и суждениями, а также сформировать умения логически анализировать рассуждения. Вторая и третья части курса имеют специализированный характер. Они направлены на формирование логического инструментария решения двух наиболее важных задач, стоящих перед юристомпрактиком, раскрытия преступления и отстаивания своей позиции в судебном споре. Предлагаемый курс ориентирован на будущих работников правоохранительных органов и юристов, однако с небольшими изменениями он может быть использован и при обучении студентов иных специальностей. Преподавание курса имеет целью развить у будущего специалиста рациональное мышление, коммуникативные способности и умение принимать рациональные решения, вооружить его эффективными логическими и риторическими навыками преодоления профессиональных проблем. Достижение поставленной цели диктует необходимость решения ряда задач, а именно: овладеть теоретическими знаниями об основных формах, правилах и законах мышления; об алгоритмах рассуждений современного юриста; о логических ошибках или уловках, путях их выявления, критики и исправления; выработать умения и навыки правильно анализировать наличную информацию; выдвигать правдоподобные гипотезы (версии) и проверять их; строить и оценивать аргументы; 5. Толерантность и критическое мышление в перспективе трансформации пост-советского образования 165 критиковать и исправлять различные ошибки; принимать логически обоснованные решения. Курс логики изучается на протяжении второго семестра первого года обучения в объеме 54 часов, включая 20 часов самостоятельной работы. Его усвоение не предполагает прослушивания никаких предваряющих курсов в рамках вузовской подготовки. Вместе с тем, он создает необходимые условия для эффективного усвоения всех последующих учебных дисциплин. Структура и содержание курса Общая структура курса и его “расчасовка” отражены в таблице, приведенной ниже. Курс предполагает 2 аудиторные контрольные работы после изучения тем 1- 4 и 5 - 6 (в рамках практических занятий). № Тема Лекции (час.) Практика (час.) Самостоят. работа (час.) Всего (час.) Логическая пропедевтика 1. Предмет и значение логики. Понятие о критическом мышлении. 2 1 3 2. Основные законы правильного мышления. 3 2 3 8 3. Операции с понятиями. 2 2 2 6 4. Операции с суждениями. 2 2 2 6 Логические основания расследования правонарушения 5. Логика вопроса и ответа 3 2 3 8 6. Гипотетико-дедуктивный метод как стратегия расследования. Умозаключения в структуре гипотетико-дедуктивного метода 4 2 4 10 Начала теории аргументации. 4 4 5 13 Итого: 20 14 20 54 Логические основания судебного спора 7. Логическая пропедевтика Тема 1. Предмет и значение логики. Понятие критического мышления 166 5. Толерантность и критическое мышление в перспективе трансформации пост-советского образования Содержание теоретического материала Мышление как предмет логики. Рефлексивность логики. Основные формы мышления: понятие, суждение, умозаключение. Понятие аргумента. Логическая форма. Понятие о формализации мышления. Логика формальная и логика неформальная: главные основания разделения. Результативность логики. Понятия логической и материальной ошибок. Понятие критического мышления. Логика как основание эффективного критического мышления. Логика как исследование рассуждения (мышления, выраженного в речи). Значение логики и критического мышления для деятельности современного юриста, работника правоохранительных органов. Тема 2. Основные законы правильного мышления Содержание теоретического материала Понятие о законах логики. Закон тождества. Типичные нарушения закона тождества (подмена понятия, разные виды подмены тезиса). Закон непротиворечия и его нарушение. Закон исключенного третьего и его нарушение. Закон достаточного основания и типичные его нарушения («основная ошибка», ошибка «не следует»). Тема 3. Операции с понятиями Содержание теоретического материала Главные логические характеристики понятия: объем и содержание. Виды отношений между понятиями, их изображение с помощью круговых схем. Операция деления понятия. Виды деления (дихотомическое деление, деление по видоизменению признака). Классификация. Правила логического деления и классификации. Типичные нарушения правил этих операций. Операция определения понятия. Определение через ближайший род и видовые признаки. Правила построения определений и типичные их нарушения. Понятие об операциях, заменяющих определение (описание и характеристика), специфика их использования в деятельности юриста или работника правоохранительных органов. Тема 4. Операции с суждениями Содержание теоретического материала Деление суждений по экзистенциальные суждения. их назначению: атрибутивные, релятивные и Простые и сложные суждения. Построение сложных суждений с разными логическими связками (конъюнкция, дизъюнкция, импликация). 167 5. Толерантность и критическое мышление в перспективе трансформации пост-советского образования Таблица истинности. Алгоритм определения логического значения сложного суждения. 168 5. Толерантность и критическое мышление в перспективе трансформации пост-советского образования Логические основания расследования правонарушения Тема 5. Логика вопроса и ответа Содержание теоретического материала Значение логики вопроса-ответа правоохранительных органов. для деятельности юриста, работника Понятия вопроса и ответа. Виды вопросов (вопросы к уточнению, вопросы к пополнению; дескриптивные и прескриптивные вопросы; простые и составные вопросы). Понятия предпосылки вопроса, области поиска ответа. Условия правильной постановки вопроса. Реакция на вопрос. Виды вербальной реакции (оценка вопроса, оценка адресата вопроса, ответ). Выявление вопросов-ловушек и адекватная реакция на них. Виды ответов (истинный и ложный, по сути и не по сути вопроса, полный и неполный, прямой и непрямой и т.д.). Требования к корректному ответу. Неправильные ответы (ложный ответ, ответ не по сути вопроса и др.). Тема 6. Гипотетико-дедуктивный метод как стратегия Умозаключения в структуре гипотетико-дедуктивного метода расследования. Содержание теоретического материала Гипотетико-дедуктивный метод как стратегия познания, опирающегося на эмпирические данные. Основные фазы гипотетико-дедуктивного метода. Фаза выдвижения гипотезы (версии) события. Умозаключения по аналогии. Аналогия предметов и аналогия отношений. Проблема повышения надежности аналогии. Понятия строгой и нестрогой аналогии. Индуктивные умозаключения. Виды индукции: полная и неполная. Виды неполной индукции (популярная индукция, статистическое обобщение, научная индукция). Проблема повышения надежности неполной индукции и пути ее решения. Методы выявления причинно-следственной связи (методы сходства, различия, сопутствующих изменений, остатков). Фаза проверки гипотезы (версии). Дедуктивные умозаключения. Простой категорический силлогизм, его фигуры и модусы. Алгоритм построения силлогизма. Проверка силлогизма с помощью круговых схем. Понятия логики высказываний и логики предикатов. Некоторые распространенные формулы логики высказываний (modus ponens, modus tollens, рассуждение по случаям и т.д.) и их нарушения. 169 5. Толерантность и критическое мышление в перспективе трансформации пост-советского образования Логические основания судебного спора Тема 7. Начала теории аргументации Содержание теоретического материала Современное понятие аргументации. Структура аргумента (тезис, доказательства или доводы, вывод). Виды аргументации: доказательство, подтверждение и опровержение. Виды доказательств доказательств. (факты, законы и т.д.). Специфика юридических Диаграммная техника описания структуры аргумента. Основные виды диаграмм (с независимыми и зависимыми доводами, сходящиеся и расходящиеся, сериальные диаграммы). Виды выводов: демонстративное и недемонстративное. Способы выведения заключения. Прямое и непрямое обоснование. Понятие опровержения. Виды опровержения (опровержение тезиса, критика доводов, критика процесса выведения). Логический анализ и оценка аргумента - основание для принятия рационального решения. Основные правила принятия решения на основе оценки аргумента. Литература к курсу Основная литература Тягло О.В. Логіка з елементами курсу критичного мислення. - Харків, 1998. Бандурка О.М., Тягло О.В. Курс логіки. - Харків, 1999. Тягло А.В. Логика с элементами курса критического мышления. Материалы к курсу лекций по логике для юристов. - Харьков, 1999. Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика. - М., 1995. Кондаков Н.И. Логический словарь. - М., 1971. Дополнительная литература Берков В.Ф., Яскевич Я.С., Павлюкевич В.И. Логика. - Минск, 1997. Жеребкін В.Є. Логіка. - Харків, 1995. Кнапп В., Герлох А. Логика в правовом сознании. - М., 1987. Логика и риторика. Хрестоматия / Сост. В.Ф.Берков, Я.С.Яскевич. - Минск, 1997. Рузавин Г. И. Аргументация. - М.,1997. Тягло А.В., ВоропайТ.С. критическое образования XXI века. - Харьков, 1999. мышление. Проблема мирового Уемов А. И. Основы практической логики с задачами и упражнениями. - Одесса, 1997. Хоменко І. В. Логика - юристам. - К.,1997. Browne M.N., Keeley S.M. Asking the Right Questions. A Guide to Critical Thinking. 5th ed.- Prentice Hall, 1998. 170 5. Толерантность и критическое мышление в перспективе трансформации пост-советского образования Paul, Richard. Critical Thinking: What Every Person Needs to Survive In a Rapidly Changing World. 3rd edition. Foundation for Critical Thinking.- Santa Rosa, CA, 1993. 5.3. Вариант учебной программы «Введение в критическое мышление» Далее представлена учебная программа проф. Стюарта Кили (Университет Боулин Грин, США). Этот курс обычно читается для студентов первого года обучения. Специфика преподавания курса КМ состоит в его направленности на закрепление умений и навыков «практической» деятельности по оценке, контролю и критике собственных рассуждений или рассуждений оппонента. Поэтому аудиторные занятия не разделяются на лекции и практические занятия, они соединяют закрепление заранее изученного теоретического материала с постоянным обращением к его практическому использованию в анализе и оценке разнообразных текстов (раздаточного материала, который готовит преподаватель), в дискуссии с преподавателем и со своими товарищами. Проведение такого рода занятий возможно при ограничении численности группы 25-30 студентами. Курс читается на протяжении одного семестра. Аудиторная работа составляет 2 пары в неделю, то есть всего около 70 час. Большое внимание уделяется опережающей домашней подготовке, которая требует не меньшего времени. Контроль осуществляется на основании активности в классе, а также подготовки письменных эссе, призванных продемонстрировать практическое овладение материалом курса. В конце обучения проводится экзамен. В Украине ККМ можно предлагать либо как ориентированное на практическую работу дополнение к стандартному курсу логики (а этом случае его следует читать на 23 году обучения), либо как альтернативу этому курсу на первом году. Представленная далее программа американского профессора может быть взята как исходный вариант, предполагающий дальнейшую адаптацию к условиям украинской системы образования.473 473 Ср. также программу других подобных курсов КМ в: Portmore, Douglas W. Critical thinking // <http://www.cofc.edu/~portmord/thinking.htm>; Banner, Kenneth J. Intro to Critical Thonlong // <http//jupiter.rowan.edu/~banner /icsyll.html>. 171 5. Толерантность и критическое мышление в перспективе трансформации пост-советского образования № 2-х час. занятия Тема 1 Введение в курс 2 Зачем и как ставить правильные вопросы? 3-4 Что такое проблема, заключение и доводы (резоны)? 5-6 Какие слова или фразы неоднозначны? 7-10 Что такое ценностные предположения? 11-12 Что такое дескриптивные предположения? 13-16 Есть ли в рассуждении какие-либо логические ошибки? 17-18 Насколько хороши доводы? I. Интуиция, апелляция к авторитету, показания под присягой. 19-20 Насколько хороши доводы? II. Личные наблюдения, case study, научные исследования и аналогия. 21-24 Существуют ли иные причины? 25-26 Не является ли статистика лживой? 27-29 Какая важная информация не подана явно? 30-31 Какие выводы совместимы с наличными резонами? В чем состоят ваши ценностные предпочтения? Каковы ваши решения в случае неопределенности? 32-33 34-35 Суммирование всего изученного. Итоговые занятия. Предлагаемая программа «привязана» к книге: Browne M.N., Keeley S.M. Asking the right questions. A guide to critical thinking. 5th ed. Upper Saddle River, N.J., 1998.474 5.4. Современная литература по критическому мышлению Литература на русском и украинском языках Критическое мышление и библиотека. Материалы российско-американского семинара. Москва, 1992. - Т.1. Ноттурно М. Розум і довіра: мета критичного мислення // Вісник Університету внутрішніх справ. Харків, 1997. - Вип. 2. - С.232-245; Тягло О.В. Критичне мислення як освітня інновація // Вісник Університету внутрішніх справ. Харків, 1997. - Вип. 2. - С.229-232; Тягло А.В. Логика критического мышления. Издание 2-е, исправленное и дополненное. Харьков: Харьковский институт управления. - 1997; Тягло О.В. Логіка з елементами курсу критичного мислення. - Харків: Університет внутрішніх справ. - 1998; 474 Реферат этого учебника приведен в: РЖ «Социальные и гуманитарные науки. Общественная и зарубежная литература. Серия 3. Философия». - М,.1999. - Вып.1. - С.81 - 85. 172 5. Толерантность и критическое мышление в перспективе трансформации пост-советского образования Тягло А.В. Критическое мышление (Сводный реферат) // РЖ «Социальные и гуманитарные науки. Общественная и зарубежная литература. Серия 3. Философия». - М,.1999. - Вып.1. - С.81 85; Тягло А.В. Логика с элементами критического мышления. Материалы к курсу лекций по логике для юристов. Харьков: Университет внутренних дел. - 1999; Тягло О.В. Критичне мислення як перспектива розвитку пост-радянської освіти // <http://www.sapienti.kiev.ua/6/enter.html>. Тягло А.В., Воропай Т.С. Критическое мышление. Проблема мирового образования ХХІ века. Харьков: Университет внутренних дел. - 1999. Бандурка О.М., Тягло О.В. Курс логіки. - Харків: Університет внутрішніх справ. - 1999. Литература на английском языке475 - Литература общего характера Bailin, Sharon. Achieving Extraordinary Ends: An Essay of Creativity. Kluwer-Academic Publishers, Norwell, MA, 1988. Baron, Joan and Robert Sternberg. Teaching Thinking Skills: Theory and Practice. W. H. Freeman Co., New York, NY, 1987. Blair, J. Anthony and Ralph H. Johnson, eds. Informal Logic (First Interna-tional Symposium). Edgepress, Point Reyes, CA, 1980. Downes, Stephen. Stephen’s Guide to the Logical Fallacies // <http://www.assiniboinec.mb.ca/user/downes/fallacy/> Eemeren, Frans H. van and Rob Grootendorst. Argumentation, Communication, and Fallacies: A Pragma-Dialectical Perspective. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1992. Eemeren, Frans H. van, Rob Grootendorst, J. Anthony Blair and Charles Willard, eds. Perspectives and Approaches, Analysis and Evaluation, Reconstruction and Application, Special Fields and Case Studies, Vols. I IV, Proceedings of the Third ISSA [International Society for the Study of Argument] Conference on Argumentation. Amsterdam: International Centre for the Study of Argumentation, 1995. Glaser, Edward M. An Experiment in the Development of Critical Thinking. AMS Press, New York, NY, reprint of 1941 edition. Govier, Trudy. A Practical Study of Argument. 3rd ed. Belmont, Calif.: Wadsworth, 1992. Guffey, Mary Ellen. Five Steps to Better Critical-Thinking, Problem-Solving / and Decision-Making Skills // <http://www.westwords.com/GUFFEY/critical.html> Hamblin, C.L. Fallacies. London: Methuen and. Co. Ltd., 1970. Johnson, Ralph H. and J. Anthony Blair. Logical Self-Defense. 3rd ed. Toronto: Kennedy, Mary. "Policy Issues in Teacher Education." Phi Delta Kappan. May, 1991. Mill, John Stuart. On Liberty. AHM Publishing Corp., Arlington Heights, IL, 1947. Perelman, Ch., Olbrechts-Tyteca, L. The New Rhetoric: A Treatise on Argument. Notre Dame: University of Notre Dame Press., 1969 McGraw Hill-Ryerson, 1995. 475 Приведенный перечень литературы составлен на основании списка из статьи: Logic, Informal // Stanford Encyclopedia of Philosophy / E.N.Zalta (ed.) 1996-1998 // <http://www.setis.library.usyd.edu/stanford/entries/logic-informal/>. Близкий по содержанию список приведен в: Paul R. Critical Thinking: What Every Person Needs to Survive In a Rapidly Changing World. - P.489 - 492. В список литературы мною внесено ряд изменений и дополнений. 173 5. Толерантность и критическое мышление в перспективе трансформации пост-советского образования Resnick, Lauren. Education and Learning to Think. National Academy Press, Washington, D.C., 1987. Scriven, Michael. Evaluation Thesaurus. Point Reyes, CA, Edge Press, 1991. Scheffler, Israel. Reason and Teaching. Hackett Publishing, Indianapolis, IN, 1973. Siegel, Harvey. Educating Reason: Rationality, Critical Thinking, & Education. Routledge Chapman & Hall, Inc., New York, NY, 1988. Sumner, William G. Folkways. Ayer Co., Publishing, Salem, NH, 1979. Toulmin, Stephen E. The Uses of Argument. Cambridge University Press, New York, NY, 1958. Walton, Douglas. Argument Structure: A Pragmatic Theory. Toronto etc., University of Toronto Press, 1996. - Педагогика критического мышления Christenbury, Leila and Kelly, Patricia P. Questioning: A Path to Critical Thinkling. Urbana, Ill,, ERIC Clearinghouse on Reading and Communication Scills: National Council of Teaching English, 1983. Informal Reasoning and Education / James S. Voss e.a. (eds.). Laurence Earlbaum Association, Inc., Hillsdale, NJ, 1991. Forte, Imogene and Schurr, Sandra. 180 Icebreakers to strengthen critical thinking and problem-solving skills. Incentive Publications, Nashville, Tenn., 1996. Lipman, Matthew. Ethical Inquiry. Institute for the Advancement of Philosophy for Children, Upper Montclair, N.J., 1977. Lipman, Matthew. Harry Stottlemeier's Discovery. Institute for the Advancement of Philosophy for Children, Upper Montclair, N.J., 1982. Lipman, Matthew. Lisa. Institute for the Advancement of Philosophy for Children, Upper Montclair, N.J., 1976. Lipman, Matthew. Mark. Institute for the Advancement of Philosophy for Children, Upper Monclair, N.J., 1980. Lipman, Matthew, Ann M. Sharp, and Frederick S. Oscanyan. Philosophical Inquiry. University Press of America, Lanham, MD, 1979. Lipman, Matthew, and Ann M. Sharp. Philosophy in the Classroom. 2nd edition, Temple University Press, Philadelphia, PA, 1980. Lipman, Matthew. Social Inquiry. Institute for the Advancement of Philosophy for Children, Upper Montclair, N.J., 1980. Norris, Stephen P, and Ennis, Robert H. Evaluating Critical Thinking. Pacific Grove, CA: Midwest Publications, 1989. Paul, Richard. Critical Thinking: What Every Person Needs to Survive In a Rapidly Changing World. 3rd edition. Foundation for Critical Thinking, Santa Rosa, CA, 1993. Paul, Richard and Binker, A. J. A., et al. Critical Thinking Handbook: K-3rd Grades. A Guide for Remodelling Lesson Plans in Language Arts, Social Studies, & Science. 2nd edition, Santa Rosa, CA: Foundation for Critical Thinking 1990. Paul, Richard and Binker, A. J. A., et al. Critical Thinking Handbook: 4th-6th Grades. A Guide for Remodelling Lesson Plans in Language Arts, Social Studies, & Science. 2nd edition, Santa Rosa, CA: Foundation for Critical Thinking, 1990. Paul, Richard and Binker, A. J. A., et al. Critical Thinking Handbook: High School A Guide for Redesigning Instruction, Rohnert Park, CA: Center for Critical Thinking and Moral Critique, 1989. Raths, Louis. Teaching for Thinking: Theories, Strategies, and Activities for the Classroom. 2nd edition, Teachers College Press, New York, NY, 1986. Ruggiero, Vincent. Thinking Across the Curriculum. Harper & Row, New York, NY, 1988. 174 5. Толерантность и критическое мышление в перспективе трансформации пост-советского образования Williamson, Janet L. The Greensboro Plan: Infusing Reasoning and Writing into the KР12 Curriculum. Santa Rosa, CA, Foundation for Critical Thinking 1990. - Университетские учебники общего характера Barker, Evelyn M. Everyday Reasoning. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1981. Barry, Vincent E., and Joel Rudinow. Invitation to Critical Thinking. 2nd edition, Holt, Rinehart & Winston, New York, NY, 1990. Brown M.N., Keeley S.M. Asking the Right Questions. A Guide to Critical Thinking. 5th ed., Prentice Hall, 1998. Capaldi, Nicholas. The Art of Deception. 4th edition, Prometheus Books, Buffalo, New York, 1987. Cederblom, Jerry. Critical Reasoning. 2nd edition, Wadsworth Publishing Co., Belmont, CA, 1986. Chaffee, John. Thinking Critically. 2nd edition, Houghton Mifflin, Boston, MA, 1988. Damer, T. Edward. Attacking Faulty Reasoning. 2nd edition, Wadsworth Publishing Co., Belmont, CA, 1987. Engel, Morris. With Good Reason: An Introduction to Informal Fallacies. 3rd edition, St. Martin's Press, New York, NY, 1986. Fahnestock, Jeanne and Marie Secor. Rhetoric of Argument. McGraw-Hill Book Co., New York, NY, 1982. Fisher, Alec. The Logic of Real Arguments. Cambridge University Press, New York, NY, 1988. Govier, Trudy. A Practical Study of Argument. 2nd edition, Wadsworth Publishing Co., Belmont, CA, 1988. Hansen, Hans V. and Roberts C. Pinto, eds. Fallacies: Classical and Contemporary Readings. University Park, PA: Penn State Press, 1995. Hitchcock, David. Critical Thinking: A Guide to Evaluating Information. Methuan Publications, Toronto, Canada, 1983. Hoagland, John. Critical Thinking. 2nd edition, Vale Press, Newport News, VA, 1995. Johnson, Ralph H. and Blair, J. A.. Logical Self-Defense. 2nd edition, McGraw-Hill, New York, NY, 1983. Kahane, Howard and Cavender, Nancy. Logic and Contemporary Rhetoric. 8th ed. Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1998. Makau, Josina M. Reasoning and Communication: Thinking Critically about Arguments. Belmont, Ca.: Wardsworth Publ.Co., 1990. Michalos, Alex C. Improving Your Reasoning. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1986. Miller, Robert K. Informed Argument. 2nd edition, Harcourt, Brace, Jovanovich, San Diego, CA, 1989. Missimer, Connie. Good Arguments: An Introduction to Critical Thinking. 2nd edition, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1986. Moore, Brooke N. and Parker, Richard. Critical Thinking: Evaluating Claims and Arguments in Everyday Life. 5th edition, Mountain View, CA, Mayfield Publishing Co., 1998. Moore, Edgar. Creative and Critical Reasoning. 2nd edition, Houghton Mifflin, Boston, MA, 1984. Nickerson, Raymond S. Reflections on Reasoning. L. Erlbaum, Assoc., Hillsdale, NJ, 1986. Nosich, Gerald. Reasons and Arguments. Belmont, CA Wadsworth 1981. Ruggiero, Vincent. Beyond Feelings. A Guide to Critical Thinking. 5th ed., Mountain View, Mayfield, 1998. Scriven, Michael. Reasoning. McGraw-Hill Book Co., New York, NY, 1976. 175 5. Толерантность и критическое мышление в перспективе трансформации пост-советского образования Seech, Zachary. Logic in Everyday Life: Practical Reasoning Skills. Wadsworth Publishing Co., Belmont, CA, 1988. Thomas, Stephen N. Practical Reasoning in Natural Language. 4th ed. Prentice-Hall, Upper Suddle River, 1997. Toulmin, Stephen E., Richard Rieke, and Alan Janik. An Introduction to Reasoning. Macmillan Publishing Co., New York, NY, 1979. Wilson, John. Thinking with Concepts. 4th edition, Cambridge University Press, New York, NY, 1987. - Математика и критическое мышление Schoenfeld, Alan. Mathematical Problem Solving: Issues in Research. Lester, F.K. and Garofalo, J., ed's. Philadelphia, PA: The Franklin Institute Press 1982. Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematics, by the Working Groups of the Commission on Standards for School Mathematics of the National Council of Teachers of Mathematics, Reston, VA 1989. Professional Standards for Teaching Mathematics, by the Working Groups of the Commission on Standards for School Mathematics of the National Council of Teachers of Mathematics, Reston, VA 1991. - Общественные науки и критическое мышление Holt, Tom. Thinking Historically: Narrative, Imagination, and Understanding, College Entrance Examination Board. New York, 1990. Ruggiero, Vincent. Moral Imperative. Mayfield Publishing, Palo Alto, CA, 1984. - Естествознание и критическое мышление Giere, Ronald N. Understanding Scientific Reasoning. Holt, Rinehart, and Winston, New York, NY, 1979. (Out of print.) Radner, Daisie and Radner, Michael. Science and Unreason. Wadsworth Publishing Co., Belmont, CA, 1982. - Преподавание языка и критическое мышление Adler, Mortimer. How to Read a Book. Simon and Schuster, New York, NY, 1972. Horton, Susan. Thinking Through Writing. Johns Hopkins, Baltimore, MD, 1982. Kytle, Ray. Clear Thinking for Composition. 5th edition, McGraw-Hill Book Co., New York, NY, 1987. Little, Linda and Greenberg, Ingrid. Problem Solving: Critical Thinking and Communication Skills. New York, NY e.a.: Longman, 1991. Mayfield, Marlys. Thinking for Yourself: Developing Critical Thinking Skills Through Writing. Wadsworth Publishing Co., Belmont, Ca., 1987. - Критическое мышление для медицинских работников Alfaro-LeFevre, R. Critical thinking in nursing: A practical approach. Toronto: W.B. Saunders, 1995. Bandman, E.L., & Bandman, B. Critical thinking in nursing. Norwalk, CT: Appleton & Lange,1994. Brookfield, S. (1987). Developing critical thinkers: Challenging adults to explore alternative ways of thinking and acting. San Francisco: Jossey-Bass, 1987. Miller, M.A., & Babcock, D. Critical thinking applied to nursing. St. Louis: Mosby, 1995. Wilkinson, J.M. Nursing process: A critical thinking approach. Menlo Park, CA: Addison-Wesley Nursing, 1996.