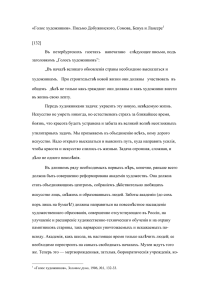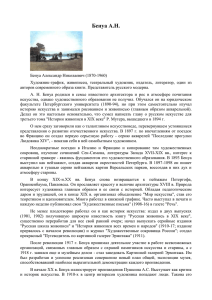С Невского на Монпарнас.
advertisement
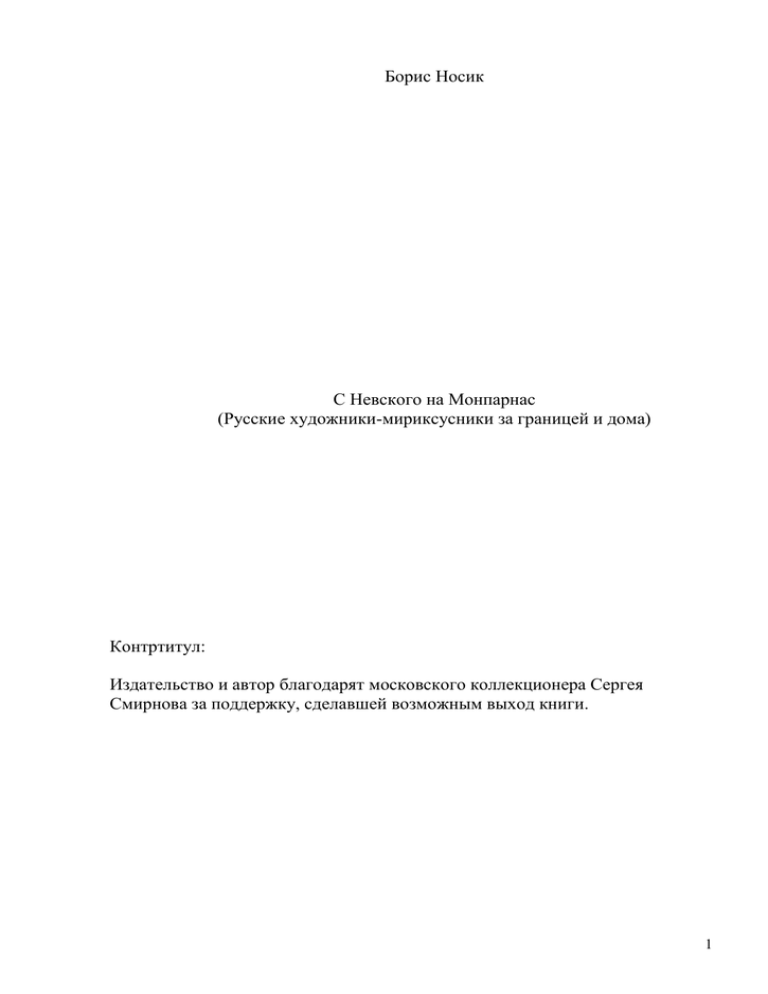
Борис Носик С Невского на Монпарнас (Русские художники-мириксусники за границей и дома) Контртитул: Издательство и автор благодарят московского коллекционера Сергея Смирнова за поддержку, сделавшей возможным выход книги. 1 Искусники – мирискусники Мир – искусству, искусство – миру Анисфельд Борис (1878 – 1973) Анреп Борис (1883 – 1969) Бакст Лев (1866 – 1924) Бакст Андрей (1907 – 1972) Бенуа Александр (1870 – 1960) Бенуа Альберт (1852 – 1936) Бенуа Николай (1901 – 1988) Билибин Александр (1903 – 1972) Билибин Иван (1876 – 1942) Браз Осип (1873 – 1936) Волошин Максимилиан (1877 – 1935) Добужинский Мстислав (1875 – 1957) Добужинский Ростислав (1902 – 2000) Добужинская Лидия (1902 – 1965) Дягилев Сергей (1872 – 1929) Замирайло Виктор (1868 – 1939) Инглези Леонидас (1882 – 1972) Коровин Константин (1861 – 1939) Мозалевский Иван (1890 – 1975) Мозалевская Валентина (1897 – 1975) Рерих Николай (1874 – 1947) Рерих Юрий (1902 – 1960) Рерих Святослав (1904 – 1993) Сабашникова Маргарита (1882 – 1973) Сомов Константин (1869 – 1939) Стеллецкий Дмитрий (1875 – 1947) Чемберс-Билибина Мария (1874 – 1962) Чемберс Владимир (1878 – 1934) Черкесов Юрий (1900 – 1943) Чехонин Сергей (1878 – 1936) Чирикова Людмила (1895 – 1990) Щекатихина-Потоцкая Александра (1892 – 1967) 2 Король прощается с Лувром и Версалем Шла страшноватая весна 1953 года. В разгаре была «холодная война» на всей планете, а в России уже воздвигали эшафоты для новых казней. В ожиданье последней расправы обмирали в смертельном страхе в подвалах Лубянки почтенные старики-врачи, «отравители в белых халатах» и «агенты Джойнта» - так принято было тогда в советской прессе называть евреев… Грустно чернели вечерами даже стекла боярских дач – на Николиной Горе, в Переделкине: спокойнее было сидеть в потемках, может, непрошеный гость пройдет мимо, не «заглянет на огонек» (как говаривал некогда друг Маяковского и Бриков хитрец Яша Агранов, об ту пору уже, впрочем, расстрелянный). За одним из этих дачных окон помирал вконец перепуганный партийными «постановленьями» об искусстве гениальный русский композитор Сергей Сергеевич Прокофьев… А потом вдруг все переменилось, дрогнуло, стало меняться - точно взломало весенний лед на Неве. Правда он не дождался перемен, освободивших бы его от страха, нестарый еще русский композитор, но зато в те же самые мартовские дни помер и главный палач по кличке Сталин, скорей всего, придушили пахана народов на его «ближней» даче разбойные его опричники. Услышав об этой новости, прогрессивные народы мира умылись слезами: оплакивали конец вурдалака безутешно, однако, не слишком долго. Еще помнится, что в те же дни старикам-«отравителям», во всяком случае тем из них, кто выжили, разрешили позвонить домой, а потом катиться подобру-поздорову домой «к своим Сарам да Абрамчикам»… Такое вот творилось в Москве, а в Париже прошли митинги бесконечной скорби, смахнули суровую мужскую слезу Торез и Пикассо вместе с Луём Арагоном… «Да, да, как лед весной ломало на Неве… - задумчиво бормотал в привычном своем кресле, установленном на его персональной выставке в одном из залов Лувра, 83-летний русский художник Александр Николаевич Бенуа, - А теперь вот и я прощаюсь с Лувром… А надо бы еще с Версалем проститься… И с Петергофом…» Печалился он досрочно: жить ему еще оставалось изрядно – можно было наблюдать шевеление жизни, читать книжки, писать новые мемуары, издавать старые, вспоминать, без конца вспоминать… Вспомнилось отчегото, как он укатил в Париж с началом той, первой еще русской революции, как друзья звали его вернуться – вмешаться в бурю, влиться в их «Жупел», где тявкало уже немало осмелевших мосек… А он был тогда упоен Версалем. Прекрасным Версалем, хотя и оскверненным на века здешней революцией… Помнится, московский поэт-экскурсант молился там на след варварского штыка, вонзенного в антикварный столик. Тот же хам радовался, что «поволокли на эшафот» прекрасную женщину. Знатный был в России поэт, друг мерзкого Брика… Сам-то он был ничего, вполне симпатичный, 3 симпатично-невежественный, хотя вот Наталья-то Гончарова назвала его здесь чуть не Сыном Божиим… А ему, Бенуа, уже и в 1905 виделось из Версаля будущее российское кровопролитие. Он писал тогда в Петербург другу Диме да племяннику Жене: «Все повторяется, а, следовательно, мы получим своего Робеспьера, и Бонапарты будут равняться по своей декоративности французским. Все же мы зипун, а Бонапарт в зипуне зрелище едва ли выносимое…» Он ошибался. Не только притерпелись к своим блатным бонапартам россияне, - от большого страху, конечно, - но и сам же он, Бенуа, было время льнул к большевикам, обещавшим остановить ненавистную войну. Впрочем, об этом нынче не любил вспоминать, хотя и скрывать не стал, бесценные дневники тех лет отдал в печать – пусть поймут потомки, как мы чувствовали и отчего… …Помнится, молодой Женя Лансере и молодой Дима были в том мятежном 1905 г. полны надежд, но ведь он-то, Шура, уже и тогда предсказывал, что самое прекрасное должно в огне бунта погибнуть. Понятное дело, что все, кто подобно ему хоть сколько-нибудь сожалели о гибнущем, уже тогда считались реакционерами… Да и в 20-е годы, уже и здесь, их всех как ретроградов клеймила здешняя вполне эмигрантская, но при этом и вполне большевистская молодая русская поросль (вроде немало хлебнувшего горя самоучки графа Ланского или юного докторского сынка Кости Терешковича)… Выходило, что они, мирискусники, были реакционеры, это они-то, былые борцы против буржуазности… Но вот еще сколько-то лет прошло с той поры, и кто-то давеча здесь же, в Лувре на вернисаже у него, у Бенуа, объяснял вслух молодежи, что онито и были настоящие революционеры, наши мирискусники. Ну да, милейший Юрий Палыч Анненков и объяснял, между прочим, неплохой график, но такой уж вертлявый человек – то нашим, то вашим. Он тут взялся объяснить французам про мирискусницкую революцию в русском искусстве, в русской книжной графике, в театрально-сценическом оформлении, в мировом театре… И ведь правда, истинный переворот произвели они тогда в искусстве. Пожалуй что и бунт… Это мы бунтовали, «майские» гимназисты из не бедных семей. Это мы оскорбляли старых, хороших людей, с которыми у нас оказалось на самом деле больше общего, нежели со многими современниками. Таких нестарых еще людей, как мой покойный папенька, как Кости Сомова почтенный и добрый отец, как благородные их друзья. И ведь талдычили мы тоже по молодости лет, чуть не до шестидесяти – буржуазность, буржуазность… А что такая за буржуазность у них была, у родителей? Было только честное отношение к России, к труду, к ближним. И семейственность, и порядок… Но вот еще три десятка лет прошло – и никого вокруг, и ничего, как корова языком слизнула… А теперь и ему пора уходить, «первому двигателю» движения. Старому королю «Мира искусства»… И кто ж без него объяснит молодым, чем был для тех людей их «Мир искусства»? Не по мелочи, а с оглядом. Только те 4 люди и помнят. Один из краем только прикоснувшихся к их обществу написал в мемуарах недавно: «Цвет тончайшей культуры – настоящая «Александрия» ума, вкуса и знаний – и, вместе, творческий порыв к общественному выражению этих данных, к проникновению ими окружающей среды – таков «Мир искусства» в его «созерцании» и «действии». Законный плод западноевропейской жизни, весь пропитанный ее соками, он созрел на русском дереве как естественный итог нашей культурно-художественной европеизации, как «последнее слово» в этой области петербургского периода. Было что-то минутное, что-то тепличное в хрупкой красоте этого явления, и его кратковременность была заложена в нем самом. Быстро отцвели эти «олеандры на льду», но всегда будут оборачиваться, чтобы различить в дали времен их прекрасное и благородное цветение…» Старый художник запихнул листочки чужого текста в карман, заерзал, пытаясь устроиться поудобнее в кресле, и тогда кто-то из внимательной публики подошел к нему, склонился и льстиво напомнил про старый его портрет, сделанный Левушкой Бакстом тому лет шестьдесят назад, - та же полулежачая поза… Черный жук зарылся в черное, сказал тогда Розанов… И Костин был его ранний портрет… Костя Сомов… Уже лет пятнадцать, как и его нет… И Сережи нет – двадцать пять лет, как ушел, уплыл над каналами, над островами Венеции… Левушки-то Бакста уже, пожалуй, и целых тридцать лет как нет… А давно ли все начиналось, начиналось так славно в Петербурге, в отцовском доме… «Дом Бенуа, что у Николы Морского»… Тому уж, пожалуй, едва ли не шестьдесят лет… Майские гимназисты, невские пиквикианцы В упомянутом выше письме 1905 г. из Парижа 35-летний Шура Бенуа назвал себя аристократом, аристократом не по рождению – «аристократом по настроению и вкусам». Конечно, все они, мирискусники, были аристократы – аристократы духа. К дворянству же среди них принадлежали только Дима Философов, да его племянник из Перми Сережа Дягилев, и то не столь высокого рода дворяне, чтобы с ними настоящий аристократ, вроде художника и коллекционера князя Щербатова, стал меряться («не совсем, но почти «барин», с примесью чего-то другого», - снисходительно написал князь о Дягилеве, который, впрочем, за границей гордо именовал себя «де Дягилев»). В основном же происходило большинство мирискусников из богатых интеллигентских семей – как выражались одно время, из «буржуазной интеллигенции» (выражались для того, чтоб не путали ту интеллигенцию с советской «трудовой интеллигенцией», которая не чета буржуям). Собственно, та интеллигенция была тоже «трудовая», тоже трудилась, но, конечно, никогда не была такой полунищей, какой была 5 советская трудовая, или такой вовсе уж нищей и презираемой, как постперестроечная. У Шуры Бенуа (и его братьев-художников Альберта и Леонтия, а также его сестры Екатерины, вышедшей замуж за скульптора Е. Лансере) отец был известный петербургский архитектор, у Жени Лансере (скульптор-анималист, у Кости Сомова отец был и вовсе историком искусства и хранителем Эрмитажа, что же до Димы Философова, то его отец был главный прокурор и член Государственного совета… Были они все (кроме Сережи Дягилева) исконные петербуржцы, петербуржские русские. Петербург для них был всей Россией – Петербург да еще его знаменитые пригороды – Петергоф, Ораниенбаум, Царское Село, финские дачные поселки… И смесь кровей в их жилах была истинно петербуржская – немецкая, французская, итальянская с некоторой примесью славянской (у Бенуа, впрочем, такой примеси не было вовсе). Что ж, ведь и в жилах у русских императоров, а также у великих князей и княжон «императорской крови» примеси этой тоже было совсем немного. Походите при случае среди могил русского кладбища Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем: каких только там не увидишь имен – и немецких, и французских, и польских, и шведских, и шотландских… Это все и были русские петербуржцы, пылкие русские патриоты, слуги отечества, монархисты. Впрочем, и социалисты тоже попадаются под крестами в изрядном числе – и анархисты, и бунтари, и богоотступники, и агенты Коминтерна… Ну, а мальчики из «майского» кружка будущих мирискусников – у них та же была смесь кровей (Бенуа, Лансере, Нувель, Нарбут, Рерих, Нурок…). В своих замечательных мемуарах («Жизнь художника») Александр Николаевич Бенуа блистательно рассказывает о жизни царского метр д’отеля родом из-под Парижа, дедушки Бенуа, о жизни папы Бенуа (он был крестником императрицы, выучился на архитектора, строил многие знаменитые здания в Петербурге и Петергофе), о прадедушке (с материнской стороны) Катарино Кавосе (он был венецианцем и композитором, перебрался в Петербург, где стал почтенным «директором музыки»), о дедушке Альберте Кавосе, который тоже был архитектором, имел дом в Венеции (построил Мариинский театр в Петербурге и Большой театр в Москве), о русской, хоть и не родной, но такой родственной и нежной «бабушке Кавос». Эта бабушка Ксения Ивановна была второй женой деда. Уже вдовый, он, проходя как-то мимо пошивочного ателье в Петербурге, увидел в окне прелестную белокурую белошвейку, женился на ней, повез семнадцатилетнюю красавицу в свой венецианский дом, и она влюбилась в Италию, с нежностью воспитывала его сирот, нарожала ему новых детей и до такой степени усвоила «итальянизм», что прослыла в Петербурге за итальянку: Это создало ей в те дни бешеного увлечения итальянской музыкой и итальянской оперой особый ореол. Она перестала быть петербурженкой, а превратилась в какое-то своеобразное подобие чужестранки, а ведь еще со времен Петра за иностранцами сохранялось в столице до некоторой степени привилегированное положение». 6 Следует упомянуть, что дедушка Шуры Бенуа с отцовской стороны (Бенуа) был француз-католик, а бабушка немка-лютеранка. «По заключенному ими при вступлении в брак договору, - сообщает Бенуа, - все их мужское поколение принадлежало католической церкви, все же женское – лютеранству… Эта религиозная разница нисколько не отразилась на сердечности отношений между братьями и сестрами и, скорее, именно ей следует приписать ту исключительную широту взглядов, ту веротерпимость или точнее, «вероуважение», которыми отличался мой отец, да и вообще все члены семьи Бенуа». Эту последнюю добродетель несомненно отметят те, кому посчастливится прочитать воспоминания Бенуа сегодня, в нашем XXI веке, отмеченном ксенофобией и другими комплексами национальной неполноценности. Те же дотошные читатели, что доберутся до его дневников и личных писем, с облегчением отметят, что и «нечистокровным» россиянам терпимость эта давалась с трудом. Но вернемся к нашим школьникам, к серьезным и начитанным «майским гимназистам». «Майскими» называли они себя безо всякой связи с майским праздником пролетариата или с французским «сезоном черешен». Просто сложился их кружок в гимназическую еще пору, в частной петербургской гимназии Карла Ивановича Мая, где они (и Бенуа, и Философов, и Сомов, и Нувель) получали среднее образование. Такая была из ряда вон выходящая частная гимназия, где к мальчишкам относились как к людям. И такой вот был кружок друзей-гимназистов, увлекавшихся искусством, который не распался и позднее, в студенческие годы, когда они поступили в университет – по большей части на юридический факультет. Не распался, а наоборот, завлек новых поклонников искусства, молодых энтузиастов – приехавшего из Перми Сергея Дягилева (еще не знавшего наверняка, в какой сфере искусства он прославится, но не допускавшего и мысли, что не прославится), молодого рыжеволосого художника Льва Бакста (уже делавшего первые шаги в Обществе акварелистов у старшего из братьев Бенуа), а потом еще и других, «вольнослушателей» - Нурока, Скалона, Клина, Добужинского… Собирались они в разных домах, а чаще всего в отчем доме у Шуры Бенуа – говорили об искусстве, музицировали, обсуждали новые театральные спектакли (все были заядлые, осатанелые театралы), даже читали лекции. Было что-то вроде клуба, вроде «вечернего университета» или, как еще говорят, «семинара». Но, конечно, это был веселый мальчишеский семинар и веселый мальчишеский клуб, недаром участники его назвали себя по Пиквикском клубу Диккенса – «невскими пиквикианцами». А все же любознательность их была вполне серьезной, интерес к искусству становился с годами все более профессиональным. У младшего из братьев Бенуа, у Шуры, кроме множества художественных талантов, обнаружилась явная просветительская страсть, может за счет нее и держался так долго их курс «взаимного самообразования». Он и сам признавал позднее, что уже в ту пору в себе чувствовал «педагогическое призвание и потребность собирать 7 вокруг себя единомышленников», другими словами, был он врожденный Учитель, Наставник, Гуру, Ребе, Муаллим от искусства – какие там еще есть другие слова? Что ж до направленья их самообразования, то Бенуа вспоминал позднее с легким юмором и глубокой серьезностью: «Темами лекций были «Характеристика великих мастеров живописи» (это читал я и успел прочесть жизнеописание Дюрера, Гольбейна и Кранаха), «Французская живопись в XVIII в. (тоже я – дальше Жироде и Жерара, кажется не дошло), «Верования в загробную жизнь у разных народов» (читал Скалон, отличавшийся от всех нас уклоном к материалистическому миросозерцанию), «Тургенев и его время» (читал Гриша Калин, лекции его были очень живые и остроумные), «Русская живопись» (читал Левушка Бакст, успевший нас познакомить лишь с творчеством Г. Семирадского, Ю. Клевера в соединении с другими пейзажистами, и К. Маковского: за симпатии к этим художникам ему сильно попадало от других), «История оперы» (читал Валечка Нувель, сопровождая свой доклад интересными музыкальными иллюстрациями), Александр I и его время» (читал младший из нас -_ Дима Философов, но, кажется, дальше 1806 г. он не дошел.)» Ирония в этих строках поздняя, старчески умиленная, в те 80-е гг. юные гимназисты были вполне серьезны, даже вели протокол заседаний. Дима Философов вспоминал позднее (еще до окончательного разрыва их с Шурой дружбы): «…именно Шура придавал «взрослый» тон нашему увлечению, был в сущности нашим «педагогом». И стиль отчетов о собраниях был соответствующий. В протоколе 10-го собрания читаем: «Выражена общим собранием благодарность профессору Бенуа за ряд прекрасных лекций, прочитанных с полным знанием дела и упорною настойчивостью. Собрание считает долгом такое отношение к делу назвать образцовым и достойным подражания». В счастливом доме Бенуа чуть не все члены семейства имели отношение к искусству, и атмосфера там царила самая что ни на есть художественная. Да и «невские пиквикианцы», собиравшиеся здесь, все как есть тяготели к искусствам и литературе, хотя и не знали еще точно, на какой стезе суждено им преуспеть и прославиться. Жизнь, несмотря на все катастрофы и катаклизмы, выпавшие на долю Петербурга и России, не вовсе обманула их юные ожидания, хотя и внесла кое-какие поправки в мечтания и расчеты. Ну, скажем тем, что самым знаменитым в памяти грамотных русских и прочих европейцев остался не всезнающий труженик кисти и пера Шура Бенуа, не блистательный театральный художник Левушка Бакст, не мастеровитый гений живописи Костя Сомов, а великий антрепренер и предприниматель Сережа Дягилев. (не многие из знающих его имя потомков могут наверняка припомнить, что он такое сочинил, написал, нарисовал, сыграл или станцевал, зато первыми в головокружительную пору 8 Перестройки стали возникать в разных углах России именно «Дягилевцентры»). Конечно нам, задним числом легче гадать и рядить, но тогда-то, в далекие 80-е годы XIX в. у посетителей счастливого петербургского дома близ церкви Николы Морского было устойчивое мнение, что самая из них из всех блистательная карьера во всех сферах искусства ожидает Шуриньку Бенуа. И не только оттого, что у него старшие браться были скульптор и архитектор, а старшая сестра была замужем за скульптором, а отец был известным архитектором, да и дед с материнской стороны был известным архитектором, сыном композитора и притом итальянцем (правда, прадед с отцовской стороны был простой крестьянин, но зато был он француз и крестьянствовал чуть не в самом Париже, там, где нынче Клиньянкурский вшивый рынок). Нет, не только оттого… Поражал юный гимназист Шура Бенуа своей начитанностью и россыпью самых разнообразных талантов. Вот как писал о нем один из первых его биографов Сергей Эрнст: «С ранних лет у него обнаружилась самобытная фантазия, он много рисует и «все из головы», играет на рояле, устраивает спектакли и исполняет в них самые разнообразные роли, танцует в фантастических костюмах, декламирует Шиллера и Шекспира «на свой лад». С детства преобладающей страстью Бенуа была страсть к театру. Он мечтает стать то актером, то мастером театрально-декорационного искусства, подогреваемый рассказами отца о декорациях Гонзаги, что это были чудеса, а не декорации». Шура даже попытался однажды (на счастье, неуспешно) вступить в труппу приехавшего на гастроли немецкого театра из «города театров» Майнингена. И конечно, в атмосфере такого дома не мудрено было возмечтать о славе художника. И самый этот дом, и всех замечательных родственников своих, и всех учителей своих, наставников и воспитателей, и дачи их под Петербургом и Петергофом, и чудесное свое детство, и бурное отрочество с его созреванием и влюбленностями – все это блестяще описал писатель-художник Бенуа в первых двух томах своей «Жизни художника» и в других своих книгах. Что-то ему помешало… что может помешать в раю? В пятнадцатилетнем возрасте Александр Бенуа наблюдал у себя дома за работой самого Репина, писавшего портрет жены старшего из братьев Бенуа, пианистки Марии Бенуа. Вот как позднее он сам вспоминал об этом: «В 1985 г. я сподобился не только лично познакомиться с Репиным, но видеть его изо дня в день за работой и слушать его речи об искусстве. Илья Ефимович начал писать портрет жены Альберта Марии Карловны Бенуа. Происходило это в квартире брата, находившейся этажом выше нашей и служившей как бы продолжением нашего обиталища. Репин писал Машу играющей на рояле и метко схватил то выражение «холодной вакханки», с 9 которым эта замечательно красивая женщина, откинувшись назад, как бы поглядывает на своих слушателей. Портрет уже после нескольких сеансов обещал быть чудесным, но потом что-то помешало продолжению работы (не то Марье Карловне просто надоело позировать, не то она отправилась в какое-либо турне, и портрет так и остался неоконченным), Но пользу я себе извлек из того, что успел видеть в течение тех пяти-шести раз, когда украдкой, не смея шевельнуться, замирая в молчаливом упоении, я следил за тем, как мастер пытливо всматривается в модель, как он затем уверенно мешает краски на палитре и как «без осечки» кладет их на полотно. Ведь ничего так не похоже на волшебство, как именно такое возникновение живого образа из-под кисти большого художника… Польза заключалась в том, что я вообще видел, как это делается, как создается настоящее искусство, а не тот его эрзац, которым почти все вокруг меня довольствовались». Собственно, уже и самого малолетнего Шуриньку считали дома будущим Рафаэлем, а тут пятнадцатилетний Шура присутствует при рождении настоящего искусства и готов двинуться в путь. Однако путь оказался не близким и не легким. Семнадцати лет от роду он поступает в Академию художеств, но не выдерживает смертельной скуки (еще сильней у него сказано – «тоски и ужаса») академического преподавания и бежит из Академии, не досидев до конца года. Конечно, он продолжает рисовать, но в художественные учебные заведения он больше не поступал – недаром этого просвещеннейшего художника часто называли самоучкой, автодидактом. Первые успехи его в искусстве пришли позднее, чем можно было ожидать. Иные историки искусства объясняют это тем, что он не пожелал пройти курс обучения в художественной школе и академии. Сам он пылко выступал против всяких школ и не раз писал в письмах племяннику Жене: «Брось ты быть школьником, прилежно и доверчиво слушающим то, что говорят ему тупицы учителя! Будь художником – и учись на самом искусстве! …Учиться следует весь свой век и всегда новому, а не учиться 4 года в своей жизни для будущего… Если тебе самому вздумалось поупражняться на гипсе, то с богом, сиди, работай над ним, сколько тебе угодно! Не в том вред, что ты пишешь или рисуешь с гипса, а в том, что ты раб традиций, ты вошел в стадо художников, ты более не свободен – а без свободы художник не художник!» Иные из историков искусства винили в этом запоздалом созревании Бенуа тормозящее влияние высокой его образованности, всезнания (во многом знании много печали). Может и правда: проштудировав столько томов по искусству, повидав столько картин, трудно взяться за кисть с легкостью мальчика из глухого русского сели или с хасидской окраины белорусского городка. У меня нет ответа на этот вопрос. Ясно одно – начало художнической карьеры Александра Бенуа было не ранним и не легким. Впрочем, никто его и не торопил. 10 К двадцати годам гимназия Мая была друзьями-пиквикианцами закончена, и мальчикам надо было где-то «продолжать образование». Так же, как несколько других заядлых «пиквикианцев (Философов, Нувель, Дягилев), Бенуа поступает на юридический факультет университета, хотя интересует их всех по-прежнему искусство, только искусство – живопись, история и теория искусства, музыка, театр (ах, театр!). И религия, конечно, - история религии, философия… Они продолжают собираться у Бенуа, читать лекции, веселиться, как положено молодым жителям столицы, развлекаться, но и серьезно спорить об искусстве – до поздней ночи, до утра (спать ложились зачастую уже с рассветом и спали до полудня). О чем же были их споры? Легко догадаться, что спорили молодые эстеты «о старом и новом» в искусстве, ибо они пришли в мир, чтобы принести ему новое, а пока еще нет у них у самих этого нового, значит, надо попросту расчистить для него дорогу от старого. Недаром же восторженному Левушке Баксту так попало на домашних лекциях за его восторги перед Семирадским. Пока что, конечно, ни своей кистью, ни карандашиком могучего семирадского переплюнуть не может, но теоретически уже можно в нем сильно усомниться, а грамотный Шура Бенуа уже и 24-х лет от роду выступил в роли историка искусства (вдобавок – на немецком наречии, за границей. Сперва в рамках ученого тома немца Мутера в Мюнхене, а потом и в отдельном томе в Петербурге). Конечно, как верно отметил современный искусствовед, «полемические намерения будущих «мирискусников» поначалу сильно превосходили их собственные творческие возможности, их действительный научный и критический багаж. В этом неоднократно и с полной откровенностью признавался сам Бенуа, иллюстрируя, например, многими фактами свою (и в еще гораздо большей степени – своих друзей) слабую осведомленность в современном европейском искусстве». И все же важной их чертой было «чувство необходимости серьезных перемен в искусстве» отсюда шел и острый полемический тон. Что же хотелось низвергать веселым, талантливым и начитанным молодым людям из кружка (они с верным чувством избегали даже этого, уже пахнущего конспирацией слова «кружок», предпочитая французское «сенакль», что значит просто «сообщество») будущих мирискусников. Низвергать, понятное дело, хотелось то, что уже утвердилось и царствовало в русской художественной жизни – и академический классицизм, и передвижничество… Упомянув о передвижниках, автор этих строк не избежит соблазна пуститься в собственные школьные воспоминания. Я кончал московскую среднюю школу в первые послевоенные годы. Школа была престижная, добывала нам (не мытьем, так катаньем) золотые и серебряные медали, вовсю стараясь при этом, чтоб мы были «на уровне». Для поддержания уровня раз в неделю нас водили всем 10 «А» классом в Государственную Третьяковскую галерею, где показывали лучшие в мире картины. Лучшие в 11 мире картины, как мы уже твердо тогда усвоили, писали художникипередвижники. Они разоблачали в этих картинах проклятый царский режим и показывали неизбежность Октябрьской революции (так до последнего времени полагалось в Москве называть большевистский путч, лишивший Россию последних признаков демократии). Поскольку царский режим был так ужасен, картины у передвижников были тоже грустные и безотрадные: то похороны крестьянина («угол рогожей покрытого гроба торчит из убогих саней»), то арестантские вагоны (хотя название вполне оптимистическое, мол, «всюду жизнь!»), то молоденькую девушку бознать за кого замуж выдают, а то и еще хуже – какой-то арестант, вероятно. «народный защитник», а не какой-нибудь уголовник, возвращается домой, а его «не ждали»… В общем, жизнь была безотрадна – оттого и живопись безотрадна; мы это все со второй экскурсии в Третьяковку поняли, поскольку нам это и в школе каждый день объясняли: для того они и нужны были русская литература и русская живопись, чтобы «освободить» наших родителей то ли от феодализма, то ли от империализма и сделать их безоговорочно свободными. В конечном счете, вся теория искусства и литературы укладывалось тогда в статью тов. Ленина «Партийная организация и партийная литература»… Как убедительно свидетельствовали картины передвижников, были и до большевистского путча 17-го года в русском искусстве такие печальники (певцы печали и гнева), которые с большим мастерством показывали абсолютную неизбежность революции. Конечно, когда мы подросли, мы коегде подчитали, что они не то, чтоб целый век только печалились, эти певцы, но иногда также и вполне беспартийно развлекались – кто за карточным столом, кто на охоте, кто в постели с умелой француженкой или с чужой женой, кто в дорогом ресторане, а кто и в недешевой кондитерской, как пылкий недоучка и великий учитель Бакунин, очень любивший пирожные. Им всем, как и самому Марксу, ничто человеческое не было чуждо, но в стихах и на полотне им положено было печаловаться и ничего светлого не видеть вокруг, пока не перейдет вся власть к тем, кому положено. Но отчего ж этим печальникам ничего вокруг светлого не попадалось? Так уж и впрямь все было безотрадно? Не все, конечно, но такая у них была психология. Писатель Бердяев (до второй своей лубянской отсидки) называл ее «психологией пасынков Божиих». К добру она никого эта психология не привела – ни Л. Д. Троцкого, ни мадам Бовари, ни Б. Савинкова… Помнится, много позднее, увы, не в средней школе, где уроков задавали так много, а потом, когда мы стали читать «не по программе», мы вдруг обнаружили, что еще и за полсотни лет до нас многие русские люди отмечали уже эту «народническую» безотрадность русской живописи и поэзии, ища что бы ей такое противопоставить. От этих поисков шли мирискусники, и не только они. Вон и старший современник мирискусников, весельчак Константин Коровин живописал нравы, царившие у них в московском Училище живописи и ваяния: 12 «…большинство было на стороне «что написать»: нужны картины «с оттенком гражданской скорби». Если изображался священник на заданных эскизах, то обязательно толстый, а дьякон – пьяный. Дьякон сидит у окошка и пьет водку. Картина называлась «Не дело». Другое полотно: художник, писавший картину зимой, упал и замерз, палитра вывалилась у него из рук… Человек с достатком изображался в непривлекательном виде. Купец почитался мошенником, чиновник – взяточником, писатель – умнейшим, а арестант – страдальцем за правду… … Ученики училища живописи были юноши без радости. Сюжеты, идеи, поучения отягощали их головы. Прекрасную жизнь в юности не видели. Им хотелось все исправлять, направлять, влиять и спорить, спорить без конца». Мать художника Валентина Серова вспоминала, что уже и молодыми друзьями ее сына «был брошен смелый вызов «старикам», то есть, передвижникам: идейность, тенденциозность в живописи рьяно отрицались». Не удивительно, что позднее Валентин Серов тяготел к мирискусникам. А они начинали свой поход против некрасовской печали. Впрочем, хотел бы уточнить, что печальничество это не исключительно русская черта. Приехав впервые (в конце 70-х - начале 80-х гг. истекшего века) надолго в Париж, я попал в компанию молодых, веселых и сытых людей, которые все как есть оказались «левые» - последыши той веселой и безответственной студенческой заварушки, которая в глазах французов остается «Великой революцией 1968 года». Эти люди ужасно огорчались, если мне, приезжему, что-нибудь у них во Франции нравилось – скажем, цветы, старинные замки или даже хрустящие батоны в булочной. Вобще-то эти мои молодые знакомые были люди щедрые, дружелюбные, но что-то было в их поведении малоубедительное. Скажем, ближе к полуночи, они вдруг прощались с женами и уходили куда-то, якобы на набережную Сены, за тем, чтобы ночевать там в палатке у беспаспортных малийцев и тем самым поддержать их протест против парижских жилищных условий. Подбитых ими же самими на палаточную акцию малийцев было полдюжины, а уходило из родных домов «в ночное», небось, не меньше тыщи сочувствующих молодых буржуа. Это уж потом, обжившись в Париже, я понял, что шли они скорей всего на блядки, и до унылой малийской палатки добирался, может, со своей виллы в Мезон-Лаффите один только старенький профессор Шварценберг вместе со всем нам знакомой и всеми нами любимой вдовой Высоцкого Мариной Влади… Как-то раз в гостях, прощаясь с уходящими «в ночное» богатыми леваками, я брякнул разнеженный их теплым приемом и всеобщим вниманием: - Да возьмите себе каждый на свою виллу по полмалийца и проблемы будут решены. 13 И тогда самый опытный из этих троцкистов (увы, все они оказались поклонниками «любовника Революции» и носили подпольные клички вместо имен) повертел пальцем у виска и сказал печально: - Русские совсем не понимают стратегию революции. Больше я в их сексуально-социальные проблемы никогда не вмешивался, в связи с чем я и в гости ходить перестал в Париже… Но возвращаясь к молодым друзьям Шуры Бенуа и ко всему их «сенаклю», отмечу, что им безотрадное идейное печалование передвижников обрыдло еще и за полвека до нашего первого школьного визита в Третьяковку. То-то они и бунтовали, то-то искали радости в других краях в другом (давно ушедшем) времени, хотя бы и в перепудренном Версале XVIII в. Обращались к темам романтического прошлого, к мистике, к элегантным персонажам из «галантного века». Их всех тянуло в ушедшее, но конечно в разной степени и в разные стороны одновременно. Достаточно вспомнить неодолимую тягу Шуры Бенуа к русской и прочей старине, ко всем прекрасным «руинам» (и это шло еще с детских лет, еще с дачной Кушелевки). Видя обветшавшую старинную часовню, Шура изнывал от желания ее оберечь, восстановить. Его друг по лицею, по сенаклю и «Миру искусства» красавец-аристократ Дима Философов, напротив считал, что ветхое строение надо подтолкнуть и обрушить, чтобы расчистить путь новому (ведь Димина мама-красавица, в отличие от ее будущего мужа, безжалостного прокурора, и вовсе была в молодости подругою экстремистов, а позднее стала видной феминисткой, что отмечено даже в советских энциклопедиях). Забегая вперед, должен сообщить, что какие-нибудь десять лет спустя Шура уже редактировал журнал «Художественные сокровища России» и писал в журнале «Старые годы». А Дима боролся – то с царизмом, то с большевизмом и осуждал бывшего друга Шуру Бенуа за эскапизм и благодушие… Но пока, ни шатко, ни валко завершив университетский курс, друзья по сенаклю начали путешествовать (особенно часто совершая паломничество к европейским святыням искусства), стали искать службы и заработка, не оставляя при этом серьезных занятий искусством. Служба была некоторым из них очень нужна, в частности, Шуре Бенуа, который рано женился, снимал дачу и заводил детей. Он женился на младшей сестре пианистки Марии Карловны Бенуа-Кинд, бывшей жены своего старшего брата, знаменитого акварелиста Альберта Бенуа – на Анне Карловне Кинд (по-домашнему Ате). Ему удалось избежать докучливой казенной службы, потому что княгиня М. К. Тенишева доверила ему приведение в порядок и пополнение своей личной коллекции, что позволяло ему за счет княгини совершать путешествия по Европе (Франция, Германия, Австрия). Щедрая меценатка Тенишева (о художественном вкусе и женском обаянии которой молодой Бенуа был не слишком высокого мнения) отправила своего молодого эксперта и хранителя коллекции в долгую заграничную командировку с семьей – как он и хотел… Первый успех принесли Бенуа его вещи, показанные им на выставках Общества русских акварелистов. Одну из них – «Замок» - даже купил для 14 своей галереи П. М. Третьяков, что как отмечают нынче искусствоведы (а в 90-е годы позапрошлого века с торжеством отмечали друзья А. Бенуа), «являлось в то время своего рода патентом на звание незаурядного художника». Написанный акварелью, гуашью и пастель с углем мрачноватый старинный замок, засыпанный снегом, свидетельствовал о том, что Шура не избежал увлечения новым тогдашним европейским (и, конечно, петербургским) литературным кумиром – М. Метерлинком, как впрочем, и прежним кумиром их кружка - А. Гофманом. Успех в области акварельной живописи связан был, думается, и с домашними, семейными влияниями. Прославленным и признанным акварелистом (а чуть позднее и главой Общества русских акварелистов) был старший брат Александра Бенуа Альберт (Альбер) Бенуа, художник, веселый пианист-импровизатор, душа общества и любимец императорского двора. Когда этот старший брат с милой своей женой-пианисткой Марией Карловной вернулся на жительство в отцовский дом и занял в нем верхний этаж, в доме водворилось непрестанное веселье: вечная музыка, танцы, импровизации, праздники, морские офицеры… Через последних и до государя дошли премилые акварели Альберта (они были и впрямь хороши!) – через них он на яхты императорские попал, плавал с семьей государя по шхерам. Впрочем, из-за этих морячков и с Марией Карловной, пожалуй, пошел у него разлад… С 1896 г. в жизни Александра Бенуа начинается очень для него важный и плодотворный период творческой жизни – три года, проведенные во Франции – в Париже, Версале и Бретани – упорная самостоятельная учеба, самостоятельная работа, работа, работа… Одержимость Версалем, старинными пустеющими дворцами началась у Бенуа еще и до поездки во Францию, ибо в детстве он каждое лето проводил под Петербургом – в «маленьких Версалях», где работал его отецархитектор (в Петергофе, в Ораниенбауме), в руинах кушелевской дачи… Позднее, юный театрал Бенуа пережил настоящее потрясение в Мариинском театре на «Спящей красавице» Чайковского: действие балета разворачивалось на фоне Версаля. Искусствоведы давно отметили, что для всего сенакля будущих мирискусников театр и музыка были едва ли не важнее живописи. Считают, что именно с того спектакля и Бенуа стал балетоманов (и версалеманом)… И вот пришел 1896 год, когда Бенуа стал бродить по настоящему, заброшенному и довольно печальному Версалю, о котором он написал десять лет спустя: «Я упоен Версалем, это какая-то болезнь, влюбленность, преступная страсть… Правда Версаля оказалась более изумительной и чудесной, нежели все вымыслы… в сущности эти настроения (в Версале) были в известной степени возобновлением или продолжением тех, что овладевали мной в Петергофе, в Ораниенбауме, в Царском Селе… приобретали небывалую, почти до физического страдания дошедшую остроту». 15 Этот израненный революцией и забвением, лишь отчасти излеченный (трудами новых французских друзей Бенуа, вроде Нолака и Монтескью), этот дремлющий Версаль, к встрече с которым подготовили Шуру Бенуа музыка, живопись и глубокое сострадание к родным петербургским руинам – этот Версаль он будет писать еще и десять, и двадцать, и тридцать лет спустя. Им он будет бредить всю жизнь, будет сожалеть и на исходе девятого десятка лет, что вот не гуляет он больше по своему «парадизу», однако самую первую свою, сразу прославившую его версальскую серию акварелей, гуашей и рисунков – «Последние прогулки Людовика XIV» - Бенуа стал писать в тот памятный первый приезд – в 1897 – 98 гг. Не удивительно, что мы разглядываем их с меньшим удивлением, чем разглядывали когда-то современники Бенуа: нам ведь эти рисунки примелькались с детства… Вот лакей в ливрее толкает коляску, в которой горбится на фоне величественных садов постаревший, скрученный недугом всемогущий король-солнце Людовик Великий. За ним поспешают королевский врач и королевский духовник – вот и все, кто остались нужны из былой пышной свиты. Но сады вокруг него еще не нынешние, с грехом пополам подлатанные на скудную госдотацию, а те, что цвели тогда, при жизни «короля-солнца». Догадливым искусствоведам благородно-серые пейзажи Бенуа напоминают театральную декорацию, в которую «инкрустирована» инвалидная коляска короля. Искусствоведы видят здесь парадоксы Бенуа. Но и менее подкованные поклонники Бенуа видят в сумрачном этом Версале отголоски человеческой драмы и догадываются, что версальские драмы тоже как-то связаны с современностью, однако не так впрямую, как зрелище «рогожей накрытого гроба», торчащего из убогих саней… Однако, отчего вдруг Версаль? Отчего, подобно Бенуа, и сам Версаль, и весь тот «галантный век» как бы великих Людовиков и напудренных маркиз с мушкой изображают и Сомов, и Судейкин и столько других прочих? Искусствоведы (да и сам Бенуа, один из первых русских искусствоведов) исписали по этому поводу немало страниц. Хотя Бенуа и кроме версальских серий написал немало пейзажей и всего прочего, чаще говорят о нем люди грамотные, что он «художник Версаля». «И все же незабываем именно Бенуа версальского цикла», - повторяет грамотный Сергей Маковский, сообщая, что «тут вопрос не в самих картинах, а в идеологии, породившей это художественное пристрастие… Главное тут не живопись, а мечта…» А дальше объясняет для непонятливых этот известный искусствовед, поэт, редактор и еще кто-то: «Мне всегда казалось, что живопись для Бенуа – отчасти лишь повод, а не цель, повод воплотить влечение свое – не к прошлому и невозвратимому оттого, что оно прошло и не воскреснет, - а к тому великолепию прошлого, которое должно воскреснуть, которого так недостает настоящему, нашим русским, да и всеевропейским, сереньким, мещанским будням». 16 Вот к такому выводу пришел С, Маковский, задолго до своей эмиграции назвавший А. Н. Бенуа и других «стилистов «Мира Искусства» ретроспективными мечтателями. Конечно, чуток порассуждал при этом Маковский о «наследственном наваждении» французской крови в жилах Бенуа, о европействе его и западничестве, о том, что Бенуа глядит на Русь «оттуда»: «отсюда увлечение его Преобразователем, Пушкинским Медным Всадником, Санкт-Питербурхом и его окрестными парадизами и монплезирами, всей этой до жути романтической иностранщиной нашего императорского периода». Впрочем, не принимайте слишком всерьез все эти бредни о французско-итальянских кровях, потому что чуть дальше тот же Маковский приходит к выводу, что был этот полу-француз - полу-итальянец А. Н. Бенуа донельзя русским: «… кто мог думать… что на берегах Невы вождем целой школы стилистов и графиков станет вдруг художник, которого родина будто не Петербург, а Версаль Короля-Солнца, Рим Бернини и Венеция Казановы и Пиетро Лонги, и что этот острый художник, блестящий ученый, пламенный театрал и декоратор с нерусской фамилией, Александр Бенуа, несмотря на все свое тяготение к маскараду великого века и космополитические теории, окажется гораздо более русским, более петербуржцем, чем живописцыинтеллигенты, писавшие гоголевских чиновников и купчих Островского…» Сам Бенуа неоднократно касается в своих трудах мирискуснической обращенности к Западу. Отчасти это была игра, «юношеская блажь», «гримасы и всяческое ломанье», маска «западного декадента», дразнившая староверов. С другой стороны, здесь было желание найти новую почву. «присоединив новых опыт к старому». Из многочисленных признаний Бенуа на эту тему выберем хотя бы одно, позднее, достаточно краткое и характерное: «в нашем часто слепом увлечении «заграничным» было много просто ребяческого и нелепого. Еще больше глупости было в нашем игнорировании многого в русском быту, вовсе того не заслуживающего. Мы просто не умели оценить и осознать то, что составляло самые устои нашего же жизненного счастья. Лишь постепенно однобокое отношение к своему стало меняться… мы даже пережили искреннее и прямо-таки бурное увлечение всем русским. Мы прозрели, и это прозрение освежило нас, обогатило нашу душу. Но «прозрев», мы не изменили и прежним детским идеалам. Мы не променяли одно на другое… а, приобретая новое, … мы обогащались, и надо прибавить, что это новое прекрасно укладывалось рядом со старым». В гуще бретонской жизни. Вчерашний ученик Сережа. В чем он истинный был гений? Итак, первая версальская серия Бенуа писалась в 1897 – 98 гг. в Париже, Версале и в Бретани. Выбирая, куда им во Франции поехать 17 поработать в тиши и на воздухе – в манившие их Прованс, Альпы, Пиринеи или в Нормандию – Шура Бенуа с семьей и племянник его Женя Лансере выбрали в конце концов Бретань. Но и по исхоженной тропе французов молодые петербуржцы решили не ехать – ни в Понт-Аен, ни в Пульдю, ни в Конкарно… Поехали они на север, в Финистер, к Морлэ и там отыскали на Береге Розового Гранита прелестную, довольно еще глухую в ту пору деревушку Примель. Бенуа снова возвращался сюда позднее, а в старости трогательно вспоминал и этот таинственный берег, и обитателей деревни, и проведенные в ней многие счастливые месяцы: «… мы попали в самую гущу бретонской народной жизни и оказались окруженными не только самыми характерными элементами бретонского пейзажа, но и чудесными подлинными бретонскими типами – всякими Клехами, Ледёнфами, Деанами, а их жены все еще рядились на традиционный манер – во все черное, с синими передниками вокруг талии и с белоснежными чепцами на голове. Мы оказались действительно в Бретани, и перед нами открывалось лето, обещавшее массу тех самых впечатлений, за которыми мы сюда приехали и о которых мы мечтали еще в Петербурге». Высокообразованный Шура Бенуа, его жена Атя (Анна Карловна) и его племянник Женя Лансере без труда сдружились с бретонскими обитателями деревни, ибо как вспоминает Бенуа, им были «совершенно чужды разные националистические предвзятости и предрассудки». Наоборот, им с женой была свойственна предвзятая «благожелательность» к разным людям. «Но в Бретани, - продолжает Бенуа, - и без такой «предвзятой благожелательности» наши симпатии были сразу завоеваны местным населением, и между нами и этими рыбарями и крестьянами с их женами уже через неделю установились самые радушные отношения». (При чтении этих строк мне невольно вспомнились письма Александра Блока, отдыхавшего с молодой женой – с бОльшим, конечно, чем молодой Бенуа, комфортом – в такой же прибрежной бретонской деревне и презрительно отозвавшегося о малограмотной бретонской «Латыши». Поэт мечтал о войне или революции, которые встряхнут эту малоцивилизованную дыру). Не сетуя на недостаток комфорта и однообразие стола, Шура Бенуа и его любимый племянник (сын сестры Екатерины, который был всего лет на пять моложе своего дяди) упорно занимались живописью. От этого любимого (но вполне каторжного) занятия их могли оторвать лишь паломничество к каким-нибудь выдающимся бретонским шедеврам искусства и природы или приезд нежданных гостей. Гости не заставили себя ждать. В середине лета того же 1897 г. на финистерский берег пожаловал с дружеским, но прежде всего – деловым визитом Сергей Павлович Дягилев. Визит «самого Дягилева» в бретонскую деревушку, где не было даже лавки, а в домишке, снятом семьей Бенуа, не было свободной комнатки, привел все семейство в ужасное волнение. 18 «Мы почти исключительно питались картофелем, рисом, тогда как даже рыба была редкостью, - пишет Бенуа, - Как тут было угодить такому требовательному и привычному к отельному обилию человеку, как Сережа?.. попал он к нам на пути из Швеции, Дании и Норвегии… а от нас он собирался в Дьепп, где он хотел… встретиться с Оскаром Уайльдом (уже отбывшим свое наказание) и с Бердели». Но волнения оказались напрасными. Знатный путешественник Дягилев «как будто остался доволен» своим пребыванием в деревенском отельчике. С робостью показал Бенуа Дягилеву свои новые работы и работы Жени Лансере, которые у них уже накопились к середине лета. И эти работы, хотя и не вполне законченные, понравились Дягилеву, который вообще любил работы спонтанные, не законченные, еще не отделанные, не прошедшие контроля разума. «Эти хвалы Сережи, - пишет Бенуа, - были мне чрезвычайно приятны, что, между прочим, доказывает, какую авторитетность этот «вчерашний мой ученик» приобрел даже во мнении своего ментора». Последняя фраза Бенуа может озадачить читателя, забывшего удивительную историю Диминого «родственника из провинции и «вчерашнего ученика» Бенуа. Так что, думается, самое нам время рассказать о том, как превратился пермский гимназист не только в «требовательного и привычного к отельному обилию человека», но и в крупного авторитета в области живописи, перед которым трепещет 27-летний искусствовед и художник Шура Бенуа. Сергей Дягилев появился в Петербурге у своего родственника Д. Философова, а потом и в кружке Бенуа всего лет семь тому назад (осенью 1890 г.), едва успев закончить гимназию в далекой Перми. Был он на два года моложе Шуры Бенуа, но в сравнении с уровнем «пиквикианцев» был довольно слабо еще образован и начитан в искусстве (недаром же Бенуа называет его своим «вчерашним учеником»). Кроме поступления в петербургский университет, молодой Дягилев мечтал о блестящей музыкальной карьере (он славно играл на рояле и пел) и вообще о славе – мечтал стать «главным» в искусстве, нисколько не сомневаясь в собственной гениальности. Д. Философов так вспоминал позднее о пермском родственнике: «Интересы его были тогда главным образом музыкальные. Чайковский, Бородин были его любимцами. Целыми днями сидел он у рояля, распевая арии Игоря». Брал Дягилев в Петербурге уроки музыки и композиции, даже одно время «числился в консерватории». П. Перцов ностальгически вспоминает о том впечатлении, которое произвело на него его собственное, Перцова, «исполнение им с Дягилевым в четыре руки на квартире у Бенуа четвертой симфонии Чайковского». Впрочем, трезвый Дягилев очень скоро убеждается, что он не сможет стяжать славы на столичной сцене и что хотя он славно пишет, играет и чтото малюет, нет у него надежды так овладеть кистью или пером, чтобы враз превзойти всех петербургских и заграничных гениев. При всем том Дягилев 19 не готов отступиться от мечты о славе, от мечты стать «главным» в искусстве, и мало-помалу выясняется, что у него есть некие особые таланты – скажем, талант организатора, есть художественный вкус и (что не менее важно) есть нюх на новое, а главное – безошибочный нюх на все, что может нравиться публике, что может принести успех. Есть вдобавок к этому огромные упорство в достижении своих целей, есть напор, есть неутомимая предприимчивость, есть железная, порой безжалостная, воля, в общем, есть все черты лидера, черты предпринимателя, как говорят, черты бизнесмена или, если угодно, черты «нового русского» (хотя ведь и все новое в них = это только прочно забытое старое)… Обо всех этих чертах прославленного Дягилева писалось многократно, однако никто не сказал об этом лучше, чем сам Дягилев, сумевший разобраться в самом себе довольно скоро после приезда в Петербург, впрочем, уже после окончания университета и всех своих вполне унизительных неуспехов на ниве разнообразных искусств. В одном из своих писем к мачехе (в 1895 г.) Дягилев написал о себе самом и о своим опытах с подкупающей интимной откровенностью, с цинизмом и самолюбованием, но при этом и с поразительной для его возраста трезвостью: «Что касается до меня, то надо сказать, опять-таки из наблюдений, что я, во-первых, большой шарлатан, хотя и с блеском, во-вторых, большой шармер, в третьих – большой нахал, в-четвертых, человек с большим количеством логики и малым количеством принципов и в-пятых, кажется, бездарность: впрочем, если хочешь, я, кажется, нашел мое настоящее значение – меценатство. Все дается, кроме денег – mais ca viendra» (то есть, это придет – Б. Н.). Сделав скидку на некоторое кокетство этой автохарактеристики, нам лишь останется расставить в ней кое-какие точки над ё. Уточнить, что дягилевское меценатство связано с вытягиванием денег из меценатов, но что бездарен Дягилев лишь в том случае, если не считать Божьими дарами его организаторский талант, вкус, нюх и т.п. Нетрудно догадаться, что расхождения в оценках, выносимых Дягилеву современниками, имели еще более широкий диапазон – от восторга до смертельной обиды. Понятно, что балерина, получившая от него любимую роль, или заграничный балетоман, для которого непроизносимые имена русского постановщика, композитора, художника и балерины слились в одно русское имя «Дягилев», захлебывались от восторга: «Дягилев – гений». Хотя и они могли бы заметить, что Дягилев не танцевал, не рисовал декораций, не писал музыки и даже не ставил балетов… И все же они не уставали восклицать: «Гений! Король! Наполеон!..» Думаю, что наибольшую цену могут представлять похвалы Дягилеву, услышанные не из уст его подчиненных и поклонников, а из уст человека «другого лагеря», скажем, похвалы князя С. Щербатова, который оговорившись, что «от Дягилева… веяло каким-то холодом и огромным самомнением», тем не менее, воздает должное вождю « Мира искусства», 20 отмечая в первую очередь его талантливость (в которой сам Дягилев, кстати, ни разу не усомнился): «Фигурой он был, несомненно, очень яркой и блестящей, благодаря всесторонней талантливости. Музыкально богато одаренный, чуткий к красоте во всех ее проявлениях, знаток пения, музыки, живописи, большой любитель театра, оперы и балета, ловкий инициатор и организатор, неутомимый работник, умеющий привлекать к работе людей, ими пользоваться, брать от них что надо, находить и развивать таланты, привлекая, завораживать, столь же беспощадно расставаться с людьми, как и эксплуатировать их, - он был настоящим вождем и организатором с диктаторскими наклонностями. Зная себе цену, он не терпел ничего и никого, что могло стать ему поперек дороги и с ним конкурировать. Обходительный и вкрадчивый, жестокий и неприятный, сердечный, преданный и внезапно неверный, требовательный и капризный, смелый до нахальства и заносчивости и задушевно ласковый, он мог иметь поклонников, друзей и врагов, но не мог порождать среднего чувства симпатии, он мог быть чарующим и отталкивающим, но ни симпатичным, ни антипатичным он не был. Фигура сложная и яркая, - он умел лавировать среди интриг, зависти, нареканий и сплетней, которыми всегда насыщен художественный мир». То, что Дягилева можно было любить, доказывает множество мемуарных книг (в их числе и книга Сергея Лифаря, воистину влюбленная книга знаменитого танцовщика, который так мечтал стать «фаворитом» великого Дягилева и в конце концов стал им, а потом подражал своему кумиру до конца жизни). Если молодого Жана Кокто почтительно называли во Франции «принцем педерастов», то Дягилева можно было бы, пожалуй, назвать «королем педерастов». Эта интимная особенность дягилевского двора позднее стала огорчать почтенного Александра Николаевича Бенуа, к которому в упомянутое выше бретонское лето 1897 г. и заехал Дягилев с деловым визитом. То, что уже и ко времени этого визита молодой художник Шура Бенуа проникся к своему «вчерашнему ученику» Сереже таким пиететом, что ожидал его приезда даже с некоторой робостью, объясняется весьма значительными успехами Дягилева на ниве того самого «меценатства», о котором он писал в письме мачехе. И хотя денег «меценат» пока еще достал маловато, планы у него были обширные. Дягилев с неукротимой энергией взялся за организацию выставок живописи в Петербурге. Выставки были небывалые, по тем временам просто замечательные – выставка английских и немецких акварелистов, выставка скандинавских художников и очень важная выставка русских и финляндских художников, проходившая в музее Штиглица: на ней экспонировались и Врубель, и Серов, и Левитан, и Нестеров, и К. Коровин, и А. Васнецов, и Малюгин, и крупнейшие финские художники, Как раз на этой последней выставке Александр Бенуа и показал впервые свои «версальские» вещи. Выставка эта предвещала успех собирательской деятельности будущего их объединения, но в бретонскую глушь к блаженствующему и неистово 21 работающему Бенуа Дягилева привели планы реализации другой грандиозной идеи – идеи журнала «Мир искусства». Вот как вспоминает об этом сам Бенуа: «Еще до своего приезда он (Дягилев – Б. Н.) писал мне, что занят осуществлением нашего давнишнего желания образовать свое художественное общество, одной из главных задач которого было устройство своих отдельных выставок передового характера. В моем согласии примкнуть к этому обществу и в полном сочувствии к его затее он мог не сомневаться – ведь я был как бы создателем нашей группировки еще до того, что он появился среди нас; я даже мог считаться тогда как бы моральным или эстетическим вождем и ментором нашей группы». Дмитрий Философов писал, что летом того же 1897 г. они с друзьями затеяли издание своего журнала, но Бенуа припоминал, что сам он «бредил о журнале» еще и в 1895 г., что этой идеей был одержим примкнувший к их кружку А. П. Нурок. Однако, когда осенью 1897 г. Бенуа вдруг получил от Дягилева письмо о журнале с реальными планами («Я жду от тебя по крайней мере пять статей в год… Названия журнала еще не знаю».) – он ощутил некоторое смятение: ему так славно и спокойно работалось во Франции, а тут – журнальная борьба, заваруха, страсти. Бенуа вдруг некстати вспомнил, что всякий журнал – это упрощение, популяризация идей, их вульгаризация. «Журнал есть опошление», - написал он Философову. – Вот же Микель-Анжело не читал журналов… журналы не породили МикельАнжело… И вдобавок писать о современности мне, современному художнику, неловко… Всякая брань будет мне отнесена к самообольщению или зависти, всякая хвала к товарищеским чувствам…» А ведь так славно работалось и жилось во Франции с любимой семьей и любимым племянником: «…я окружен теми самыми предметами, которые мне любее всего на свете: дивными памятниками древнего искусства, постоянно имею возможность видеть в оригиналах самое новое и лучшее. Так много и часто слышу разговоров (или читаю их), где все то, за что хотелось бороться, давным-давно принято за школьные истины, что во мне совершенно изменилось отношение к искусству вообще и к журналу в особенности». Но напористый Дягилев не принял аргументов Бенуа. Деньги на журнал он достал: договор подписали М. Тенишева и С. Мамонтов. Теперь Дягилев должен был «дожать» забастовавшего Бенуа. Д. Философов вспоминает этот момент: «Железная энергия, организаторские способности Дягилева естественно давали ему в руки «первую скрипку». Бенуа эту «скрипку» признавал охотно, но по самому свойству своей натуры боялся всякого «нажима». Власть, необходимая при ведении всякого дела, казалась ему деспотизмом. Человек, интимный по преимуществу, он мог вести это дело лишь сообща, по-товарищески, но тогда ему следовало остаться в Петербурге, чего он опять-таки не хотел и не мог». 22 Можете не сомневаться в том, что Дягилев с его железной волей и знанием людей «дожал» Бенуа, который вернулся в 1899 г. и «деятельно вошел в эту «игру» и в эту «борьбу». Направление журнала уже в первых его номерах определила статья Дягилева, который отвергая все обвинения в «декадентстве», обвиняет в истинном упадке («декадансе») тогдашних последователей классицизма и реализма (тех, что тащили в свои картины «лапти и лохмотья»). Дягилев был за народность и национальный характер искусства, но самой ценной считал индивидуальность художника («темперамент, выраженный в образах»). В общем, статья Дягилева не была шедевром мысли и стиля, но была достаточной для того, чтоб начать заваруху и ждать ее результатов. А результаты «Мир Искусства» и впрямь принес не пустячные. Это он привлек внимание широкой публики к возрождению русского народного искусства, к русским памятникам, к полузабытому русскому искусству XVIII в. (сам Дягилев выпустил монографию о Левицком и организовал замечательную выставку русских портретов в Таврическом дворце). От «Мира искусства» ведет свое происхождение целая плеяда великолепных русских художественных и литературно-художественных журналов. «Мир искусства» возвестил рождение русской книжной графики. И, наконец, «Миру искусства» и молодым «пиквикианцам» из петербургского сенакля суждено было возглавить великое возрождение русского и европейского театра. Не только восторженные почитатели, но и суровые критики «направления и «стиля» мирискусников» (такие, каким стал тот же С. Щербатов) не могли не признать огромной роли этого художественного кружка: «Он был призван стать средоточием художественной жизни России. Таковую миссию он за собой признавал, ставя себе целью не только очистить от устаревших антихудожественных традиций и заветов передвижничества, а также узконационального псевдорусского искусства подлинное искусство во всех его проявлениях». За шесть лет существования журнала менялись и его курс (а также первейшие помощники Дягилева), и его отношение к различным течениям и фигурам (как русским, так и западным). В принципиальной позиции и отдельных выступлениях журнала было немало противоречий (напомню, что журнал все же приучал русскую публику говорить, спорить и думать об искусстве. Среди общих эстетических идей участников кружка тот же не слишком дружественно настроенный к Бенуа и «Миру искусства» князь С. Щербатов выделяет в своей книге («Художники в ушедшей России») «Некий общий эстетический культ»: «Таким культом сделался французский XVII в. и его отображение – XVIII в. русский, памятниками которого был насыщен Петербург, его чудесные загородные дворцы с их парками, фонтанами, павильонами и статуями. Этот общий эстетический культ распространился и на петровский век, а также на первую половину XIX в. – русский бидермейер». 23 Легко заметить, что этот культ кажется С. Щербатову ущербным, «снижающим»: «Стиль, эстетика и эстетство утонченно-расслабленной эпохи маркиз, париков, кринолинов с ее ароматом пряных и нежных духов, галантными нравами придворных и напыщенным нарядным бытом все больше завораживали наших петербургских эстетов, эклектиков и коллекционеров старинных рисунков, гравюр, фарфоровых статуэток, вышивок бисером и разных безделушек. Отсюда – культ Версаля, стриженых парков, пикантных маркиз с мушками и париками, все то, что так часто воспевалось Александром Бенуа…» С. Щербатов признает, что роль центральной фигуры в среде художников «Мира искусства» играл Александр Бенуа и называет кое-что из того, что этому положению Бенуа «способствовало»: «Его широкие познания в искусстве, знание его истории, его художественный «нюх», тонкое критическое чувство, умение разбираться, давать оценки, основанные на серьезном знании и на обычно верной интуиции личного чувства. При его любви к старому у него был живой интерес к новому, и это было ценно…» Ко времени знакомства Щербатова с «Миром искусства» не только сложилась уже ведущая головка журнала (Бенуа, Бакст, Нувель, Философов, Дягилев), рядом с которым остальные были лишь маршалами и признавали это – даже чванство и начальственные окрики Дягилева принимали как должное, ибо без них не состоялся бы Наполеон и не обрел власть. Бенуа это признавал и позднее: «Дягилев без чванства, без снобических замашек, без чрезвычайной изысканности своего вида, без монокля, без надменного тона, без задранной головы, без оскорбительного подчас крика на своих «подчиненных» был бы уже не Дягилевым». Кумир на бронзовом коне Вернувшись в Петербург весной 1899 г., Александр Бенуа принял активное участие в издании журнала «Мир искусства» или, как пишет Д. Философов, «впрягся наравне с остальными в черную техническую работу». Годы издания журнала были отмечены не только успехами Бенуа в области художественной критики, но и его новыми достижениями в области графики и живописи. Бенуа создает серию акварелей, воспроизводящих архитектурные памятники Петербурга, и работает над иллюстрациями к «медному всаднику» Пушкина, вошедшими в золотой фонд русской книжной графики. Первый вариант этих иллюстраций был создан уже в 1903 г., а окончательный – издан в 1923 г. В течение двадцати лет Бенуа не раз возвращался к этой своей работе, но уже и в 1904 г. некоторые из этих иллюстраций были воспроизведены в «Мире искусства», и Грабарь написал А. Бенуа, что они его «совершенно очаровали»: 24 «… от новизны впечатления все еще и теперь не могу прийти в себя. Чертовски передана эпоха и Пушкин… Они страшно современны – и это важно… И со стороны чисто внешнего изящества, которое вносят две краски, пущенные удивительно уместно и логично.» Искусствоведы отмечают, что «мотивы разбушевавшейся стихии» в рисунках этого столь далекого от всякой политики Александра Бенуа все же были как-то связаны «с ощущением надвигающихся событий», по-своему передавали «предгрозовую атмосферу тех лет». Автор монографии о «мире искусства» Н. Лапшина считает, например. Что именно эта атмосфера «предопределила взлет творчества Бенуа в иллюстрациях к «Медному всаднику». Как отмечает та же Н. Лапшина, «скромный, казалось бы, цикл иллюстраций стал большим художественным событием в истории русского искусства». Но и работа в журнале, само оформление журнала «Мир искусства» были тогда истинной революцией в русском издательском деле. Даже те из критиков, кто отказывали отдельным мирискусникам в сколько-нибудь крупном художественном таланте, признавали за их группой в целом «коллективный гений». Гений этот проявил себя в нескольких сферах искусства и культуры. Заговорив об иллюстрациях Бенуа, надо непременно сказать и об одержимости художника темой Петербурга, к которой Бенуа возвращается на протяжении всей жизни, «как влюбленный к предмету своего обожания». Родной его Петербург был для Бенуа великим твореньем Петра, глубоко повлиявшим на весь дальнейший ход русской культуры. Город волновал Бенуа (да и всех мирискусников) слиянием в его истории русского и иностранного элементов, ролью «космополитического клана» в формировании художественного движения в России. Неизбежной была для Бенуа и тема противопоставления Москвы и Петербурга, ощущение некоего культурного противостояния старой и новой столицы России. Бенуа, с гордостью объявлявший себя «продуктом типичной петербургской культуры», не раз пускался в рассуждения по поводу этих различий. Вот одно из них (преданное гласности весной 1909 г. в газете «Речь»): «Москва богаче нас жизненными силами, она мощнее, она красочнее, она всегда будет доставлять русскому искусству лучшие таланты, она способна сложить особые, чисто русские характеры, дать раскинуться до чрезвычайных пределов смелости русской мысли. Но Москве чужд дух дисциплины, и опасно, вредно оставаться в Москве развернувшемуся дарованию… Петербург угрюм, молчалив, сдержан и корректен. Он располагает к крайней индивидуализации, к выработке чрезвычайного самоопределения, и в то же время (в особенности в сопоставлении с Москвой) в нем живет какой-то европеизм, какое-то тяготение к общественности. Москва одарена яркостью и самобытностью, она заносчива и несправедлива, предприимчива и коварна. Петербург одарен методичностью и духом правосудия: он скромен, с достоинством, он уважает чужое мнение, он старается примирить стороны… 25 Я люблю Петербург именно за то, что чувствую в нем, в его почве, в его воздухе какую-то большую строгую силу, великую предопределенность». Дальше Бенуа пишет об особой исторической роли Петербурга (служить «уздой и рулем») и о назначении «Мира искусства». Независимо от того, насколько убедительными покажутся сегодня все эти рассуждения о Москве и Петербурге, о Востоке и Западе, о прекрасном и безобразном, напомню, что самую эту привычку неустанно рассуждать, писать и даже просто читать об искусстве прививали русскому читателю именно мирискусники, в первую очередь сам неутомимый Александр Бенуа, написавший сотни статей об искусстве… Существует мнение, что искусствоведение вообще-то наука весьма субъективная, зачастую скорее даже не наука, а специфический жанр прозы, посвященной проблемам искусства, прозы, которая и сама скорее может быть отнесена к искусству, чем к какому ни то «ведению» (то-бишь, к науке). От этой субъективности, может, и неизбежные просчеты искусствоведов. Уж на что почтенным знатоком западного (и особливо французского) искусства считался Александр Бенуа, но вот, проглядел же он (столь пристально глядя в сторону Парижа) французский импрессионизм и прочие столь же заметные явления. Зато усердно занимался многими второстепенными, ныне почти забытыми фигурами, в чем он, кстати, и сам признавался в своих мемуарах со всей откровенностью. Как и все члены их гимназического сенакля, Александр Бенуа был уже в отроческие годы страстным театралом. В своей мемуарной книге он признается, что долгое время не мог решить, какому из искусств, от соприкосновения с которыми он «загорался», он должен отдать предпочтение: «Случилось» на самом деле так, что я избрал своей основной карьерой живопись, и живопись привела меня к театру, но иногда мне кажется, что могло совершенно так же «случиться», что основной карьерой я бы выбрал музыку, архитектуру или актерство, причем весьма вероятно, что каждая из этих профессий меня также привела бы к театру. Выходит, что мое настоящее призвание есть театр». В 1900 г. Бенуа совсем близко подходит к осуществлению этого своего настоящего призвания. В 1899 г. директором императорских театров становится близкий к «Миру искусства» С. М. Волконский, который заказывает Александру Бенуа декорации для постановки «Гибели богов» Вагнера в Мариинском театре. Театральным начальником (рангом пониже, но не менее активным, чем сам Волконский) становится в ту пору и Сергей Дягилев. В 1900 г. Бенуа пишет декорации для оперы Танеева в Эрмитажном театре, а также сочиняет либретто для балета «Павильон Армиды» по мотивам новеллы Теофиля Готье. Другие мирискусники тоже приходят в то время в театр. Премьера оперы «Гибель богов» состоялась в 1903 г., и если петербургская публика отнеслась к первым декорациям Бенуа вполне 26 снисходительно, то основательному разносу подвергли их два редко приходивших к такому единодушию рецензента – Стасов и Дягилев. В общем, первый блин был комом, но Бенуа довольно быстро преодолевает некоторую ученическую робость «На театре». Впрочем, до настоящего первого успеха ему оставалось ждать еще несколько лет. Тем более, что и всей группе «Мира искусства» пришлось тогда отдалиться от императорских театров в результате театральных интриг. Возмечтавший о полноте власти честолюбивый Дягилев вступил в конфликт с Волконским и был удален из дирекции театров, а вскоре и сам Волконский, повздорив с балериной Кшесинской, имевшей связи на самом что ни на есть верху, вынужден был покинуть свой высокий пост. Тем временем грянула Первая русская революция. Бенуа, спокойно пересидевший все эти бури во Франции, не обнаружил в себе никакого желания в них вмешаться. Он готов был (подобно самому Государю Императору) признать, что Россия переживает «интересный исторический момент», однако не видел, какое до этого дело художнику. Пылкому племяннику-«социалисту» Жене Лансере, с головой ушедшему в издание сатирических журналов («Жупел», а затем «Адская почта»), Бенуа писал в те дни из своего Версаля: «я сознаю всю тщетность усилий отдельных личностей, а тем паче нас, художников. Наше здесь дело сторона, и история во всем этом распорядится по-своему, не спросясь нас, и скорее очень нам не по вкусу. Что готовит России грядущий день, трудно сказать, но, принимая в соображение слабость и прямо негодность буржуазии, которая как-никак единственно способна дать настоящую культурную форму жизни, можно ожидать одного из двух исходов: реакцию или красный террор с их последствиями – анархией или тоскливейшей социалистической республикой. Наше положение художников при этом пиковое. Мы ненавидим буржуазию, но обязаны ненавидеть и царство демократии, а тем паче все нивелирующие системы. Наше дело вообще любить исключения и недостижимые идеалы. В этом наш смысл. И вот, между прочим, формулированная причина до сих пор бессознательного чуждания «Жупеля». Чем был занят Бенуа вдали от петербургских битв и суеты? Он провел еще одно счастливое лето в Бретани (в том же Примеле), а потом надолго водворился в Версале. Здесь он написал свою вторую (и наиболее знаменитую) версальскую серию. На его пейзажах – безлюдная «роскошнейшая пустыня»: просторы садовых партеров, холодный отблеск водоемов, статуи в пустынном парке, серые дни весны и осени… Иногда парк вдруг населяют – то ли люди, то ли призраки людей, живших здесь когда-то: как в знаменитой «прогулке короля». Небеса, водоемы, час заката… Вот как писал об этом пейзаже сам Бенуа: «… померкли деревья, тень быстро мчится от них по яркой белизне дорожек и уже закрыла наполовину дворец. Блекнет свет мраморов, тухнут 27 блики бронз. Все становится зловещим, грозным… Природа кажется дряхлой, подавленной чудовищным ужасом.» Несомненно, мысли о том, что происходит дома, неотступны, как и мысли о гибели империй и царств… «Ретроспективизм Бенуа, - пишет Сергей Маковский, - дар волшебства, заражающего своей непосредственностью и притом… волшебства, отзывчивого на все современное. В прошлом, которое он чувствует как пережитое, он любит не смерть, а вдохновляющий пример для настоящего». Так значит, прекрасная пустыня Версаля, холодный блеск водоемов, одиночество статуй, ощущение близкой гибели царства, близкой катастрофы – значит, это все было не о французах? Или не только о французах? Что ж, каждый художник по-своему выражает свое ощущение века, свою мечту о будущем. Даже если эта мечта обращена в прошлое… С Версалем Бенуа все не так просто. Конечно, почтенный отец его был придворным архитектором, да и сам он мечтал когда-то о «государственном искусстве» (то есть, был, как выражаются, «государственник»). Двор последнего русского императора был падок на зрелища «в духе и в масштабе великолепных придворных празднеств XVIII в.». В пышную красоту этих празднеств мирискусники были влюблены. Может, и не всегда любовью государственников, но всегда любовью эстетов. «Версаль был предназначен для того, - писал Бенуа, - чтобы вещать о величии короля, но если вслушаться в его нашептывание, то легко различить нечто совершенно иное – символ веры о человеческом величии вообще, догму разлитой во всем мироздании красоты, догму осознанной человечеством красоты». Конечно, с течением времени менялся (вместе со своим окружением) и «государственник» Бенуа, по мере приближения к верхам и удаления от них менялось его отношение «к самой личности монарха». Вскоре после революции 1917 г. он писал о знаменитом памятнике Александру III, созданном Паоло Трубецким: «Это уже не легендарный государь-герой, не всадник, мчащийся к простору, а это всадник, который всей своей тяжестью давит своего коня, который пригнул его шею так, что конь ничего более не видит. Это поистине монумент монарху, поощрявшему маскарад национализма и в то же время презиравшему свой народ настолько, что он считал возможным на все его порывы накладывать узду близорукого, узкодинастического упрямства». Версаль в те годы был не единственным сюжетом Бенуа. Он создает также несколько картин, посвященных итальянской комедии, и серию, объединяемую темой смерти. Критики, писавшие обо всех этих новых сериях Бенуа, отмечали его возросшее колористическое мастерство. В начале 1906 г. к Бенуа приходит мысль о парижской выставке русской живописи. Он ведет в Париже переговоры, но пока мало продуктивные, и жалуется в письмах: 28 «Французы будут дураки, если не согласятся. Я берусь показать им настоящую Россию». Выставка становится реальностью только тогда, когда за дело берется сам Дягилев. Больше семи сотен картин было выставлено в великолепно оформленных (по плану Бакста) тринадцати залах Гран Пале в рамках парижского Осеннего салона: тридцать пять икон новгородского, московского и строгановского письма, портреты и пейзажи XVIII в., XIX в. и современные художники, отдельный зал Врубеля… Успех был огромным. В честь французских участников Салона Дягилев устроил в Елисейском дворце концерт русской музыки. Потом парижанам выпало счастье услышать «Бориса Годунова» с Шаляпиным… Так, мало-помалу Париж оказался на пороге крупного события своей художественной жизни – русских сезонов Дягилева. Впрочем, на подходе к ним не след пропускать столь знаменательного события в жизни Бенуа, как петербургская постановка балета «Павильон Армиды», ибо постановка эта ознаменовалась встречей Бенуа, Дягилева и всего их сенакля с замечательным постановщиком… Еще в 1901 г., в пору сближения журнала с Мариинским театром мирискусники замышляли коллективную постановку «Сильвии» Делиба, где все должно было быть придумано членами кружка (Бенуа, Е. Лансере, Бакстом, К. Коровиным и Серовым), Тогда же Александр Бенуа написал либретто для балета «Павильон Армиды» на музыку своего родственника Николая Черепнина, который был женат на дочери Альберта Бенуа. По упомянутым выше обстоятельствам осуществить тогда ни эту, ни другие свои театральные идеи мирискусникам не удалось, но вот в 1907 г. Мариинский театр снова берется за постановку «Павильона Армиды», и тут Бенуа встречается с молодым постановщиком-новатором Михаилом Фокиным. Фокину, тяготившемуся тогдашней застойной атмосферой императорского балета, впервые пришлось под крышей театра встретиться с таким эрудитом и таким художником, как Бенуа. «Голова кружилась от высоты и от радости, - вспоминал он, - Под ногами у меня расстилалась декорация – роскошный павильон Армиды. Счастливый момент!» Нужны были и для всех Сюжет «Павильона Армиды» давал Бенуа возможность обратиться к его возлюбленному XVIII веку, к излюбленной теме разлада мечты и действительности. Впрочем, как отмечали критики, яркая зрелищность заслонила в балете все философские размышления. И все же спектакль этот приблизил великие дни «русских сезонов». Начать с того, что у Бенуа появляется мысль о зарубежном показе русских балетов и что он знакомит Фокина с Дягилевым. Дягилев находит деньги и берется (с помощью Бенуа, Фокина, Бакста, Черепнина, критика Светлова и генерала-балетомана Н. Безобразова, входивших в их «дирекцию») за организацию балетного русского сезона в Париже, который открылся в мае 1909 г. в театре Шатле. 29 Кроме «Павильона Амиды», парижане увидели с декорациями того же Бенуа балет «Сильфиды» (он же «Шопениана»), «Половецкий стан» (с декорациями Н. Рериха), «Пир» (с декорациями К. Коровина), «Клеопатру» (с декорациями Бакста). Для мирискусников, для всех русских артистов триумфальный успех первого «сезона» был неслыханным прорывом в мировое искусство, в культурную жизнь Европы, и русские это поняли очень скоро. Как вспоминал Бенуа, «каждый участник «Русского сезона» чувствовал, что он выносит перед лицом мира лучшее, самую свою большую гордость…» Бенуа, много общавшийся с французами, скоро понял и то, как много русские смогли на сей раз дать европейскому театру и европейской культуре в целом (начиная с поэзии и кончая модой): «… оказалось, что русские спектакли нужны были не только для нас, для … зрелости нашего художественного самосознания, но нужны были и для всех, для всеобщей культуры. Наши французские друзья только это и говорили: вы приехали в самый нужный момент… вы наталкиваете на новые темы и ощущения…» Восхищенный русскими декорациями глава школы «наби» (как и «Мир искусства», выросшей из лицейского кружка в Париже) Морис Дени просит Бенуа прислать в Париж эскизы декораций, которые ему довелось видеть в России, чтобы устроить в Париже выставку этих эскизов. «Каким откровением это было бы для парижской публики!» - восклицает Дени. Декорации мирискусников к спектаклям «русских сезонов» стали откровением для многих европейцев – и публики, и художников, и людей европейского и заокеанского театра, получивших новый импульс, переживших возрождение. Много лет спустя французский академик Луи Жиле писал, вспоминая русские спектакли: «Русский балет» знаменует одну из величайших эпох моей жизни. Я говорю о первых, подлинных и незабываемых произведениях 1909 – 1912 гг. Эти русские!.. Приезд русского балета стал событием в полном смысле слова, шоком, сюрпризом, смерчем, новым приобщением… Я могу сказать без преувеличения, что моя жизнь разделена на две эпохи: до и после русского балета. То, что делали русские художники, было непохоже на то, что изготовляли в то время «профессионалы-декораторы» во Франции. О том, что принесли в театр русские художники, так писал позднее И. Соллертинский: «Роль живописи в импрессионистском театре вырастает до предела, порой сводясь к гегемонии художника. Живописная декорация в балетах Фокина – не нейтральный фон (как у Петипа), но главное действующее лицо. Без гобелена Александра Бенуа нет «Павильона Армиды», без пустынного уголка бакстовского сада, залитого луной, нет «Карнавала», без картины масленичных балаганов на Царицыном лугу – нет «Петрушки»… художник направляет, консультирует балетмейстера. Рерих помогает Фокину воссоздать «скифство», Бенуа – эпоху Людовика XIV и т. д. Любопытно, что зачастую первый импульс постановки идет именно от художников, ибо они 30 задумывают либретто: автор сюжета «Павильона Армиды» - Бенуа, «Нарцисса» - Бакст и т. д.» О том же писала еще через десятилетия искусствовед В. Красовская, указывавшая, что «эстетическая программа деятелей «Мира искусства» стала душой и плотью фокинских постановок. Живописно-драматургическая основа определяла образ спектакля.» Как видите, речь пока идет о «Мире искусств» и Фокине, но до вершины 1911 г. и перемен оставалось уже недолго… Еще в 1910 г. Бенуа высказывает мысль о балете, основанном на русской мифологии – на русской сказке. Поисками и разработкой такого сюжета занялась поначалу целая «комиссия», однако, за время долгой подготовки к балету «Жар-Птица» отпало большинство участников затеи, и вовсе охладел к балетам Черепнин. В результате новый композитор написал не то чтобы целиком новый балет, но все же ряд ярких «симфонических картин». Композитора этого нашел Дягилев, и вот как рассказывает об этом А. Бенуа: «Вместо Черепнина музыку к затеянному балету взялся написать юный композитор, ученик Римского-Корсакова и сын знаменитого оперного певца И. Ф. Стравинский, и нужно сознаться, что смелость Дягилева, поручившего наугад такое рискованное дело художнику, себя еще ни в чем серьезном не проявившему, что эта смелость оказалась как нельзя более благополучной. Если в чем другом «Жар-Птица» еще не вполне то, о чем мечталось, то по своей музыке это уже сразу достигнутое совершенство». Таков он и был, Дягилев – смелость, вкус, нюх, решимость и, конечно, удачливость… Декорации для «Жар-Птицы» писал Головин (с костюмами Бакста), ставил балет Фокин, он же и танцевал с Карсавиной. Успех был значительным, и все же, по мнению Бенуа, эта русская сказка была «еще не вполне то». Смущал Бенуа сюжет сказки: «В ней есть что-то ребяческое. Это опять «сказка для детей», а не сказка для взрослых». И вот Бенуа берется за свою собственную «сказку для взрослых» - он пишет либретто и декорации балета, который стал его шедевром: он пишет «Петрушку». В либретто и в оформлении этого балета отражены многие давние пристрастия и самого Бенуа, и всего сенакля «Мира искусства»: любовь к русской народной игрушке, увлечение Гофманом, пристрастие к романтическим русским 30-м годам XIX в., и детские воспоминания – о масленичных гуляньях, ярмарках, балаганах, о «спектаклях Петрушки» в дачном дворе. Под старость о них прекрасно написал Бенуа в своей мемуарной книге «Жизнь художника»: «Получив разрешение родителей, братья зазывают Петрушку к нам во двор. Быстро расставляются ситцевые пестрые ширмы, «музыкант» кладет свою шарманку на складные козлы, гнусавые, жалобные звуки, производимые ею, настраивают на особый лад и разжигают любопытство. И вот появляется над ширмами крошечный и очень уродливый человечек. У него огромный нос, а на голове остроконечная шапка с красным верхом. Он 31 необычайно подвижной и юркий, ручки у него крохотные, но он ими очень выразительно жестикулирует, свои же тоненькие ножки он ловко перекинул через борт ширмы. Сразу же Петрушка задирает шарманщика глупыми и дерзкими вопросами, на которые тот отвечает с полным равнодушием и даже унынием. Это пролог, а за прологом развертывается сама драма. Петрушка ухаживает за ужасно уродливой Акулиной Петровной, он делает ей предложение, она соглашается. Но является соперник – это бравый усатый городовой, и Акулина видимо дает ему предпочтение… Петрушка… попадает в солдаты… ни с того, ни с сего выныривают два, в яркие костюмы разодетых, черномазых арапа… сам черт. Рогатый, весь обросший черными волосами. С крючковатым носом и красным языком, торчащим из зубастой пасти… бодает Петрушку и безжалостно треплет его… а затем тащит его в преисподнюю… предсмертный вопль – и наступает «жуткая» тишина…» В «балетной драме», написанной Бенуа на музыку Стравинского, публика находила некое «современное ощущение», а иные из критиков отмечали, что там «много от Достоевского». Писали о «многозначительности и глубине» балета, ставшего главным событием русского сезона 1911 г. Удачу балета объясняли тем, что в нем удалось, наконец, достичь «ансамбля» всех средств, о котором давно мечтал Бенуа. Декорации Бенуа к балету считают вершиной его театральной карьеры, однако не менее важным оказалось то, что этот «современный» сюжет вдохновил молодого Стравинского, который так вспоминал позднее: «Когда я писал эту музыку, перед глазами у меня был образ игрушечного плясуна, внезапно сорвавшегося с цепи, который своими каскадами дьявольских арпеджио выводит из терпения оркестр, в свою очередь отвечающий ему угрожающими фанфарами…» В балете Бенуа-Стравинского Петрушка борется с Арапом за сердце глупенькой Балерины и терпит поражение… «Петрушка» длится всего три четверти часа, - писал Бенуа, - но за это время проходит как в фокусе жизнь не только одного человека, но и вся трагедия столкновения жизни одного с жизнью всех… Существует мнение, что 1911 г. был вообще вершиной «русских сезонов, и что «Петрушка» был не только вершиной в творчестве Бенуа, но и вершиной в творчестве Фокина, а также вершиной в балетной музыке Стравинского и в балетной карьере Нижинского. (Стравинский так вспоминал о Вацлаве Нижинском: «В роли Петрушки он был самым волнующим существом, когда-либо появлявшимся передо мной на сцене»). Ну а к 1912 г. «коллективное руководство» Русских сезонов и Русских балетов (в том числе и А, Бенуа) было мало-помалу отстранено от дел руководства. Балеты становятся частной антрепризой Дягилева, который все больше окружает себя французами. Новые два балета ставит Нижинский, так что Фокину больше нечего делать в Париже. Нечего делать становится и другим мирискусникам. Для эскизов к «Золотому петушку» сам Бенуа рекомендует Гончарову, и в дальнейшем она в основном и работает у Дягилева – то с мужем своим Ларионовым, то с французами… 32 Бывшие друзья Дягилева по петербургскому сенаклю или отставлены им или забыты. Дягилеву лучше знать, чего требует публика, чего требует мода, да он сам и есть теперь законодатель парижской моды. Позднее, в своих мемуарах Бенуа как сторонний наблюдатель писал, какая белиберда этот дягилевский «Синий экспресс» или его «большевистский балет» «Стальной скок», однако Дягилев больше не слушал старых друзей: в Париже была мода на большевизм и требовался «большевистский балет». Вообще, как очень рано понял Дягилев, все эти его гении (художники, композиторы, танцовщики, постановщики) приходят и уходят, а вечен лишь он, Дягилев, который и останется в памяти широкой публики. Останется не в роли удачливого антрепренера, а в качестве настоящего Артиста и Автора. Конечно, мы с вами, порывшись в мемуарных томах и монографиях, без труда установим, кто были тогдашние композиторы, создатели декораций и костюмов, кто были авторы либретто, генераторы идей, постановщики. Но людям занятым рыться в книгах некогда, да и ни к чему. Они помнят, что был Дягилев и все это было – Дягилев. Да ведь и мы должны признать, что без такого руководителя, вдохновителя, организатора и добытчика средств, как Дягилев, прочие гении могли бы «не состояться». Роль Дягилева признали все, даже такой далекий от театрального мира человек, как художник-москвич Нестеров. «Дягилев – явление чисто русское, - писал он, хотя и чрезвычайное. В нем соединились все особенности русской одаренности. Спокон веков в отечестве нашем не переводились Дягилевы… и не их вина, что в прошлом не всегда наша страна, наше общество умело их оценить и с равным талантом силы их использовать…» Об этом писал в своей рубрике «Художественные письма» (в популярной кадетской газете «Речь) и сам А. Бенуа: «Спектакли Дягилева, состоявшиеся исключительно благодаря фантастической энергии этого единственного деятеля и, несмотря на недостойные препоны, явившиеся ему со всех сторон, были не только апофеозом русского искусства в мировой столице, но и особым этапом в развитии этого самого искусства. Я хочу сказать, что спектакли эти настолько отличались и по подъему, и по выдумке, и по всей своей чудесной отличности от того, чем мы сами можем любоваться на родине, что и лучшее из «домашнего» кажется теперь вялым и безутешным. Это не доказывает того, что русское искусство следует создавать за границей, но зато наглядно показывает, какие огромные силы остаются у нас схороненными, как бездарно умеет пользоваться казенная дирекция имеющимся у нее под руками материалом, способным создать невиданный расцвет театрального искусства». Это было написано Бенуа в 1910 г. Сам он в последний раз работал для Дягилева до революции в 1914 г. Уже к тому времени антреприза Русских сезонов стала антрепризой Дягилева и, даже если бы Бенуа не уехал из Парижа в Петербург так надолго, вряд ли ему удалось бы противостоять «художественной диктатуре» всевластного друга. Впрочем, Бенуа все же 33 предпочитает в своих мемуарах объяснять «утрату влияния» на «неверного друга» именно своим отъездом в Россию в 1914 г.: «… Дягилев стал все круче изменять тому направлению, которое легло в основание всего дела русских спектаклей за границей. Новое направление, заключавшееся в том, чтоб во что бы то ни стало «эпатировать буржуа» и угнаться за последним словом модернизма претило Баксту. Но и мне такой поворот в деле, которое когда-то было моим, казался возмутительным. Возникло же оно главным образом благодаря тому, что в годы моего вынужденного пребывания в России с 1914 по 1923 г. я совершенно утратил свое влияние на моего неверного друга и был безгранично огорчен, убедившись в том, что он разрушает то самое, что при нашем участии и по нашей инициативе он соорудил и что имело такой грандиозный успех во всем мире». Как влияет на художественную атмосферу диктатура, даже «художественная», даже диктатура такого одаренного человека как Дягилев, легко уяснить из множества посвященных дягилевской группе мемуарных книг и дневниковых записей – от записок сумасшедшего Нижинского и мемуарных томов Лифаря до вышедших недавно в свет дневников Сергея Прокофьева, которые дают понять, как может выглядеть в сфере искусства так кокетливо заявленная Дягилевым еще в юности беспринципность. Сам Прокофьев, если верить его дневнику, при работе над их новым балетом («Стальной скок») был озабочен лишь тем, чтобы балет не показался эмиграции слишком большевистским, а большевикам недостаточно большевистским. Поскольку это балет из советской жизни, а Прокофьев с 1918 г. не был в России, ему должен помочь художник из Москвы Г. Якулов, который ему расскажет про советскую жизнь – про фабрики, про партсобрания, про шествия пионеров, про бегство буржуев. Послушав с полчаса в кафе над речкой о том, что «у них там модно», Прокофьев за оставшиеся полчаса пишет либретто… Это тебе не муки многознающего Бенуа… Бурное русское десятилетие Страхи. Соблазны. Отъезд Возвращаясь к «Художественным письмам» Бенуа в «Речи», следует напомнить, что одно из этих «писем» привело к ссоре Бенуа с московскими художниками и к его выходу из «Союза русских художников», куда мирискусники вступили после закрытия (в 1904 г.) их журнала. После же вышеупомянутой ссоры Бенуа вышел из Союза, а за ним вышли также Бакст, Браз, Билибин, Грабарь, Кустодиев, Добужинский, Лансере, Сомов, Серов, Остроумова-Лебедева, которые и возродили в 1910 г. общество «Мир искусства». Комитет общества возглавил Н. Рерих, и уже в начале 1911 г. мирискусники открыли в Петербурге свою первую выставку, на которую приглашены были художники самых разнообразных направлений. Участие в этой выставке не означало приверженности идеям «Мира искусства». Из 34 новых союзников общества более или менее близкими к его идеям были Судейкин, Серебрякова, Анисфельд, Нарбут. Но вот уж ни Сарьян, ни Петров-Водкин, ни Григорьев, ни Кончаловский, ни Кузнецов ни о каком сближении с этими идеями не думали, хотя и участвовали в выставках общества. Последние петроградские выставки «Мира искусства» с участием Александра Бенуа прошли в 1922 и в 1924 гг. К тому времени Александр Бенуа успел выпустить свои иллюстрации к «Медному всаднику» и «Капитанской дочке», альбомы «Версаль» и «Петергоф», успел написать множество портретов. Он работал для театров и возглавлял одно время картинную галерею Эрмитажа. О чем думал в те бурные годы основоположник «Мира искусства» А. Н. Бенуа, что он пережил за роковое десятилетие не календарного, а настоящего XX в. (с 1914 до 1923 гг.)? Некоторое представление об этом дают вышедшие недавно в Москве дневники Александра Бенуа за 1916 – 1918 гг. По поводу этих сбереженных им и подготовленных к печати дневниковых записей Бенуа написал с большой серьезностью: «ко многим явлениям нашей жизни психологические ключи находятся именно и, пожалуй, только в моих писаниях». Мы узнаем из дневника, что Бенуа пытался уберечь в ту пору от разрушения и погрома все, что можно было сберечь, что он заседал в самых разнообразных высоких комиссиях, главным образом культурных. Он описывает бесконечные (и бесплодные) заседания с участием «легкомысленного» и многословного Луначарского, прелестной Ларисы Рейснер, «парижанина» Штернберга, хамоватого Альтмана, нудного Блока, нахального Брика, симпатичного невежи Маяковского и других попутчиков. Сам Бенуа служит Аполлону и России – это все понятно. Однако, мы (не без удивления) обнаруживаем в этих записях военных и революционных годов также нечто для нас новое и неожиданное. Например, то, что Александр Бенуа был в те годы не просто фаворитом и попутчиком, но также и сторонником и пылким поклонником большевиков. Что этот спокойный монархист и мирный буржуа разочаровался в монархии и ненавидит буржуазию, ненавидит всякую «буржуазность», подозревая в ней, к примеру, не только богатого аристократа-кадета В. Д. Набокова или его милую супругу, но и юного их сына-поэта Володю (Лоди) Набокова, будущего кумира русской авангардной прозы: «Обедаем у Набоковых… Споры о Прокофьеве. Елена Ивановна прямо в ужасе от этой музыки! А глядишь, годика через два милейшая будет делать вид, что она чуть ли не открыла его. Так было с «Петрушкой». Владимир Дмитриевич осторожнее. Володя читал свои стихи. Удивительно талантливые. И все же, и в нем не чую истинного поэта. Уж больно он насыщен «буржуазной» культурой – хоть и позирует теперь слегка на художественного «debraille» (отщепенца – Б. Н.). 35 А в кого же верует нынешний «антибуржуазный» Бенуа? В Ленина и Троцкого. Свято верует и беспокоится только, что у них мало власти и что они действуют нерешительно: «… спокойнее было бы, если за дело управления взялся бы Троцкий – не доктринер и фантазер, а настоящий политический и государственный деятель, не имеющий поползновения прыгать в окно и подвергать всех величайшим рискам. Говорят, Троцкий – честолюб, - и прекрасно. Предпочитаю дельного честолюбца (и пусть даже жуликоватого) благородным и никчемным книжникам, фарисеям и мечтателям». Бенуа не смущает даже и любимая шутка Троцкого об укорачивании всех провинившихся на одну голову. Бенуа жаждет спокойствия, охраны семьи и имущества, поэтому он надеется на большевиков. Дневник Бенуа свидетельствует о симпатии только к тем иностранцам, которым нравятся Ленин и Троцкий («От него Анэ в восторге, хотя Троцкий лично его все еще не принял»… «Дюперье мне понравился тем, что не верит в подкуп Ленина и Троцкого…) и презирает тех, кто заикается о «красном терроре» или «немецких деньгах». Кстати, о немцах. Думается, симпатия к большевикам и зародилась у художника в связи с его желанием немедленно остановить войну и заключить мир (любой мир, любой ценой). Война ужасна, бессмысленна. Ужасна и разожженная в русском обществе патриотическая ненависть к немцам, ужасны национализм и черносотенство, а большевики, кажется, всетаки против них и против войны: «… в основной своей линии «они» (большевики – Б. Н.) правы и служат к вящей славе Божией помимо собственного своего желания. Да и лгут они меньше, чем другие… Даже теперь их победа не так страшна и вредна для России, нежели была бы победа всех остальных партий (которым все безразлично – за войну до победного конца, т. е. за разорение.)» Последние строчки выдают главный страх – война и разорение. Страшно потерять все. А при большевиках Бенуа надеется все сохранить… Они ведь признали его личный авторитет (это слово в применении к себе он выделяет и повторяет многократно). Пока что не признает его авторитета только мерзкий выскочка Осип Брик; А Луначарский вот признает, и Горький признает… Большевики, по мнению Бенуа, подходят для России, потому что Россия любит диктаторов. И раз уж монархия «целиком выдохлась, опустошилась», тогда «пожалуй, предпочтительнее и Ленин, и Троцкий, и даже анархокоммунисты. Авось они очистят атмосферу, авось сызнова начатое государственное строительство будет идти лучше…» Бенуа приходит к выводу, что большевики и есть истинная национальная власть: «… не это ли национальное лицо России? Ведь большевики (с необъемлемым своим демонизмом) – самые настоящие Аракчеевы и Победоносцевы. В то же время они характерные русские люди, ибо русский человек в существе своем деспот, признающий неограниченную свободу для 36 личной прихоти (почти всегда облеченную в форму самой грубой и низменной похоти) и не желающий считаться со свободой другого. Достаточно посмотреть на иного «милейшего» русского человека в его домашнем быту: он почти всегда строг и мучитель, если не просто пьяница, гуляка, циник. В силу этой национальной черты нечего и рассчитывать, что мы дадим покой инородцам, что мы действительно дадим своим провинциям осуществить самоопределение. У нас органически нет уважения к чужой личности. Остается только одна надежда, что эта коса наткнется на камень всего того, что в России есть иноземного, или что такой камень, брошенный из-за изгороди, перебьет лезвие косы. И вот, куда ни посмотришь, везде все тот же культ принуждения, запрещения. В этих двух словах русский человек: мнит всякое благо, панацею против всех зол… …Мысль самая благая (как и все мысли Аракчеева, Победоносцева и Ленина – благие), но прием негодный и гнусный. Господи, как бы убраться отсюда, как бы снова подышать воздухом милой Европы! И она, грешная, сама сползла к социализму, но там такие еще залежи личного идеализма и интеллектуализма… Там такой крепкий быт, что и социализму не справиться…» Бенуа все еще «положительно склоняется к предпочтению большевиков», но на дворе пока еще только январь 1918 г. Появляются первые серьезные сомнения и тревоги – они связаны с собственной коллекцией произведений искусства, с коллекционированием и с положением частной собственности вообще: а вдруг даже у самых «авторитетных» попутчиков большевизма (а не только у буржуев и великих князей, которых не жалко) все отберут, пустив их с семьей по миру… Пока еще Бенуа и его друзья (Браз, Яремич, Аргутинский, Сомов и прочие) усердно посещают многочисленные тогдашние распродажи антиквариата. Но вот уже в конце января 1918 г. – тревожные сигналы: «Сегодня в «Речи» маленькая заметочка о предполагающемся декрете Луначарского, направленном на уничтожение антикварной торговли… вся наша комиссия насторожилась и собирается дать отпор. Ужасно в большевиках не то, что деспотичны (всякая власть такова), но то, что согласно своей книжной программе они не могут не вмешиваться в частную жизнь, что таковая вообще для них не существует, а, следовательно, они сделают в смысле разрушения быта больше, чем все пресловутые жестокости царизма. Ведь «национализация» антиквариата поведет за собой вообще национализацию торговли художественными произведениями, превратит художника в государственного чиновника и пенсионера. Во всяком случае, я предпочту отказаться от искусства. Лучше тогда торговать газетами на перекрестках…» К тому времени генералы и знатные дамы уже торговали газетами, а офицеры чистили снег на улицах. Итак, ненависть к братоубийственной войне, страх за милую немкужену, полунемецких детей и многочисленных немецких родственников 37 толкает Бенуа в объятия большевиков, которые должны остановить войну. Бенуа становится в эти годы в большей степени большевиком, чем сам Горький, чем очередная жена Горького, ленинский «агент-феномен» М. Ф. Андреева, чем нарком Луначарский… Даже большевистскую верхушку Бенуа обвиняет в робости и нашептывает большевикам (в интимности своего дневника) еще в июле 1917 г.: «Так берите же власть!» «Скорее берите власть!» Наконец, большевики взяли власть, но снова они кажутся гуманисту и интеллигенту Бенуа недостаточно жесткими: их власть «легкомысленна» и «воздушна». Вот январская дневниковая запись Бенуа за 1918 г. Редактор журнала «Мелос» музыковед (а в эмиграции – пробольшевистский радикальный евразиец) П. Сувчинский приходит из «министерского» кабинета комиссара Луначарского «в каком-то «восторженно-ироническом ужасе»: «Его поразило, что Луначарский диктовал свое письмецо, сидя на туалете… Лариса (речь идет об эгерии революции Ларисе Рейснер – Б. Н.) тоже «присаживалась» на все столы. Я уже так привык ко всему подобному гротеску, что его и не замечаю. Легкомыслие и какая-то «воздушность» общего тона тоже поразили Сувчинского. Во всем, что сейчас происходит, эти черты сами по себе скорее тревожные, в то же время смешат и обезоруживают. Судя по «Новой жизни», Зилоти выпущен, судя по сведениям Сувчинского – «все еще сидит». И … очень доволен». Так же «легкомысленно» и «воздушно» относится интеллигент Бенуа к восстановлению большевиками смертной казни. Бенуа даже посмеивается над встревоженностью Луначарского по поводу расстрела в крепости кучки солдат, громивших магазины. Сам Бенуа нисколечко не встревожен: «А к чему еще придется прибегнуть, раз не находятся способы, чтобы покончить с главным развращающим злом – с войной…» Бенуа еще полон надежд. Свой очередной день рождения весной 1917 г. оптимистический сторонник большевиков встречает с полным непониманием размеров российской катастрофы: «Пятница, 21 апреля. Мое рождение. Мне 47 лет. Прошу Господа Бога дать мне счастье в начавшемся годе – увидеть водворение мира, лично же для себя и для своих прошу дать силу остаться верным себе и при этом сохранить здоровье, любовь и некоторый достаток». Бенуа не зря так беспокоился о сохранении своего дневника – не только как литературного произведения, но и как психологического портрета интеллигента в русской революции… Сорок лет спустя, готовя текст дневника к изданию, 86-летний Бенуа сделал кратчайшую вставку о «порабощении духа» в России, которое единственно и разделило его с большевиками (сорока лет все же хватило, чтобы понять сущность диктатуры): «В ряды «белогвардейцев» (как о том сообщается в разных советских изданиях) я никогда не вступал, однако и не мог себе представить, чтоб я мог 38 вернуться в условия того «порабощения духа», которым прославилась наша родина, - и это несмотря на все, что в ней продолжает меня манить и пленять…» Дневниковые записи Бенуа обрываются в 1918 г. В 1919 г. последовали настоящий голод, унижения, разруха, развал, кровавый разгул насилия. Впрочем, судя уже и по некоторым январским записям 1918 г., сторонник сильной большевистской власти А. Н. Бенуа, все еще ставящий в кавычки такие слова как «красный террор», ощутил большевистскую угрозу на очень важном для него направлении: большевики могут отобрать его личную коллекцию – где же их трезвость? Бенуа делает запись в том же январе: «… я думаю, что представление Луначарского о собирателях коллекций – одна из наиболее безумных выдумок, до которых когда-либо додумывались книжные люди (так Гиппиус называла большевиков). На самом деле все в собственности, в этом распространении своего Я на весь мир, и, разумеется, вся культура на этом основана. И разумеется, все несчастье России, все убожество ее хозяйства зиждятся на плохом усвоении этого института. В этом хваленая социологическая особенность России: артельное начало, обнищание владений и т. д. И в этом глубинное противоречие между христианством и социализмом… уничтожение самого института собственности есть величайшее посягательство на роман жизни, есть принудительное оскопление, есть та же инквизиция, бронтиды Варфоломеевской ночи, расправа с альбигойцами и, разумеется, абсурд – как и такое внедрение мечом и огнем царства мира и братства во имя Христа». Сильно сказано. Как жаль, что не нашлось столь же горячих слов у гуманиста для оценки «красного террора» и столь милого для «умницы Троцкого» укорачивания интеллигентских тел «всего на одну голову». Жаль, что не было даже тени страха перед подавлением столь милой художнику свободы творчества… Невольно вспоминается наблюдение здравого (а порой и циничного в своих суждениях) коллекционера и знатока искусства Д. Лобанова-Ростовского, который отмечал, что художники редко эмигрировали по политическим мотивам, чаще по вполне реалистическим и материальным. Впрочем, не следует думать, что все художники в ту пору были глухи к окружающим их стонам. 8 ноября А. Н. Бенуа получил письмо от молодого (тридцатилетнего) художника Георгия Верейского. Вот отрывки из этого письма: «Дорогой Александр Николаевич! Я не могу не говорить с Вами! … Меня мучает вопрос о том, как отнеслись Вы, Александр Николаевич, к большевистскому погрому. С самого его начала я знаю, что Вы питаете симпатии к большевикам. Но разве может быть вопрос о тех или иных политических симпатиях там, где возможно одно лишь отношение «почеловечески». Вы художник и христианин! Этим все сказано, это должно прогнать мои сомнения. И все-таки… все-таки они мучают меня, я Вам честно признаюсь в этом… 39 … Вы мой учитель, Александр Николаевич! Я входил с трепетом в Ваш дом! Рассейте мои сомнения! Мне хочется знать, что ни крупицы Вашего сочувствия не было победителям, что вы сразу же порвали с г. Луначарским и пр. Рассейте этот кошмар, Александр Николаевич, в котором кровь истерзанных жертв, вопли насилуемых женщин, гибель произведений искусства заставляет меня с мучительным вопросом думать о Вас! Содержание этого письма никому неизвестно. Я хочу, чтобы знали его Вы один. Ваш Г. В. К чести А. Н. Бенуа, он не уничтожил письмо и не передал его в контору Дзержинского (Верейский прожил в Москве еще почти полвека). Но и не переписал его в свой дневник, как с гордостью переписал адресованное ему письмо самого Луначарского. (Позднее он называл Луначарского в своих записях просто Анатолием, но посмеивался над ним и неоднократно высказывал неодобрение его еврейской внешности). Может письмо Верейского все же встревожило Бенуа, потому что в записях тех дней появились кое-какие «оправдания»: «И до чего же мне трудно выработать и установить свою собственную позицию! С одной стороны меня побуждает род долга прийти на помощь людям, от которых теперь столь многое зависит…с другой стороны, я отлично вижу, что и эти новые люди легкомысленны и нелепы во всю русскую ширь. В частности, в Луначарском…» Письмо Верейского Александр Бенуа, вероятно, вклеил сорок лет спустя, когда готовил свой дневник к публикации. Тогда же он снабдил его комментарием на обороте. Не «Браво, Верейский, спасший честь цеха!», а всего-навсего: - «Трогательное письмо, полное душевной тревоги, от Верейского». В том же 1955 г., готовя дневник к публикации, Бенуа сделал авторскую вставку, в которой объяснял, что его «добрые отношения с Луначарским» были испорчены не по каким бы то ни было идейным причинам, а лишь из-за авторских амбиций Луначарского. Конечно, к тому времени, когда 85-летний Бенуа отдавал свой дневник в печать, он уже понял кое-что из того, что произошло в России. Вскоре после окончания войны, после ждановского доклада об Ахматовой и Зощенко Бенуа писал в письме сыну, работавшему в Милане, соблазненному жирными московскими посулами и обманутому советской пропагандой: «Нет, нам там не место, а если место, то разве только в Бутырках или в какой-нибудь туркестанской глуши. Мы не знаем, какой ценой досталось благополучие наших самых близких друзей Жени Лансере и Игоря Грабаря. Последний и посидел в Бутырках около двух лет, пока из него не выбили всякую охоту потакать «искусству для искусства», а брата Жени Лансере Колю приговорили к каторге, а потом и вовсе извели со света, потому что милый, добрый, безобидный Коля «сносился» (а вероятно, интерес его – все то же «чистое искусство») с заграницей. Нет, железного занавеса нам не поднять! Он спущен вовсе не между западом и востоком, а между истиной и свободой (хотя бы со всем ее риском) и «направленчеством»… 40 Так писал старый Бенуа после Второй мировой войны… Однако, нам придется вернуться в начало 20-х г., когда Бенуа стало, наконец, ясно, что придется «все бросать» и уезжать. Бросать «все» не хотелось, кое-что удалось переправить и переслать в «милую Европу», а в 1923 г. Бенуа сумел возобновить деловые отношения с Дягилевым и получить от него заказ на оформление спектакля «Мнимый больной» и кое-какие обещания. Теперь можно было подумать об эмиграции. Сын Николай получил к тому времени какие-то заказы в миланском театре «Ла Скала», дочь Елена ушла из Петрограда по льду Финского залива, а осенью 1926 г. и сам Александр Бенуа не вернулся из заграничной командировки (почти все бросил, все за жизнь нажитое) и поселился в Париже, где уже обосновался к тому времени вполне обширный (хотя о былом петербургском влиянии и достатке речи быть не могло) клан Бенуа. В 1924 г. перебрался к старшей дочери, бывшей замужем за композитором Черепниным, знаменитый лидер питерских акварелистов и былой любимец императорской семьи 72-летний Альберт Бенуа. Он еще и после большевистского переворота долгое время возглавлял в Петрограде музей прикладного искусства, создавал музей природы в Лахте, путешествовал с экспедицией геологического института по берегу Новой земли и Баренцева моря, участвовал в выставках. Добравшись в Париж, Альберт провел персональные выставки, а потом жил на попечении Черепниных и умер 84-х лет от роду в Фонтенэ-о-Роз под Парижем. Сын Альберта (тоже Альберт), тот самый, что был женат на красавице-певице Марии Кузнецовой, поселился в Париже в 1918 г., провел там персональную выставку и умер от туберкулеза в 1930 г. Его блистательная жена вышла замуж за богатого банкира (племянника Композитора Массне), который подарил супруге театр, ставший знаменитой Русской оперой. Дочь Александра Бенуа, отчаянная Лёля – Елена, та, что еще в 1920 г. ушла из Петрограда по льду Финского залива, тоже была художницей. Она писала пейзажи, натюрморты и портреты, участвовала в парижских выставках, а позднее работала с отцом над театральными декорациями. В Петрограде она была замужем за художником Борисом Поповым, в Париже вышла сперва замуж за русского композитора, потом за русского поэта (и коммерсанта), а последние тридцать лет своей жизни прожила в браке с летчиком-французом. Похоронена она на кладбище Батиньоль (рядом с отцом). Сын Александра Бенуа Николай занимался и живописью, но больше всего преуспел на ниве театральной декорации. Он оформил множество спектаклей в Милане и возглавлял постановочную часть в том самом театре «Ла Скала», стены которого еще помнили музыку его прапрадеда Катарино Кавоса. За долгие годы работы в театре Ла Скала Николай Бенуа пережил (вместе со своим театром) и вполне нелегкие годы. После войны театр Ла Скала изрядно обнищал. В одном из послевоенных писем А. Н. Бенуа сообщал своему другу М. Добужинскому о театральных делах сына: 41 «… уж больно плохо обстоит дело с финансовой стороны. Кока даже подал в отставку, намереваясь совершенно переселиться в Аргентину, насилу уговорили остаться. Но и оставшись, он продолжает «глядеть в лес» все по причине только плохо устроенных, нелепых житейских условий…» Среди предложений, искушавших неустроенного Коку, были вероятно, и московские предложения. При трудностях, переживаемых миланским театром, в атмосфере бурного «полевения» Италии (потеряв своего собственного римского дуче, итальянцы темпераментно устремлялись теперь в объятия московского вождя) предложения, приходившие из Москвы, звучали особенно соблазнительно. Поняв это из писем сына, А. Н. Бенуа написал в октябре 1946 г. совершенно поразительное для той поры письмо сыну в Милан. Вот еще один отрывок из этого письма: «Только что получили твое длинное письмо от 11 сентября, и оно нас не только взволновало, но и огорчило. Между строками мы прочли и такое, что прямо в высшей степени встревожило. Неужели какие-то беседы с людьми «оттуда» оказались способными всего тебя переубедить и перенастроить? Неужели ты забыл, почему ты покинул свою родинуРоссию? Откуда ты взял, что там мирно и безнаказанно цветут романтики поэзии и что там вообще для искусства здоровый воздух? Ты, наш милый мальчик, попался на то лукавство, к которому сочло полезным прибегнуть и тамошнее его величество Иосиф, представляющий собой образ самого деспота, совершенно лишенного всякой просвещенности. Я видел снимки с картин, которые там пишутся и поощряются, и вот, что я тебе скажу. Как ни мерзки мне «кляксы» Пикассо, Дали, Шагала – имя им легион, но я их все же предпочитаю такому здоровому искусству. Это олицетворение «подхалимажа», холопство и подлость, да и все там в таком роде. Я много думал и много перечувствовал вокруг этих проклятых вопросов и, увы, пришел к заключению, что спасения в ближайшем будущем ожидать не приходится. Мы все глубже и глубже будем погрязать в тиски этой новой видимости или мракобесия – этих новых средних веков, а всякие атомные фокусы только ускорят начавшийся процесс одичания и вовсе не станут «оздоровляющими»… Все у меня сводится к тому, как бы не слишком гнусно закончить собственную жизнь, как бы кое-что еще успеть передать потомству, дабы оно продолжало несть тот факел, который поручен мне, тебе и всем тем, кто в силу воспитания и быта, сложившихся в иные, более счастливые времена, оказались достойными получить этот факел в руки… Для той России, которую мы не перестаем любить духом и сердцем, этот факел может оказаться полезным, если его пламя будет сохранять хотя бы волю ее предков. Напротив, если бы мы совершили чудовищную ошибку и понесли бы его туда, то там он погас бы неминуемо, задушенный такой строго разработанной системой лжи, против которой нет средств бороться…» Что пользы даже в самых замечательных письмах? После долгих колебаний Николай Бенуа приехал с театром Ла Скала в Москву (в 1964 г.), 42 работал в Большом театре в 1965 и 1978 гг., а умер еще десять лет спустя в Милане. С 1910 г. жил в Париже вместе с женой Маргаритой архитектор и акварелист Альберт Александрович Бенуа-Контский. Это он проектировал, а потом вместе с супругой расписывал в 1939 г. церковь Успения Божьей Матери на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа (где они с женой и похоронены), писал иконы и фрески для других русских церквей зарубежья, в том числе и кафедрального собора Александра Невского в Париже. После окончательного переселения в Париж и работы над оформлением «Лекаря поневоле» столпу «Мира искусства» и Русских сезонов Александру Николаевичу Бенуа больше не пришлось участвовать в оформлении и постановке дягилевских спектаклей. Однако он (в отличие от Бакста) не порвал отношений с Дягилевым. Бенуа еще и в 1905 г. знал, что от Дягилева нельзя ждать «верности» («Надеяться на то, что Сергей заступится за отсутствующего друга, я, зная по опыту его обыкновения, не мог»). Тем не менее, о последних годах Дягилева и своих с ним парижских встречах Бенуа писал в своих мемуарах с нежностью и с сочувствием, вынося, впрочем, довольно жесткий приговор некоторым из поздних дягилевских постановок: «… позднейшие дягилевские балеты меня иногда радовали, но чаще огорчали – все той же чертой «эпатирования во что бы то ни стало». Особенно же меня разгорячил пустяшный балетик «Chatte», имевший, однако, очень большой успех у публики и даже, пожалуй, способствовавший новому притоку поклонников «Balletes Russes»… Не уступали по бессмысленности и уродству «Chatte» и другие ультрамодернистские или ультра-кубистические балеты Дягилева: «Лисичка», «Matelots», «Train bleu» и т. д. Но все это было превзойдено «Стальным скоком» («Pas d’acier»), в котором к глупости и к кривлянью прибавилось еще нечто гадкое. Поиски нового, желание идти с веком довели Сережу, нашего «аристократа» Сережу, в «Стальном скоке» до того, что он на сцене Opéra представил своего рода апофеоз советского строя. «Стальной скок» вполне может сойти за одно из тех казенных прославлений Индустриализации и Пролетариата, в которых изощряются согласно «социальному заказу» официальные песнопевцы СССР. В своем циничном усердии авторы и постановщики балета дошли даже до того, что они торжеству фабричных трудящихся противопоставили издевательство над буржуазией. На сцене рядом со всякими представителями «победившего класса» топтались те дамы общества, что в дни чудовищной нищеты пытались на рынке сбывать за несколько копеек случайнее остатки своего былого благополучия. Прокофьев, автор наивно имитационной музыки, шипящей и свистящий наподобие какой-либо сталелитейной фабрики, поступил затем совершенно последовательно, отправившись по создании этого шедевра в СССР, где он преуспевает и поныне. Дягилев же только временно предался мечте о том, чтобы завязать с Советами какие-то деловые отношения, ввиду чего он даже подружился с Маяковским…» 43 Итак, Бенуа отметил «циничное усердие» авторов шедевра, который Дягилев с Прокофьевым называли своим «большевистским балетом». На жалобы старого друга Бенуа Дягилев (а судя по его циничным дневникам, и сам Прокофьев тоже) мог бы ответить любимой фразой молодого Льва Никулина: «Мы не Достоевские, нам бы денег побольше». Но психолог и шармер Дягилев знал, как надо разговаривать с другом юности и умел снова растрогать Бенуа, о чем наглядно свидетельствуют знаменитые мемуары. «… Сережа… как будто начинал томиться от всей той лжи, в которую втянул его «культ последнего слова», - повествует Бенуа, - и я не могу забыть той беседы, которую я имел с ним за год до его смерти, когда он, без того, чтобы я его вызвал на то, стал передо мной оправдываться в «странности своих поступков». Ноша, которую он взвалил себе на плечи (и которую уже нес целых двадцать лет), становилась ему непосильной. Единственную настоящую отраду он находил теперь не в том деле, которое возвеличило его перед светом, а именно в интимной коллекционерстве… Он теперь стал библиофилом и притом русским библиофилом… Сережа тратил большие суммы для удовлетворения этой страсти…» Описывая погоню позднего Дягилева за криком моды и супермодерном, Бенуа винит в этом «крене» новое окружение Дягилева – всех этих Кохно и Кокто. Впрочем, как вспоминает Бенуа, он уже и в прежнем Дягилеве отмечал тягу к тому, что он называет «дикарством» модернизма: «В Дягилеве… еще тогда, когда он почти юношей робко искал приобщиться к нашему кружку, всегда чувствовалось какое-то специфическое безразличие к тому, что мы – я и мои друзья – почитали за главное. В нем проявлялась какая-то душевная пустота и вообще отсутствие поэтических запросов. В нем эта черта была стихийная, примитивнодикарская. Никто его этому не учил, однако и все мои, все наши старания «научить его чему-нибудь другому» терпели полную неудачу. Кстати сказать, самая эта стихийная «дикость», самое это «варварство» Сережи особенно пригодилось ему, когда он, в силу внешних обстоятельств, освободился от нашего влияния. Это они, эти черты «варварства», создали ему особенно громкий успех, и это сблизило его с «передовыми» элементами европейского искусства, которые так же с презрением и ненавистью отвернулись от «сюжета» или стали творит вещи, в которых всякое наличие поэзии подвергалось осмеянию и издевательствам. Согласно новым теориям (уж и не таким новым – им уже полвека), произведение должно действовать средствами, свойственными каждой художественной отрасли, - чистой музыки, чистой поэзии, чистой живописи. Однако я знаю доподлинно, что тех эмоций, которыми я обязан Боттичелли, Микельанджело, Тинторетто, Рембрандту, Баху, Моцарту, Вагнеру, Мусоргскому, Бородину, Чайковскому и т. д., эмоций такой же интенсивности, той же степени восторга, я никогда не испытывал и не в состоянии испытывать от самых изощренных картин, ну, скажем, Брака, Пикассо, Матисса или даже импрессионистов». Сетуя на дягилевскую погоню за модой и модерном, Бенуа никогда не забывал о великой былой заслуге Дягилева, не переставал восхищаться 44 властностью этого самодержца от искусства, восхищаться созданной им державой. Любопытно, что выходец из безродной Художественной интеллигенции, Бенуа все еще томится по врожденному аристократизму, по державности (пусть даже мифической), по диктатуре (пусть даже насильнической и кровавой): «Сергей любил в кругу друзей прихвастнуть своим происхождением de main gauche (от незаконной связи – Б. Н.) от Петра I. Он едва ли верил этой семейной легенде (которую, быть может, он сам и выдумал), но что в нем было что-то от Петра I – это все же несомненно, Когда я создавал свои иллюстрации и картины, в которых центральной фигурой являлся Петр Великий, я невольно представлял, toute proportion gardée (при всем несоответствии масштаба – Б. Н.), Сережу – не столько au physique (по внешности – Б. Н.), сколько au moral (по духу – Б. Н.). И то же знание Сережи помогло мне приготовить артиста Мудзалевского к созданию им в драме Мережковского «Царевич Алексей» труднейшей роли Петра. В Дягилеве несомненно жила та природная властность, тот проникающий в самую суть вещей ум, часто и без всякого знания этих вещей, то же умение угадывать людские слабости и на них играть, что составляет основной характер преобразователя России. Дягилев был природным вождем, и не случись так, что жизнь случайно сблизила его с художниками, быть может, он свой дар проявил на более широком и значительном поприще, нежели балет и даже нежели вся область искусства. Однако, и в этой ограниченной сфере Дягилеву удалось основать своего рода «державу», и эта держава не умерла после него…» Напомню, что ко времени написания этих строк державный Дягилев уже дал отставку верным своим сподвижникам, а потом, неожиданно для всех, умер на острове Лидо, в отельном номере, выходящем окнами на Адриатику… А отставленный Бенуа прожил в мирном сухопутном Париже еще добрых три десятка лет, из которых лет восемь он все же был главным художником и режиссером-постановщиком в парижском театре конкурентки Дягилева Иды Рубинштейн, где Бенуа поставил полтора десятка балетов. Он по-прежнему печатал свои «художественные письма» (только теперь уж не в «Речи», а в эмигрантских «Последних Новостях» у Милюкова), а также писал книги. Писал он блестяще, и мемуары его читаются как хороший роман… Бенуа понаписал кучу книг, но лучшими из них мне представляются книги воспоминаний. К сожалению, не все книги он успел дописать, но где ж дотянуть до конца описание столь долгой жизни – полновесных девяноста лет? Умер Александр Николаевич Бенуа глубокой осенью 1960 г. Как над телами погибших воинов нередко кружит воронье, так и над остывающими телами художников и собирателей произведений искусства, кружат самые энергичные из коллекционеров. Мне не раз рассказывала в Париже племянница А. Н. Бенуа милая художница Екатерина Борисовна Серебрякова, как она прощалась с покойным дядей: 45 - Позвонили нам, что дядя умер. Мы собрались и поехали к нему вдвоем с кузиной. Приехали – сидим у него в молчании в изголовье, всплакнули обе… Вдруг слышим – кто-то там ходит по квартире, вроде как уборка идет. Поглядели – чужой мужчина. Но нам известный человек, коллекционер, всякое эмигрантское искусство собирает, много уже насобирал. Да и вы, наверно его знаете, теперь он выступает по телевизору. Он даже какой-то там профессор в Париже… - Теперь уже в Ницце… - Ну да, вот он что-то там собирал, в картонные коробки складывал. Потом стал вниз сносить, в машину. И уехал… - А вы что-нибудь взяли на память? Екатерина Борисовна беспомощно развела руками и оглядела серебряковское ателье на Кампань-Премьер, забитой картинами: - Да куда нам?.. Потом у нас и машины не было. … В Париже, как раньше в Питере, Александр Николаевич Бенуа был не просто художником, критиком и писателем, но целым институтом художественной жизни, так что к нему одному из первых явился в 1937 г. посланец Праги (а может, и самой Москвы) В. Ф. Булгаков, который в ранней юности, еще в начале века целый год был секретарем у Толстого в Ясной Поляне. А с середины тридцатых годов (и аж до самого июня 1941) Булгаков объезжал эмигрантских художников, настойчиво предлагая им дарить их картины для нужд временного русского музея в Праге, чтобы потом отправить их в страну вечной борьбы за мир – в Советский Союз (в уставе его перспективного музея так и было написано). Уже и в ту пору, когда Прага была оккупирована гитлеровцами, да и в Париже стояли войска советского союзника, В. Ф. Булгаков все еще ездил и собирал картины, взывая к патриотическим чувствам нищих эмигрантов. Как человек внимательный он в процессе собирательства все примечал, чтоб потом, когда собранное удастся передать в московские запасники, можно было обо всем примеченном рассказать читателю (был он человек пишущий): рассказать, кто безропотно расставался с работами, а кто нет, напротив, отдавал неохотно, кто как жил и кто что говорил. Художники жертвовали, поддаваясь патриотическому нажиму этого не слишком симпатичного (судя по его мемуарам, украшенным его фотографией) человека из Праги, однако все же боясь ему не угодить. Опасения русских художников были вполне обоснованные; тревожно был в 1937 г. не только в Москве, но и в Париже; русских генералов хватали среди бела дня в центре города, невозвращенца могли убить и в многолюдном Булонском лесу… Конечно, художникам было сперва невдомек, что и Праге предстоит стать московским тылом, но тем, кто руководил проведением коминтерновской «борьбы за мир», это казалось неизбежным, и в ожидании этого полезно было, чтобы все имеющее цену собрано было до кучи для отправки в центр (это произошло только в 1948 г., потому что стратегический план сталинских «борцов за мир» осуществился не полностью и не сразу). 46 О перипетиях этой собирательской операции В. Ф. Булгаков рассказал в поразительной своей книжечке, которая вышла в конце 60-х г. в Ленинграде под скромным названием «Встречи с художниками», и для внимательного читателя книжонка эта, написанная казенным газетным слогом, истинный детектив о похождениях искусствоведа (того типа, что в доперестроечной России называли «искусствоведами в штатском»). Ко времени выхода книжки Булгакова отношение к невозвращенцу А. Н. Бенуа было Москвой уже пересмотрено в положительном направлении, так что мысль о переоценке «невольно приходила в голову» В. Ф. Булгакову: «Невольно приходила в голову мысль: какой недооценкой художника было бы, если бы мы считали его только декадентом, только эстетствующим представителем упадочного искусства!» Воздав таким образом должное новейшим течениям, Булгаков сообщает, что этот недавно ставший «не только декадентом» 67-летний Бенуа был «еще бодрый, хотя как будто и не совсем прочно стоявший на отекших ногах старик с колбасками подстриженных седых усов», что супруга его была «изящно одетая дама с довольно вычурной прической», и что хозяева пригласили гостя на чашку чая, а «чай был изящно, не поэмигрантски сервирован». Булгаков высказывает предположение, что Бенуа «как чуткий ценитель» наверняка должен бы восхищаться выставленной в советском павильоне статуей Мухиной «Рабочий и колхозница», однако, вероятно, не посмел выразить свой восторг в милюковской газете (откуда было знать пражанину Булгакову, что газета Милюкова тогда уже приветствовала все подобные изъявления восторга). Несмотря на успешное достижение главной цели визита, гость был разочарован отсутствием у бедняги Бенуа «любимой мысли». Дело в том, что попутно с бесплатным изъятием эмигрантских произведений искусства для отправки Булгаков пополнял свою личную (а может, и служебную) коллекцию мнений и автографов, для которой и попросил Бенуа записать в его альбом «свою любимую мысль». И вот тут выяснилось, что такой мысли у Бенуа нет. Посланец Москвы и Праги так сообщает об этом конфузе доверчивому русскому читателю: «Бенуа… берет альбом и пишет: «У меня нет любимой мысли. Вернее – у меня их слишком много и не все приведены в порядок». … «В шестьдесят семь лет?..» - изумленно восклицает Булгаков, - не все любимые мысли приведены в порядок?.. Да можно ли так жить?! По этой записи я понял, что А. Н. Бенуа является только художником. Это не философ, не боец, который, будучи художником, борется за какую-то дорогую ему идею. Для того, чтобы быть борцом за идею, надо прочно стоять на земле, занимать определенное положение в общественной жизни и борьбе. У художника-эстета этого нет». Легко предположить, что пражский эстет не только пугал, но и потешал парижских художников своим невежеством, однако, из осторожности все они (за одним единственным исключением) жертвовали 47 сомнительному собирателю свои работы. Впрочем, отмечали, вероятно, что подобно героине знаменитого романа Ильфа и Петрова, пражский собиратель знал лишь одно иностранное слово. Нет, конечно, не изысканное слово «гомосексуализм», которым щеголяла упомянутая нами героиня, и которое могло бы быть вполне уместным в кругу мирискусников, а другое, тоже иностранного происхождения, но в этом кругу не вполне уместное – священное слово «реализм»… О деятельности Бенуа-художника, Бенуа-критика и Бенуа театрального деятеля написаны многие сотни страниц (да он и сам об этом написал немало). Выберу из этой горы лишь кратенькое сообщение об эмигрантской жизни Бенуа, которое прислал некогда в иерусалимский альманах Пархомовского известный знаток и коллекционер русских театральных эскизов Дмитрий Лобанов-Ростовский. Он написал: «Бенуа сумел развить свой собственный стиль, но на этом остановился. Он как бы навсегда остался в начале Серебряного века и поэтому выбирал для оформления только те постановки, которые отвечали его классическому вкусу. Единственной важной уступкой модернизму был «Петрушка», и именно в силу этого он так хорошо известен вне СССР. Как художнику ему не хватало живости стиля и проницательности, но как оформителю ему удавалось вносить упорядоченность и гармонию, что всегда приводило к превосходным результатам на сцене». «А. Бенуа – наиболее плодовитый из русских театральных художников, живших вне СССР, - продолжает Лобанов-Ростовский, - Например, «Петрушка» ставился десять раз, и каждый раз – по новым эскизам Бенуа. Жил он на улице Огюст Виту, в 15-м квартале, где жили все не очень состоятельные русские – неподалеку от завода «Ситроен». Квартира двухэтажная, внизу – студия Бенуа, наверху были спальни и столовая, а на последнем, пятом этаже была еще отдельная комната, где Александр Николаевич писал книги, воспоминания, статьи, и где хранилась его библиотека. Друзья семьи Бенуа были в основном русские. На воскресные чаепития всегда приходили С. Эрнст, Д. Бушен, И. С. Гурвич. Приходил туда и Лифарь, когда ему нужны были какие-нибудь воспоминания или эскизы для его постановок. После кончины Бенуа его дочь Анна Александровна Черкесова жила в этой квартире с сыном. Эта семья жила как бы в полной независимости от Франции. Они никогда не платили никаких налогов и не получали никаких пособий, а когда Анна Александровна болела, то они звонили в Советское посольство, и оттуда приходил врач. А если что-то случалось с электричеством, то опять-таки звонили в Советское посольство, и приходил электрик и делал то, что нужно. Семья эта явно не сочувствовала господствовавшим в СССР политическим принципам, но они были глубоко русскими людьми и остались такими». Не знаю, уж так ли безбедно жила бедная Анна Александровна. Ее муж, художник Юрий Черкесов (А. Бенуа высоко ценил его иллюстрации и детские книжки) покончил с собой еще в 1943 г. 48 Однажды в антикварном магазине И. Лемперта на рю Миромениль я увидел пейзажи Бенуа, которые продавались совсем недорого. - Дочь Бенуа приносила, - сказал мне хозяин магазина, - Можете купить. Он шутил, конечно. Купить я мог только один банан и полбатона, которые и съедал, безбедно гуляя пешком по Парижу. Но конечно, за такой рисунок не жалко было б отдать полбулочной. Лобанов-Ростоцкий сообщает, что сын Александра Бенуа художник Николай Александрович Бенуа долго хлопотал об открытии их семейного музея на родине и умер 87 лет от роду, не дожив до торжественного открытия музея всего полгода… Александр Николаевич Бенуа был похоронен на парижском кладбище Батиньоль, неподалеку от могил своего друга Левушки Бакста и Ф. И. Шаляпина. То, что осталось от Шаляпина, выкопали чуть ли не полвека спустя и перевезли в Москву. Может, со временем перевезут в Россию и то, что останется от Бенуа. Вряд ли будет востребован прах высланного из Петербурга блистательного Бакста, а между тем, он был одним из главных основателей их петербургского сенакля. Да ведь и один из лучших портретов Бенуа написал еще не нашедший себя Бакст в 1898 г.: этакий черный жук Бенуа с черной бородой, зарывшийся в черное кресло на фоне старинного портрета матушки-императрицы в золотой раме… Да и взлет своей всемирной славы Бенуа и Бакст пережили почти одновременно, во время «Русских сезонов Дягилева», когда Париж осатанело рукоплескал «Петрушке», а до того «Клеопатре» и «Шахерезаде». Вот тогдато на устах парижан и возникло впервые это странное имя – Бакст… Откуда оно взялось это имя? Что в имени тебе моем? «Париж был подлинно пьян Бакстом» Лев Бакст родился в том самом углу «миттель-Эуропы», который произвел и для Москвы и для Парижа такую кучу художников – близ западной границы нынешней Белоруссии, в двух шагах от нынешней Литвы, в симпатичном городе Гродно, входившем то в феодальную Польшу, то в многонациональную Россию, то снова Польшу, которую тогда уже обзывали «панской», то снова – в Россию, которая была сталинской, а потом уж – в бедную Белоруссию, которую я видел лишь однажды, мимоходом, но мог бы назвать «родиной предков», своей «исторической родиной». Семья Рабиновичей-Розенбергов, в которой родился Бакст, была хоть и еврейская (притом «мелкобуржуазная»), однако достаточно состоятельная, чтоб ей было дозволено перебраться в царственный Петербург, где мальчик 49 Лева Розенберг (согласно записи он был Лейб-Хаим) ходил в шестую классическую гимназию и получил неплохое «классическое» образование. Из возможных домашних впечатлений не слишком осведомленные биографы Бакста выделяют рассказы дедушки, который жил когда-то в Париже, вел вполне непыльную, так сказать, светскую жизнь, да и свою петербургскую квартиру на Невском обставил на манер французского салона времен Наполеона III. В детстве будущий «чародей театра» играл (вместе с малолетними будущими посредственностями) «в настоящий театр», а в гимназические годы у него обнаружились пристрастие к рисованию и кое-какие способности. Занятие искусством вовсе не считалось тогда (в их мелкобуржуазном кругу) чем-то унизительным или разорительным, и в ту пору в России из евреев (или, как говорили в родственной Польше, «из жидкув») можно было насчитать на этом поприще по меньшей мере двух удачников – живописца Левитана и скульптора Антокольского. Родители Левы Розенберга (собственно, красивую немецкую фамилию Розенберг – Розовая Гора – носила мама, а Левин папа обладал еще более банальной фамилией – Рабинович, в переводе – Попов) обратились за советом к упомянутому выше Антокольскому, который, посмотрев на Левины рисунки, сказал, что надо идти учиться в Академию художеств. Семнадцатилетнего Леву записали вольнослушателем в Академию, которая показалась юноше еще более занудно-классической и академической, чем его гимназия, но коечему его там все же за четыре года подучили. И встречи с интересными людьми, как любят говорить газетчики, - там такие встречи бывали, хотя и не часто. Перед самым бегством из Академии Леве довелось познакомиться и даже поработать в одной мастерской с Валентином Серовым. Вот уж они наговорились об искусстве, стоя за своими мольбертами: в отличие от каторжников-писателей художники могут за работой разговаривать, слушать музыку и даже петь, если у них возникнет такая потребность. Лева рано начал работать. Конечно, при этом он не прекращал учиться, но работать все же пришлось: умер отец, и надо было помогать семье. Об этом его друг Александр Бенуа так рассказал в своей мемуарной книге: «К дружескому отношению к Левушке Розенбергу у нас примешивалась и доля жалости. Он поведал мне и Валечке, как трудно ему живется. Оставшись без средств после внезапной кончины отца – человека зажиточного (биржевого деятеля), успевшего дать детям приличное начальное воспитание, Левушка должен был сам изыскивать средства, чтоб не только зарабатывать себе на жизнь, но и содержать мать, бабушку, двух сестер и еще совсем юного брата. Кроме того, он не желал бросать Академию художеств, в которой состоял вольноприходящим учеником. Эти занятия в Академии брали у него немало времени, а на покупку необходимых художественных материалов не хватало и вовсе средств…» Бакст работал художником-оформителем в издательствах (у Холмушина и у Девриена), в журнале «Художник», в приложении к газете «Петербургская жизнь», к «Новостям» и «Биржевой газете». Мало-помалу он 50 набил руку на репортажных рисунках. Попутно выяснилось, что его больше всего интересуют театр, музыка, интересуют жизнь искусства, люди искусства. Он не оставляет живопись и делает заметные успехи в акварели. В ту пору (речь идет уже о 1890 г.) он решил больше не подписывать свои работы Розенбергом, а укоротив девичью фамилию одной из бабушек (она была в девичестве Бакстер), соорудил себе замечательный, вполне богемный (и, как оказалось, почти международный) псевдоним – Бакст. Даже отчество (для всяких официальных случаев) Бакст себе придумал новое: он стал Самойловичем, а не Израилевичем, так ему больше нравилось. А те, кому в нем что-то не нравилось, те давали ему это сразу понять, и тут уж ничего нельзя было поделать. Скажем, Петрову-Водкину не нравился его акцент (по сообщению князя Щербатова, Бакст «мягко картавил») и сколько бы он, Бакст, ни угождал этому Петрову-Водкину, сколько бы он ему ни помогал, сколько бы он его ни хвалил, младший собрат вспоминал о нем вполне насмешливо. Ну, а Шура Бенуа, который немало с ним спорил и ссорился, все же называл его ласково Левушкой. Да и Бакстов акцент в Шурином кружке не вызвал особых возражений, хотя принадлежность его к иному «племени» создавала ему в этом хотя и «не стопроцентно русском», а все же арийском кругу «несколько обособленное положение». «Что-то пикантное и милое мы находили в его говоре, - вспоминает Бенуа, - в его произношении русского языка. Он как-то шепелявил и делал своеобразные ударения. Нечто типично еврейское звучало и в протяжности его интонаций, и в особой певучести вопросов. Это был, в сущности, тот же русский язык, на котором мы говорили (пожалуй даже, то был более грамматически правильный язык, нежели наш), и все же в нем одном сказывалась иноплеменность, экзотика и «принадлежность к востоку». При первом появлении молодого Бакста на «пятницах» акварелистов, глава их, знаменитый Альберт Бенуа познакомил его со своим младшим братом Шурой, а через Шуру Бакст перезнакомился со всеми «майскими гимназистами» и «пиквикианцами». Тут-то Бакст и понял, что начинаются для него настоящие «встречи с интересными людьми», которых интересует все то же самое, что и его самого, - искусство, искусство, искусство, жизнь в искусстве, мир искусства… Надо сказать, что в том самом 1890 году их полку прибыло – присоединились к «майскому» кружку былых одноклассников (Нувель, Философов, Сомов, Бенуа) также Димин «Родственник из провинции», из самой что ни на есть Перми, Сережа Дягилев, а также Мстислав Добужинский и Евгений Лансере. Лева Бакст был их всех чуток постарше (года на три старше, чем Шура Бенуа), он успел уже поработать. Впрочем, в искусстве выслуга лет не засчитывается, а только – талант, упорство, труд и удача. Лева стал регулярно посещать кружок Бенуа и даже делал там доклады о своих любимых русских художниках. Поначалу Бенуа опасался, как бы гордый дворянин Философов или, скажем, Нувель не обидели приглашенного им на занятия их кружка 51 молодого Розенберга-Бакста, все же «он был, вспоминает Бенуа, первый еврей, с которым я близко сошелся и некоторое время он считался единственным евреем в нашем кружке». Но Бенуа предупредил друзей, «что придет некий молоденький… художник-еврейчик, что стоит им заняться и… не слишком его смущать…». И на сей раз все обошлось благополучно: «Не прошло и трех месяцев с начала нашего знакомства, как все уже были с Левушкой на «ты», а осенью того же 1890 г. он даже удостоился занять должность «спикера» в нашем пиквикианском «Обществе самообразования» - должность, дававшую ему, между прочим, трезвонить в специальный колокольчик». Бенуа ностальгически писал однажды из Франции другу Философову: «Есть ли у вас звонок? У меня еще сохранился тот, который в опытных руках почтенного спикера Бакста оказал столько услуг незабвенному обществу самообразования (Боже!)…» В мемуарной книге Бенуа, написанной через много лет после смерти его друзей, есть трогательная глава под названием «Левушка Бакст». В ней Бенуа рассказывает, как Бакст посещал «Акварельные пятницы» Общества русских акварелистов, которое возглавлял его брат Альберт Бенуа, чьи работы так высоко ценили в царском дворце (но, похоже, невысоко ценил младший брат Шура). В просторном помещении» Акварельного класса» (в здании Академии) за столом восседали «акварельные знаменитости», а «немного в стороне, на эстраде сидела или стояла модель (почти всегда женская), которую одевали в добытые из богатого гардероба «костюмного класса» всякие национальные и исторические наряды. Модель то представляла хохлушку, переходящую в брод воображаемый ручеек, а то это была заснувшая за ночной работой швея, или средневековая девица, мечтающая за веретеном и т. д. Эти «Акварельные пятницы» сыграли весьма значительную роль в карьере Левушки… Эти этюды, которые Левушка делал даром с живой натуры, были для него полезным упражнением в только что им усвоенной акварельной технике. Роме того, вышло так (едва ли намеренно с его стороны), что именно благодаря им он стал приобретать некоторую известность. Углубленного в работу, его всегда обступала кучка любопытных». Среди любопытных оказался человек, близкий к президенту Академии, великому князю Владимиру барон Дмитрий Бенкендорф. Барон стал «учеником» Бакста, порекомендовал его в качестве учителя для детей великого князя, помог получить престижный заказ. Да и сам Шура Бенуа уверовал тогда в будущее Бакста. Бенуа рассказывает, как упорно однажды на даче у его брата Альберта в Ораниенбауме молодой Бакст писал розу в стакане воды, как бесстрашно он снова и снова смывал написанное, пока не получилось нечто такое, «что представляло собой известную техническую прелесть». «В то же время это было и нечто вполне отличное от приемов Альбера – нечто более сложное, более осознанное. Я был в восторге, - вспоминает 52 Бенуа, - и, пожалуй, именно тогда во мне проснулась какая-то «вера в Бакста». Самый же этот случай остался для меня поучительным, чем-то таким, что противоречило той заразительной легкости, которой я привык любоваться в работах моего брата и его приятелей». В последующее десятилетие Бакст создает портреты своих сотоварищей по «Миру искусства», активно участвует в оформлении журнала и его выставок, а незадолго до ликвидации и того, и другого с гордостью пишет в письме Любови Гриценко: «Мы так привыкли друг к другу, так полюбили наши недостатки, все давно простили и, если ругаемся до изнеможения, то в минуту общей опасности стоим рядом, как обстреливаемая со всех сторон рота солдат! А. Бенуа, В. Нувель, Сережа Дягилев, Костя Сомов, Дима Философов, женя Лансере, А. Остроумова, А. Нурок, Павка Корнбут, Серов и Ваш покорный слуга – вот ядро нашего союза: друг другу не изменим…» Бакст регулярно участвует в оформлении журнала «Мир искусства». Как и предтеча его Сомов, он не иллюстратор текста, а искусный украшатель журнального листа. От влияния Сомова не избавиться ему и в первых его портретах. Тогдашние портреты, написанные Бакстом, доносят до нас облик молодых его соратников-интеллектуалов – и Шуры Бенуа, и Кости Сомова, и Валечки Нувеля, и Димы Философова, и Сережи Дягилева… Автопортрет самого Левушки в богемном берете неплохо дополняет его литературные портреты, разбросанные по мемуарным томам и монографиям. Вот каким запомнился Бакст графику Анне Остроумовой-Лебедевой: «Бакст был живой, добродушный, шепелявящий молодой человек. с ярко-розовым лицом и какими-то рыже-розовыми волосами. Над ним все подтрунивали, и над его влюбчивостью, и над его смешной шевелюрой, и над его мнительностью. Ему всегда казалось, что он болен или тяжко заболевает. Он был очень умен, блестяще одарен и большой энтузиаст искусства». Один из учеников Бакста в студии Е. Званцевой, где Бакст преподавал вместе с Добужинским (П. Андреев), так вспоминал о внешности учителя: «Меня поразил прежде всего его нос – такого я еще не видывал: совершенно египетский. Короткие рыжеватые вьющиеся волосы на большом семитическом черепе были с помощью фиксатуара тщательно зачесаны на одну сторону. Что-то верхарновское было в усах и подбородке. Голова крепко сидела на короткой шее, всегда затянутой великолепным воротничком. Спокойные карие искрящиеся глаза, меткие и добрые, они смотрели из-под пенсне – мудрые, меряющие и сравнивающие. В его приятной осанке и манере держать себя, нельзя было подметить отражения каких-либо плохих душевных качеств. Бакст располагал к себе. Это был интересный человек, его внешность красиво дополняла богатую внутреннюю сущность. Манеры простые, живые, деловые. Ни аффектации, ни претенциозности. Все в меру изысканно, тонко и доступно». Но, конечно, лучше всех написал о тогдашнем Баксте через много лет после его смерти и сам немолодой уже к тому времени Шура Бенуа: 53 «Основу характера Левушки составляло известное благодушие. За него ему прощалось многое. Оно распространяло вокруг него определенную атмосферу уюта. С самых первых недель нашего знакомства именно эту его эманацию я почувствовал и оценил… Уютно действовала самая его наружность – мягко-огненный цвет волос, подслеповато подглядывающие из-за пенсне глаза, скромная манера держаться, тихий, слегка шепелявый говор. Особенно приятно было вызывать в Баксте смех – не громкий,... но веселый и искренний… И не только внешние черты притягивали к Баксту, а в той же мере действовал его ум, который я не могу иначе охарактеризовать, как словом «прелестный». Мысли Левушки были всегда своеобразны и выражались в яркой картинной форме. Они как-то тут же возникали и точно изумляли его самого (черта типично еврейская). В них никогда не звучало что-либо доктринерское, школьное, заимствованное. Теми же особенностями отличались его письма. Их у меня накопились десятки, если не сотни, иные из них необычайно длинны – целые трактаты… Многообразие тем Бакста было чрезвычайным, и это нас связывало, так как и я человек «многообразный», «пестрый», «всеядный». Левушка был и мастером рассказывать (без всякого нарочитого щегольства) про случившиеся с ним встречи и похождения… Наконец, великий шарм исходил и от всей необычайной художественной одаренности Левушки. Эту одаренность можно было наблюдать… каждый раз, когда он бывал у меня или у Валечки, или в редакции «Мира искусства» - иначе говоря, чуть ли не каждый день. Талантливость неудержимо толкала его на творчество, и он чувствовал себя только когда был занят рисованием или акварелью, что не мешало ему принимать участие в общей беседе и даже в споре…» Сближала Бенуа и Бакста их страсть к театру, к его тайнам, к миру кулис («закулисный мир… меня манил неудержимой силой», - признается Бенуа). У двух юных пиквикианцев появляется свой человек за кулисами истинный «начальник» закулисного мира Мариинки режиссер Г. П. Кондратьев. Великий Кондратьев не пропускает ни одной юбки, облагая каждую новую хористочку сексуальным налогом, но это пока не может оттолкнуть наших юных фанатиков от театра, хотя они все примечают… Впрочем, нельзя сказать, чтобы ничто в манерах и в характере Левушки не вызывало снисходительной усмешки, а иногда и раздражения у его просвещенных друзей или даже Шуры Бенуа. Ну, скажем, этот столь типичный для многих «нацменов», смехотворный «оттенок какого-то «патриотизма»: «Послушать его, так самые видные деятели науки, искусства и политики в прошлом были все евреями. Он не только (вполне по праву) гордился Спинозой, Дизраэли, Гейне, Мендельсоном, Мейербером, но заверял, что все художники, философы, государственные деятели были евреями, раз они носили библейские имена Якова, Исаака, Соломона, Самуила, Иосифа и т. д…» 54 Удивило Бенуа и признание Левушки, что он мечтает стать «самым знаменитым» художником (не просто хорошим, а именно знаменитым, и притом – самым). «Раздражала, смешила и злила» Бенуа и новых друзей также некоторая склонность Левушки к «увиливанию» нежелание сказать напрямоту всю правду (та самая особенность, которую Бенуа считал еврейской и которая часто смущает русских при общении с французами). Последние две черты и привели однажды к ссоре и разрыву (на счастье, недолгому) Александра Бенуа с Бакстом и Дягилевым, о чем мы расскажем позднее, а пока… Пока жизнь сулит молодому Баксту и его друзьям – новые успехи, новые странствия и любови… С 1891 г. Бакст, как и его друзья по петербургскому кружку, много путешествует по Европе и Северной Африке. Он переполнен впечатлениями, и при этом все – архитектура, пейзажи, музеи – «все заслоняется картинами и картинами». Он возвращается в Петербург, потом снова уезжает в Париж и застревает там надолго. Влюбчивость Бакста вошла в пословицу среди его друзей, а в Париже он пережил бурное и мучительное увлечение одной из актрис французской труппы Михайловского театра госпожой Ж. Бенуа описывает этот роман с состраданием к другу: «Роман с госпожой Ж… тем сильнее захватил Левушку, что он попал в цепкие руки этой Цирцеи, будучи еще новичком в любовных делах и не имея в них большого опыта». Бенуа весьма трогательно рассказывает про то, что «целомудренный, стыдливый, как девственница, Левушка, красневший от малейшей сальности» в том же Париже 26 лет от роду «благодаря профессиональным гетерам… впервые познал прелесть «бесстыжей Афродиты», о чем рассказывал «первое время… не без печали, скорбя о потере своей невинности…» Что же касается актрисы г-жи Ж., то она, по утверждению Бенуа, «постаралась Левушку «просветить» и «испортить» по всем статьям. Кроме того, она связала его крепчайшими узами ревности и целой системой «периодических разрывов», за которыми следовали самые пламенные примирения. Бедный Левушка за три года прошел через все круги эротического ада… после идиллий, в которых талантливая сорокалетняя артистка с мастерством разыгрывала роль невинной Хлои, она превращалась в неукротимую менаду и в подкупную гетеру. Левушку швыряло и мотало, как тонущего в разбушевавшемся море. Было с чего потерять голову, запутаться в компромиссах…» (Читатель уже догадался, наверно, что не ради подробностей о первом серьезном романе Бакста автор задержал вас на этой истории, а ради биографической прозы его друга-мирискусника Бенуа…) В Париже Бакст не только занимается любовью, но и продолжает совершенствовать рисунок в парижской студии Жерома, занимается живописью в студии Жюлиана, занимается с финским художником Эдельфельтом, а до 1900 г. еще и выполняет престижный петербургский заказ – картину «Встреча адмирала Авелана в Париже». 55 По возвращении в Петербург Бакст написал новые интересные портреты, в которых, как и во многом, что делали члены сенакля, ощутимо влияние Сомова. Портреты интересные, и все же Александр Бенуа (который сам тоже не скоро добился успеха) еще и в 1901 году считал, что Бакст пока не стал «выясненным»: «Он начал с нелепых анекдотов в стиле Владимира Маковского, увлекся затем Фортуни и несколько лет блистал на акварельных выставках своими жеманными головками, перешел затем к более серьезным задачам… после того ударился в подражание шотландцам и современным французам, надавал в этом роде несколько хороших пейзажей и портретов и вдруг за последнее время обратился к «старикам», к культу форм великих мастеров прошлого. Какое метание, какой извилистый, далекий путь! Все это делалось вполне искренне, убежденно, с горячим увлечением, но бестолково и непоследовательно. У Бакста золотые руки, удивительная техническая способность, много вкуса, пламенный энтузиазм к искусству, но он не знает, что ему делать». Думается, Бенуа в своем нетерпении и стремлении к своему и Левушкиному совершенству забыл о его собственном портрете, написанном Бакстом, о бакстовском портрете Нувеля, об упорном увлечении Бакста Древней Грецией и Востоком. Однако в принципе Бенуа был прав: он ждал от талантливого Бакста большего успеха, но этот успех был уже на подходе. 1901-м г. датирован замечательный бакстовский портрет Зинаиды Гиппиус и портрет В. Розанова… Редактор «Аполлона» Сергей Маковский так писал в своем журнале о первом из этих бакстовских портретов: «Великолепен и дерзко-выразителен… его рисунок, изображающий гжу Гиппиус в мужском костюме». Как отмечает один современный искусствовед, не только костюм, но и надменная поза, и надменное выражение лица знаменитой символистки бросали вызов морали и вкусам тех, кто не принадлежал к числу избранных. «Образ Зинаиды Гиппиус, - пишет об этом портрете С. Голынец, - можно сказать, провоцировал пластику модерна, сказавшуюся в портрете Бакста в некоторой утрировке пропорций удлиненной фигуры, в заострении рисунка, в сочетании объемной проработки модели с отвлеченностью белого фона…», ибо «не только творчество поэтессы-символистки, но и сама она, ее оригинальная красота, причудливые наряды и экстравагантная манера поведения воплощали вкусы своего времени и были связаны с модерном». Искусствовед отмечает, что тот же стиль ощутим и в картине «Ужин» (1902 г.), одной из самых популярных картин Бакста. Об этой «Даме с апельсинами» (как ее называли иронически), о ее «кошачьей» фигуре с яростью писал Стасов и с удивленным восхищением В. Розанов. А между тем, позировала Баксту для этой картины скромная и милая Атя (Анна Карловна Бенуа-Кинд), невеста Шуры Бенуа (Бенуа женился на ней уже в 1894 г. и очень скоро обзавелся детьми). 56 Среди портретов того времени были портрет невесты самого Бакста Любови Гриценко, дочери П. М. Третьякова, носившей фамилию своего первого муха, художника Н. Н. Гриценко. В тогдашней переписке мирискусников немало упоминаний об этом новом увлечении влюбчивого Бакста. В 1903 г. Бакст женился на Любови Павловне Гриценко. Для этого ему пришлось перейти в лютеранство… В 1904 г. Бакст начинает писать портрет С. Дягилева (который он закончил два года спустя и который вдохновил Серова на его собственный знаменитый портрет Дягилева). Бакст рассказывает в письмах жене о своей работе и тогдашних встречах с Серовым. «Сегодня весь день был с Серовым, завтракал с ним вдвоем у Дягилева, очень нежен со мною – до болезни меня все звал Левой, теперь – Левушкой, что, однако, не помешало ему нарисовать карикатуру на меня сегодня в блузе, работающего Сережин портрет. Серов разохотился и тоже хочет осенью писать Сережу… Сережа все ноет, чтобы его сделать тоньше, да спасибо Диме – он наорал на него, и тот осекся… Серов не утерпел – посмотрел пока без меня портрет Сережи – ему очень нравится. Ура!!!» Искусствоведы не раз писали о неподвижности фигуры на этом портрете, о темном занавесе, на фоне которого «особенно выразительным кажется обращенное к зрителю чувственное, высокомерное лицо…» (С. Голынец). Иные из искусствоведов угадывают в этом лице, может, даже больше, чем мог разглядеть в ту пору охваченный энтузиазмом Бакст, ибо они знакомы с литературными портретами великого Дягилева, стоявшего тогда (как, впрочем, и сам Бакст) на пороге своей мировой славы. Так, Н. Лапшина, упоминающая о бакстовской «фигуре Дягилева, стоящего в фатовской позе, с руками в карманах, надменно вздернув голову с оригинальной белой прядью в темных волосах», приводит самые отчаянные из мемуарных описаний великого театрального деятеля: «Портрет Дягилева не только похож внешне, но и передает характерные черты внутреннего облика Дягилева. Напрашивается сравнение с блестящим литературным портретом Дягилева, данным Андреем Белым в «Начале века», который запечатлел первую встречу с Дягилевым на выставке «Мира искусства» в Москве в 1902 г.: «выделялась великолепнейшая с точки зрения красок и графики фигура Дягилева; я его по портрету узнал, по кокетливо взбитому коку волос с серебристою прядью на черной растительности и по розовому, нагло безусому, сдобному, как испеченная булка, лицу – очень «морде», готовой пленительно мыслиться и остывать в ледяной, оскорбительной позе виконта; закидами кока окидывать вас сверху вниз, как соринку. Дивился изыску я; помеси нахала с шармером, лакея с министром… Что за жилет, что за вязь и прокол изощренного галстука! Что за ослепительный, как алебастр, еще видный манжет!» Искусствовед предсказывает художнику грядущие беды и унижения в общении с его моделью (ах, хорошо быть дальновидными 70 лет спустя): 57 «С моделью этого портрета Баксту предстояло много лет совместной работы над постановками «русских балетов»… Уже упомянутый С. Голынец отмечает некую смягчающую деталь бакстовского портрета (наверняка придуманную не художником, а самим тонким психологом Дягилевым): «Интимную ноту в портрет художественного диктатора, имевшего столько соратников и ни одного настоящего друга, ни к кому глубоко не привязанного, вносит фигурка преданной питомцу старушки няни, изображенной слева от занавеса на фоне замыкающей композицию голубой стены». Когда вспоминаешь, как наблюдательный кн. С. Щербатов описывал свой визит в собрание мирискусников, невольно приходит в голову, что самое присутствие няни на этом ответственном деловом чаепитии и было, вероятно, рассчитано на внесение этой «интимной ноты»: «Чтобы познакомить нас с ними (кн. Щербатов и фон Мекк обещали «им» денежную поддержку и устройство выставки – Б. Н.), он пригласил нас на воскресный чай, когда собирались у него «все». Из огромной комнаты редакции все были званы к чаю в узкую длинную столовую… За самоваром сидела «русская няня» в повойнике типа няни Пушкина, придававшая особый стиль и вносившая «родную ноту». Бакстовскому портрету Дягилева (как и модели его) суждена была долгая слава: уже в 1906 г. портрет был выставлен в Париже и Берлине, еще через год – на всемирной выставке в Венеции и еще, и еще, а на выставках 1979 – 81 гг. в Москве и в Париже он занимал особое место… Наряду с портретной живописью Бакст был сильно увлечен в те первые годы века книжной графикой. Знаменитые стихотворные сборники, художественные издания и лучшие художественные журналы выходят тогда в бакстовском оформлении. Как утверждают искусствоведы (в частности, С. Голынец), Бакст был наиболее ярким представителем модерна среди мирискусников. Бакст делал для «Мира искусства» стилизованные заставки, буквицы, концовки, где не только отражен был весь ретроспективный набор мирискуснических идеалов (идущий еще от Сомова), но и воплощены были его собственные графические находки. Залы русской живописи в рамках Осеннего салона 1906 г. тоже оформлял Бакст. В первые годы нового века Бакст вплотную подошел и к той области, где ему суждено было достичь огромного успеха и стяжать мировую славу. Началось с того, что Бакст оформил спектакли «Еврипид» и «Эдип в Колоне» для Александринского театра и «Антигону» для Иды Рубинштейн. Эти его труды, а также декоративное панно «Элизиум» и занавес для театра В. Комиссаржевской были связаны с давним и неистовым увлечением Бакста эллинской культурой и вообще античностью, а также его неистовой тягой к востоку. Откуда она шла, эта тяга? Люди, глядящие очень глубоко, скажут, что она могла быть зовом крови. Жили же когда-то, в незапамятные времена, все эти Рабинович-Розентали-Бакстеры на Востоке, пусть даже на Ближнем 58 Востоке. Люди, знающие больше подробностей, подскажут, что увлечение это могло придти через романтиков, через Грецию, через Европу, наконец. Что влияние это могло быть переработанным, в том числе и творчески переработанным, хотя вот – побывал он уже и в Северной Африке, этот Бакст… Увлечение античностью одно время сближало Бакста с В. Розановым, теперь же, при новом своем общении с Валентином Серовым Бакст сумел заразить Серова своим энтузиазмом, и весной 1907 г. они вдвоем двинулись в Грецию. Много позднее (за год до смерти Бакста) в Берлине вышла книга его дорожных записок, названная «Серов и я в Греции», Подобно своим собратьям по «Миру искусства» (Александр Бенуа и Мстиславу Добужинскому), Бакст оказался «пишущим художником», и книгой его восхищались не только русские писатели (вроде Бунина и Гиппиус), но даже иные из грамотных иностранцев (скажем, кубинец Алехо Карпентьер, писавший, что у Бакста «за каждой фразой – кисть художника»). Легко догадаться, что уже первая встреча с долгожданным греческим берегом привела в восторг импульсивного петербургского мечтателя: «Бегу по палубе, задеваю за теплые, смолистые канаты, с волнением гляжу на незнакомый величественный остров – какая неожиданная Греция! Вереницы песчано-красноватых утесов перерезаны темно-желтыми горизонтальными линиями крепостей, где – издали игрушечные – крохотные солдатики маршируют колоннами. Выше рассыпанные стада пепельно-серых одинаковых рощ: еще выше – опять нагие утесы – дикие, классические, испещренные, как леопардова шкура, неправильными темно-коричневыми пятнами. Серебряное утреннее небо льет вокруг бодрый, слепящий свет, ласкает белые, чувственные купола турецких построек, больно припекает мне шею, сапоги, руки… Ветерок несет с берега притягательный пресный запах острова… Чем это пахнет? Нагретою зеленью, апельсинными цветами, нежным дымом!,,» Оба художника мысленно погружаются в толщи крито-микенский и античной цивилизации, в гомеровскую Грецию, собирают «как пчела мед, греческий материал», преодолевают «все прежние, еще петербургские представления о героической Элладе»… Не только следы истории волнуют здесь чувственного Бакста, не только «чувственные купола», но и живые греки, гречанки: «Какие головы стариков, какой разрез глаз, какие крепко кованые овалы гречанок, совсем Геты, Гебы… Девушки крупные, черноглазые, чуть смуглые, с маленькими круглыми головками в черных, туго повязанных на манер чалмы платочках, сидели, свесив ядреные, позолоченные солнцем ноги, голые до полных колен, - такого редкого совершенства, что даже слеза восторга ущипнула у носа…» В прозе Бакста, как и в его живописи, очевиден столь благодетельный (для искусства и для жизни) эротизм. Тогдашняя столичная жрица любви и «жизнетворчества», подруга Минского Людмила Вилькина (увы, в отличие 59 от тоже не слишком застенчивых Ахматовой, Радловой, Судейкиной, Стравинской или Цветаевой, она была почти обделена творческим талантом, но – подобно Палладе или Саломее – пыталась наверстать этот пробел, собирая у своих ног знаменитых мужчин, сраженных любовью к ней) сохранила для потомства пылкие признания Бакста. Вождь символистов Брюсов в 1902 г. , в начале любовных игр с Вилькиной-Минской сделал однажды забавную дневниковую запись (бережно хранимую в архиве – РГБ Ф. 386, ед. хр. 16): «Минская показывала мне письма Бакста, где он соблазнял ее. «Для художника не существует одежд, писал он, я мысленно вижу вас голой, любуюсь вашим телом, хочу его». Понятно, что Вилькина показывала всему свету эти лестные для нее письма, благодаря чему мы и смогли убедиться, что Бакст, подобно многим художникам, умел брать быка за рога, но в отличие от многих был гетеросексуален. «Было в жизни Бакста несколько периодов, окутанных эротической одержимостью, - вспоминал Бенуа, - и в эти периоды его рисунки бывали почти всегда посвящены прелести человеческого (преимущественно женского) тела… в годы, когда в нем исчезли и последние следы юношеской невинности, он охотно задерживался (в разговорах – Б. Н.) на разных «негодных для печати» подробностях, не опасаясь этим оскорбить стыдливость друзей. Разве только Серов иной раз с неудовольствием крякнет и пробурчит: «а все же нельзя ли поскромнее?» Возвращаясь к совместному с Серовым греческому путешествию Бакста, отметим, что пройдут два-три года и восторг путешественника, эта нега, это солнце, эти темно-коричневые пятна и синева неба прольются на зрительные залы, набитые парижанами и лондонцами… «Русские сезоны», которые называют «сезонами Дягилева», были уже на подходе. А пока, вдохновленный своими штудиями и путешествием, Бакст ратует за обращение к классицизму, к архаике (что было вполне в духе времени), к «искусству прекрасной линии». Свои идеи Бакст претворяет не только в новые портреты (вроде портрета Анны Павловой или Алексея Толстого), не только в манифесты и статьи (которые охотно печатал «Аполлон»), но и в свою преподавательскую деятельность: с 196 по 1910 гг. Бакст вел занятия живописью в школе Е. Н. Званцевой. Его класс называли иногда «школой Бакста». Рисунок там же вел М. Добужинский (и это была «школа Добужинского»). Школа Званцевой (или Званцовой) была очень популярна в Петербурге. В то же время Общество поощрения художеств открыло в столице свою собственную школу, и правивший в ней Н. Рерих пригласил преподавать другого мирискусника – Ивана Билибина. Позднее, Александром Бенуа и его друзьями была организована также Новая художественная мастерская, где преподавали Добужинский, Остроумова-Лебедева, Лансере и другие их единомышленники… Через эти школы прошли многие русские художники, и анналы хранят отзывы о тогдашней системе преподавания. Конечно, те ученики, что уже родились гениями, отзывались о своих учителях и школах вполне 60 пренебрежительно. Ну кого, к примеру мог помянуть добром выпускник витебского столярного ПТУ Шагал, и кто мог его чему-нибудь научить, ежели он был с детства гений. О Баксте он запомнил лишь то, что Бакст был рыжий, что он поздно вставал и что он раньше, чем он, Шагал, побывал в Париже. Зато ученики попроще и поплоще вспоминали о бакстовских уроках с большой симпатией. «Передать бакстовского остроумия нельзя… - вспоминал об уроках Бакста П. Андреев, - Иной раз замечания бьют больно, но всегда как-то поотечески добродушно. Каждая индивидуальность, проявленная в работе, судится по ее же законам. Все это толково и остроумно. Разбирается каждый тон и линия. Каждый получает совет согласно характеру своей работы». Высоко отозвался о «школе Бакста - Добужинского» и сам редактор «Аполлона» Сергей Маковский, приветствовавший в своем журнале «талантливое профессорство Бакста и Добужинского, сумевших внушить своим ученицам (кстати, одной из этих учениц была жена М. Волошина, талантливая Маргарита Сабашникова – Б. Н.) строгие основы школьной дисциплины, оградив их откаких бы то ни было подражаний своим собственным достижениям (обратное тому, что мы наблюдаем хотя бы в Академии)…» «Судя по… работам… - продолжал Маковский, - и Баксту и Добужинскому дорого в учениках чувство природы, далекое от всех условностей восприятие». Конечно, в преподавании и творчестве Бакст не всегда следовал своим высоким теориям, но теории у него все же были, и он охотно делился ими на страницах того же «Аполлона»: «Новый вкус идет к форме не использованной, примитивной: к тому пути, с которого всегда начинают большие школы – к стилю грубому, лапидарному». Студия Званцевой, в которой преподавал Бакст, размещалась на углу Таврической и Тверской, в том самом доме и как раз под той самой квартирой, где жил Вячеслав Иванов, то есть, под знаменитой Ивановской «Башней», самым прославленным из петербургских богемно-литературных салонов. И Бакст, и Добужинский, и многие из их учеников ходили в гости к Ивановым, бывали на их «средах», где регулярно появлялись и молодой Блок, и Кузмин, и Волошин, и Сологуб, и Ремизов, и Чулков, и многие из мирискусников. Об этих сборищах ходило в Петербурге немало страшных (или пикантных) легенд. Конечно, легенды были по большей части плодом сочинительства и воображения, но ведь и Добужинский мимоходом замечает, что Вячеслав Иванов «был столь «горним», что мог себя считать выше морали». Так или иначе, все первое десятилетие XX в. Бакст провел в гуще петербургской культурно-богемной жизни, но это десятилетие оказалось для него и последним в Петербурге. В 1907 г. у Бакста и Любови Павловны Гриценко родился сын Андрюша, и отец написал довольно смешной портрет годовалого сына. 61 Впрочем, даже если бы мы с вами никогда не видели печальных фигур мужа и жены, идущих в разные стороны на узорах бакстовской расписной вазы, мы могли бы догадаться, что долго идти вместе в обстановке этой богемной суеты было супругам нелегко, так что семейный кризис назрел еще до конца десятилетия. Талант Бакста-стилизатора, его интерес к истории цивилизации, одежды, движения не мог не привести его (как, впрочем и других мирискусников) к работе в театре. Естественным считал этот приход Бакста к театру и к модам Максимилиан Волошин, так описавший Бакста: «ученый, элегантный, многоликий, переимчивый … напоминает любезного археолога, который в зале «коллеж де Франс» перед великосветской аудиторией толкует тайны женского туалета древних вавилонянок и карфагенянок. Для него самым важным остаются человеческие позы, украшения и одежды…» Театральная судьба Бакста сложилась на редкость благополучно. После парижского успеха русских концертов Дягилев, махнул рукой на Петербург, где у него, впрочем, только что прошла блистательная выставка русского портрета, целиком отдается подготовке «Русских сезонов» в Париже. Бакст теперь тоже вынужден все чаще ездить в Париж. В школе у Званцевой он оставляет вместо себя молодого (тридцатилетнего) Бориса Анисфельда, уроженца бессарабского городка Бельцы. Позднее, когда Анисфельд начнет писать декорации для «парижских сезонов» по эскизам Бакста, Бенуа Головина и Рериха, свое место в школе Бакст и вовсе передает ровеснику Анисфельда Сергею Петрову-Водкину (который, как и положено гению, отзывался и о Баксте, и о Париже иронически-непочтительно). Кстати, Борис Анисфельд и сам становится со временем видным художником театра – на долгие двадцать лет. Для Русского балета Дягилева Анисфельд самостоятельно оформил балет «Подводное царство», для Мариинского театра – балет «Исламей», для антрепризы Фокина в Берлине и Стокгольме – балет «Египетские ночи», для антрепризы Нижинского в Лондоне – балеты «Видение розы» и «Сильфиды» и еще, и еще. В пору своей встречи с Бакстом Анисфельд, учившийся в Академии художеств у Репина и Кардовского, еще не имел звания художника (звание распорядилась дать ему в 1909 г. президент Академии художеств великая княгиня Мария Павловна). Дебютировал Анисфельд как самостоятельный сценограф еще в 1907 г., оформив в театре Комиссаржевской «восточный» спектакль для Мейерхольда. Это была «Свадьба Зобеиды» по пьесе Г. Гофмансталя, и три года спустя вся эта история о неверной султанше Зобеиде всплыла в нашумевшем балете дягилевского сезона – в «Шахеразаде». В ту пору Анисфельд уже писал декорации по эскизам Бакста, но нетрудно заметить, что в «Шахеризаде» Бакст шел по следам Анисфельда, и как осторожно отмечают искусствоведы, «Бакст и Анисфельд влияли друг на друга». Но что с того, что львиная доля успеха и лавров досталась Баксту? Наблюдательный Н. Лобанов-Ростовский отметил (три четверти века спустя), что Анисфельд был «романтик, оказавшийся под влиянием символистов и 62 интересовавшийся Востоком». Зато прожил романтик Анисфельд добрых 95 лет (чуть не на пять десятилетий пережив Бакста) и в конце жизни, как сообщает тот же Лобанов-Ростовский, «жил уединенно в хижине в «Скалистых горах» США». Сколько террас и ванных комнат было в хижине, коллекционер не уточняет. В эмиграцию Анисфельд двинулся с семьей еще летом 1917 г. – через Сибирь, Дальний Восток и Японию. В январе 1918 г. он уже добрался в НьюЙорк, устроил в Бруклинском музее большую выставку привезенных им работ, обошедшую потом два десятка американских городов, и сразу стал человеком известным. В течение десяти лет он работал в театре, делал декорации для Метрополитен Оперы, для труппы Мордкина, а в 1928 г. оставил театр, занимался живописью и добрых три десятка лет преподавал в художественном институте в Чикаго. Он выезжал со студентами на пленэр в штат Колорадо, продолжал писать пейзажи и символические картины еще и через пятьдесят лет после смерти Бакста. Ну а что же все-таки Бакст? Первая попытка театролюбивого «Мира искусства» и славолюбивого Дягилева завоевать петербургскую сцену кончилась, если помните, неудачей из-за конфликта кн. С. М. Волконского с весьма близкой к престолу балериной Кшесинской (увы, всего лишь по поводу фижм»). Баксту тогдашние петербургские опыты пригодились в будущем. Впрочем, они уже и в Петербурге были замечены критикой. В декорациях к «Ипполиту» и «Эдипу в Колоне» Бакст, как отмечал искусствовед, «показал тонкое проникновение в дух и стиль эпохи». Василий Розанов восклицал по этому поводу: «Бакст – истинная Рашель декоративного искусства». Еще большее внимание привлекли декорации и костюмы Бакста к спектаклю «Фея кукол» Мариинского театра, где заняты были Кшесинская, Преображенская, А Павлова, Трефилова, С. Легат, Фокин… Отметив, что сам балет и его музыка были «верхом безвкусия и тривиальности», обозреватель «Мира искусства» высоко оценил тогда работу Бакста: «К счастью, эта постановка дала возможность художнику Баксту создать удивительную иллюстрацию наших пятидесятых годов (кстати сказать, эта эпоха всегда волновала «ретроспективных мечтателей»мирискусников – Б. Н.), и надо по справедливости сказать, что вероятным успехом своим этот балет будет всецело обязан талантливому труду художника, сумевшего своим искусством облагородить данную ему бездарную и пошлую тему. Обе декорации прелестны… Но особенно хороши костюмы, в которых художник так тонко воспользовался модами second empire… Жаль только, что весь этот труд потрачен на такой ничтожный сюжет». Тогда же отмечены были критикой и костюмы, сделанные Бакстом для танцевальных номеров Анны Павловой и Иды Рубинштейн (для «Умирающего лебедя» и «Танца семи покрывал»). 63 В общем, петербургские работы Бакста в театре имели успех, но даже этот успех никого не мог подготовить – ни русскую публику, ни самого художника – к тому триумфу, который ждал его в Париже… «Успех? Триумф? – надменно пожимал тогда плечами Дягилев, - эти слова ничего не говорят и не передают того энтузиазма, того священного огня и священного бреда, который охватил всю зрительную залу». И «священный бред», охвативший зрительный зал, и подлинный триумф, который не всякому художнику выпадает в театре за целую жизнь – все это выпало на долю уроженца Гродно Льва Бакста 2 июня 1909 г. на представлении второй программы Первого сезона, еще точнее, на представлении балета «Клеопатра» на сцене отремонтированного и подновленного по случаю русских гастролей парижского театра «Шатле». В сущности, «Клеопатра» была переделанными «Египетскими ночами» - с довольно слабеньким сюжетом и собранной с миру по нитке музыкой, но когда могучие черные рабы внесли на носилках ученицу Фокина Иду Рубинштейн, впервые явившуюся в тот вечер перед парижской публикой, по залу пронесся вздох восхищения… «Все прямо так и ахнули, когда она вошла», - пел лет семьдесят спустя в том же Париже мой учитель по киношному семинару А. А. Галич. Когда я видел его в последний раз, Париж был почти тот же, но никто не охал, да и войти с такой помпой давно уже было некому: «Несравненная Ида» покоилась на деревенском кладбище в Вансе, Дягилев – на венецианском острове Сан-Микеле, а сам Бакст в Париже на Батньоле, кто где… Но тогда, 2 июня 1909 г. в обмиравшем от «священного огня» парижском зале шесть черных рабов так бережно поставили на сцене носилки, а слева и справа от них возвышались огромные фигуры каменных фараонов, и в глубине, за колоннами портика, синели воды бакстовского Нила… «На этом странном, действительно южном, горячем и душном фоне, восхищенно писал Александр Бенуа, - так богато загорались пурпуры костюмов, блистало золото, чернели плетеные парики, так грозно надвигались замкнутые как гроб и как саркофаг, испещренные письменами носилки Клеопатры». В центре Парижа повеяло Востоком… Конечно, Востоком увлекались уже много десятилетий и писатели, и художники Европы (и Гоген, и Матисс, и многие другие до них) – ориентализм был в моде. Но на театральной сцене такого Востока парижанам еще не доводилось видеть. Да и вообще им еще не доводилось видеть таких декораций. Декорации и костюмы давно перешли на Западе в руки второразрядных подельщиков, а тут работали настоящие художники, притом фанатики театра, отдававшие себя театру… И Париж очень скоро узнал имена этих художников, в первую очередь это короткое, как выстрел, имя – Бакст. «Париж был подлинно пьян Бакстом» - писал позднее русский парижанин, известный критик Андрей Левинсон. Во втором сезоне русского балета большое впечатление на парижскую публику произвели бакстовские декорации и костюмы для одноактного 64 балета «Шахеразада» (на музыку Римского-Корсакова), в которых, по наблюдению искусствоведа, «необычайной, волнующей силой наполнено столкновение открытых цветов, сочетаемое с тонкой нюансировкой внутри каждого из них». При этом, как отмечает тот же искусствовед (С. Голынец), «эмоциональная окраска цветовых ритмов, движущаяся живопись (а ее искусствовед и считает главным завоеванием Бакста-сценографа – Б. Н.) соответствовали картинности музыкального языка». Об этой «движущейся живописи», о своей живописной музыке сам Бакст говорил так: «в каждом цвете существуют оттенки, выражающие иногда искренность и целомудрие, иногда чувственность и даже зверство, иногда гордость, иногда отчаяние. Это может быть… передано публике… Именно это я пытался сделать в «Шахеразаде». На печальный зеленый я кладу синий, полный отчаяния… Есть красные тона торжественные и красные, которые убивают… Художник, умеющий извлекать пользу из этих свойств, подобен дирижеру, который может взмахом своей палочки… безошибочно извлечь тысячу звуков». Иные из русских собратьев-художников, пораженных успехом Бакста, говорили, что Бакст попросту показал парижанам восточные узоры и восточные ткани, срисовал что-то с альбомов… Искусствоведы объясняют, что тут все было не так просто, что интерес и страсть к Востоку сочетались у художника со знанием западной живописи, что и «шелка» гаремов и арабески на сцене были собственные, бакстовские: «В причудливые орнаменты сплелись мотивы арабских миниатюр, рисунков на майоликовых плитках, каллиграфических надписей, силуэты восточных дворцов и мечетей. Никакой знаток искусства Востока не обнаружит в декорации подлинной символики исламских орнаментов. Но имитируется она столь искусно, что при помощи всего лишь нескольких орнаментальных мотивов художник добился в декорациях фантастического разнообразия». (В. Белоцерковская) В декорациях и костюмах Бакста предстали перед восхищенными зрителями европейских столиц и Кавказ, и Древняя Иудея, и Индия… Столь характерная для Бакста восточная тема в театре была не единственной, где он продемонстрировал блеск таланта и мастерство. Из времен петербургского сенакля принес он в «Русские сезоны» и свою преданность греческой архаике, и нежность к европейскому XIX в. Выдающимся успехом было его оформление «Призрака розы», «Карнавала», «Нарцисса». С 1909 до 1914 г. он создал костюмы и декорации для двух десятков спектаклей, поставленных дягилевской труппой и собственной труппой Иды Рубинштейн. Как дружно утверждают искусствоведы, Бакст «поразил Париж утонченной эротикой и пряной роскошью Востока, геометризмом греческой архаики и невиданными колористическими пристрастиями. На его палитре синий соседствовал с зеленым, красный с фиолетовым, розовый с желтым. Эти сочетания были прямым вызовом «хорошему вкусу», воспитанному на 65 жемчужных переливах бежево-розовых цветов. Палитра Бакста вскружила голову Европе…» Наряду с Бакстом у Дягилева работали и другие замечательные художники-декораторы (вроде Головина и Рериха), однако Бакст оказался непревзойденным мастером театрального костюма. Преобразования, которые внесли русские художники в театральный костюм, совпали по времени с переменами в повседневной и праздничной одежде зрителей. И случилось так, что русские художники (в первую очередь Бакст, всегда проявлявший огромный интерес и чуткость к костюму) стали задавать тон моде в мировой столице моды – в Париже. Ибо по наблюдению большого знатока довоенного Парижа Максимилиана Волошина, Бакст сумел «ухватить тот неуловимый нерв Парижа, который правит модой». Сумел ухватить, потому что и сам всегда был неравнодушен к женской моде (вспомним силуэт и платье «дамы с апельсинами» в бакстовском «Ужине», мужскую одежду и позу бакстовской З. Гиппиус), в чем не раз признавался устно и письменно: «Современная парижская мода – законченный великолепный цветной аккорд – яркий фантастический цветок, ядовитое обольстительное растение… Суровый расцвет второй половины XX в. явит нам новый облик подруги наших дней…» Что означал этот прогноз, что пророчил «подругам», да и друзьям чувствительный художник на пороге Великой войны и жестокого века? Неужто провидел он стеганые телогрейки, «маечки-футболочки», коричневые униформы ягодовцев, маленковские и маоцзедуновские френчи, гимнастерки будущих комсомольцев и парней из гитлерюгенда? Не знаю. Пока что Париж расцветал «восточной» модой «русских балетов». И как отметил историк русской моды А. Васильев, во время второго дягилевского сезона и «второй… осады Парижа русскими артистами модный пир уступил натиску восточной экзотики Фокина и Бакста». Знаменитые парижские модельеры, вроде Пуаре, Пакена, Варта и Куртизье стали создавать модели, навеянные театральными костюмами Бакста. Недаром русская мода для парижан ассоциировалась с восточной (да и вообще, какое утонченное надо иметь образование парижанину, чтобы отличить кавказского джигита от вологодского крестьянина?) Иные парижские модельеры (вроде короля моды Пуаре), не стерпев этого национального унижения, пытались доказывать, что они и раньше, что они и до Бакста … Но историки моды (вроде нашего А. Васильева) напоминают, что раньше было не то: «Европейская мода 1909 г. находилась во власти неоклассического стиля. В силуэте с завышенной талией господствовали прямые линии…» Кстати А.Васильев предостерегает от недооценки влияния на формирование парижской моды не только бакстовской «Шахерезады», но и бакстовско-фокинского «Карнавала»: «А ведь костюмы к этому балету уже предвещали женскую моду периода Первой мировой войны. В эскизах, созданных Львом Бакстом, появился силуэт, модный в 1915 – 1916 гг.». 66 Что касается «Шахеразады, то на ее долю, по мнению того же А. Васильева, выпала всеми признаваемая роль в области моды: «предвосхитить многие художественные формы, ставшие составными частями… нового художественного стиля арт деко. «Шахеразада» показала изощренному европейскому зритель бакстовскую версию персидско-оттоманских костюмов и интерьера… эта постановка, кровавый и эротичный сюжет, которой был также выдуман Бакстом, стала на долгие годы символом русского балета за границей… Полупрозрачные шаровары гаремных одалисок, цветастые одеяния евнухов, тюрбаны султана Ширира и его любимой, но неверной Зобеиды, драпировки восточных дворцов и парчовые подушки, абажуры, эгреты и нити жемчуга поразили воображение публики. Свойственное Парижу желание обладать лишь новым и невиданным взяло верх, и восточно-экзотическое поветрие увлекло создателей парижской моды и интерьеров». До России долетали слухи о фантастической популярности Бакста. Корреспондент журнала «Столица и усадьба» писал: «сейчас Бакст – один из наиболее популярных художников, спрос на него громадный. Рассказывают, что с восьми часов утра к нему трезвонят беспрестанно по телефону поклонники, интервьюеры дежурят часами у его дверей…» Итак, пришла та самая долгожданная и коварная знаменитость, о которой мечтал Левушка. За нее иногда приходится платить дорогой ценой. Увлеченный своим несказанным успехом Бакст, вероятно, успел сделать в этой суете и некую уступку своему честолюбию. Бенуа назвал в мемуарах этот поступок «удивительной провинностью», ибо речь идет, по его выражению, о «присвоении чужой собственности». На афише знаменитой «Шахеразады» (в шумном 1910 г.) было указано, что автором балета (наряду, конечно, с Римским-Корсаковым, сочинившим музыку) является Леон Бакст. Такую «описку» сделать было тем легче, что Бенуа находился в это время в Петербурге. Скандал разгорелся очень скоро, но не вышел за рамки узкого круга труппы. В своих мемуарах Бенуа с горечью пишет, что друг его «присвоил себе авторство того балета, который носит название «Шахарезада» и который был целиком, от начала до конца, сочинен и во всех подробностях разработан мной – в качестве драматического толкования музыки Римского-Корсакова». Не трудно догадаться, что подмена имен на афише была сделана не только с разрешения Дягилева, но и сего подсказки. Ему, как «художественному диктатору» вполне удобно было поссорить двух слишком инициативных лидеров его труппы (напомню, что по наблюдению кн. Щербатова, да и многих других, Дягилев «не терпел никого и ничего, что могло… с ним конкурировать»). Собственно, к такому выводу пришел и сам Бенуа, который пишет в мемуарах со всей возможной осторожностью: «Осталось не вполне выясненным (мне было тошно в свое время копаться во всей этой гадкой чепухе), не является ли в данном случае настоящим подстрекателем Сережа, который и вообще не отличался примерной деликатностью и даже тем, что 67 можно бы назвать твердостью в своих моральных принципах… Во всяком случае провинность Бакса свелась бы к тому, что он по слабости согласился на предложенную Дягилевым комбинацию: il laissè faire. Приняв же обычную свою позицию безаппеляционного вершителя судеб, Сергей воспользовался тем, что я по болезни в нужный момент отсутствовал из Парижа, и сделал Баксту своего рода подарок – ему, Дягилеву, ничего не стоивший». Можно попытаться понять (понять, а не простить) Бакста. Он, как и Бенуа, не ограничивался решением задач чисто художнических, он вложил в спектакль все свое умение, весь талант, он придумывал, подсказывал постановщику, он вел постановку… Но либретто он, скорей всего, не сочинял, так что вопрос об «авторстве»… В жизни любого сочинителя есть два-три-пять случаев, когда он был обидно обкраден. Помнится, вышла в Москве (без моего ведома) книжка моих переводов, где на титуле числился переводчиком какой-то Игорь Грачов. Шел на московском телевиденье фильм, где бедолага Э. Рязанов пересказывал в первом лице историю из моего сценария, украденного для него Р. Лесневской. Но что такое книжка переводов или жалкий телесценарий в сравнении с «самым знаменитым» балетом на парижской сцене… Бакстом владела в момент решения мечта о знаменитости. «Быть знаменитым некрасиво…», - сказал сын его собрата по художеству Леона Пастернака. И потом это знаменитое «увиливание» (столь нормальное среди французов). У Бакста не было твердости для честного «нет», и Дягилев знал, что ее не найдется. Дягилев всех их знал (или ему так казалось). У меня было по меньшей мере три приятеля-гея, притязавших на некое ироническое превосходство над человечеством. Грошовая ирония, грошовое превосходство… Дягилев, кстати, обладал всеми чертами великого «руководителя искусств» - он был шармер, умница, предатель и циник. Он завещал и эти свои уроки гениям режиссуры и бизнеса. Я не раз наблюдал кинорежиссеров, уговаривающих актеров или еще кого ни то перед началом съемок. Соблазнители были скромны, любящи, неотразимы, готовы были встать на колени. Но они больше не узнавали своего любимца, отсняв последний дубль. Увидев это впервые в молодости (мне довелось переводить на съемочной площадке все переговоры между «великим Бондарчуком» и всего лишь «знаменитым» Кристофером Пламмером), я был уязвлен. Читая нынче о дягилевских пируэтах, я ничему не удивляюсь… Бенуа не вынес в 1910 г. сор из избы. Он просто написал Дягилеву письмо о разрыве их отношений, но Дягилев ответил соблазнительным предложением поработать над балетом «Петрушка», и Бенуа «сменил гнев на милость и вернулся на дружеское лоно»». И он был прав – «Петрушка» стал его шедевром. Ну, а неверного Левушку Бакста Шура Бенуа почти простил: «Лично с Левушкой примирение (без каких-либо объяснений) произошло затем в Петербурге весной 1912 г., куда он приехал на короткую побывку. Тут произошел крайне прискорбный и позорный для русских 68 порядков казус. Бакста административным образом в двадцать четыре часа выслали из пределов России. Что было причиной, заставившей царскую полицию прибегнуть к такой мере, так и осталось невыясненным. Возможно, причиной было то, что Левушка, перешедший в 1902 г. в христианство, дабы получить возможность соединиться браком с любимой женщиной, поспешил после развода с ней вернуться к религии своих отцов. Во всяком случае, мера была принята внезапно, причины ее не объявлены, а все хлопоты об ее отмене (причем в хлопотах участвовали сама в. к. Мария Павловна) остались тщетными. Бакст был принужден удалиться, причем он дал себе клятву никогда больше в Россию не возвращаться…» Как видите, европейская знаменитость не принесла художнику безоблачного счастья. Его семилетний союз с дочерью Третьякова Любовью Павловной и с лютеранской религией решительно не удался. В 1910 г. Бакст разошелся с Любовью Павловной и, как верно отметил Бенуа, вернулся в иудаизм. Это отчего-то не понравилось русским черносотенным газетам (о чем Бенуа не упоминает) и полицейским властям, которые вспомнили, что в сущности этот Бакст – еврей (но истинные причины не были объявлены, а они могли быть самые фантастические). Так что, в 1912 г. прославленный русский художник и вице-президент жюри Общества декоративных искусств Франции получил предписание покинуть Петербург, ибо ему полагалось отныне жить в черте оседлости. Подав прошение на Высочайшее имя о предоставлении ему права на жительство в Петербурге, Бакст гордо удился в ссылку – правда, он решил ехать не в «черту оседлости», а в Париж. Он еще бывал иногда в Петербурге наездами (был даже и в 1914 г.), но весной 1914 г. Государь, несмотря на заступничество великой княгини, отказал Баксту в его просьбе о прописке. Может, Государь просто заупрямился, что с ним, как вспоминают, бывало часто, а может, он не считал Бакста, которого называли «королем русских сезонов», «национально-русским» художником. Возможно, что и «Русские сезоны» Государь не считал национальнорусскими. Что касается, к примеру, милого дилетанта князя С. Щербатова (тоже, как известно, кончившего свои дни не в России), то для него эта вынужденная парижская прописка Бакста (а может, также «тайна рождения» или вероисповедания) была самым веским доказательством недостаточной национально-русскости художника: «Впоследствии он стал не петербуржцем, а парижанином. Возвращаясь к термину «национализм», национально-русским его назвать невозможно, но колыбелью его все же был тот же «в окно смотрящий на Европу» «Мир искусства», с представителями которого он был связан дружбой и петербургскими переживаниями и воспоминаниями. В работах для сцены амплитуда колебаний его вдохновений захватывала и античный мир, и Восток, преображенный особым бакстовским стилем в изысканных рисунках». После 1914 г. Бакст в Россию действительно больше не приезжал, хотя в мае того же 1914 г. Академия художеств избрала его своим членом, что давало право на возвращение… Его сын Андрей и бывшая жена Бакста 69 смогли (по ходатайству И. Грабаря и А. Луначарского) выехать в 1921 г. в Италию. Бакст высылал им ежемесячное пособие, но вряд ли у него сложились добрые отношения с «разведенным» подростком Андрюшей. Такое удавалось не многим… Столь же печально кончились его отношения с тем, кого у них в петербургском кружке молодых гениев так ласково звали Сережей. Дягилев все стремительней отходит от старых друзей. В моде теперь новый авангард, а Дягилев всегда идет впереди моды и даже впереди авангарда. Этого требуют интересы выживания и бизнеса. Дягилев окружен французскими композиторами и художниками, и тон при его дворе задают изобретательный Пикассо и сверхизобретательный «принц педерастов» Жан Кокто. «Жан, удиви меня», - томно говорит Дягилев. И Кокто не заставляет себя ждать. Душа и «корабль Русских сезонов» Бакст продержался в дягилевской антрепризе дольше, чем другие, но и ему пришлось уходить. Дважды за эти годы Дягилев отвергал его готовые эскизы, а однажды, заказав ему оформление спектакля, тут же перезаказал еще кому-то. Что до «Лавки древностей», то Дягилев, в нарушение их договора с Бакстом, сплавил оформление Дерену. Нечего и говорить, что Дягилев не расплатился с Бакстом за работу… А потом подошел этот памятный день, когда они увиделись в знаменитом «Кафе де ля Пэ» близ Оперы. Дягилев с очаровательной улыбкой, как ни в чем ни бывало, протянул руку Баксту, но Бакст, без всякого «увиливания», не подал ему руки. Не многие позволяли себе такую дерзость. Бенуа не позволял. Об этом разрыве Бакста с Дягилевым так писал своих мемуарах Александр Бенуа: «За последние годы, и особенно после постановки в Лондоне «Спящей красавицы» в 1922 г. Левушка находился в открытой, непримиримой распре с Дягилевым, но думается мне, что на сей раз причина лежала в том, что Дягилев стал все круче изменять тому направлению, которое легло в основание всего дела русских спектаклей за границей. Новое направление, заключавшееся в том, чтоб во что бы то ни стало «эпатировать буржуа» и угнаться за последним словом модернизма, в высшей степени претило Баксту». На самом деле, Бакст ничего не имел против модернизма и против того, чтобы «эпатировать буржуа». В 1912 г. он создал костюм для Нижинского, исполнителя главной роли в балете «Послеполуденный сон фавна», поставленном самим Нижинским на музыку Дебюсси. Фокин был уже отстранен, Дягилев давал гениальному танцовщику и своему «фавориту» Нижинскому попробовать себя в постановке. Позднее, в своей книжке «Против течения…» Фокин (в целом невысоко ценивший эту постановку) дал высочайшую оценку эскизу Бакста, заявив, что такого «на сцене еще не было». На эскизе Бакста златокудрый, козлорогий юноша-фавн в извивах сине-зеленого шарфа, оставленного нимфой, тянется к грозди винограда. Восхищенные современники отмечали, что Бакст уловил натуру Нижинского – его мужественное сложение и женственную вкрадчивость жестов. 70 Умудренный театровед-балетоман С. М. Волконский писал тогда об этом образе: «На тонком перегибе, страшном, полном тайны, держит нас этот юный двуногий зверь… на опасном перегибе между человеком и животным…» Вторя Волконскому, искусствовед С. Голынец так писал об этом эскизе Бакста: «В цветовых потоках и линейных ритмах, словно в борющихся вилах природы, возникает фантастическое существо, пробужденное к человеческим чувствам». Бакст оформил еще у Дягилева балеты «Нарцисс», «Дафнис и Хлоя», «Синий бог», «Игры», «Веселые женщины»… Но уже с 1915 г. его малопомалу вытесняют в Русских сезонах Н. Гончарова, потом М. Ларионов, Серт, Пикассо, супруги Делоне, Дерен, Руо, Мтисс, Брак, М. Лоренсен, Деперо… «Спящая красавица», из-за которой и случился скандал, была последним спектаклем, оформленным Бакстом для Дягилева. Нельзя сказать, чтобы Бакст доживал свой недолгий парижский век в бедности или в безвестности. Он был членом Осеннего салона художников, членом французского Музыкального общества, членом Королевской академии в Брюсселе. В 1924 г. он получил орден Почетного легиона за свои заслуги перед Францией. Его модели одежды пользовались неизменным успехом, а это многого стоит. «Петербургский курьер» называл Бакста в ту пору «Пророком цветных париков» и восклицал возмущенно: «Можно ли представить Репина или другого истинного художника в виде галантного кавалера, изготовляющего фасоны дамского наряда по заказу портного?» По-другому смотрели на это в Европе и в Америке. Еще в 1916 г. «бакстомания» перебросилась за океан, в США. Галантный кавалер Бакст делал эскизы для знаменитой американки Алисы Гэррет и даже помогал ей в оформлении ее балтиморского дома. Бруклинская музыкальная школа заплатила Баксту огромный гонорар за лекцию. Выступление Бакста перед избранной (и небедной) публикой в бальной зале нью-йоркского отеля «Плаза» собрало полторы тысячи слушателей. Вдвое больше пришло послушать великого Бакста в Торонто. Подготовлена была выставка бакстовского дизайна для текстильных изделий. Успех, успех… И что бывает не часто – успех прижизненный, прочный, до конца дней… Еще чаще, чем в петербургские годы, Бакст теперь жаловался на недомогание. В 1920 г. он поселился на бульваре Мальзерб (в доме N 112). 54-летний художник не был совсем уж одинок. Вместе с ним поселилась его сестра Софья и ее четверо детей. Они ездили вместе с ним в Швейцарию, где Бакст лечился: у него не было высокое кровяное давление. В 1923 г. В Париже появился Шура Бенуа. Вот как он рассказывает о своей встрече с Бакстом: «… в 1923 г. я выбрался из Советской России в Париж. Бакст был до последней степени мил и нежен со мной и с моей женой. Будучи тогда на 71 зените своей славы, он даже оказал нам на первых порах некоторую материальную помощь. К крайнему нашему горю, уже в следующем году, в декабре милый Левушка, которого мы когда-то считали мнимым больным… после многих месяцев тяжелого недуга скончался». Бакст умер в конце 1924 г. Свою мастерскую на улице Лористон (дом N 16) он завещал сыну Андрею, а свои работы раздал племянницам. Продавая помаленьку его эскизы и картины, которые уже в ту пору высоко ценились, и благословляя память щедрого дяди Левы, они выжили и в довоенном, и в послевоенном Париже. Впрочем, не надо думать, что такое наследство не причиняло хлопот. Скажем, первый муж старшей из племянниц, Берты (его звали Жорж Разамат, и он приходился родственником первой жене Георгия Иванова), больше интересовался произведениями Бакста, чем женой. Даже когда они с Бертой разошлись, и она вышла замуж за добрейшего Николая Ивановича Цыпкевича, он продолжал так горячо интересоваться бакстовским наследием, что Берта решила избавиться от остатков своей немалой коллекции. Она отправила последние восемнадцать работ в подарок иерусалимскому музею, где они, возможно, хранятся и ныне… Сын Льва Бакста Андрей учился на художника в Италии. Похоронив там в 1928 г. матушку, он переехал в Париж и поселился в бывшей отцовской мастерской на улице Лористон, что в правобережном XVI округе, недалеко от площади Этуаль. В Париже Андрей Бакст дружил с Сомовым и многими другими художниками, впрочем, не только с художниками. В дневнике жены Бунина В. Н. Буниной я наткнулся на отрывок из письма 1940 г. Вера Николаевна писала подруге: «Не знаю до сих пор об Андрюше Бакст и очень тревожусь. Остальные, кто были на фронте, живы и здоровы». В прелестном средиземноморском Борме мне довелось видеть могилку (общую с семьей Оболенских) первой жены Андрея Бакста Анны Мас, которая в войну, в робкой Ницце (уже после того, как они расстались с Андреем), бесстрашно участвовала в Сопротивлении, спасала жизнь обреченным евреям и даже была позднее причислена к лику «праведников» (эти полномочия возложил на себя, за неимением других претендентов, иерусалимский институт Яд Вашем)… Уже вскоре после своего приезда в Париж двадцатилетний Андрей Бакст начал работать самостоятельно в кино и в театре – художником по декорациям. Иные из его макетов даже воспроизведены были в престижных французских журналах. Он был художником на таких фильмах, как «Милый друг» Луи Дакена (по Мопассану), «Ночные красавицы» Рене Клера, на знаменитом «Мишеле Строгове», на «Тиле Уленшпигеле» и еще, и еще… За несколько месяцев до своей смерти он, наконец, объединился с покойным отцом в Париже: открылась выставка, посвященная Льву Баксту, Андрею Баксту и Жоржу Ландрио. 72 В шестидесятые годы Андрей Бакст не раз приезжал на родину. Он передал Третьяковской галерее архив отца, а Русскому музею – картину Л. Бакста «Древний ужас» и альбом его греческих зарисовок… Великий, не великий… Прекрасный художник Костя Сомов Чуть не всякий искусствовед, дружественный или враждебный по отношению к «Миру искусства», говоря о недолгом процветании и долгомдолгом (как и многократно возвещенное умирание модерна) отцветании, излете, спаде, а также умирании этой группы и всего течения, непременно (воздав должное всем заслугам мирискусников в области пропаганды искусства, графики, книгоиздания и сценографии) горестно заключал, что в станковой живописи (той, что создается на мольберте – для вечности) у мирискусников, точнее, у первых, исконных мирискусников, у отцовоснователей группы, не было – или почти не было – достижений. Многие искусствоведы (от Радлова до Маковского) говорили об этом с деликатными оговорками, другие – погрубее, а иные, как скажем, художник-дилетант князь Щербатов, - напрямую: «До большой живописи с ее задачами «Мир искусства» не дотянулся никогда». Здесь, конечно, могла бы последовать серьезная дискуссия о «задачах большой живописи», но в нее нас с вами не втянуть на аркане. А вот об оговорках, которые делают более деликатные искусствоведы, я непременно напомню – в связи с новым героем нашего повествования: оговорки эти касались обычно Константина Сомова. Сомов был живописец милостью Божьей. Нет, мы не забыли, что старейший друг Сомова (и соперник тоже) А. Н. Бенуа, на правах друга и великого знатока искусства, ревниво предупреждал нас, что Костенька все же не был великим художником, но не станем, при всем своем почтении к Бенуа принимать подобные заявления на веру и спешить с выводами, ибо еще и семидесяти лет не прошло со дня смерти К. А. Сомова – время покажет. Да и мнение просвещеннейшего А. Бенуа нам тут не указ: при всей своей образованности промахнулся Бенуа и с Сезанном, и с Гогеном, и с импрессионистами, а уж со своим-то, который из Назарета, еще естественнее промахнуться. Но вот, скажем, чуткий Дягилев, по сообщению того же Бенуа, «из всех своих друзей-художников… возлагал именно на Сомова самые большие надежды», за ним постоянно «ухаживал». Да и вообще, в группе первых мирискусников Сомов был окружен всеобщим восхищением. Среди современников своих прослыл чародеем, о чем наши 73 нынешние искусствоведы с полным пониманием могут сообщить всякому, кому нынешний их искусствоведческий язык понятен и любезен: «Высоко ценимый современниками, отчасти как раз за попадание в нервный узел «коллективного бессознательного» художник и в представлении потомков выглядит «выразителем некоего общего томления – бытийной усталости, ощущаемой людьми переходной эпохи…» (Г. Ельшевская) Первым среди одноклассников, входивших в их группу самообразования, нащупав свой профессиональный путь в искусстве, Костя Сомов немало удивил и кружок школьных друзей и признанного их лидера Шуреньку Бенуа, который вспоминал чуть не полвека спустя: «Это тихий замкнутый мальчик… казался мне в течение трех лет, что мы пробыли вместе в одном классе, совсем неинтересным… Я был уверен, что Сомов года на два моложе меня, и был очень изумлен, когда выяснилось, что он на несколько месяцев старше. Совершенным ребячеством было и все его поведение в гимназии… особенно выражение его дружеских чувств к Диме Философову: непрерывные между ними перешептывания, смешки… Кстати сказать, эти «институтские» нежности между ним и Димой не имели в себе ничего милого и трогательного… Меньше всего я мог тогда подозревать, что Сомов станет когда-нибудь художником, и что его слава как бы затмит ту, которая мне иногда мерещилась в моей карьере». Сын известного историка искусств, Константин Сомов учился долго и упорно, совершенствовал и шлифовал свое мастерство, но даже и достигнув успехов, он продолжал жаловаться старому другу Шуреньке, «что его продолжает мучить сознание своей полной неспособности». Забегая вперед, скажем, что эти муки и эту неуверенность он испытывал и десять, и тридцать, и сорок лет спустя. Вот первое упоминание о них у Бенуа: «… даже тогда, когда его талант и мастерство стали очевидными широкому кругу ценителей, когда фантазии, возникавшие в его мозгу, одна за другой ложились во всем очаровании совершенно своеобразной красоты на бумагу или на холст, он сам продолжал считать, что ему «ничего не дается»… (Похоже, что тревоги о раннем «застое» в творчестве Сомова навеяли искусствоведам пуганых времен именно эти бесконечные (до самой смерти произносимые) жалобы неустанно растущего Сомова на неспособность сделать так, как он теперь «должен» и «хотел бы», - его художественная совестливость. Сомов первым среди друзей-пиквикианцев достиг успехов в искусстве, но хотя он был одним из основателей и столпов их сенакля будущих мирискусников, идейная борьба и теоретическое самоутверждение привлекали его совсем мало: он предпочитал оставаться в стороне от споров, ибо слишком был поглощен художественными задачами. После первых пяти лет учебы в Академии Сомов начал работать в мастерской Репина, и портрет матери, показанный им на осенней выставке учащихся Академии в 1895 г., по мнению искусствоведов, свидетельствует о 74 явном влиянии Репина, хотя (по их же мнению) не оправдывает восторгов его друга Бенуа, сообщавшего в Париж племяннику: «Костя написал прекрасный портрет своей матери. Я не ожидал от него такого мастерства». У Бенуа, как он сам признавался, очень рано возник «культ Сомова». Между тем, Сомов упорно совершенствуется в искусстве портрета, и всего каких-нибудь три-четыре года отделяет его от создания его портретного шедевра. Однако в эти же самые годы начинается (и обрывается только с его смертью, сорок лет спустя) новая, очень важная (и заметная) линия его творчества – капризницы-маркизы, пейзажи, фейерверки, галантные праздники, радуги, спящие барышни, красавицы минувших времен, «тинтинки» - все, что для любителя изящных искусств начала минувшего века да и в более поздние времена ассоциировалось с именем славного живописца Константина Сомова. И это справедливо: «ретроспективная мечтательность» мирискусников пошла от Сомова. Пожалуй, сперва были просто декоративные пейзажи и в них изредка – стаффажные фигурки, которые мало-помалу ожили и заняли центральное место. Сомова называли «гениальным ретроспективистом». Напомню, что в кружке петербургских «пиквикианцев», а позднее и в «Мире искусства» царили культ XVIII в. и пушкинских 30-х г. XIX в. Русские художники отнюдь не первыми обратили взгляд в «галантный век». Их кумиры, англичанин Одри Бердсли (Beardsley) и немец Адольф фон Менцель уже паслись на этом поле. В русском кружке тоже увлекались фантазиями Э-Т Гофмана и Теофиля Готье, «Опасными связями» Шодерло де Лакло, музыкой Баха, Моцарта, Глюка, Рамо, Генделя. Сомов признавался в письме Шуреньке Бенуа, что он в одиночестве с удовольствием «выколачивает на рояле какую-нибудь старинную чепуху или не чепуху»: «Это божественно красиво, и недостаток собственного исполнения я добавляю в воображении какими угодно декорациями…» Вот так, в поисках «божественной красоты» Сомов (первым из русских художников) и обратился к своим «декорациям» и своему живописному театру «галантного века». Сомов прославился своими пейзажами, в которых многие критики отмечали их явную «декоративность». Он, пожалуй, единственным из мирискусников почти не работал для настоящего театра, однако и пейзажи его (особенно высоко ценятся его ранние пейзажи), и построение картины, и расположение персонажей на них напоминали о рисованном заднике и построении театральной сцены. Современный искусствовед (Г. Ельшевская) пишет, что Сомов «чувствовал в самой жизни театральный привкус подмостки и котурны, смену масок и адресованность монологов. Притом чувствовал… двояко, театр был средоточием красоты и лжи, «нас возвышающий обман» легко оборачивался просто обманом». Так что, вряд ли можно говорить об идеализации «галантного века», сомовския ирония помогает ему выдерживать дистанцию… 75 Надо напомнить о том, что на своих картинах из жизни «галантного века» Сомов часто изображает театр, итальянские комедии, театр дель арте, Арлекинов и Коломбин. Современники считали весь набор сюжетов этой бесконечной серии сомовских картин чуть ли не монополией Сомова: уже в 1896 г. (в связи со своей версальской серией) Бенуа просил у Сомова прощения за вторжение в его угодья. Что ж это за угодья, что за набор и что они означают? Искусствоведы (и прежние, и новые) понаписали об этом немало. Приведу одно из самых недавних суждений (той же Г. Ельшевской): «Постоянные мотивы Сомова образуют устойчивый и компактный словарь: прогулки в парках и любовные забавы маркиз с петиметрами, арлекинады и итальянские комедии, инфернальные действа и купания… сны и театральные представления. Персонажи смотрят на фейерверк, на радугу и на костер, мраморные статуи в арках боскетов кажутся подчас более живыми, чем дамы в париках, - игра живого с искусственным и эфемерного с вечным сообщает внутреннюю вибрацию даже самым безмятежнокостюмированным постановкам: в первую очередь этой игрой Сомов попадает в коллизию стиля модерн, в характерную ситуацию переосмысления реальности и одновременной привязанности к ней». Признайтесь, не слабый текст. Но, может, даже убедительней, чем самая элегантная искусствоведческая проза, введут нас в галерею сомовских маркиз в робронах, лужаек, боскетов, радуг, фонтанов и арлекинов стихи близкого к сомовскому петербургскому кругу поэта, который писал совершенно о том же (да и «компактный словарь» у него тот же). Я имею в виду стихи из книги поэта Михаила Кузмина. Короче, я приглашаю вас на прогулку по воображаемой сомовской выставке с раскрытою книжечкой Кузмина в руке. Что белеет у фонтана В серой нежности тумана? Чей там шепот, чей там вздох? Сердца раны лишь обманы, Лишь на вечер те тюрбаны – И искусствен в гроте мох. Запах грядок прян и сладок, Арлекин на ласки падок, Коломбина не строга. Пусть минутны краски радуг, Милый, хрупкий мир загадок, Мне горит твоя дуга. … Мадригалы вам не лгали, Вечность клятвы не суля, И блаженно замирали 76 На высоком нежном la. …Вся надежда – край одежды Приподнимет ветерок, И склонив лукаво вежды, Вы покажете носок. Где разгадка тайной складки На роброне на груди? На воде прогулки сладки – Что-то ждет нас впереди? Маркиз гуляет с другом в цветнике. У каждого левкой в руке… …Ведут они интимный разговор, С улыбкой взор встречает взор. Цветной узор Пестрит жилетов нежные атласы. …Любовью Вы, мой друг, ослеплены, Но хрупки и минутны сны, Как дни весны, Как крылья бабочек с нарядной перепонкой. И т. д. и т. д. Характер неординарный сексуальности героев вполне очевиден, но как отметил один наблюдательный искусствовед (по поводу Сомова, а заодно и Кузмина), «искусственное» понижает градус страсти, чувства сводятся к флирту, к легкой фривольности и ленивой эротике…» Впрочем, продолжим нашу экскурсию… Но чьи там вздохи задушены? Кем их речи подслушаны? Кто там выходит из-за боскета? Кто подглядел и подслушал, мы увидим на картине, но чем продолжительней будет наша прогулка по галерее и страницам – тем больше обнаружится тайн. Это не только тайны встреч (Ну кто там выходит из боскета? Да маркиза выходит, будь ей неладно), но и тайны жизни, и это оказывается вполне серьезным. Для внятного ответа на сомовские вопросы не хватает ни собственных высокоумных догадок, ни новых стихотворных строк. То, что приходит в голову нынешнему посетителю, стоящему перед игривыми странными полотнами Сомова, было совершенно очевидно уже и современникам художника, Замороченным всеми видами тогдашнего символизма, - присутствие аллегорий и тайны. Магистр тайн, высокоученый 77 Вячеслав Иванов в своих терцинах, обращенных к Сомову, объяснял про сомовские огни и «фейерверки», что эти «недвижные созвездья знаком тайного возмездья выступают в синеве» А про сомовскую картину, где бедный Пьеро «буквально насилуем возбужденной партнершей», современный искусствовед пишет простой научной прозой, которая даст, пожалуй, сто очков вперед терцинам многоумного Иванова: «Расхожий антураж в его живописи теряет собственную расхожесть – немудреные загадки комедии дель арте дразнят отсветом какой-то настоящей тайны, в маскарадной «любви на час» обнаруживаются напряженнотрагические, а порой и зловещие обертоны… Фигурные постановки напоминают «живые картины» или игру в «замри», страдная бездвижность персонажей вдруг нарушается резким периферийным движением, усиливающим гротескность целого. Пространственные перепады – и нечто или некто прячется в зелени: «тень без лица и названья?» Это все из новой работы искусствоведа Г. Ельшевской, которая скромно названа «Короткой книгой о Сомове». В общем, что и говорить – всякие тайны у Кости Сомова были, и в них даже его близкий друг Шура Бенуа не всегда мог разобраться, а порой даже ревновал к мирному Косте мирную свою Атеньку. Впрочем, Шура считал, что только позднее, под влиянием Валечки Нувеля Сомов стал «искать Эрота вне области, подчиненной Афродите». Когда-то позднее, под каким-то чьимто влиянием… Но главная тайна, как вы, вероятно, поняли, она в другом – в том, как это все сделано Сомовым, как нарисовано, чем достигается? Этой тайны не разъять в наших кратких заметках. Что же до тайн попроще, то не смогу пренебречь редким признанием самого Сомова о женщинах: «Женщины на моих картинах томятся, выражение любви, на их лицах, грусть или похотливость – отражение меня самого, моей души… А их ломаные позы, нарочное их уродство - насмешка над самим собой и в то же время над противной моему естеству вечной женственностью. Это протест, досада, что я сам во многом такой, как они. Тряпки, перья – все это меня влечет и влекло не только как живописца (но тут сквозит и жалость к себе). Искусство, его произведения, любимые картины и статуи для меня чаще всего тесно связаны с полом и моей чувствительностью». Можно припомнить, что (как это часто бывает с гомосексуалистами) Сомов дружил с женщинами, они поверяли ему свои тайны. Это отмечал и его друг А. Бенуа: «он вообще обладал склонностью дружить с дамами, а дамы… льнули к нему, охотно делая его своим конфидентом». Оно и понятно: дамы полагались на него, не ожидая от него мужского подвоха… И все же – что за человек был всеобщий любимец «майского» сенакля, курносый и круглолицый, всегда безвозрастно моложавый Костенька Сомов? Его ведь было нелегко понять даже Шуреньке Бенуа, а уж чужие-то и вовсе 78 подозревали «худшее». Вот описание из книги не вполне доброжелательного художника-неудачника князя Сергея Щербатова: «Костя» Сомов с его круглым, бритым лицом вечного юноши (хотя юношеского в его природе ничего не было) был любимец в компании «Мира искусства». Он был гордостью и отчасти жертвой его. Его подлинное мастерство прославлялось по заслугам. Показывая какую-нибудь тончайше исполненную акварель-миниатюру… Сомов притворно скромничал, отлично зная себе цену…» Итак, по мнению князя, Сомов, изводивший себя сомнениями и ощущением недоступности совершенства, лишь притворялся… Не убеждает, Ваше сиятельство… Впрочем, сочтемся: Сомов платил той же недоброжелательностью богатым и внушительным князьям, объявившимся за кулисами искусства. Пусть даже и великим князьям, перед которыми лебезили его коллеги (ну лебезили, бедняги, такова была от века участь художника и поэта). Однажды, в пору революционных потрясений Сомов написал Шуре Бенуа, что он не скорбит об уходе великих князей – много ли от них было пользы искусству? А в пору своего московского успеха Сомов как-то записал в дневнике: «приходили противные аристократки Трубецкая, Ферзен, ОрловаДавыдова, глупое, пустое и бездарное общество, я злился во время их пребывания…» Конечно, только человек, столь далекий от политики, как художник Сомов, человек, озабоченный лишь проблемами искусства, мог не заметить, каким трагическим знаменьем была замена князей за кулисами искусств большевистскими матронами и агентами, вроде товарища Каменевой из Кремля или красинско-ленинского агента товарища М. Ф. Андреевой. Но Сомов ведь никогда и не суетился за кулисами, в отличие от Дягилева и других деятелей из их сенакля. И все же он, похоже, имел свое твердое мнение по многим немаловажным вопросам, и в этом смысле очень характерной представляется мне история, рассказанная Бенуа в его мемуарах под заголовком «Скандал с Бакстом». Эта история редакционного скандала может пролить свет на главных героев нашего рассказа – не только (и не столько) на Льва Бакста, но и на самого А. Бенуа, на С. Дягилева, на Д. Философова, и, конечно, на тишайшего Костю Сомова. Любопытны и второстепенные персонажи этой истории, все люди вполне известные – князь Сергей Михайлович Волконский, великий князь Сергей Михайлович, балерина Матильда Феликсовна Кшесинская, сам Государь Император… Костя Сомов на фоне скандала и «головки на лоскутках» В начале 1899 г. по воле государя на должность директора императорских театров пришел сравнительно молодой (ему тогда еще не было и тридцати, этому гению театроведения) князь Сергей Михайлович 79 Волконский, человек близкий к «Миру искусства». Он собирался, не спеша реформировать театры, а в «чиновники для особых поручений» (одним из «поручений» было издание «Ежегодника театров») князь взял себе Сергея Дягилева. Энергичный Дягилев, имея под рукой эрудита Бенуа и блестящего графика Бакста, выпустил вскорости том «Ежегодника театров», имевший, по воспоминанию Бенуа, «успех исключительный»: «этот труд не только укрепил его (Дягилева – Б. Н.) положение в дирекции и среди сослуживцев, но получил и одобрение самого государя, о чем поспешил уведомить Сергея Павловича князь Волконский… Николай II перелистал всю книгу страницу за страницей, то и дело выражая свое удовольствие». Но, избирая Дягилева себе в подчиненные и сообщая ему о первом успехе его деятельности, князь Волконский не учел ни неистовства его энергии, ни всего неистовства его тщеславия и карьеризма. Союзник и соратник Дягилева А. Бенуа с сожалением (и не без тревоги) наблюдал губительное воздействие этого успеха на их «Сережу», приведшее к карьерной «катастрофе»: «вынести» этот успех оказалось не по силам нашему другу. Успех вскружил ему голову и явился причиной… «катастрофы»… При всем своем уме, при всех своих талантах… Дягилев был совершенно по-ребячески тщеславен и честолюбив. Уже то, что он в качестве чиновника особых поручений имел право носить вицмундир с золотыми пуговицами и что он имел «свое» кресло в каждом из казенных театров, наполняло его спесью, которая так и лезла наружу. Тот величаво-рассеянный вид, с которым он «ноншалантной» (небрежной – Б. Н.) походкой проходил через партер к своему месту, едва отвечая на поклоны знакомых и друзей, в сильной степени способствовали тому, что весьма многие в Петербурге просто возненавидели его (отметим, что в Париже эта дягилевская игра в большого русского аристократа имела большой успех… Дягилев потерял и всякое правильное осознание своего положения. Ему стало казаться… что он может рассчитывать в самом ближайшем будущем на то, чтобы играть первейшую роль не только в тесной художественной среде, но и в «государственном масштабе». Льстило ему чрезвычайно и то, что с ним близко сошелся и почти подружился в. кн. Сергей Михайлович, и ему благоволила наша первая балерина М. Ф. Кшесинская (напомним, что ей с юных лет «благоволил» Государь – Б. Н.). Сережа то и дело навещал великого князя и Матильду Феликсовну (знакомившую его то с одним, то с другим из своих тогдашних в. кн. – Б. Н.), встречая в них не только каких-то своих единомышленников, но даже и заговорщиков, преследующих одну общую цель… Сергей уже сам начинает метить в директора… За этим этапом Дягилеву мерещилось и дальнейшее восхождение – сплошь до одного из «первых чинов Высочайшего двора»… К счастью, Боги не позволили осуществить эти грандиозные планы, но Дягилев уже стал дерзко вести себя с еще не подчиненным ему Волконским, так что он был попросту отчислен из штата князем, которого и самого чуть 80 позднее выжила из театров влиятельная Кшесинская. Однако именно в период этого парения Дягилева в высочайших сферах и в театральных кулисах случилось то, что Бенуа назвал в своих мемуарах «скандалом Бакста», а можно было бы назвать и «странным поступком Сомова». Дело в том, что у Левушки Бакста, по сообщению Бенуа, «был брат – Исай Розенберг, с виду неудачная копия своего старшего брата… такой же рыжеволосый, горбоносый, однако все то, что в наружности Левушки складывалось в нечто скорее привлекательной… то в Исайке превращалось в довольно отталкивающий тип неаппетитного, чтобы не сказать хуже, «жиденка». В общем, этот «неавантажный вариант» Левушки Бакста, некогда с опасением введенного Шуренькой Бенуа в их сенакль, был лишен всех признаков «благородства чувств» и стал в довершение всех бед бойким журналистом-репортером, постоянным сотрудником популярной «Петербургской газеты», добытчиком всяких тайн и сенсаций, на которые всегда были падки «читатели газет». А с тех пор, как Дягилев стал у Волконского «чиновником особых поручений», «разные интимные события, происходившие в императорских театрах, - продолжает свой рассказ Бенуа, - перестали быть для нас тайными и, естественно, что среди посвященных в театральные секреты были Бакст, который был жаден до всяких сплетен, особенно с тех пор, как закулисный мир стал ему близок благодаря его роману с артисткой Ж.». Все бы это сошло с рук Баксту, если бы он понимал, что нравы закулисного мира, в котором наряду с крепконогими хористками и гибкими премьершами активно вращаются мужские особы императорской крови, представляют собой важную государственную тайну. Это понимали замешанные отныне в кое-какие интриги Дягилев и Философов, да сам Бенуа это, как выясняется, понимал: «Все мы умели хранить поверенное нам под большим секретом, и уже, во всяком случае, мы воздерживались от распространения этих иногда и довольно пикантных тайн…» Но у худородного Левушки Бакста не только обнаружился интерес к этим тайнам, но и «не хватало выдержки от Исайки особенно интересные вещи скрывать». А неприятный Исайка был, как вы уже знаете, репортер… И вот однажды в благодушную атмосферу редакции, так близко подошедшей к источнику хотя бы и сексуальных, а все-таки государственных, тайн, вторглась беда. Снова предоставлю слово благодушному Бенуа: « В общем, жизнь редакции носила оттенок благодушный, с уклоном во что-то забавное, но как-то раз приключилось и нечто весьма неприятное, я бы даже сказал – «постыдное». А именно, Сережа с Димой вышвырнули Левушку Бакста за дверь – на лестницу! Так-таки: схватили, сволокли его, сопротивляющегося и негодующего, до входных дверей и вытолкнули на площадку, выбросив вслед и зимнее пальто, и шапку, и калоши». 81 А до этого акта «немилосердного изгнания» из опустевшей ночной редакции «дошло до настоящих и оскорбительных ругательств», среди которых почти ласковое «жиденок» было, вероятно, не самым сильным. Эта история могла бы, по мнению Бенуа, пройти «при всем своем уродстве… без заметных последствий». Уже через неделю жиденок Левушка сидел на своем месте и корпел. «Сережа и Дима засадили покладистого Левушку за довольно неблагодарные графические работы и главным образом за ретушь фотографий… Бакст рисовал и особенно нарядные надписи, заглавия, а то и виньетки (ставшие позднее предметом особого внимания историков искусства – Б. Н.). Левушка любил эту работу и исполнял ее с удивительным мастерством; к тому же он все еще нуждался в те дни, а работа эта давала ему небольшой, но довольно верный заработок». Здесь Бенуа признает попутно, что Баксту и другим искусникам платили «гроши», хотя, как он догадывается, более существенную «материальную пользу из сотрудничества в журнале извлекали себе и оба наших официальных редактора, Сережа и Дима, но это было дело тайное…» В общем, покладистый трепач Левушка, любивший свою работу, нуждавшийся в деньгах и гордившийся своей принадлежностью к ядру сенакля, проглотил пилюлю (конечно, «постыдную», но может, уже не первую), и атмосфера благодушия была, казалось, восстановлена «без заметных последствий». Однако тут случилось нечто, «показавшееся несколько странным, и для самого мемуариста Бенуа. Юный Костя Сомов был единственным, кто решил, что «постыдного», как бы дворянского, а на самом деле плебейского хамства и подобных оскорблений нельзя прощать никому… Бенуа и через много лет вспоминал об этой реакции Сомова с недоумением: «Он не только принял к сердцу обиду, нанесенную другу, но решил изза этого порвать с Сережей и с Димой, а решение свое безотлагательно привел в исполнение, послав по адресу Дягилева негодующее письмо, в котором он в очень резкой форме объявлял, что покидает «Мир искусства» и отныне вообще не желает продолжать знакомство с его редактором». В своих мемуарах Бенуа строит догадки по поводу поступка Сомова, но нисколько не удивляется поступку Дягилева. О дворянской спеси мелкопоместного Дягилева, которого знатный С. Щербатов снисходительно назвал «почти барин», Бенуа знал давно: ведь и его самого, и Нувеля, и прочих инородцев Дягилев и Философов называли «выходцами из немецкой слободы». Среди прочих догадок Бенуа высказывает и одну вполне естественную догадку, которая может нам кое-что раскрыть в Сомове: «Несомненно, на Костю, такого тихого, деликатного, особенно болезненно действовал весь «жанр» Дягилева, его заносчивость, его барские замашки. Все это до того не нравилось Сомову, что он при всей своей чуждости к аристократическим предрассудкам, все же считал Дягилева за своего рода выскочку (parvenu), тогда как он, Сомов, потомок татарских царевичей и принадлежащий к одному из стариннейших дворянских родов, 82 «записанных в VI Бархатную книгу», и не помышлял показывать свою подлинную принадлежность к благородному сословию». Письмо Сомова о разрыве, по сообщению Бенуа, Дягилева «бесконечно огорчило». По просьбе Дягилева Бенуа свел его снова с Сомовым, но Сомов, увидев Дягилева, лишь «едва-едва коснулся протянутой руки Дягилева и поспешил уйти». Дальше Бенуа дает растроганное описание «настоящих слез» Дягилева, которые Дягилев как настоящий актер мог всегда пролить без труда: «Сережа же после того действительно всплакнул настоящими слезами… Это выбытие одного из самых близких людей из нашей общей работы означало трещину, которая затем не переставала его огорчать». Начав выше разговор о дружбе Сомова с женщинами, мы не рассказали о главной его даме, точнее, о главной героине его живописи, главной его удаче «на женском направлении» (потом их будет много) – не рассказали о портретном шедевре Константина Сомова. Героине эту называют обычно «дама в голубом», но известны и ее настоящее имя, а также ее судьба, вполне, надо сказать, печальная. «Дама в голубом», которую Сомов писал в 1897 – 1900 гг., - это молодая художница Елизавета Мартынова. Она училась в Академии художеств, но прославилась она в живописи не своими картинами, а теми, для которых она служила моделью, и в первую очередь, конечно, картиной Сомова. Правда, в том же 1897 г. очень нарядный ее портрет написал ее соученик по академии талантливый Осип Браз, и в том же самом 1897 г. интересный ее портрет написал бывший инок Афонского монастыря, высокоталантливый Филипп Малявин. Однако, именно портрет Сомова стал знаменитой, или как выразился современный искусствовед, «манифестной для всего мирискуснического движения» картиной: именно благодаря ей модель Сомова Елизавета Мартынова стала «культовой героиней рубежа столетий». Более того, Игорь Грабарь дерзко предположил, что «даме в голубом», молодой Елизавете Мартыновой довелось стать «Мона Лизой, Джокондой современности». В те счастливые времена небитый Грабарь назвал Сомова «лучшим портретистом последних десятилетий», а ведь это были времена Серова… Что ж, - задорно восклицал Грабарь – «если он (Сомов – Б. Н.) не такой живописец, как Серов, то, во всяком случае, он не менее метко, а часто и более проникновенно, схватывает характер человека». На этой прославленной картине Сомова утонченная молодая художница предстает в синем муаровом платье по моде то ли 30-х, то ли 40-х гг. (эпоху эту любили все мирискусники). В руках у нее раскрытый томик стихов или прозы, в глазах тревога или даже страдание. Тревожное чувство, вызванное взглядом героини, усиливают несоответствие этого взгляда ее нарядному платью, пейзажу, фону, пространству. «В разрыве между ее фигурой и тем, что происходит на заднем плане, будучи полускрытой густой, но витиевато-узорной кроной дерева, - пишет современный искусствовед Ельшевская, - явлена метафора психологического 83 дискомфорта… тема поколения, безуспешно тоскующего о другой реальности, о красоте и легкости бытия, формулируется здесь наглядно и впрямую». Нечто похожее писала об этой знаменитой картине искусствовед Н. Лашина, нашедшая в картине как черты сходства, так и различия с картинами любимого мирискусниками немецкого художника Т. Гейне: «Беря аксессуары романтизма, изображая героиню «с печальной думою в очах, с французской книжкою в руках», Сомов наполняет ее образ такой современной рефлексией, таким «вопросом к жизни», что она становится до известной степени воплощением духовного разлада, не примиренных с действительностью поисков гармонии и красоты, столь характерных для русской интеллигенции той эпохи». Конечно, больше всего занимала искусствоведов разгадка того, «как это сделано». Я мог бы привести немало тонких научно-литературных наблюдений над старинной одеждой героини, над «старинствующей» живописной техникой с прозрачными лессировками», но боюсь, что только умножу этими нехитрыми наблюдениями и еще одной тайной («тайной творчества») количество неразрешенных загадок. К примеру, искусствовед Галина Ельшевская пишет по поводу этой картины, что «сущностным является исключение современного героя из условий чуждой ему игры. Он теперь только герой портрета, тогда как игра становится собственно игрой, театром марионеток, подвластных режиссерскому жесту. Словно бы задник «Дамы в голубом» разрастается до масштабов целостного картинного мира, и стаффажные до сей поры персонажи выходят на авансцену, представляя свой спектакль». В этой, как и в прочих своих картинах, Сомов пытается ощутить реальность ушедших времен и одновременно как бы насмехается над тщетными своими усилиями, что отмечал еще и Вячеслав Иванов в своих «сомовских» терцинах: «О, Сомов-чародей! Зачем с таким злорадством спешишь ты развенчать волшебную мечту и насмехаешься над собственным богатством?» Первая серия сомовских женских портретов, которую иногда называют «серией подруг», подразумевает «душевную и духовную общность» героинь и художника. Именно это, по мнению одного из искусствоведов, определяет живописный строй сомовских портретов: «Идеальным» сомовским героиням соответствует идеальность живописного строя: прозрачные лессировки, гладкая, светящаяся изнутри поверхность. Так писали в XVIII – начале XIX века; в возрождении этой тщательной манеры… как раз и содержался основной момент стилизации: сама живопись являла зримую отсылку в чаемое прошлое искусства, в тот образ «нездешнего», по которому томятся модели…» Упомянутая выше «тоска о другой реальности» отражена не только в этом знаменитом сомовском портрете голубой дамы, но и в других его «ретроспективных портретах» того времени (портреты А. К. Бенуа, Н. Обер, 84 А. Остроумовой) – отражена с помощью старинных предметов одежды, причесок, деталей… Репутацию Сомова как чародея, колдуна и провидца подтвердил в скором времени печальный уход его молодой героини-художницы, его «дамы в голубом» в царство теней (неодолимая в ту пору чахотка, почти в ту же пору унесла из жизни и другую славную модель Осипа Браза - Антона Чехова). «Так он же это предвидел, художник, это же он и написал», - говорили после смерти Мартыновой восхищенные поклонники Сомова. Графические портреты современников, видных людей литературы и искусства, написанные Сомовым в первое десятилетие XX в., только подтвердили эту репутацию Сомова-провидца. Сомов не только провидел смерть в живой плоти современников, но и сумел выразить это провидение, как выразилась одна его моделей (художница Анна Остроумова-Лебедева), «с какой-то до жути, до странности художественной искренностью». Как вы поняли из этого признания, Сомов не льстил своим героям, суля им светлое будущее. Новых этих «портретов поэтов и художников» было у Сомова несколько (Кузмин, Блок, Лансере, Нувель, Вяч. Иванов, Лукьянов, Добужинский). Моделям Сомова льстило волшебство мастера, оно же их и пугало. Это была странная и жутковатая галерея, о которой с восторгом писал тогда властитель художественных умов, друг Сомова А. Бенуа: «складывается «галерея Сомова, и эта с виду невзрачная коллекция «головок на лоскутках» будет говорить о нашем времени такие же полные и верные слова, как говорят рисунки Гольбейна о днях Генриха VIII, а пастели Латура о днях Пампадур». Даже если ни одни художественный портрет не может сказать «полных слов» о такой бесконечно сложной модели как человек, все же холодные, жуткие и «до странности искренние» портреты Сомова успели кое-что сказать о времени, о самом живописце, о его круге, о его стремлении к совершенству. Главную особенность этих портретов, конечно, отметили уже и современники. Один из героев этой «галереи» Михаил Кузмин увидел в них желание «разгадать тайну жизни и смерти, тления и бессмертия», разглядел «как из-за реальных черт видится костяк или труп». Степан Яремич увидел «желание заглянуть по ту сторону существования». Критик Дмитрий Курошев писал, что «в этом зачарованном сомовском мире… разлагается не плоть, а самый дух…» Сергей Маковский был, как положено журналисту, более многословен: «Сладострастной брезгливостью своего чувства смерти в жизни и – жизни в мертвом он напоминает волшебника, заклинанием сообщающего восковым куклам дыхание и трепет плоти». Искусствоведы не раз отмечали величайшую тщательность отношения Сомова к внешней фактуре, почти предметное, натюрмортное, неодушевленное, статическое восприятие им человеческой натуры, не принимавшее во внимание никаких категорий перемены. И при этом все 85 писали об оживающих мертвецах и призраках. Все писали о наваждении, о пугающем жизнеподобии, которое легко переходит в свою противоположность… Особенно много споров и противоречивых суждений вызвал портрет Александра Блока, бывшего уже в пору создания портрета королем и мифом Серебряного века, «трагическим тенором эпохи», в которого влюблено было целое поколение русских. Наверное, бывало и другое, чем на портрете Сомова, лицо у Блока, скажем, когда он любезничал с дамой, выходил из моря или улыбался, но и то «классическое мертвое лицо», которое написал Сомов и которое однажды разглядел Бунин – «восковая неподвижность лица» Блока, его «странная застылость» - говорили о могильной недвижности и каменной тяжести лица поэта, а Г. Чулков назвал портрет Сомова «умным истолкованием «могильного» в модели». Сам Блок поначалу положительно принял портрет и надписал его строками из своей «Клеопатры» («я сам, позорный и продажный, с кругами синими у глаз»). А ведь в ту пору Блок еще нередко чувствовал себя и иным тоже – «с буйным ветром в кудрях». Так что же – свалявшаяся шерсть волос («тусклые шерстяные волосы» Блока) – это было провиденье добросовестного и честного художника? Или Сомов сумел угадать то, что царило в душе его модели? Ведь Блок и сам писал, что в нем и в ему подобных «заложено чувство болезни, тревоги, катастрофы, разрыва: «мы выкричали душу». Позднее сомовский портрет начал пугать Блока, и тогда поэт написал: «Портрет Сомова мне не нравится. Сомов в этом портрете отметил черты, которые мне самому не нравятся». В конце концов, Блок приходит к мысли, что легче будет уйти от себя самого, зачеркнув роковые наблюдения художника. Он пишет: «Портрет Сомова нисколько не похож на меня». Столетие спустя русский искусствовед подвел итоги этой портретной истории: «Сомовская всегдашняя сосредоточенность на стабильном, на том, чему не дано измениться, а дано лишь быть или исчезнуть, в случаях с укорененными в данной культуре моделями… как бы получает дополнительные идеологические обоснования, отчужденность образов этой культуры, заранее осознающей свою перфектность, естественным путем обретает мемориальные оттенки». Стало быть, прав был Чулков, говоря не о случайном выборе характерной маски, а об «умном истолковании могильного». Случайно открылось (уже после смерти Блока), что «высокая фразеология» трагического тенора эпохи была и раньше (еще до статей Блока о революции, до «Скифов» и до «Двенадцати») не слишком приемлемой для Сомова, который признавался: «Блок глуп (я его и по стихам всегда считал глупым), вял, безвкусен и типичной русской культуры, т. е. полукультуры». Таким образом, не стремясь в своих портретах ни к какой концепции, Сомов (может, против своей воли) создает памятник уходящей эпохе. Его 86 «головки», как выразился о его портретах Бенуа, «будут говорить о … времени». То есть, как отмечает современный искусствовед, «ретроспективный пафос сомовских портретов парадоксально сочетается с одновременной футурологической направленностью: реквием по эпохе обещает ее грядущее археологическое открытие…» Нашему времени оказалась интересной эта «археология» взыскательных сомовских поисков… В 1910 – 1912 г. Сомов пишет новые портреты, которые немало озадачили таких его поклонников, как Грабарь, и ознаменовали новые поиски стиля и новое направление сомовских портретов. Ставший знаменитым портретистом Константин Сомов получает заказы из богатой Москвы и отправляется писать уже не питерских «подруг», а «московских красавиц» или даже «московских франтих». Как формулирует эту перемену современный искусствовед, «героини, тоскующие по музыке утраченного стиля, ушли в прошлое – зато открылась пора стилизованных портретов». Собственно, в стилизации не было для любого мирискусника ничего нового, и если видный советский искусствовед пишет в связи с новыми сомовскими портретами об «углублении кризиса», то позвольте это наблюдение отнести не к ощущениям художника или к его реальному упадку, а лишь к заданной схеме, которой нам позволено будет пренебречь. Итак, новые портреты, которые предстояло писать Сомову, - это были заказные портреты богатейших красавиц древней русской столицы, ставшей в ту предвоенную пору городом блистательных меценатов и замечательных художников, короче говоря, городом искусства. Это была воистину удивительная страница в жизни Москвы и России. Недалекие (в какомнибудь третьем поколении) потомки крепостных крестьян, дети неутомимых торговцев-стяжателей и промышленников (да еще, по большей части, суровых старообрядцев, которые и умирали с молитвою, на коленных, перед старинными иконостасами в своих новых дворцах) – потомки эти, получившие прекрасное заграничное воспитание, вырастали существами странными, нервными, непредсказуемыми. При этом они становились нередко фанатичными поклонниками искусства, меценатами и филантропами. Иные из них становились меценатами высшей пробы, ибо по возможности не навязывали свои вкусы художникам и покупали не только шедевры, прошедшие испытание временем и прогремевшие во всем мире, но и поддерживали мастеров, творивших совсем новое искусство, непривычное не только для Москвы, но и для Парижа, - скажем, фовистов. Стены их московских палат могли посрамить своими собраниями не один европейский музей, и даже после разграбления, после всех большевистских тайных распродаж собрания эти поддерживают и ныне славу русских «эрмитажей». Вкус к живописи и украшению своих московских дворцов они передали своим красивым женам. Двум из этих красавиц (ставших знаменитыми персонажами русской живописи) и был обязан Константин Сомов своими первыми московскими заказами. 87 В самом начале 1910 г. Сомов уехал в Москву, где его поселили в доме его первой заказчицы – Генриетты Леопольдовны Гиршман и ее богатого мужа Владимира Осиповича Гиршмана. Уже через несколько дней он сообщал в письме своей сестре Анне Сомовой-Михайловой (его частые письма к ней настоящий дневник сомовской жизни): «Милая Анюточка, приехал благополучно. Приняли очень радушно, поместили уютно в отдельной отдаленной комнате… Дом у Г. большой, старинный и полон роскошных вещей и старины, но не все из нее хорошо, много Брик-а-браку. Хозяйка сегодня весь день в очаровательном розовом платье и серой с блестками шали, костюме, в кот. я ее верно буду писать…» И еще некоторое время спустя, в новом письме сестре: «Замечательно милая женщина Генриетта Леопольдовна: чем больше ее видишь, тем больше ее ценишь. Простая, правдивая, доброжелательная, не гордая, и что совсем странно при ее красоте, совсем не занята собой, никогда о себе не говорит». В доме Гиршманов Сомов у видел и вторую свою заказчицу, о чем тут же сообщил сестре: « К нам на файфоклок приезжала и другая моя модель, Носова, оказалась очень и очень интересной для живописи. Блондинка, худощавая, с бледным лицом, гордым; и очень нарядной хорошего вкуса прическе… Моя вторая модель гораздо интереснее первой – у нее очень особенное лицо. Сидит она в белом атласном платье, украшенном черным кружевом и кораллами, оно от Ламановой, на шее 4 жемчужных нитки, прическа умопомрачительная. И вот еще о Носовой, в другой раз: «Голубое яркое атласное платье, вышитое шелками перламутровых цветов с розовыми тюлевыми плечами, на шее Ривьера с длинными висячими концами из бриллиантовых больших трефлей, соединенных брильянтами же…» Евфимия Носова была сестрой прославленного Николая Рябушинского и других, менее прославленных и менее сумасбродных, но не менее богатых и деловых братьев Рябушинских. Капризная Евфимия, вышедшая замуж за безмерно богатого купеческого сына, красавца Василия Носова, была существом не менее абсурдным, размашистым и хамоватым, чем ее брат Николай Рябушинский. Домашний ее спектакль оформлял Судейкин, ставил сам Михал Мордкин из балета Большого, пьесу специально написал для нее Михаил Кузмин, да ведь и ее купеческий дворец на Введенской площади расписывал сам Валентин Серов (а позднее продолжали Судейкин с Сапуновым). Портреты ее писал также Головин, а бюст ее лепила Голубкина… Собственно, Носова художнику Сомову нравилась («великодушная и не скупая»), как и другие его модели, но, как объясняет современный искусствовед, «конкретная приязнь остается за кадром портретов Сомова – эти портреты парадные, обстановочные «крупноформатные»: и задача 88 справиться с формой, явив в ней «гранд стиль» (в орбите которого и героини будут выглядеть значительно), исключает лирику вероятных проникновений в характер». Искусствоведы прежних времен (в том числе и советских) объявляли парадные портреты Сомова полной неудачей и свидетельством его кризиса. При этом они исходили из своих понятий о психологическом и реалистическом портрете. Но как уточняет нынешний искусствовед Г. Ельшевская, «стилизованный «гранд стиль» как бы исключает «чтение в душах». «Стилизованный «гранд стиль», - продолжает она, - иначе называется «салон»… Сомов, как всегда, писал самоотверженно и мучился неуверенностью, не переставая терзать себя. «Я уже, конечно, в муках, - написал он сестре, едва начав работу, - почти уверен, что провалюсь со своей работой – что знал прежде, тому разучился, а новых уменья и знания не приобрел! Даже проклинаю себя, зачем меня понесло в Москву… Здесь же все в меня верят и предлагают еще заказы…» Напрасны или не напрасны были тревоги Сомова? Искусствовед Н. Лапшину считает, что не напрасны. Она сравнивает портреты Сомова с портретами В. Серова, писавшего парадные портреты той же Г. Гиршман и той же Н. Олив, - сравнение, по ее мнению, не в пользу Сомова. Портреты эти сильно не понравились также И. Грабарю, с недоумением отметившему все же, что заказчицам и вообще богатым людям в Москве портреты Сомова понравились. Впрочем, были и небогатые люди (притом люди со вкусом), которых портреты эти привели в восторг, Увидев портрет Носовой на выставке «Мира искусства» в Москве, художник М. Нестеров написал в письме приятелю: «… скажу тебе про выставленный здесь на «Мире искусства» новый большой портрет Сомова с некоей Носовой – вот, брат, истинный шедевр! – произведение давно желанное, на котором отдыхаешь. Так оно проникновенно, сдержанно, благородно, мастерски законченно. Это не Левицкий и не Крамской, но что-то близкое по красоте к первому и по серьезности, ко второму. Сразу человек вырос до большого мастера». Напомню, что Левицкий был кумиром мирискусников. Сомов хотел бы писать, как Левицкий, или даже Рослен. Итак, далеко не все критики считали парадные портреты московских красавиц неудачей Сомова или признаком упадка. Сам же он, как всегда, озабочен был совершенствованием мастерства… Что до его моделей, то они, эти богатейшие женщины, тоже умели овладеть в жизни неким стилем, который и оценил в них художник. «Собственно, - пишет современный искусствовед, - умение свободно и естественно носить «такое» - это и есть стиль, стиль уверенно и толково используемого богатства, позволяющего парвеню при правильном устремлении сделаться аристократом». Умение оценил и потомственный дворянин Сомов, не слишком озабоченный происхождением модели, но чувствительный к красоте. Его 89 портреты произвели низкородных, но стильных и щедрых красавиц в дворянское сословие, что подметил в связи с портретом Носовой чуткий М. Нестеров: «В портрете этом Сомов «рожденной Рябушинской» дал «потомственное дворянство». Надо сказать, что замеченные Сомовым расточительное «великодушие» московских богачей, их щедрые траты на своих, русских или новых французских художников оказались не только благотворными и уместными, но и предусмотрительными: прошло немного лет и состояния всех этих Морозовых, Рябушинских, Щукиных были разграблены и пущены по ветру большевиками. Зато от их уникальных собраний осталось кое-что в наследство нищей России… В щедрой Москве Сомов написал и еще несколько парадных портретов (портреты Н. Олив и М. Карповой). Слава художника росла неуклонно, и в 1913 г. ему было присуждено звание Академика Академии художеств. Заказов ему хватило бы теперь на много лет, но судьба судила иначе… Впрочем, пока еще Сомов писал новые картины, новые портреты, делал эскизы занавеса для «Свободного театра», создавал театр марионеток вместе с Юлией Сазоновой. Правда, он не отдавался театру так самозабвенно, как его друзья по «Миру искусства», однако театральная слава задела и его своим щедрым крылом (9 октября 1913 г. Сомов сообщал в письме сестре из Москвы: «…Вчера была премьера в Свободном театре. Вся Москва. Был успех. Потом ужин человек на 200 в «Праге». Актеры и театральные люди, тосты, речи. Комплименты. Меня качали в воздухе. Это не очень приятно. К тому же у меня были грязные сапоги. Я сидел между Коонен и женой Балтрушайтиса…» Несмотря на лестный успех, театральная деятельность не засосала Сомова. Он удовлетворился малым… Помнится, совсем еще юным студентом, на лекции по искусству оформления книги у нас в Московском полиграфическом институте, слушая в пол-уха лекцию членкора Академии художеств А. А. Сидорова, я услышал вдруг очень странную вещь… Кстати, как я теперь понимаю, милейшему А. А. Сидорову было тогда всего лет 60, но нам казалось, что ему было 100, тем более, что он был уже глух как пень, и считалось, что ему можно успешно сдать экзамен, если будешь быстро-быстро шевелить губами, время от времени громко выкрикивая что-нибудь неоспоримое (скажем, реализм», «народность», «революция», «композиция», «приоритет»…) Так вот, этот глухой, бормочущий Сидоров, словно забыв, сколько раз его секли в те времена в партийное советской прессе, вдруг сказал на лекции, что, пожалуй, лучшим изданием 1918 г. в России была «Книга маркизы» с иллюстрациями Сомова… Мы ничего не знали тогда ни про охальницу-маркизу, ни про какого-то Сомова, но ведь проговорился неисправимый Сидоров, и мы насторожились… Но отчего же в 1918 г. про маркизу, а не про Ленина с 90 Троцким, не про купание красного коня или допрос красных комиссаров? Этого мы, чахлые послевоенные малолетки, понять не могли. И как он вообще, этот певец маркизы сумел пережить времена революции и путча? Пишут, что кое-как пережил. Пишут даже, что пережил вполне сносно. Конечно, сомовские письма той поры звучат не слишком весело. Вот письмо к Званцевой, написанное в декабре 1917 г. из Петрограда: «…Живется у нас скверно. Тоскливо. Я очень мало и неохотно работаю. Почти все время сижу дома…» А вот из дневника, который он вел в ту же пору: «… Вечером пошел с Женькой в оперу «Севильский цирюльник», но ее отменили – забастовка хора и оркестра…» «Заезжал Таманов, уговаривал меня принять пост в Академии долго, но я отказался наотрез…» Напомню, что политика Сомова нисколько не интересовала. Еще и в пору Первой русской революции Сомов написал как-то в Париж другу Шуреньке Бенуа, что хотя он, как и сам Шуренька, не хочет участвовать в сатирическом журнале, однако не станет сожалеть об уходе покровителейкнязей, от которых было мало толку. Ему, как и многим, казалось в первое время, что от революционных событий искусству может перепасть глоток свободы: «освободившемуся народу, - писал он, - свобода достается ненадолго… он фатально попадает под новое ярмо… однако от хотя бы ненадолго завоеванной свободы при новом закрепощении народа всегда останется большой и осязуемый кусок свободы, в этом утешение и радость завтрашнего дня». Многие художники свидетельствуют, что им достался в 1917 – 1918 гг. подобный кусок свободы, несмотря на материальные лишения и страх за будущее, страх за физическую свободу и за самую свою жизнь. Сомов, судя по всему, и этого вполне реального страха избежал. Вот он пишет в письме из Петрограда: «говорю для нас о страхе благородном, а не о буржуазном или шкурном, который я тоже не считаю неблагородным, но весьма человеческим, не о нем, в котором не трясусь, пока еще события не угрожают мне расстрелом и фонарем». События для почтенного художника-академика Сомова и впрямь сложились при новой власти довольно благоприятно. Большевики дали ему освобождение от трудовой повинности и охранную грамоту на коллекцию картин, рисунков и фарфора, фонарем и расстрелом пока не грозили. В 1918 г. Сомов издал в частном издательстве новое, дополненное (с новыми французскими текстами и новыми рисунками) издание «Книги маркизы», а в страшном 1919 г. в Третьяковской галерее прошла юбилейная (к его 50-летию) персональная выставка. Он не занимал столь высоких постов, как Шуренька, но и не претерпел тех же невзгод что былой друг «Мира искусства» князь С. М. Волконский. Его даже избирали в какие-то комитеты. А в 1923 г. он поехал представлять на американской выставке русского искусства петроградскую делегацию, по необходимости замещал 91 там заболевшего директора выставки С. Виноградова, задержался в связи с этим в США, познакомился там с семьей композитора Рахманинова, рисовал членов этого семейства, а знаменитая фирма «Стенвей» заказала Сомову большой портрет Сергея Рахманинова. Ну, а старый знакомый В. О. Гиршман устроил в своем парижском магазине выставку Сомова. В общем, дела пошли, и он остался. Да, может, и российская пореволюционная жуть с отвычки выглядела все страшней. А тут еще любимый друг, молодой танцовщик Мефодий Лукьянов купил ферму в нормандском местечке Гранвилье, так что и деревенский дом появился в Европе,, было где отсидеться. В зеленой Нормандии было тихо, уютно… Сомов писал любимой сестрице Анюте из Гранвилье осенью 1925 г.: «… Вчера, кажись, был последний хороший день, сегодня дождь, воет сильнейший ветер, вчера ночью было очень уютно в комнатах, слушал его, сидя у лампы, как в сказках или странных историях о привидениях… Как я был бы счастлив, если бы я мог работать с упоением или удовольствием. Как, например. Шура! Он делает все прекрасные вещи, легко, шутя, играя как бы. Как я ему в этом завидую. У меня же все – тягостно, медленно…» Старые проблемы. Но все же работа… Едва вернувшись с Мефодием в Париж, Сомов посетил выставку недавно умершего друга Левушки и написал сестре: «… Отправился на посмертную выставку Бакста, оказавшуюся чрезвычайно хорошей. Он мастер. Некоторые костюмы восхитительны и по рисунку и по изобретательности, например, все, что он сделал для лондонской постановки «Спящей красавицы». Есть прекрасные сангины с нагих женщин… Но Бакст вышел из моды и едва ли будут продажи, сегодня на вернисаже был продан только один N. Народу было много, Любочка (бывшая жена Бакста Любовь Гриценко – Б. Н. ) специально приехала из Италии устраивать выставку… Видел Иду Рубинштейн, постаревшую, намазанную и очень скверно одетую, чрезвычайно броско и дорого – впрочем, она всегда одевалась безвкусно…» «Был в негритянской оперетте… Шум, визг, джаз-банд, нелепые танцы, но все это имеет успех у Парижа! Мисс Жозефина Бекер… оказалась очень забавной, даже красавицей для негритянки – пасть у нее громадная, черная как чернильница, и ослепительно белые зубы. Она изумительно танцевала…» Вместе с Лукьяновым Сомов купил квартиру в «русском» XVI округе, на бульваре Экзельманс и стал парижанином. Конечно, той славы на «мировой арене гения», которую еще перед революцией пророчил салонным портретам Сомова Михаил Кузмин, на долю Сомова в Париже не выпало, но свой круг почитателей (и свой круг подражателей) у него был, и в нищету он не впал. Но, конечно, о былой барской вольготности можно только вспоминать. Да Сомов и вспоминает в письмах к сестре: 92 «1980 – наша с мамой поездка в Европу… Варшава… Вена… Впрочем, вру, ехали после Варшавы на Берлин, Дрезден, Швейцарию, замок Хортенштайн, Италия… Мюнхен, Венеция, Генуя и оттуда на пароходе в Ливорно. Флоренция, Пиза, Рим, Неаполь, Капри, Сорренто…» Не то нынче. В 1930 г. открылась замечательная выставка живописи в Лондоне, и Сомов пишет сестре: «Как жаль, что поездка в Лондон мне недоступна!» А все же Сомов работает, совершенствует свое мастерство и пишет сестре: «Когда я смотрю на свои старинные… то удивляюсь, как я мог так плохо рисовать! Положительно, я сделал успех, Анюточка!» И признание выпадает иногда на его долю – на скромных выставках у того же В. О. Гиршмана – о чем Сомов сообщает в письмах любимой сестре: «На днях у меня был приятный «сурприз». Я тебе писал, что выставленный в магазине Владимира Осиповича, среди других летних картин, мой летний деревенский натюрморт имел огромный успех. Так его купила одна американская еврейка. Это было так кстати: расходы по устройству квартиры намного превысили нашу смету». Остались у Сомова и верные покупатели – еще со старых времен. В Лондоне осел поклонник сомовских «фейерверков» инженер Михаил Брайкевич. Он и сейчас заказывал «Костеньке» эти фейерверки сериями. Были и другие заказчики, было издательство «Трианон», заказавшее Сомову иллюстрации к роману «Дафнис и Хлоя» Лонга. Продавались и эротические рисунки, которые мало-помалу теряли у Сомова былую ироничность и скепсис, (о которых писал когда-то в своих терцинах Вячеслав Иванов). … Однажды на очередной неторопливой прогулке по русскому эмигрантскому кладбищу Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем набрел я на могилу капитана дальнего плаванья Михаила Снежковского и его сына Бориса, который родился в 1910 г., а девятнадцати лет от роду (уже после смерти Мефодия Лукьянова) стал в Париже позировать Сомову, был и его Дафнисом, и героем множества портретов. Кроме новых, не скептических, а весьма даже прочувствованных ню, появляются у парижского Сомова новые игры с зеркалами, с отражениями, с миниатюрными предметами, с реальностью, видимостью, иллюзией… В общем, ни в каком не тупике, и все так же, как в молодости, требователен к себе Сомов, все так же напряженно работает, стремясь к совершенству. Еще и 67-летним изощренным мастером пишет в одном из писем: «Хотелось бы остаток жизни посвятить себя хорошим настоящим картинам. Завершить самого себя и оправдать похвалы, мне расточаемые пока напрасно». Встретив однажды постаревшего Сомова где-то на выставке, недоброжелательный С. Щербатов отметил, как сморщилось лицо «вечного юноши». Однако, судя по свидетельству другого, столь же недоброжелательного мемуариста, Сомов и в самые последние годы своей 93 жизни не утратил ни прямоты, ни смелости характера, с которыми вычеркнул когда-то из числа друзей «самого» Дягилева. Упомянутого мной второго мемуариста звали Валентин Булгаков, и он посетил Сомова всего за два года до смерти художника. Бывший толстовец, позднее пражанин, но советский гражданин В. Булгаков организовал перед войной в Праге русский музей, коллекции которого предназначались для пополнения советских музейных запасников. С целью сбора доброхотных пожертвований Булгаков и обходил русских художников в Париже. Время было страшноватое. Русские беженцы в Париже исчезали среди бела дня, и авторитетному «собирателю» отказать было боязно (хотя и очень хотелось). Решительно отказать сомнительному посланцу решился только один художник, и это был Константин Сомов. Булгаков же явился, вероятно, без звонка, у Сомова в это время находились покупатели-французы, но, несмотря на оказанный Булгаковым «патриотический нажим, ему пришлось уйти от Сомова не солоно хлебавши, и позднее, описывая свой визит, он назвал художника самым ругательным словом из своего словаря – «иностранец». Кстати, плодотворные усилия В. Булгакова были вознаграждены: когда власовцы освободили Прагу и были ликвидированы «своими», Булгаков (в отличие от многих репрессированных тогда эмигрантских ученых) был назначен редактором «Советского бюллетеня», а затем все последующие десятилетия занимал почетные советские должности. Что же до «иностранца» Константина Андреевича Сомова, то его век не был слишком длинным, хотя он и трудился до последнего дня. В начале мая 1939 г. навестить его приехал из Лондона его «добрый гений», верный поклонник и друг Михаил Васильевич Брайкевич, а назавтра после его приезда Сомов умер скоропостижно от сердечного приступа на руках у друга. Нина Берберова описывала в своем мемуарном романе (на сей раз, впрочем, почти правдоподобно) похороны Сомова на русском кладбище под Парижем и грустные хлопоты Брайкевича: «Пожилой, толстый, говорливый, он во всем был противоположностью Сомову. Pater familias, традиционный «бонвиван» начала нашего века, с брюшком и косматыми бровями – и тишайший, скромнейший в своих одиноких вкусах, хрупкий художник. Когда Сомов умер, Брайкевич приехал из Лондона на похороны. Я хорошо помню эти похороны. Брайкевич, рыдая, распоряжался на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, как повернуть гроб, как опустить его в могилу, кому пойти проститься с гробом. Куда сесть, чтобы ехать домой. «Костенька, - говорил он, ангел мой, как я любил тебя!» И все кругом плакали». У Брайкевича собралась значительная коллекция сомовских работ. Он завещал ее оксфордскому музею Эшмолеан, где ее можно увидеть и нынче. Считают, что это самое крупное собрание Сомова за рубежом. Франции подобные коллекции оставляют теперь все реже. Даже Португалию, и ту предпочитают Франции в смысле сбережения жизни и сохранности имущества. 94 Петербургское наваждение Добужинского В первый раз из родной Москвы в легендарный Ленинград-Питер я приехал на экскурсию двадцатилетним студентом – вместе с группой сокурсников, под водительством нашего преподавателя истории искусства Ильина, нищего и восторженного поклонника Джакомо Кваренги. После того ездил, конечно, много раз – в командировки или так погулять (ездил, уже и став земляком многодетного Кваренги). Каждая такая поездка была праздником или, как выражались тогдашние акулы пера, встречей с искусством… Ездил, восторгался, бродил белыми ночами по Невскому, посещал Эрмитаж и Петергоф, останавливался в «Европейской» и в «Астории» (где номер с альковом и огромной китайской вазой стоил, помнится, в конце 50-х г. два рубля с полтиной)… Но вот в начале 80-х я поехал в Питер по вполне семейным делам (создавать новую семью): моя будущая жена (вторая по счету) должна была вот-вот прибыть в прославленный город на экскурсию из Парижа. На сей раз мне не пришлось снимать номер в гостинице. Мой новый знакомый по писательскому семинару в Ялте великодушно предложил мне ключи от своей пустовавшей комнаты в коммуналке – где-то на Кузнечном, близ Казанкого (Владимирского?)собора и последней квартиры Достоевского. Проснувшись поутру на новом месте, я выглянул в окно на двор и подумал, что вот это, может, и есть настоящий Петербург, отчего-то, прочем, мне очень знакомый. Размышляя над этой знакомостью - угрюмый дворик, брандмауэр, чьи-то узкие немытые оконные стекла почти напротив моего окна – я подумал, что это все от Достоевского, и уже готов был возгордиться и свежестью своей памяти и силой своего воображения, как вдруг вспомнились какие-то картинки, чьи-то рисунки, а потом я даже вспомнил имя художника – Добужинский. Ну да. Я попал в Петербург Добужинского. Это он был открывателем этого мира. А я вот, умница, вспомнил, кто… Позднее я убедился, что и это художественное открытие принадлежит не мне. «Такие мотивы выбирал он часто!, - писал о нем еще поклонник Черубины, элегантный эстет Маковский, который терпеливо перечислял упомянутые «мотивы»: «монументальное нищенство домов-ульев, убогую фантастику доматюрьмы, стены, облупленные дождевыми потоками, прокопченные фабричным дымом, углы столичных окраин и жалкие захолустья с подслеповатыми сгорбленными лачугами и вековой грязью глухонемой провинции, каких немало было в мое время чуть ли не в центре его величества Петербурга…» (Надо ли напоминать, что через полстолетия после отъезда Маковского былая столица России пришла в еще больший упадок). 95 Свой очерк о Добужинском коренной петербуржец, щеголь, бывший законодатель моды и редактор модного журнала Маковский начинал с самого для него важного и личного: «Мстислав Валерианович Добужинский – его творчество, да и весь облик, стройный, по-европейски сдержанный, чуть насмешливый, - может быть, самое петербургское из всех воспоминаний моих о Петербурге». Впрочем, на роли Добужинского в создании образа Петербурга настаивал не один Маковский. «Каким властным, каким убедительным… должен быть художник… писала Анна Остроумова-Лебедева, - чтобы мы… стали называть после него предметы действительного мира его, художника, именами… Стали, например, глядя на туманный закат в Лондоне, говорить, подобно О. Уайльду, что «это закат Тёрнера», а глядя на каменные стены петербургских построек - что это «стены Добужинского!» Какая магия стиля! Какая сила внедрения своего субъективного видения в душу другого!» Несколько строк из мемуаров Н. Н. Берберовой свидетельствуют о том, что не только сам Добужинский стал «самым петербургским» из воспоминаний русского эмигранта Маковского, но что и в собственные эмигрантские воспоминания Добужинского с особой точностью вошел былой Петербург: «Чтобы позабавить и поразвлечь меня, он, смотря в потолок и важно сложив на столе руки, читал на память вывески Невского проспекта начала нашего столетия от Николаевского вокзала до Литейного, сперва по стороне Николаевской улицы, а потом по стороне Надеждинской…» Много ли набралось бы таких знатоков Невского даже в тогдашней эмиграции, бредившей городом на Неве («Летний сад, Фонтанка и Нева», заклинал с эстрады киевлянин Вертинский строками петербурженки Раи Блох), даже в сугубо петербургском кружке «Мира искусства», где царил культ Петербурга? А между тем, родился Мстислав Добужинский не в Петербурге, а в Новгороде, в доме деда-священника (у которого и фамилия была новгородская – Софийский). В гимназию юный Добужинский ходил в Кишиневе, в Петербург попал лишь восемнадцати лет от роду, а с «майскими гимназистами» познакомился лишь 27-ми лет. Впрочем, хотя родился будущий художник в доме провинциального священника, семья у него была вполне артистическая. Во-первых, его матушка, поповская старшая дочь Елизавета Тимофеевна училась в Петербургской консерватории и ходила вольнослушательницей на оперное отделение Петербургского театрального училища. В пору обучения она уже была замужем за поручиком лейбгвардии конной артиллерии Валерианом Добужинским, который дослужился позднее до звания генерал-лейтенанта, но до этого неблизкого времени способная оперная певица в семье не досидела. Когда будущему художнику был год, матушка его начала петь в Павловске и даже иногда в Петербурге, а когда ему было два, она и вовсе ушла из семьи: пела в провинции, несла в народ оперное искусство, радовала своим талантом меломанов Казани, Киева 96 и других населенных пунктов империи. С сыном она в последующие годы поддерживала связь «путем взаимной переписки», и увидел он свою голосистую матушку лишь восемнадцати лет от роду, посетив ее тамбовскую усадьбу по окончании гимназии, в 1893 г. Впрочем, подробности такого рода даже в самых солидных искусствоведческих исследований сообщают лишь петитом в сносках, а то и не сообщают вовсе: какое это может иметь отношение к творчеству? Как знать? Может, и имеет какое-нибудь отношение к тому печальному юмору, каким отмечены пейзажи Добужинского, к его ранимости, скрытности, к его фантастическим видениям… Так или иначе, воспитанием будущего художника с детства занимался отец, Валерий Петрович Добужинский. Добужинские происходили из древнего литовского рода, и об этом с гордостью писал дед художника: «Генеалогическое древо наше, хотя и не богатое фруктами, начинается с язычника, чистокровно литвина Януша. Возведены в дворянство и мещанство королем польским…» Молодые Добужинские получили неплохое образование, один из братьев Валерия Петровича стал доктором медицины, другой – юристом, известным в научных и писательских кругах русской столицы. Сам Валерий Петрович, отец будущего художника, еще молодым офицером лейб-гвардии слушал лекции в Петербургском университете, увлекался наукой зоологией, посещал концерты и выставки. Он старался руководить сыном, поощрял серьезные его занятия и сумел завоевать его доверие, о котором свидетельствует, например, поразительное исповедное письмо, присланное однажды молодым художником отцу из Петербурга: «В юности больше всего меня интересовали религиозные вопросы и психология. Я доходил временами до атеизма и просто болезненности в самонаблюдении… Мне временами казалось, что просто безысходно жить, будущее совсем, совсем не манило… Ведь если все тленно, то жить не надо и начинать; и ведь тогда веры не может быть никакой и воли… мне удалось опомниться, и не пришлось заглохнуть во мне тому, что теперь уже вполне окрепло в душе… верю я в силы свои, верю в счастье, в добро, верю в жизнь, в безграничное ее разнообразие, в ее смысл и не боюсь этого неизвестного будущего… видно мне, как мне идти и куда, чтоб быть человеком… перед собою я честен всегда. Я этим горжусь». Мстислав Добужинский начал рисовать очень рано и уже в пять лет поражал взрослых тем, что умел передавать в рисунке перспективу. Когда ему было девять лет, его отдали в школу Общества поощрения художеств. Потом была гимназия в Петербурге, позднее в Кишиневе, наконец, в Вильне. Интерес к рисованию заглох у него на время, но возродился после окончания гимназии в Вильне и поездки к матери в Тамбовскую область. Рисунки, сделанные в тамбовской деревне, Мстислав Добужинский показал на конкурсе в Академии художеств уже в ту пору, когда был студентом юридического факультета в университете. Курс в Академии Добужинский не прошел, однако поступил в Санкт-Петербургскую рисовальную школу, 97 потом в частную школу Дмитриева-Оренбургского и, наконец, в мастерскую Дмитриева-Кавказского. Двадцати двух лет от роду, еще будучи студеном, Добужинский начал сотрудничать в юмористических журналах, однако до конца художественной учебы было еще далеко. В поисках новой школы Добужинский еще студентом съездил в Германию, а окончив университет, уехал продолжать художественное образование в Мюнхен. Уехал он не один: в день отъезда он (против воли отца и, можно сказать, тайком) обвенчался в петербургском Спасо-Преображенском соборе с Елизаветой Волькенштейн, в браке с которой он и прожил до конца своих дней (вполне неблизкого). Причиной столь строгой секретности их венчания было «сомнительное» происхождение невесты (она была крещеная еврейка). В Мюнхене Добужинский поступил в знаменитую школу Антона Ашбе, где в разное время учились также Кардовский. Явленский, Веревкина, Василий Кандинский и многие другие. Игорь Грабарь, тоже учившийся в этой школе, стал в ней преподавателем, и дружба с Грабарем сыграла большую роль как в воспитании Добужинского, так и в его дальнейшей судьбе. Грабарь, как вспоминал Добужинский, умел найти слабое место у каждого ученика. В школе Ашбе в моде был рисунок углем на шероховатой бумаге, маслом здесь «писали ярко, густо накладывая краски». Ашбе не терпел смешанных красок и «грязи», краски должны были сиять как бриллиант («нэмлих альс диамант»). А. Н. Бенуа вспоминал, как к нему в бретонский Примель приехали однажды «мюнхенцы» - Явлинский с Мариамной Веревкиной. Они отправились все вместе, большой компанией на пленэр и писали один и тот же пейзаж. По окончании работы дачники заглянули к «мюнхенцам» и были поражены – пейзажа не было, но «краски рычали»… Наряду с уроками у Ашбе, Добужинский учился также у любимого студентами венгра Холлоши, с классом которого он ездил в Венгрию. Сильно повлияли на него в то время художники из «Симплициссимуса», и особенно, Т. Гейне. Историю искусства Добужинский изучал по той же переводной книге Мутера, что и все мирискусники… В Мюнхене у молодых супругов Добужинских родился сын. В 1901 г. Мстислав Добужинский побывал в Венеции, а потом поехал в Париж, где достижения французских художников (Мане, Моне, Ренуара и Дега) его «совершенно ошеломили». Летом того же года Добужинский начал снова работать у Холлоши в Венгрии, но тут случилось горе: умер его первенец. Добужинский уехал с женой к отцу в Вильно, а потом Добужинские переехали в Петербург, где художник учился у академических профессоров Матэ и Ковалевского. Семья росла, родилась дочка, художнику приходилось зарабатывать на жизнь. Добужинский стал снова сотрудничать в журнале «Шут», а через год после приезда у него состоялось знакомство, которое оказалось провиденциальным: Грабарь показал Бенуа и Дягилеву несколько концовок и заставок своего ученика, а потом представил и самого Добужинского 98 мирискусникам. Запись о событиях этого декабрьского дня 1902 г. сохранилась в дневнике Добужинского: «Грабарь назначил мне свидание в строящемся «Совр. Искусстве» на Морской 33 и повел в редакцию «Худож. Сокровищ России» по Мойке, где познакомил с Бенуа, Лансере, Яремичем, Врангелем, кн. АргутинскимДолгоруким и И. М. Степановым. Тут же получил заказ для выст. «М. иск,» в Москве. После замечат. этого дня часто стал ходить в Худож. Сокр.» и заглядывать в «Совр. иск.» Добужинский на долгие годы обрел новых единомышленников и друзей. Его многое сближало с мирискусниками: их вкусы в живописи (особенно в русской и немецкой) и в литературе (Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Э. - А. Гофман, Метерлинк…). Бенуа считал, что это он передал Добужинскому (так же, как Лансере и Баксту) свой «пассеизм», свое пристрастие к прошлому: недаром Бенуа прежде всего выделяет в творчестве Добужинского его иронично-нежные городские пейзажи русской провинции (да еще излюбленные мирискусниками русские 1830 годы). Вторжение в творчество Добужинского убогих петербургских дворов и окраин, а также зарубежных индустриальных чудовищ никогда не вызывало одобрения Бенуа. А между тем, именно с приходом Добужинского в умиленный (при всех трагических предчувствиях и вполне невеселых эпизодах русской истории) петербургский пейзаж врывается новая, современная нота, Чтобы уловить этот вполне не парадный облик парадного Петербурга, художнику, вероятно, нужно было иметь особую чуткость или душевное неблагополучие… (Из сотен иностранных туристов, умиленно любовавшихся в XX в. Невскою перспективой и дворцами, мне невольно приходит на память тот единственный, кто заглянул в ленинградские дворы, увидел «другой» Ленинград и кое-что понял… Его звали Луи Селин, он был, конечно, «левый» писатель, но только не национал-большевик, за какого его приняла шустрая Эльза Триоле, а национал-социалист. Он был человек любопытный, талантливый, чувствительный и он успел описать этот свой особенный Петербург еще до краха нацистов, после которого ему пришлось отсиживаться некоторое время вдали от Франции…) До революции особых проблем со свободой выбора натуры у художников не было, но не было у других художников и такого Петербурга, как у Добужинского. Позднее, с приходом цензуры, пришлось объявить город, воспроизведенный на рисунках Добужинского, «капиталистическим городом»… Эмигранту Добужинскому, на его счастье, не довелось увидеть куда более страшный – зощенковский Ленинград коммуналок, так что мучимый за морем тоской по воюющей родине, он сел рисовать в годы войны воображаемый «блокадный Ленинград»… Однако, вернемся в первые годы XX в., к началу карьеры Добужинского. Поначалу он рисовал для «Мира искусства» вместе с Лансере и Билибиным всякие «украшательские» заставки, концовки и буквицы, но чуть позднее, уже к 1904 г., стали появляться на его листах странноватые 99 бараки «достоевского» города. Своего расцвета творчество его достигло в 1905 – 1906 гг. Появились его пейзажи с окнами. Окно – важный элемент городской жизни. Не какое-то там «окно в Европу», а просто окно, выходящие, как правило, из кухни и, как правило, во двор – двор безрадостный и унылый, как в его «Кукле» или в написанном им портрете Сюненберга: вид из окна, или даже взгляд на окно снаружи, как в жутковатом «Окне парикмахерской». Боже, какая тоска, какие одиночество и безысходность… В годы первой русской революции Добужинский, так же как Е. Лансере и Билибин, сотрудничал в сатирических («Жупел», потом «Адская почта»), рисовал карикатуры на царя и генералов. Потом он путешествовал, писал индустриальные английские пейзажи и довольно трогательные провинциальные (виленские). Карандаш, акварель, пастель, гуашь – Амстердам, Брюгге, Гаага, все больше и больше книжных иллюстраций (не оформительских украшений, а именно – иллюстраций). В ту пору вослед Бенуа (с его «Медным всадником») в русскую книгу пришла целая плеяда мирискусников-иллюстраторов Сомов, Билибин, Лансере). Добужинский считается одним из корифеев русской книжной иллюстрации. Уже в 1906 г. он слыл в Петербурге признанным мастером книжной обложки – делал обложки для Сологуба и Ремизова, иллюстрации для журналов и альманахов (для «Аполлона», «Весов», «Золотого руна», «Художественных сокровищ России», «Белых ночей», «Шиповника»…) Он делал иллюстрации для «Станционного смотрителя», для книг Ремизова, Гоголя, Сологуба и прекрасно оформил «Ночного принца» Ауслендера. Как отмечал знаток жизни и творчества Добужинского Г. Чугунов, уже и в ранних рисунках к рассказу Ремизова «крепость» художник делает шаг вперед от простых заставок и виньеток, ибо в его рисунках «видна явная связь с социальной сущностью рассказа». Позднее Добужинский идет дальше «социальной сущности» и связывает книжную иллюстрацию с психологическим настроем произведения и его фабулой, что считается крупным нововведением иллюстраторов-мирискусников. Находки Добужинского в области книжной иллюстрации были разнообразны. Скажем, иллюстрируя пушкинского «Станционного смотрителя», Добужинский избирает карандаш, «близкий к тоновому рисунку», и это приближает его к технике иллюстрации пушкинских времен. В иллюстрациях Добужинского искусствоведы отмечают не только точность бытовых деталей, но и тончайшее соединение реальности с фантастикой. Что же до единства ансамбля – обложки, иллюстраций, заставки и концовки в книгах Добужинского – то оно тоже считается одним из нововведений в тогдашней русской книжной графике. Отмечая многочисленные нововведения Бенуа, Лансере и Добужинского в области книжной графики, современные искусствоведы не делают открытия… Мирискусники и сами чувствовали себя открывателями 100 новых земель. Вот как писал об этом М. В. Добужиснкий в своей «Азбуке» «Мира искусства»: «Главное, что поднимало творчество тех лет, было то, что мы чувствовали себя «пионерами» нового в областях, которые перед всеми открывались, были действительно «tabula rasa» Не было заезженных, захватанных примеров, никаких сбивающих теорий… не было и в помине тех пособий и тех неисчислимых книг по искусству, в которых все разжевано теперешнему художнику, и в самостоятельных, подчас трудных, но необычайно интересных поисках было настоящее свежее обогащение. Область театра вся была впереди, и сколько других областей лежало еще совершенно нетронутыми… поистине веяло волнующим «весенним» духом». Область театра манила Добужинского, бывшего как и все его друзьямирискусники, заядлым театралом. Работа в театре началась для него в 1907 г., а с 1906 г. он уже начал преподавать вместе с Л, Бакстом в школе Е. Н. Званцевой, которая поначалу так и называлась – «Школа рисования и живописи под руководством Бакста и Добужинского». При этой немалой нагрузке отец семейства Добужинский не решался бросить и службу в канцелярии железнодорожного министерства, приносившую полторы тыщи рублей… Но ведь все им тогда было по плечу, молодым, талантливым, полным сил – все, о чем в поздние годы, за морями и океаном вспоминалось как о счастливейшей поре жизни. «Когда вспоминаешь это время, неповторимое, как неповторима молодость, - писал Добужинский, - делается понятным, что и наша духовная независимость и интимный уклад жизни и общая жизнерадостность и, конечно, нами самими несознаваемый идеализм - все это было счастливейшей почвой общего искреннего подъема и не могло не дать в разраставшейся художественной жизни самые плодотворные радости. Теперь, оглядываясь назад и вспоминая небывалую тогдашнюю творческую продуктивность и все то, что начинало создаваться вокруг, - мы вправе назвать это время действительно нашим «возрожденьем». Среди того, что «начинало создаваться вокруг», уместно выделить приход русских художников в мир русского (а чуть позже и западноевропейского) театра. Собственно, приход этот наметился уже в конце XIX в. – с декораций Виктора Васнецова к «Снегурочке». Это позднее потянулись к театру Поленов, Врубель, Серов, Коровин и Головин, за ними Бакст и Бенуа. Рядом с «профессионалами-декораторами» и трудягами из специальных мастерских появляются теперь в театре настоящие творцы-художники, малопомалу овладевающие спецификой сценографии. После впечатляющих опытов частной мамонтовской оперы мало-помалу преображается сцена в знаменитых казенных театрах, а потом и вообще возникают новые театры. Один из них - Старинный театр, созданный режиссером, драматургом и театроведом Николаем Евреиновым, ставил себе задачу воссоздания на сцене истории европейского тетра… Уже сам подобный замысел должен был взволновать «ретроспективных мечтателей» из «Мира искусства». Мстиславу 101 Добужинскому Евреинов предложил написать декорацию и сделать эскизы костюмов для средневековой «пастурели» (то-бищь «пасторали) Адама де ла Аль, и Добужинский надолго засел в библиотеках, где листая старые французские книги, изучал миниатюры XIII в. Работа эта увлекла художника. «Работаю я с 10 утра до 12 ночи, с двумя-одним перерывом…» сообщал он в письме к Александру Бенуа. Труды Добужинского увенчались успехом и были высоко оценены петербургской публикой. Придирчивый критик Сергей Маковский вспоминал: «Красивая игрушечная пестрота этой постановки, удивительно связанная с «лубочностью» всего декоративного замысла, давала красочный аккорд, необыкновенно выдержанный и сильный». Просвещенный Маковский понимал, конечно, что и «лубочность», и игрушечность, и пестрота не случайны, что они идут от старинной французской миниатюры. Одновременно с оформлением средневековой «пастурели» Добужинский начинает работать в театре В. Ф. Комиссаржевской над оформлением спектакля по пьесе Алексея Ремизова «Бесовское действо над неким мужем, а также прение Живота со Смертью», явно навеянной русскими «пещерными действами» XVII века и населенной ремизовскими чертями. Тут выясняется, что завзятый «западник» Добужинский, с такой натуральностью погружавшийся в мир французской средневековой миниатюры, неплохо ориентируется также в мире русской иконы, русского народного лубка и народного искусства, в частности, деревянной русской игрушки из Троицкого Посада, которой Добужинский оказался любителем и страстным коллекционером, о чем так рассказывал позднее в своих воспоминаниях: «Лубочными картинками я интересовался еще студентом… а деревенские свистульки и деревянные куклы Троицкой лавры я начал собирать еще раньше… У меня составилась большая их коллекция (хотя и не столь замечательная, как у Ал. Бенуа и профессора Матэ – моих «конкурентов» по собиранию этих курьезов)». Напомню, что «Мир искусства», в котором Добужинский нашел себе единомышленников, начинал с безоговорочной поддержки Талашкина, мастерских Тенишевой и народных русских промыслов. Позднее интерес к иконе, лубку и промыслам подхватили русские авангардисты, а еще несколько десятилетий спустя, уже на моей памяти, - мои сверстники. Вспоминается, что чуть не в первую свою вольную поездку после побега со штатной работы я отправился в слободу Дымково под Кировом (Вяткой), где написал крошечную книжечку о мастерицах глиняной игрушки. Помню также, как наш заядлый «западник», переводчик с немецкого Володя Микушевич упоенно декламировал тогда свои стихи про «петуха из Гжели»… Премьера пьесы Ремизова в конце 1907 г. прошла под свист зрительного зала. Мало кто заметил политические иносказания бунтаря Ремизова или стилизации (под игрушки Троицкого посада) в оформлении 102 Добужинского. Впрочем, нашлись, конечно, такие, что и заметили, и оценили. Критик Л. Василевский писал в кадетской «Речи»: «Если что представило в отчетном спектакле большой интерес, так это декорации и костюмы по рисункам М. Добужинского. В том и другом масса тщательности, любовного отношения к старине и изобретательности. Превосходна стильная старорусская декорация монастыря, очень живописны черти различного ранга, в том числе многие с головами животных. Очень стильным вышло появление Живота верхом на лошади: ни дать, ни взять – Илья Муромец, только вот у лошади на ногах человеческие ботинки, и переминается она с ноги на ногу тоже по-человечьи…» Карьера молодого Добужинского в театре Комиссаржевской начиналась и весело, и успешно. Вместе с Федором Комиссаржевским он поставил там пьесу д’Аннунцио «Франческа да Римини». Позднее он оформил «Петрушку» П. Потемкина для постановки Мейерхольда в театре «Лукоморье», где вздымались знаменитые «стены Добужинского», созвучные политическим намекам автора и режиссера. Стремительный рост Добужинского-художника с некоторым даже удивлением отмечали и хорошо знавшие его друзья и коллеги. Подруга его (и соученица по петербургским урокам у Матэ и по Мюнхену) Анна Остроумова-Лебедева, та самая, у которой по наблюдению Добужинского, «был очень острый «язычок» и такая же прямота во мнениях, как у Сомова», и которая была «большая умница», вспоминала: «… я была свидетельницей, как быстро формировался этот богато одаренный человек в большого, культурного и всестороннего художника. Казалось, ничто не было трудно для него. Фантазия его была неистощима. Рука его, обладавшая врожденным мастерством, с необычайной легкостью, остротой и выразительностью воплощала его художественные образы… такт и вкус были ему присущи в высшей мере». С 1909 до 1917 г. Добужинский много работал для театра. Ему довелось оформить два балета у Дягилева – «Бабочки» и «Мидас», но главная театральная работа выпала ему в эти годы в Московском Художественном театре. Добужинский был первым из мирискусников приглашен в МХТ, и на подобный шаг Станиславский решился далеко не сразу. Режиссер не мог не оценить уровень театральных работ мирискусников, но опасался их самостоятельности, их знаний, их авторитета, ставивших под угрозу его режиссерское всевластие. Наконец, Станиславский все же решился допустить мирискусников к своим постановками, и об этом важном решении Станиславского так писал теоретик театра Николай Евреинов: «его самоуверенность, все прогрессируя, позволяет уже теперь привлекать к своему делу большие имена со стороны. Он больше не боится их своенравности, «их свободы»: он слишком прочно у себя утвердился. Станиславский… выжидал 10 лет, прежде чем рискнуть призвать к работе в своем театре Добужинского». В год смерти Добужинского (в 1957 г.) в Америке вышла книга «Вокруг искусства», написанная бывшим управляющим делами МХТ 103 Сергеем Бертенсоном, с которым Добужинский долгие годы вел дружескую переписку. Оглядываясь на 1909 г., Бертенсон писал: «Привлечение к работе выдающихся художников, начавшееся с Добужинского… помогло режиссуре Немировича-Данченко и Станиславского освободить себя и актеров от мелочного подражания действительности и перейти к монументальному реализму, отточенному до символов, с наибольшей экономией внешних средств и максимальной остротой внутреннего оправдания сценических образов». Первая «историческая» встреча Добужинского со Станиславским и главными пайщиками Художественного театра состоялась в феврале 1909 г. в московском ресторане «Эрмитаж». Станиславский передал через Добужинского приглашение всем мирискусникам принять участие в оформлении постановок Художественного театра, а начать предложил с работы самого Добужинского над оформлением спектакля «Месяц в деревне». Согласием на предложение Станиславского ответили и друзья Добужинского (Бенуа, Бакст и Сомов), и сам Добужинский, который написал Станиславскому: «… берусь за Ваше приглашение относительно Тургенева, и с громадным удовольствием… меня привлекает уютность, провинциальность и очаровательность эпохи «Месяца в деревне». Так началась плодотворная совместная работа, и в первые лет шесть (до того, как оправдались худшие опасения Станиславского) сотрудничество шло, если и не идиллически (тот, кому приходилось бывать за кулисами театра, вряд ли сможет представить себе мирное сосуществование в змеином клубке закулисных амбиций), то все же вполне сносно. Что же до оформления Добужинским «Месяца в деревне», то оно по своей приспособленности ко всем задачам сценического ансамбля стало в истории русского театра классическим образцом сценической декорации. Залогом успешного сотрудничества Станиславского с Добужинским, который, по словам самого Станиславского, «достиг тогда зенита своей славы», было как раз то самое, что потом и послужило причиной их столкновения. Но поначалу немало поднаторевший в художестве и театральных делах Добужинский поставил себя в положение «ученика» великого Станиславского, что заметно и из поздних его писем к «Учителю» и из таких воспоминаний самого Станиславского: «когда художник начинал высказываться, я незаметно и постепенно направлял работу его воображения по той линии, которая была нужна исполнителям ролей, стараясь слить мечту художника с стремлениями артистов». Как отметил сам Станиславский, «к счастью не было больших разногласий». Результат этого сотрудничества превзошел самые высокие ожидания, премьера прошла с небывалым даже для избалованного МХТ успехом. Все крупнейшие обозреватели и искусствоведы отмечали роль Добужинского в этом триумфе. Да и зрительный зал разражался аплодисментами еще до 104 появления артистов на сцене – при открытии декораций, скажем, при виде «зеленой комнаты». «Руководство М. В. Добужинского художественной частью постановки «Месяца в деревне», - писал после премьеры блистательный Павел Муратов, - дало чрезвычайно счастливые результаты. Благодаря ему, обычная для театра внимательность постановки соединилась на этот раз с настоящей художественной строгостью. Все образы Тургенева нашли благородное внешнее воплощение, и в быте того времени было понятно большее, чем исторический характер, - было понято и показано зрителям то прекрасное, что составляло его душу». Позднее знаменитый искусствовед Я. Тугенхольд, успев повидать сценографию Бакста, Коровина, Головина и Бенуа, остался верен декорациям Добужинского к «Месяцу в деревне»: «Таких колористических, чисто зрительских радостей нам еще не приходилось видеть на сцене». Что же до великого знатока театра С. М. Волконского, то он говорил, что образы этого спектакля «сливаются с именами Кореневой, Книппер, Станиславского… И все вместе сливаются в Добужинском». Куда уж дальше? Добужинский оформил в МХТ двенадцать спектаклей, обеспечивших ему не только признание современников и потомков, но и материальную возможность освобождения от чиновничьей службы в министерстве. После «Месяца в деревне», самой важной из работ Добужинского в МХТ последовало оформление в 1913 г. спектакля «Николай Ставрогин». Эту инсценировку по «Бесам» Достоевского сделал В.И. НемировичДанченко, который и ставил спектакль вместе с Лужиным. Для Добужинского, после лирической идиллии Тургенева, после красивых, классичных усадебных интерьеров новая работа эта была первым шагом в трагедию, в городские страсти, в мир, кстати сказать, всегда бывшего ему близким Достоевского. Новые, «Достоевские» декорации Добужинского были настолько отличны от «тургеневских», точно их задумал и исполнил другой художник. Однако, это был все тот же Добужинский, художник большого диапазона, большой культуры и фантазии. Искусствоведы отмечают в декорациях Добужинского к «Ставрогину» новые ритмы (соответствующие напряженным ритмам романа), изобразительную скупость, асимметрию построения, новую вертикаль, «резкую дисгармонию цвета». И грязно-серый цвет стены, и диагональ лестницы, и узкое окно, и целая сцена в «Сворешниках» с отблесками пожара – все готовит зрителя к трагедии и не напрасно готовит. «Бесы» Достоевского и были самым жутким предвестием русской трагедии… В этой работе Добужинский, по признанию искусствоведов, «сказал новое слово в театрально-декорационном искусстве», ступив «за грань традиций «Мира искусства». «Николай Ставрогин» был поставлен МХТ в 1913 г., в самый канун беды… Впрочем, и многолетнему, почти безмятежно благополучному 105 сотрудничеству Добужинского с МХТ подошел в ту пору конец. Спектакль по драме Блока «Роза и крест» в оформлении Добужинского так и не увидел свет. Что до оформления «Села Степанчикова (тоже по Достоевскому), то его постановка была связана с невзгодами, которые можно было предвидеть задолго до их начала. Художники «Мира искусства» оказались слишком сильными индивидуальностями и эрудитами для того, чтоб бездумно подчиняться режиссерскому всевластию (на которое притязали не только Мейерхольд или Станиславский, но и многие другие влиятельные персонажи труппы). Мирискусники имели привычку самостоятельно изучать автора, его драму, эпоху, имели собственные идеи, которые, вольно или невольно, они в процессе постановки своей работой навязывали актеру и даже постановщику. Если Добужинский еще мирился поначалу со своей ролью «ученика» Станиславского, то многообразованного Бенуа поздно было брать кому-либо (даже московскому купеческому сыну Косте Алексееву) в свои ученики. Оформление «пушкинского спектакля» («Маленьких трагедий» Пушкина), заказанное художественным театром Александру Бенуа, оказалось слишком пышным для актеров, и постановка не удалась. Да и прочие декорации и костюмы, созданные художниками-мирискусинками, не оставались нейтральными, они «играли», они диктовали свою волю и актерам и постановщикам. Испуганный этим Станиславский запретил Добужинскому делать эскизы костюмов и оформления для «Села Степанчикова», а лишь разрешил ему предлагать актерам (по их усмотрению) набор костюмов эпохи, не оставляя при этом художнику ни свободы фантазии, ни свободы выбора… В общем, работа Добужинского в Московском Художественном театре подошла к концу. Это был «конец прекрасной эпохи», о которой он ностальгически вспоминал до конца жизни (то есть еще добрых сорок лет). Но ведь и самой «прекрасной эпохе» подходил конец, так что задержимся чуть-чуть на последних ее мгновениях… Рослый красавец Добужинский подходил к своему сорокалетию. Он был сдержан, всегда празднично одет, никогда не раскрывал своих чувств перед чужими и бывал очень застенчив, но в кругу «своих» бывал беззлобно шутлив и даже проказлив. Он преподавал в школе Званцевой («Школе Бакста и Добужинского», а потом – «Школе Добужинского и Петрова-Водкина» чаще даже просто говорили «в Школе Добужинского»), а позднее еще и в Новой школе мирискусников. Пресса одобрительно писала о преподавательской методе Добужинского, не навязывавшего ученикам своего стиля, но старавшегося послужить самораскрытию молодого творца. Наряду с занятиями в школах, Добужинскому приходилось давать и частные уроки. Одним из его учеников был юный сын милейшего В. Д. Набокова. Володя (по-домашнему Лоди), который полвека спустя (уже став знаменитым писателем) вспоминал в автобиографическом романе «Другие берега», что его учителем был среди прочих «знаменитый Добужинский», который учил «находить соотношения между тонкими ветвями голого дерева, извлекая из этих соотношений важный драгоценный узор, и который 106 не только вспоминался мне в зрелые годы с благодарностью, когда приходилось детально рисовать, окунувшись в микроскоп, какую-нибудь еще никем невиданную структуру в органах бабочки, - но внушил мне кое-какие правила равновесия и взаимной гармонии, быть может, пригодившиеся мне и в литературном моем сочинительстве». Ученики школ, где преподавал Добужинский, судя по их воспоминаниям, любили своего профессора, а петербургские красавицы обмирали, когда он входил в гостиную. Среди наиболее близких к нему людей была в ту пору красавица-балерина Тамара Карсавина. Через несколько лет после смерти Добужинского она так написала о подаренных ей рисунках любимого друга: «… они живо напоминают мне… о любимом друге, о наших обычных ужинах после представлений в моей квартире на Крюковом канале…» При всяком упоминании о встрече с Карсавиной в личных письмах до крайности сдержанного Добужинского невольно проскальзывает затаенная нежность («Таточка по-прежнему мила и неутомима» (1914 г.) «Провожали Тамару Платоновну и внезапно оказались с ней в поезде…»(1923 г.). «Таточка уехала после блестящих своих выступлений. Она прелестна…» (1923 г.) Именно в тот год Бенуа назвал Добужинского в дневниковой записи «Великодушным рогоносцем». А еще через два десятилетия – она снова в письмах Добужинского: «…(Бедняжка, как она постарела и подурнела, где же прежняя Таточка, в которую все в моем поколении были больше или меньше влюблены?) (1954). «Уланова хороша, слов нет… но, увы, у нее нет ни капли шарма – где же сравнить ее с нашей прежней Таточкой Карсавиной…» (1956 г.) Много лет спустя, уже в Америке догадки об этой романтической странице молодости художника бесконечно интриговали его собеседницу Нину Берберову, которой он читал свои мемуары и которая так сообщает об этом в своем собственном мемуарном романе (не слишком, впрочем, надежном – как все романы): «Я знала, что между ним и Тамарой Карсавиной когда-то было то, что в просторечии называется романом. Как осторожно он обходил эту тему!.. он был наглухо закрыт от всех людей… Во всем, что касалось интимных сторон его жизни. Но было несколько страниц, прочтенных мне однажды вечером, где я почувствовала вдруг «дыхание тайны»… На меня повеяло символом жизненной драмы сдержанного и мучающегося этой сдержанностью человека, символ этот промелькнул в нескольких строках… Они остались во мне. И голос Добужинского, всегда такой «полноводный», в ту минут вдруг дрогнул…» На этом «дыхании тайны» мы и прервем наш рассказ о «романе», ибо мы знаем о нем не многим больше того, что «знала» Берберова. О мужской красоте и человеческом обаянии Добужинского писали много – и мужчины, и женщины. Писала та же Берберова, знавшая художника уже не слишком молодым: 107 «Его фигура, высокая, стройная, его сильные руки, лицо с умными, серьезными глазами, менявшееся улыбкой (у него был громадный юмор), все было природно одухотворено и прекрасно… вся гармония, весь строй и лад «петербургского ансамбля» отразились в фигуре и интеллекте Добужинского…» Александр Бенуа свое краткое описание «искренности и душевной правдивости художника Добужинского» завершает восторженным отзывом о его человеческих качествах: «Что же касается не художника, а человека Добужинского, то он несомненно принадлежит к числу наилучших и наипленительных. Беседа с ним создает всегда то редкое и чудесное ощущение уюта и какого-то лада, которое мне представляется особенно ценным и которое всегда свидетельствует о подлинном прекраснодушии. Добужинский – человек с прекрасной светлой душой!» В 1914 г. 39-летний Добужинский был мобилизован в русскую армию и зачислен художником в управление Красного Креста. Он выезжал на фронт в Галицию, делал эскизы, а потом провел в Петрограде выставку фронтовых зарисовок. Работал Добужинский по-прежнему много – и в книжной графике, и в театре. В 1913 г. вышла «Тамбовская казначейша» Лермонтова, оформленная Добужинским, а в 1917 г. – сказка Андерсена «Свинопас», оформление которой исследователь творчества Добужинского Г. Чугунов считает «вершиной графического искусства Добужинского». В те же годы Добужинский создает панно для Училищного дома в Петербурге и делает стенные росписи в доме Евфимии Носовой. Появляются и новые рисунки из его цикла «Городские сны», навеянные Лондоном, а также новые портреты (в том числе портрет Тамары Карсавиной). Профессорство Добужинского в Новой художественной мастерской, созданной мирискусниками, заслужило похвальные отклики в печати… А потом пришла революция. Интеллигенция встретила роковые события с энтузиазмом. Да и Добужинский давно уже слыл очень левым, почти революционером. Своей карикатурой на царя в пору Первой революции Добужинский даже нажил неприятности у себя в Министерстве путей сообщения, где был тогда чиновником. Осенью 1918 г. Добужинский был назначен научным хранителем Эрмитажа. Вскоре после этого он был командирован в Витебск, где участвовал в создании художественно-практического института на основе шагаловской школы. Одно время он даже возглавлял институт и участвовал в создании музея. Поездка в еще не совсем оголодавший Витебск способствовала не только повышению престижа, но и прокормлению семьи. По возвращении из Витебска в Петроград, ранней весной 1919 г. Добужинский участвует в организации Большого оперного театра и возглавляет в нем художественную часть. Он становится одним из создателей и руководителей Дома искусств в Петрограде, а также одним из создателей и руководителей (вместе с 108 Чуковским) «дома творчества» (или коммуны) художников и писателей в Холомках. Вообще деятельность его в ту пору недолгого подъема и художественной вольности была поистине лихорадочной. Помимо работы в Эрмитаже, он, по сообщению Г. Чугунова, «был членом Общества изучения и охраны старого Петербурга, являлся членом художественного совета при отделе изобразительного искусства, читал лекции в Народном театре и других местах, вплоть до народных милицейских дружин, вел кружок в Научно-неврологическом институте», участвовал «в работе президиума Союза работников искусства по изучению психофизиологических процессов художественного труда (при Дворце труда», участвовал в оформлении фасада Адмиралтейства к I-ой годовщине октябрьского переворота и в оформлении массового спектакля Ю. Анненкова «Гимн освобожденному труду» у здания Биржи (с участием трех сотен красноармейцев Петроградского военного округа)… Суета эта (очень похожая на ту, что описана в дневнике Чуковского, так же отчаянно хлопотавшего о пропитании семейства) упомянута в тогдашнем письме Добужинского Станиславскому: «Я занят с утра до ночи, но не тем, чем надо, читаю лекции, заседаю и меньше всего рисую: к моему отчаянию – нет времени совсем». Однако, и эти усилия «освобожденного труда» не приносили минимального пропитания семье (хотя, может, и защищали отчасти от бесправия и «пролетарского» насилия), а условия тогдашней петроградской жизни были ужасными. Добужинский описывал их в одном из писем: «… но, разумеется, колку дров, таскание воды на 6-й этаж, дежурство у ворот, мерзость всех мелочей физических, голод и холод, отсутствие света и пр., и пр. все перетерпел вместе с моими. И в нетопленой комнате, в шубе при свете ночника, иногда в кухне – работал… Слишком большая роскошь писать (да и материалов достать очень трудно)… меня спасал театр и потом книга…» Театр тогда спасал многих. Вместе с М Юрьевым Добужинский организует Театр трагедии. Создавать этот театр «созвучный времени» помогали нарком-драматург А. Луначарский, богатый и влиятельный «певец босяков» и друг большевиков А. М. Горький и лихая комиссар-актриса М. Ф. Андреева. После софокловского «Царя Эдипа» театр трагедии поставил шекспировского «Макбета», для которого режиссер и оформитель спектакля Добужинский спроектировал два замка, установленных на арене цирка Чинизелли. Спектакль прошел с большим успехом, но театр был после него по неизвестной причине закрыт. Может, кровавый «Макбет» был слишком «созвучен времени» (достаточно вспомнить загадочную смерть «заразного» Свердлова в объятиях осторожного и брезгливого Ленина). Неугомонный Добужинский приступает к созданию Большого драматического (ныне он имени Горького) театра, где участвует в постановке и оформлении драмы Шиллера «Разбойники» Эта романтическая драма пользовалась в тогдашней России, где грабежи мирного населения и разбой не прекращались ни днем, ни ночью, особенным успехом. Еще до 109 революции разбой (и в Москве, и в Ницце и на тифлиских площадях, и на грузинских большаках, и в поездах) помогал выживать большевистской верхушке (тем, кого Ленин цинично называл «ценным партийным имуществом»), безбедно гнездившейся тогда в буржуазных кварталах Парижа и Цюриха. Грабежами тогда с одобрения Ленина занимались наглый Красин хитрый Коба, бесстрашный Камо, сама красавица М. Андреева, а позднее – железный Феликс и его парни «из железных ворот ГПУ». И, конечно, желательно было внушить публике, что «благородные разбойники», какими считали себя революционеры, стоят в моральном отношении куда выше, чем «кровососы-буржуи». Новая петроградская постановка «Разбойников», в подготовке которой участвовал Добужинский (сцена была завешана черным траурным бархатом), имела бешеный успех. Эстет Михаил Кузмин написал в «Полярной звезде», что успеху этому «содействовал, главным образом, Добужинский»: «Траурный пышный масонский занавес, торжественная комната, полная траурной помпы… сцена в саду, где в руке бледной траурной Амалии блестит серебром при луне вытянутая шпага, или первый выход Франца со свечами в печальную торжественную комнату – незабываемы по трагическому впечатлению…» В театральном зале, где, как вспоминает актер Г. Мичурин, сидели солдаты с винтовками и где то и дело поднимались крики и топот, «было жутковато, - а вдруг винтовки заряжены». Что касается траурного бархата, которым Добужинский обтянул стены, думаю, настрой этот имел даже бОльшую связь с трагедией самого художника, чем «с революционными событиями». О тогдашней семейной трагедии художника так вспоминала дочь Бориса Кустодиева, бывшего близким другом семьи Добужинских: «… их постигло тяжелое горе. Летом 1919 г. умерла их старшая дочь Верочка от истощения, порожденного голодными годами. Очаровательная восемнадцатилетняя девушка с большими задумчивыми глазами. Помню страшный день похорон, несчастную мать, бедных мальчиков с заплаканными глазами, Мстислава Валериановича, целующего ноги дочери…» Добужинский находил утешение в исступленной деятельности – в театре, в книжной графике, в преподавании. Он был назначен заведовать художественной частью нового оперного театра и сам оформил спектакль – оперу «Фауст». Это был его первый оперный спектакль. Добужинский затеял и постановку трех сказок Андерсена в кабаре «Привал комедиантов»; там он не только оформлял, но и ставил сказки. Об этом оформлении Михаил Кузмин написал в статье «Андерсеновский Добужинский»: «Редко между двумя художниками может быть такое соответствие. Едва ли можно представить себе другого живописца при имени Андерсена. И если я не ошибаюсь, впервые Добужинский так свежо и полно высказал всю поэзию комнатной жизни, уюта детских, домашней фантазии (без 110 особенной фантастики), трогательного и милого юмора… я думаю, что даже поклонники Добужинского удивятся той сердечности, душевности и прелестному остроумию, которые он проявил в «Сказках Андерсена». Позднее Добужинский стал меньше работать в театре: в 1921 г. он оформил только один спектакль – по драме «Кромвель» в Большом драматическом. Поставил, как обычно, вполне профессионально, «в одном ключе с режиссурой» («художник должен служить пьесе». – говорил он разумно). У драмы этой была одна выгодная особенность: она была написана самим Луначарским, главным большевистским комиссаром в сфере искусств и просвещения. А Добужинский был уже одним из лучших театральных художников России… В 1920 г. Борис Кустодиев сделал в квартире Добужинского эскиз группового портрета художников «Мира искусства». Идею такого портрета Кустодиев вынашивал давно. Сближение его с «Миром искусства» началось со времен петербургской выставки 1906 г., к участию в которой молодой Кустодиев (тогда студент Академии) был привлечен Дягилевым. Еще до начала войны Кустодиев начал делать подготовительные этюды портретов, и на эскизе 1920 г. за столом у Добужинского (сомнительно, чтобы стол поражал тогда таким изобилием) присутствуют Грабарь, Рерих, Лансере, Билибин, Бенуа, Нарбут, Милиотти, Сомов, хозяин дома Добужинский, Петров-Водкин, Остроумова-Лебедева и сам Кустодиев – москвичи и петербуржцы (и те, кто позднее умерли в изгнании, и те, что похоронены были в России). К 20-м г. прошлого века усилиями мирискусников русская книга вышла на новый рубеж оформительского искусства. Добужинский сделал за эти годы замечательные иллюстрационные циклы, повлиявшие в дальнейшем на творчество большинства художников книги в России. Сам он (при всем своем опыте и профессиональных навыках) искал для каждой новой своей книги, для каждого автора свой особенный, им выстраданный путь оформления. Им были созданы в те годы циклы иллюстраций для «Барышникрестьянки» Пушкина, для «Тупейного художника» Лескова, для «Бедной Лизы» Карамзина. И, наконец, он выполнил очень важную для его творчества и для всей русской книги работу – создал иллюстрации для «Белых ночей» Достоевского. В этих иллюстрациях с их впечатляющими соотношениями черного и белого гармонически сошлись «Петербург Достоевского» и Петербург Добужинского»… Во второй половине 1924 г. Добужинский сделал иллюстрации к детским книгам – к «Примусу» О. Мандельштама, к «Веселой азбуке» Н. Павловой и к «Бармалею» Чуковского. Здесь он стоял у истоков того, что потом получило такой расцвет в советском книгоиздательстве: я имею в виду расцвет оформления детской книги, связанный отчасти и с бегством художников и писателей от идеологической муки в «детскую литературу». Сергей Маковский в своей книге о графике Добужинского высоко оценил его детские книжки: 111 «В книжках для детей иллюстрации Добужинского – обычно сдержанные, скупые на цвет, чаще черно-белые или слегка подкрашенные в два-три тона – становятся цветистыми, занятно-пестрыми, волшебствующими и гротескно-шутливыми. Но они сохраняют все ту же колючесть линии, все то же «готическое настроение» узора (позднее, в 60-е г. эти готичность и «колючесть» считались «открытием» новых баловней «Детгиза» - Б. Н. ). Разговаривая с детьми, Добужинский остается Добужинским, не притворяется ребячливее, чем он есть, так же как, обращаясь со взрослыми, не боится графических ребячеств. Ни притворяться, ни быть равнодушным он не умеет и не хочет. Как бы ни казалась проста, а то и незначительна графическая задача, он вкладывает в нее всего себя, свои раздумья и выдумки». То, что к детским книжкам потянулся даже такой признанный и вполне «революционный» (но вполне порядочный) художник как Добужинский, не могло быть случайным. Не мог же не страдать интеллигент Добужинский от хамства шариковых и швондеров, мало-помалу прибирающих к рукам и чужие, пусть даже вполне низкооплачиваемые сферы жизни. Позднее на предложения уехать назад, в большевистскую Россию он отвечал не вполне шутливо: «Не хочу, больно у вас там много начальства». Когда же он начинал в американские годы писать мемуары, то дойдя до этих годов, всегда спотыкался и жаловался в письмах друзьям: «… начало революции дается мне с большим трудом. Мне делается страшно грустно, когда выплывают со всеми ужасными деталями эти годы и не хочется их оживлять…» от еще: «… у меня написана вчерне… вся моя жизнь и окружающее до 1918 г., а потом – стоп машина! Перо не поднимается, не могу найти в себе охоты все пережить наново, да и старался не вспоминать весь тягостный период жизни до заграницы». В подсоветских (подцензурных) воспоминаниях (скажем, в мемуарах художника Владимира Милашевского) попадаются сценки из тогдашней петроградской жизни с участием Добужинского, но в них все, конечно, подано помягче, поосторожнее, чем помнилось: «Осень 1921 г. Довольно ясный день. Синее небо с бегущими тучами… Я иду с Галерной улицы и поворачиваю к Исаакиевскому собору. Ветер срывает последние листья с высоких деревьев… Навстречу мне идет Добужинский. Он явно рассержен и с трудом сдерживается. «Что с Вами, Мстислав Валерианович? – Представьте. Я рисую, подходит какой-то тип, забронированный в кожу. Кожная куртка, кожаные брюки, фуражка, портфель. «Что это вы тут делаете, гражданин?» спрашиваем меня, точно я забрался в его квартиру и выгребаю вещи из его сундука. – «Как что, как видите, рисую». Далее Мстислав Валерианович изображает диалог на два голоса: - А кто вам разрешил производить зарисовки? 112 - А разве нужны какие-то разрешения? Это ведь не военный объект, да и война на фронтах закончена. (Продолжаю рисовать Исаакиевский собор). - Да, но идет классовая война, она не закончена. - Но какое отношение имеет собор, архитектурный памятник к «классовой войне»? Да к тому же он в десятках тысяч открытках разошелся во всех странах мира, воспроизведен во всех путеводителях. Слово за слово. Он наслаждался своей властью над несчастным, презираемым им «интеллигентом». А я захлопнул альбом, - был уже не в состоянии вести рисунок. Каждый может подойти, заглянуть тебе в альбом, залезть в душу, потребовать к ответу». Точка поставлена здесь вместо запятой или многоточия. Человек в коже, с фуражкой и портфелем мог проявить и больше власти – увести в участок, поставить к стенке. Фуражка и кожа были символы устрашения, всевластия и признак их эстетики. Чахлые провинциалы Свердлов и Дзержинский были сверху донизу затянуты в кожу. Провинциал Троцкий, обрядивший в кожу своих опричников с бронепоезда, хвастал в мемуарах: «Все носили кожаное обмундирование, которое придает тяжеловесную внушительность. На левом рукаве у всех, пониже плеча, выделялся крупный металлический знак, тщательно выделанный на Монетном дворе». Впрочем, на тех же страницах Троцкий хвастал и расстрелами тоже… Что до разговоров о «классовой войне», то Добужинский слышал их на всех своих десяти службах и, конечно, на постановке холуйского «Гимна освобожденному труду», в которой он принял участие. Новые «идейные» хамы в кожаном обмундировании, насаждая новый бюрократический новояз (ньюспик), засоряли лишь приблизительно им знакомый русский язык иностранными словами и суффиксами, которые казались им «культурными», современными, «заграничными», наукообразными и «политически грамотными». Рассказывая о том, как подшучивал над этим «новоязом» грамотный петербуржец Добужинский, Милашевский осторожно отодвигает начало «засорения» языка лет на десять назад – в полосу «старого режима». Всякий, кому доводилось читать статьи и письма Ленина, Крупской и их подельников, без труда отыщет источники языковой моды и не осудит осторожного Милашевского, как бы перепутавшего года: «Тогда же считалось, что французские суффиксы и окончания нельзя прибавлять к русскому корню. «Пахло «мадам де Курдюкофф». До термина «подхалимаж» жизнь еще в те времена не дошла… Добужинский был одним из тех, которые не пропускали случая подшутить над новым термином. Посмеиваясь, он говорил: «Полез в карман – оказалось произошла потеризация носового платка». В шутку толкнув кого-то из друзей, Добужинский, «оборачиваясь, надменно и нагло произносил: «Извиняюсь!» Все, конечно, хохотали, потому что произнесено это было с актерским мастерством. Тогда это словечко 113 «извиняюсь» вместо «извините» только входило в язык. Все в нем чувствовали первозданное хамство. Так же Добужинский обыгрывал слово «пока». Он неуклюже совал руку Александру Бенуа и, угрожающие посматривая, произносил жестким, деревянным голосом: «Пока». Этому «пока» много доставалось от петербургской интеллигенции. «Иногда мы целой компанией начинали воображать зрительный образ многих новых комбинированных сокращенных созвучий. Спорили. Относительно «Губнаробраза» все сходились без споров на том, что это самый обыкновенный африканский дикобраз, но только с более мощными губами. «Губнаробраз»! Тот же Милашевский рассказывает о том, как с перенесением столицы в Москву исстрадавшийся Петербург «обезлюдел и казался пустынным…Весь город наполняла какая-то тихость и незыблемость Васильсурска, Козьмодемьянска, Романово-Борисоглебска или других Кустодиевских городов…» В ту пору Добужинский создает новые серии литографий Петрограда. Его «Летний сад зимой» - одно из художественных свидетельств умирания города. Белая статуя стоит среди снега в своем полуразворованном домике, как в еще не забитом гробу… Ни Добужинский, ни Милашевский не рассказали о самых унизительных и страшных минутах, пережитых при большевиках. Рассказав лишь про самое милое и смешное, Милашевскй все же заключает: «Капелька за капелькой капала да капала…» Надо было, пока еще не поздно, уносить ноги. На помощь Добужинским пришел всем знакомый по Петербургу литовский поэт Юргис Балтрушайтис (тот самый, что помог и бывшему ученику званцевской школы Марку Шагалу уехать на выставку в Каунас– «далее везде»). В то время были установлены дипломатические отношения со странами Прибалтики, и выходцы из этих стран могли официально подать на выезд. Светлейшая княгиня С. А. Волконская, сумевшая выехать с мужем в Эстонию, рассказывала, как им завидовали все друзья, для которых граница уже была закрыта. Добужинский встретился с поэтом Бартрушайтисом в Москве, где он оформлял свою заграничную командировку в Европу (от Академии художеств и Наркомпроса). Балтрушайтис был в то время полпредом новой Литовской республики, они были знакомы с Добужинским еще по Петербургу, и Балтрушайтис знал о литовской родословной Добужинского. Поэт хлопотал о возрождении литовской культуры, и помощь таких художников и педагогов, как Добужинский, могла много дать маленькой Литве и ее новой крошечной столице – провинциальному Каунасу (Виленская губерния и Вильна были тогда отобраны Польшей). С другой стороны, Балтрушайтис посоветовал Добужинскому заехать в Каунас на пути в Западную Европу. Добужинский последовал совету Балтрушайтиса и был очень тепло принят литовской интеллигенцией и властями. В Каунасе прошла персональная выставка Добужинского, и чуть не четыре десятка 114 работ Добужинского было закуплено Государственным музеем. На встрече Добужинского с литовскими интеллектуалами и художниками говорили о задачах, стоящих в республике перед театром, перед художественным образованием, перед литературой… Работы был непочатый край, и Добужинского приглашали включиться в эту работу. Из Каунаса Добужинский поехал в Германию, в Данию, в Голландию и, конечно, в Париж. За границей проходили выставки Добужинского, он оформил несколько спектаклей, самым трудоемким из которых была опера «Евгений Онегин» в дрезденском театре. Вероятно, в поездке окончательно созрело решение об отъезде. Между тем, на родине вышло две книги о творчестве Добужинского (Э. Голлербаха и С. Маковского), а также несколько статей, в которых искусствоведы отмечали в первую очередь влияние Добужинского на русскую книжную графику… Подошло время окончательного отъезда из России. Отъезд в Литву был оформлен вполне официально, и Луначарский от имени Наркомпроса даже снабдил Добужинского бумагой, где доводилось до сведения всех заинтересованных лиц (особенно, вероятно, таможни), что Мстислав Добужинский является одним из виднейших деятелей советского искусства и переезд его в Литву должен помочь становлению литовского искусства. А потом наступили дни прощания «певца Петербурга» с любимым городом. «Помню квартиру Добужинских перед отъездом, - пишет Милашевский, - Печально было смотреть на этот разгром, эти сундуки на полу. Было больно видеть, как разорялась эта квартира, убранная с таким изощренным вкусом… Все было обдуманно, изощренно, взвешено на тонких весах мирискусника». Наверняка большинство понимало, что это отъезд навсегда, хотя Милашевскому через много лет показалось, что такого нельзя было в то время даже представить себе: «Увы, мы не предполагали, что Добужинский никогда больше не увидит Петербурга, а я никогда не увижу Парижа. XX в. принес много того, о чем не думало человечество XIX в.!» В это упрямо не хотел верить Бенуа… Прощальный вечер состоялся на Введенской, в квартире Бориса Кустодиева. Дочь Кустодиева Ирина вспоминала, что были за столом Сомов, Остроумова-Лебедева Петров-Водкин, Радлов, Верейский, Кругликова… «Мы с мамой угощаем всех, разливаем чай… Мстислав Валерианович с глубокой нежностью смотрит на моего отца, положив свою большую руку ему на плечо, что-то тихо говорит ему, несколько раз целует его щеку и долго возится с носовым платком, незаметно смахивая слезу… не верилось, что мы больше никогда не увидимся, а получилось именно так…» Нелегко было уезжать. Настолько тяжело, что в первый раз семья не явилась к отходу парохода, где на пристани уже собрались провожающие. Супруга художника опустилась на чемодан в опустевшей квартире и сказала, 115 что у нее нет сил уходить. Несколько дней ночевали у друзей, потом уехали… Эмиграция оправдала и надежды, и опасения семьи Добужинского. Все выжили, избежали насилия, страха и голода, но пришлось пережить и тяготы бедности, и унижение. Захолустный губернский Каунас не спешил поднимать свою культуру до уровня Добужинского. Семья художника поселилась в Риге. Потом по инициативе К. И. Петраускаса (того самого, что знал Добужинского по Мариинке и Петербургу, где Петраускас еще был Петровским) пришло приглашение участвовать в постановке «Пиковой дамы» Чайковского в Каунасском театре оперы. Добужинский с жаром принялся за работу и сумел довести ее до конца. «… мне даны были все возможности закончить так, как я хотел… - писал Добужинский в одном из писем, - … у меня решетка в Летнем саду фигурирует и Зимняя канавка восстановлена точка в точку. В эту картину я вложил настоящую любовь к своему городу…» Театроведы отмечают новое в этой постановке Добужинского – большее присутствие цвета, тревожную деформацию объемов в сцене игорного дома, «романтически взволнованный и полный предчувствий грядущих событий эскиз декорации Летнего сада… драматическую насыщенность сцен бала в казарме…» Видный литовский театральный художник Л. Труйкис (вышедший из школы Добужинского) писал позднее, что «в этой комнате встретились Пушкин, Чайковский и Добужинский». Спектакль имел огромный успех. «Все это было необычно для нашего Каунасского театра, все являлось новым для всех нас и, конечно, было очень полезно для литовских художников, для литовского искусства» . – писала Б. Гирене. Добужинский рассказывал в одном из писем о премьере оперы: «Первые акты прошли без всяких аплодисментов… Комната графини вызвала шепот и слабые попытки меня вызвать, но когда открылась Зимняя канавка с шпилем белой ночью (правда, удачно, освещение отличное), вдруг весь театр зааплодировал и заорал. Оркестр перестал. Певица Галаунене не знала, что делать (она одна на сцене), и я не знал, что делать. Кругом орут, какая-то дама сзади тронула меня за плечо и сказала с волнением: «Спасибо за родные места». Я, как дурак, встал со своего места и поклонился. Это не помогло. Опять встал и поклонился, опять не помогло. Ко мне прибежал тогда Келиша и сказал: «Идите непременно на сцену, видите, что делается с публикой, она не успокоится». … Я вышел под рев. Театр был полон…» Декорации Добужиникого задали новый уровень искусству Каунаса, но Каунас не спешил воспользоваться услугами художника. Новые заказы не поступали. В том же 1925 г. Добужинский писал литовскому скульптору: «… я не смогу спокойно работать в Ковно, где на меня большинство смотрит, как на непрошенного гостя. Я слишком наивно верил, что, приехав, смогу делиться своими знаниями и посильно работать дружно, и никогда не претендовал на какую-то руководящую роль – терпеть этого не могу». 116 В театре против Добужинского плели интриги. Что могли противопоставить местные завистники его таланту, опыту, широте кругозора, знаниям и трудоспособности? Разве что свою литовскую чистокровность, «национальную идею» и связи с местным начальством. Легко представить себе, что случилось бы, если бы в Петербурге стали судить об искусстве или, скажем, о поэзии по степени чистокровности творцов: что стало бы с Державиным, Фонвизиным, Жуковским, Пушкиным, Лермонтовым, Гоголем, Достоевским, Блоком, Ахматовой, Мандельштамом? Добужинский устроил свою художественную выставку в Берлине, но она не принесла дохода. Остроумова-Лебедева, встретившая семью своего старого друга Добужинского в Берлине, записала в дневнике: «Вначале он страшно там бедствовал. Еще в 1926 г. я застала в Берлине его с его семьей. В то время была открыта его выставка на очень хорошем месте в Берлине. Выставка была очень свежа и интересна, хорошо устроена… Елизавета Осиповна продавала сама билеты. А посетителей на выставке много не было. Ничего не было куплено, и они очень бедствовали». Добужинские переезжают в Париж, где художник увлекается живописью маслом и создает новые интересные работы. Он оформляет спектакль в «Летучей мыши» Балиева, участвует в выставках, но работы не хватает, и даже в театре он работает только у русских режиссеров. Разочарований было много. Лишенный, по его собственным словам, «микроба консервативности», Добужинский жалуется все же в письмах на процветание фокусов в искусстве Парижа: «Признаюсь, многое в парижских художниках, а особенно в театральной жизни, меня раздражает. В искусстве это, в сущности, мир франтов, нахалов и лакеев, и эта погоня за трюками и необходимость «удивлять» («Удиви меня. Жан», - томно говорил Дягилев королю франтов и «принцу педерастов» Кокто. И Дягилев знал, о чем речь: не удивишь – не продашь – Б. Н.) – в конце концов несносны, как несносен снобизм, который и есть сущность теперешнего Парижа…» Огорчил художника и неуспех выставки «Мира искусства», прошедшей в Париже в 1927 г.. Председателем жюри был избран Добужинский, заместителем его был Борис Григорьев, секретарем Билибин, а членами выставочного комитета Ларионов и Милиоти. Сорок три художника прислали свои работы из стран Западной Европы и Советской России, но успеха выставка не имела, другие люди и другие идеи были тогда в моде у модников-парижан. У Дягилева шел «большевистский балет» (как называл его сам композитор) «Стальной скок», спектакли у него оформляли Жан Кокто и Пикассо. Добужинскому же за это время удалось оформить лишь гоголевского «Ревизора» и пьесу Лессинга в Дюссельдорфе у бывшего мхатовца Н. Шарова. Добужинский понемножку преподавал в Париже, с успехом прошла у него выставка в магазине Гиршмана, но в целом, как отмечал он сам, с Парижем его связывала только мебель в парижской квартире. 117 В 1929 г. Добужинский был приглашен преподавать графику и театральное оформление в Художественном училище в Каунасе. Училище переживало тогда кризис, вызванный борьбой с «моральным разложением» и «богемным нравственным обликом» некоторых преподавателей. С приездом Добужинского весь провинциально-патриотический коллектив переключился на борьбу с привилегиями нечистокровного литовца Добужинского. Через год атмосфера в училище стала невыносимой, и Добужинскому пришлось уйти. Он перебивался частными уроками, но вскоре и частная школа его заглохла. Зато выручил сильно к тому времени обрусевший (туда пришли Зверев, Немчинова, Обухов, Павловский) каунасский театр оперы и балета. Добужинскому заказали оформление оперы «Борис Годунов», а позднее он оформил также «Тангейзера», Копеллию», «Спящую красавицу», «Раймонду», оперу Моцарта «Дон Жуан». В общем-то, по эмигрантским меркам каунасская жизнь Добужинского была не так уж скудна. В июле 1930 г. Сомов сообщал сестре Анюте из Парижа о встрече с Добужинским: «… Сегодня утром ко мне заходил Мстислав, у которого я тоже был на днях. Он блестяще устроился, профессорствует в местной художественной школе (в Ковно), при которой имеет свою собственную мастерскую даром, и за это получает 3 с половиной т. злотых, что равняется нашим 5 тыс. фр. Кроме того, работает в городском театре – постановки 3 в год и за каждую получает от 12 до 18 т. фр. Это почти богатство по нашему парижскому масштабу… Описывал мне город, его быт, его старину, и я думаю, что такой жизни в других местах Европы уже нет. Скорее напоминает нашу русскую последней четверти 19-го. Жалуется только на скуку и отсутствие интересных людей…» В 1935 г. Добужинский уехал вместе с литовским театром в гастрольную поездку в Монте-Карло, а оттуда в Лондон, где с особенным успехом были показаны «Копеллия», а также новый балет, поставленный во время гастролей («Карлик-гренадер» Т. Престона). Во время гастролей Добужинский оформил также «Бориса Годунова» для английского театра «Сэдлерс-Уэллс»… Лондонские гастроли затягивались, и Добужинский заметил, что он не слишком спешит вернуться на «историческую родину». Его грустные размышления об этом заметны и в его письмах того времени, скажем, в лондонском письме к В. Немировичу-Данченко: «С литовцами я не сроднился, меня все время считают чужим и, конечно, так оно и есть – русским художником, а ко всему русскому отношение там определенно неприятное, последнее время атмосфера скверная. Весь мой романтизм к «земле предков» выдохся…» Театр уехал, но Добужинский вернулся в Литву только во второй половине 1937 г. Во время парижских гастролей МХАТ в Париже в 1937 г. Добужинский повидался со старыми друзьями, с которыми все эти годы вел переписку и с которыми столько раз мечтали снова «поработать вместе». Даже человек, наделенный столь живым воображением, как Добужинский, 118 но не живший в ту пору в России, не мог себе представить, как страшно было в 1937 г. советским людям дома и за границей. Не мог представить себе, что даже Немирович-Данченко имеет право разговаривать с ним, с чудовищеминостранцем, только на людях, в присутствии двух-трех свидетелей. Новые спектакли Художественного театра показались Добужинскому свидетельстввом вырождения. Два года спустя он так рассказывал в письме об этом свидании: «Когда… в Париж приезжал МХТ, я всех видел. От свидания вне театра Владимир Иванович (Немирович-Данченко – Б. Н.) уклонился. Но я был позван за кулисы, где состоялось свидание на виду у всех… Оно, впрочем, было недолгим, помешали как раз в самый интересный момент: он спросил: «А когда же вы к нам, будет интересно поработать…» Хорошо, что помешали, не пришлось огорчать старика… видел и Ольгу Леонидовну, и Москвина, и Ив. Ив. Титова, и Ванечку Гремиславского, все ужасно старые и ограничились все только общими восклицаниями. Одна О. Л. Говорила со мной откровенно и грустно… спектакли произвели на меня угнетающее впечатление – все забыто, или вернее, повторяют зады… прежнего Художественного театра больше нет…» Вернувшись в Каунас, Добужинский задержался там ненадолго. В начале 1938 г. Михаил Чехов предложил Добужинскому приехать в Англию для оформления спектакля по роману Достоевского «Бесы». Новая встреча с Михаилом Чеховым, которого в Америке называли гением, с любимым Достоевским и с давно полюбившейся ему Англией были по душе Добужинскому, и он ответил согласием. Когда Михаилу Чехову было 4 года, его славный дядя-писатель упомянул племянника в одном семейном письме. «… Миша удивительный мальчик по интеллигентности, - писал Антон Павлович Чехов, - в его глазах блестит нервность. Я думаю, что из него выйдет талантливый человек». Писатель не обманулся. Михаил Чехов с шестнадцати лет учился театральному ремеслу, в двадцать лет увлекся Достоевским и самостоятельно подготовил сцену из «Преступления и наказания». В тридцать он сыграл Хлестакова и стал самым знаменитым в Москве актером. С тех пор он блестяще сыграл множество ролей, возглавлял 2-й МХАТ, потом покинул Россию, играл в Париже и в Риге, а с 1936 г. преподавал актерское мастерство по собственной системе в школе-студии, в Англии, куда он и пригласил Добужинского. В мае 1939 г. американский владелец чеховского театра предложил перенести репетиции за океан, в Риджфилд (штат Коннектикут), и труппа стала собираться в дорогу. Собиралась и семья Добужинского. Уплыли все вовремя, в июле, за два месяца до вступления Англии в войну. Перед самым отъездом, вероятно, и имело место событие, описанное уже известным читателю «искусствоведом-толстовцем» В. Ф. Булгаковым в его скромной книжечке смутных и ненадежных воспоминаний. Во второй половине 30- г. Добужинский посетил булгаковский «Русский музей» в чешском Збраславе и подарил этому музею пять своих работ. Музей и 119 директор Русского института Новиков поблагодарили художника в официальном письме. Позднее, если верить В. Булгакову, он встретил Добужинского в Париже, в гостях у Д. Бушена. Видимо, и официальное письмо из Праги, и сладкие речи опытного «искусствоведа» Булгакова убедили Добужинского послать свой архив и произведения на хранение в Прагу, в «надежный» музей. Все мемуаристы вспоминают, что Добужинский был «непрактичен» и доверчив. Такому профессионалу, как Булгаков, обольстит художника было легко. В сопроводительном письме Добужинский написал в Прагу, что ему предстоит далекое и долгое путешествие. Когда же это было? Булгаков заявляет, что это было примерно в 1938 г. Сын М. С. Добужинского считает, что в 1938 г. Добужинскому еще не предстояло «далекое и долгое путешествие». Р. М. Добужинский ставит под сомнение и утверждение Булгакова о том, что он, Булгаков был очень недоволен присылкой архива (может, «опытный искусствовед» не знал ему цены?). Булгаков сообщает, что Добужинский не отвечал на музейные письма, а потом вдруг прислал, если верить Булгакову, «довольно беззаботное по тону письмо, из которого явствовало, что вопрос о сохранности пражского собрания картин и рисунков не очень-то и беспокоит художника». Сын М. Добужинского художник Ростислав Добужинский утверждал печатно, что в своих «воспоминаниях» Булгаков написал неправду («Эти строки не имеют ничего общего с действительностью…») То есть, что бесценный архив был попросту украден у художника. «То, что отец до самой смерти, а затем моя мать в течение нескольких лет хлопотали о получении этого имущества из Праги, - писал Р. М. Добужинский исследователю Г. Чугунову, - лучшее опровержение легкомысленно-безразличного отношения отца к этому «имуществу». «Оправданием для разграбления архива как бы послужила Булгакову следующая фраза из письма Добужинского: «Я накопил здесь столько же…» Правда, по признанию Булгакова, Добужинский «уполномочивал музей сдать ВСЕ принадлежащие ему чемоданы» его знакомому Н. В. Заречкому. «Я просил… некоего З. написать художнику, который… оказался в Америке…» - пишет Булгаков. Так пишет, словно он и в глаза не видел директора собственного музея, организатора пушкинских выставок, знаменитого на всю Прагу Николая Васильевича Зарецкого… Куда же девал Булгаков чемоданы с рисунками, литографиями, картинами, шестью семейными альбомами? Нынешний читатель, в руки которому попадет полуграмотная книжечка В. Ф. Булгакова о его «встречах с художниками (Изд. «Художник РСФСР», Ленинград, 1969 г.), с первых ее страниц различит ощутимый запах липы. Впрочем, то, что автор сообщает мимоходом о себе и ценностях «Русского музея» не покажется русскому читателю (регулярно читающему в газетах о кражах в Эрмитаже и в музеях победнее) таким уж новым и неслыханным. Скажем, такие вот откровения хитроумного «искусствоведа»: 120 «… часть (лучшая часть) его (Добужинского – Б. Н. ) собраний отправлялась, согласно моему решению в Москву, а другая часть передавалась в распоряжение Комитета советских граждан в Праге… причем я, видя что художник не слишком и дорожит плодами своей художественной работы, взял себе на память большой натюрморт тушью, который и сейчас украшает мою комнату…» Легко предположить, что советскую квартирку честного «хранителя» украшало много произведений искусства, которые он «взял себе на память». Судя по его описаниям бывших и не бывших «встреч с художниками», В. Ф. Булгаков принимал художников за простаков. Как впрочем, и ту категорию населения, которую назвали когда-то «наш советский читатель». Читательница из Петербурга, приславшая мне недавно книжечку В. Ф. Булгакова о «встречах», предупредила меня, что автор не вызывает у нее доверия. Едва начав читать, я с огорчением убедился, что читательница права, и подумал, что, вот ведь, и читатель нынче не тот, что был в доброе старое время. Похоже, что сильно поумнел читатель… С этого «непрактичного» жеста начались заокеанские путешествия Добужинского, которые продолжались еще чуть не двадцать лет – при жизни художника и даже после его смерти. На седьмом десятке лет обитателю Старой Европы трудно было прижиться в Новом Свете. После Парижа, после уютного захолустного Каунаса, после провинциального английского Дартингтон Холла и даже после коннектикутского Риджфилда переносить Нью-Йорк оказалось трудно. Впрочем, виноваты были даже не утомительный Нью-Йорк и не Бостон: устала душа от странствий. Похоже, что Добужинский ничего не смог полюбить в Америке. А может, просто в письмах старым друзьям всегда тянет поплакаться. Потому что не один только Бродвей и одних дураков видел Добужинский в Америке. Были у него удачи в театре Метрополитен Опера, были овации. Беседовал с неглупой Берберовой, встретил сильно подросшего Володю Набокова… Подсоветские монографии обычно почти не останавливаются на эмигрантской жизни художников, которая согласно официальнопатриотической установке приравнивается к физической смерти. На самом деле, нелегкая эмигрантская жизнь все же меньше походила на смерть, чем существованье в насмерть перепуганной большевиками России. Добужинскому и после отъезда из Литвы перепало еще около двадцати лет творческой - художнической и писательской деятельности. Добужинский близко сошелся с блистательным режиссером и педагогом Михаилом Чеховым, которому по словам его биографа, удалось на Западе «осуществить свою мечту об особом нравственно-художественном театре». После закрытия школы-студии Чехова Добужинский писал в письме Сергею Бертенсону: «Школа его закрылась, что очень жалко, т. к. там делалось много хорошего и сам он ею жил пять лет и вкладывал всю душу. Я очень любил студию и рад был работать с ним, и благодарен за «Бесов» прежде всего. Как ни ругали, все-таки это было хорошо». 121 Конечно, чтобы по-настоящему понять «Бесов» надо иметь маломальский опыт жизни в ленинско-сталинской России или полпотовской Камбодже.. На их счастье, ни у американцев ни у французов такого опыта нет, так что успеха спектакль не имел. Чехов поставил оперу «Сорочинская ярмарка», и по сообщению Добужинского, постановка «имела очень большой успех – Чехов… блестяще преобразил американских певцов… Хотя и на мою долю выпал большой «успех», но вы знаете, как груб театр вообще, а в особенности тут, где никто с любовью ничего не делает, а чтоб «вкладывать души» - это умеем только мы – русские». За это вкладывание души» Добужинский даже угодил в Америке под суд. Он стал писать декорации по своим эскизам, и профсоюз потащил его в суд за то, что он отнимает заработок у театральных маляров-декораторов. Еле отбился русский художник, доказав суду присяжных, что он делал это бесплатно, бескорыстно, из чистой преданности искусству. Его простили, но напомнили, что со своим уставом в чужой монастырь не ездят… Из приведенного выше письма Добужинского к Бертенсону можно узнать о работах Добужинского в Америке: «я сделал в Метрополитен Опера «Бал Маскарад» Верди – очень большой успех. И потом в Американском Балете «Караван» балет на музыку 2-го Концерта Чайковского… поставил Баланчин блестяще … я же тряхнул Санкт-Петербургом… В балете Фокина «Русский солдат» на музыку Прокофьева «Поручик Киже» мне удалось сделать то, что давно хотел… Для этого с Фокиным изрядно поработали. Первый спектакль был в Бостонском театре…» И оформление «Русского солдата», и декорации к балету на музыку Седьмой (Ленинградской) симфонии Шостаковича, и иллюстрации к Лескову, и серия гравюр «Блокадный Ленинград», и продолжение «Азбуки «Мира искусства», и написание очерка «Круг «Мира искусства» для «Нового журнала» - все это было навеяно ностальгией художника, пробужденной трагическими известиями о войне в России, о ленинградской блокаде. Прочитав в третьей книге «Нового журнала» за 1942 г. воспоминания Добужинского, бывший его ученик, очень знаменитый в русских эмигрантских кругах (но тогда еще мало известный американцам) писатель Владимир Набоков прислал художнику письмо: «Дорогой друг, ваши воспоминания о Мире искусства очаровательны: это настоящий Добужинский. Эти овалы, врисованные как бы в текст с портретами Сомова, Бакста, Бенуа, Грабаря (да, я исправил опечатку) необыкновенно хороши». Добужинский много писал в эти американские годы (рецензии, очерки, мемуары), работал в библиотеках, готовил постановку «Хованщины», ездил по Америке. После войны он путешествовал с супругой по Европе и чуть не пять лет прожил во Франции (где обосновался его старший сын Ростислав). Добужинские неохотно возвращались из Европы в Америку, и в октябре 1957 г. художник писал в письме европейской приятельнице сразу по возвращении 122 «Я только что приехал в Америку. О, мой друг! Попросите нас вернуться в Европу как можно скорее. С болью в сердце мы ее покинули…» Вернуться в Европу Добужинскому было не суждено – точнее, вернуться живым: он прожил лишь месяц после возвращения. Прах его был перевезен во Францию и захоронен на русском кладбище Сен-Женевьев-деБуа под Парижем. Еще три десятилетия спустя в солидном московском издательстве «Наука» вышел том воспоминаний Добужинского, и газета «Русская мысль» попросила сына художника Р. М. Добужинского, жившего в Париже, поделиться своими мыслями об этом издании, которое было названо событием русской культурной жизни. Художник Р. М. Добужинский отметил две удививших его особенности издания. Первое то, что издатели еще и в 1987 г. прибегали к трусливой цензурной правке (прочем, ведь книгу выпускали долго, а постперестроечная смелость воцарилась не сразу). Скажем, из невинного сообщения Добужинского об Александре Блоке – «Чтобы вырвать его из невозможных условий жизни, стали хлопотать о его выезде за границу и о санатории в Финляндии» - издатели выкинули опасные слова «о его выезде за границу» (оставив, впрочем, санаторий в Финляндии»). Второе – то, что издание было «пиратским». Несмотря на эти смехотворные купюры «научного» издательства, «пиратская» книга заслуживает Вашего внимания. Ну а что лишний раз обобрали наследников Добужинского, так ведь и самого Добужинского (если верить признаниям «простодушного» В. Ф. Булгакова) обобрали солидно. Проживший три четверти века в Париже Ростислав Мстиславович Добужинский родился в 1903 г. в Петербурге, учился (вместе с Николаем Бенуа) в той же гимназии Карла Мая, что и старшие мирискусники, учился живописи у Кардовского, уже в 20-е годы работал художником в петроградских театрах, потом уехал с родителями в Литву, помогал отцу готовить декорации к «Пиковой даме», а в 1925 г. приехал в Париж, где продолжил свое образование в Национальной школе декоративных искусств. Он писал декорации для «Летучей мыши» Балиева, для русского балета в Монте Карло, а позднее – для Гранд Опера, Опера Комик, Комеди Франсез, для театра Ковент Гарден, для оперных театров Стокгольма и Амстердама, для знаменитых кинорежиссеров М. Оффюльса и Ф. Дзефирелли. В начале XXI в. во дворе наше муниципального дома в XIII округе Парижа поставили два супермодерных павильона и в одном из них разместили «детский сад для стариков». И вот кто-то сказал мне, что по утрам казенная машина среди прочих почтенного возраста парижан привозит в это новое, вполне симпатичное учреждение сына великого Добужинского. Я не упустил случая побеседовать с Ростиславом Мстиславовичем, да и он, похоже, был рад со мной побеседовать, потому, что ему было скучно и потому, что речь у нас зашла о покойной супруге художника Лидии Николаевне Добужинской-Копняевой. Я в ту пору писал книгу о насельниках русского кладбища Сен-Женевьев-де-Буа и рад был узнать подробности обо 123 всех, кто нас опередили. А Ростислав Мстиславович рад был вспомнить былые годы и свою добрую энергичную супругу. Ему было 19 лет, когда они познакомились. Лида была актрисой петроградского Молодого театра, который разъезжал со спектаклями по заводам, а Ростислав писал декорации для театра. Поженившись, они вместе уехали в Литву, а потом в Париж. Способная Лидия была к тому времени уже неплохой театральной художницей. В Париже она открыла театрально-декорационную мастерскую на пару с другой очень способной русской дамой – актрисой Верой Судейкиной-Шиллинг-Боссе (той самой, которая лет через пятнадцать стала вдобавок миссис Игорь Стравинский, а лет через тридцать провела в Риме свою первую персональную выставку абстрактной живописи). Ростислав часто выполнял работы для мастерской жены, где изготовляли костюмы, аксессуары для сцены и маски, маски, маски… Он очень любил делать маски. После войны Ростислав с женой открыли собственную мастерскую театральных декораций, и дела у них шли неплохо. - О, она умела находить клиентов, - с чувством сказал мне Ростислав Мстиславович. – Она познакомила меня с Ротшильдом… Но вот уже больше тридцати лет, как она умерла. Очень много курила, была отчаянная курильщица. Ни за что не курите, молодой человек… - Да я никогда и не курил, - жалобно сказал я, потирая тревожившую меня с утра левую руку: сердце, бедное мое сердце… - А я вот пережил всех Добужинских, - бодро сообщил мне Ростислав Мстиславович. … Он и правда умер, едва не дотянув до столетия и лет на пятнадцать пережив гимназического друга Колю Бенуа. О его смерти сказала мне как-то поутру в булочной наша консьержка. Я задумался на минуту, но запах горячих багетов напомнил мне о том, что я еще жив и надо идти завтракать. Мужицкая борода, стальная рука В тяжкие годы Второй мировой войны, когда артиллерия Гитлера обстреливала Ленинград, а голод добивал последних, недобитых Сталиным коренных петербуржцев, тоска по излюбленному городу особенно остро м учила в мирном Нью-Йорке признанного «певца Петербурга», художника Мстислава Добужинского. Добужинский начал тогда серию гравюр о воображаемом им «блокадном Ленинграде», а также вытащил из своего архива затеянную тридцать лет назад книжечку рисунков-шаржей с нехитрыми собственными стишками и короткими прозаическими текстами – шутливую «Азбуку «Мира искусства». Так снова предстали они перед ним за далью морей и десятилетий, друзья его лучших лет – Аннушка Остроумова, Костя Сомов, Левушка Бакст, Шура Бенуа, да лихой Иван Билибин с 124 охотничьим ружьем и лирой, с подстреленным зайцем и с бедными горлицами, притороченными к сумке – сколько их насчитаешь, сраженных им мягкосердечных, сладкоголосых горлиц? Но, конечно же, не знал, не мог знать метущийся, встревоженный Добужинский, что в те самые голодные дни в подземном общежитии-бомбоубежище петербургской, то-бишь, ленинградской, Академии художеств, а потом и на больничной койке отдавал Богу душу оголодавший 66-летний профессор живописи Иван Билибин… Помер и свален был без гроба вместе с другими «работниками искусств» из Академии в общую, «братскую» яму на Смоленском кладбище… А ведь все начиналось так весело, так славно в стольном Петербурге до того каких-нибудь лет за сорок… Вспоминая за морем Ивана Билибина, написал Добужинский в своей «Азбуке», что отличался уже тогда Биоибин от них от всех, «мирискусников»: «На фоне нашего Петербургского «европеизма» он был единственный… «истинно-русский» в своем искусстве, и среди общей разносторонности выделялся как «специалист», ограничивший себя только русскими темами и специальной техникой… Сам он по своим «богемных» наклонностям тоже был исключением… Происходил он из именитого петербургского купеческого рода и очень гордился принадлежавшими ему двумя портретами предков кисти самого Левицкого, одного юного купчика, другого бородатого купца с медалью. Сам Билибин носил русскую бородку «ā ia moujik» и раз на пари прошелся по Невскому в лаптях и высокой войлочной шапке-гречанке». Конечно, как и во всякой краткой, да еще и шутливой характеристике здесь только доля истины (или как шутили в наше время, «лишь доля шутки»). Билибин был и правда из старинного русского купеческого рода и, в отличие от других «истинно-русских» мирискусников (вроде Рериха или Стеллецкого), не мог отыскать среди ближайших предков ни немцев, ни финнов, ни датчан, ни поляков, ни украинцев. Но все остальное – и бородка, и лапти, и «исконно-русский стиль» письма – это было все уже игрой и мирискуснической стилизацией. Что же до «богемности», трудно даже сказать, что имел в виду Добужинский – большую, чем у прочих тогдашних шутников, проказливость, неуемную любовь к женщинам (а не к мужчинам), художественные браки, периодические запои или авантюризм? Родился потомок купцов Иван Билибин в Тарховке, неподалеку от Петербурга, в семье морского врача и героя морских сражений Якова Ивановича Билибина, который ушел в отставку в немалом чине тайного советника. Двадцати лет от роду закончил Иван с медалью Первую петербургскую гимназию, а потом (подобно нескольким другим мирискусникам из хороших семей) и юридический факультет Петербургского университета (то есть, в отличие от самоучки – абстракциониста графа Ланского, не лаптем щи хлебал), однако, еще и до окончания гимназии начал посещать занятия в Рисовальной школе Общества поощрения художеств, а во время студенческих каникул (летом 1898 г.) 125 полтора месяца занимался в Мюнхене у Антона Ашбе (там же, где и сам Грабарь был, и Добужинский. И Явленский, и Кандинский). Так что мюнхенские каникулы выпали на долю Билибина раньше, чем первые тверские, весьегонские, русские, деревенские. В Мюнхене к таким русским его кумирам, как всех поразившие когда-то на петербургской выставке В. Васнецов, Е. Поленова, С. Малютин добавились швейцарец А. Бёклин и немец Ф. Штук, позволявшие многим говорить о билибинской «штуко – и беклино-мании». Только двадцати трех лет от роду Билибин впервые посетил настоящую русскую деревню в Весьегонском уезде, в тех сказочных местах, которые потом сталинские «преобразователи природы» щедро затопили паскудным Рыбинским морем. В последующие годы Билибин и еще приезжал на лето в эти места, работал там над иллюстрациями для русских сказок. Упорные попытки молодого Билибина найти свой собственный язык рано привлекли внимание старшего мирискусника Льва Бакста, и Билибину были впервые заказаны виньетки для журнала «Мир искусства». Позднее, Билибин два года занимался в школе княгини Марии Тенишевой под руководством И. Е. Репина. Иные из мемуаристов (в их числе мирискусница А. Остроумова-Лебедева) считают создание этой школы едва ли не главной заслугой деятельной М. К. Тенишевой перед русским искусством. Один из учеников этой школы, художник Владимир Левисткий описал позднее свои занятия в студии Тенишевой, а заодно и своих друзейсверстников, среди которых был и Билибин. Вот что он писал, этот близкий к «Миру искусства» Владимир Левитский: «Как раз в это время пышным цветом распустились частные художественные мастерские – туда шли главным образом недовольные школой и Академией. Самой популярной из них была, безусловно, мастерская Тенишевой, под непосредственным руководством Ильи Ефимовича Репина… а слава Репина гремела». В толпе непризнанных еще гениев («кажется, около восьмидесяти человек», автор этих лишь недавно объявившихся на свет из частного архива мемуаров разглядел «молодого жизнерадостного черноватого, с большой для его лет бородой студентика с курьезной подпрыгивающей походкой. Назывался он чаще всего «Иван Яковлич», а фамилию его я узнал после: Билибин. Вначале я отнесся к нему скорее недоброжелательно…» Недоброжелательность Левитского была вызвана той самой чертой Билибина, которая и привлекала к нему соучеников (а в конце концов привлекла и самого мемуариста): «подпрыгивающий» Иван Яковлич был проказливый весельчак, забавник, шутник, стихотворец, певец, шкода. Ну, а старательный Левитский изо всех сил (но тщетно) пытался тогда услышать главное наставление от великого Репина, разгадать секрет живописи и всему сразу научиться. Поэтому он с таким вниманием следил за работой собратьев и смог отметить, что проказник Билибин, хотя и вполне небрежно относился к живописи, уже овладел «твердой, определенной, несколько суховатой 126 линией», которая не всегда казалась самому Левитскому убедительной. Как часто бывало раньше (и ныне еще ведется в «художках») Левитский ревниво и внимательно следил за увлечениями и «источниками» собратьев. Он отметил увлечение Билибина французом Мейсонье и великим немцем Дюрером и даже запомнил иллюстрированную французскую книжку, с которой тогда не расставался Билибин – что-то в ней было про Орлеанскую Деву. Автора книжки Левитский не упомнил, но дотошные искусствоведы книгу эту отыскали: Бутэ де Монвель, «Жанна д’ Арк» Париж, Плон, 1896 г. Левитский запомнил однако, что на иллюстрациях в этой книге «тонкий черный абрис был залит гармоничными сплошными слабыми тонами»… Итак, у разных французов и мюнхенских немцев, а не в скитах Заволжья и Северной Двины учился графике петербуржец Билибин, что с удивлением отмечали те, кого ввели в заблужденье его «купецкие» игры, скажем, князь С. Щербатов: «Выдающимся представителем национального русского искусства был И. Я. Билибин… Как это ни странно, в его чрезвычайно аккуратно, протокольно-внимательно по историческим документам исполняемых работах, он со своей суховатой техникой был сродни немецкому искусству». Итак, молодой Билибин испытывал сильное влияние немецкой, французской и даже японской графики, и в этом не было ничего странного. Он ездил учиться в Мюнхен, да ведь и Петербург был окном в Европу (позднее сам Билибин называл окном в Европу журнал и общество «Мир искусства»). Правда, наставник его, Репин, живопись Билибина не жаловал, но график был Билибин уже и тогда блестящий. Уже и в училище была у него безупречная «проволочная линия», не пером проводимая, а тонкой колонковой кисточкой (как говорили соученики, знаменитая «стальная проволока» Иван Яковлича, о которой столько спорили и за которую он героически держался). В пределах четкого контура (своей «линии») Билибин применял раскраску сплошными тонами – получалось как в витраже. Может, кстати, витражом и было это навеяно, а не только французской книжкой. Причем навеяно еще и до Билибина – у поразивших его воображение В. Васнецова, Е. Поленовой и Малютина. В. Левитский пишет, что аккуратного, педантичного Билибина в училище «поругивали «немцем» - немцев Билибин, действительно, очень уважал и любил. Он постоянно говорил, что только немцы понимают книгу…» Поездки по русским деревням начались у Билибина много позднее (с 1899 г.), а в долгие годы учебы был Иван Билибин человек городской, петербургский, о чем Левитский пишет с полемическим задором: «русского духа» Билибин не нюхал, а воспитание получил городское, с боннами, с иностранными языками, так что первооснова нашего стиля, деревня, ему была чужда. Ни няни, ни гения Пушкина, конечно, у него не имелось». 127 Полемический запал мемуариста Левитского объясняется тем, что русские народные сказки и сказки Пушкина всего через несколько лет стали связаны в русском сознании именно с Билибиным, со «стилем Билибина» и работами его подражателей. Впрочем, это случилось позже, а пока были годы «Тенишевки», которые мемуарист-художник называет «лучезарными». «У нас был свой оркестр… - вспоминает Левитский, - наши знаменитые «пятницы» (вечеринки) славились среди учащихся и особенно в Академии… Веселились так, что однажды у Марии Клавдиевны Тенишевой, жившей этажом ниже своего училища, упала с потолка люстра». Вспоминая о тех годах, Левитский словно разворачивает фразу («как мы были безмерно богаты!»), написанную некогда за океаном стареющим Добужинским: «Было у нас все, мы были богаче миллиардеров – музыка, пение, танцы, литература и все свое. Какие-то неистощимые крезы молодости!» (Когда я рассказываю нынче французам, как жилось мне в молодые годы, полунищему, в горнолыжном Терсколе или таджикском Ворухе, они восклицают: «Да ты что, был миллионер?») И конечно, среди молодых художников и художниц «царствовала «любовная атмосфера», - как сообщает Левитский, - Потом несколько пар переженились…» Мемуарист называет только две пары, но как часто бывает с мемуаристами, о себе он никаких интимных подробностей не сообщает, а между тем, он и сам женился в те годы на соученице-художнице Лидии Вычегжаниной, которая позднее, вторым браком вышла замуж за другого «тенишевца» - Сергея Чехонина, усыновившего и взрастившего двух сыновей Лидии от Левитского – Петра и Георгия, тоже ставших художниками (Петр, живя позднее во Франции, взял себе псевдоним Пьер Ино). Что до нашего героя Ивана Яковлича, то он, по свидетельству Левитского, подолгу любезничал во время занятий в мастерской с миловидной Машей Чемберс, на которой вскоре и женился. Машин отец был ирландец и звали его Джеймс Стивен Чемберс, а мама у нее была чистая англичанка (Элизабет Мери Пейдж), однако и Маша (Мария-ЕлизаветаВероника) и ее брат Володя, которые родились в Петербурге, были отчего-то Яковлевичи. Вообще, иностранцев было тогда в космополитическом Петербурге так много, что даже и для второго брака Билибин нашел себе обрусевшую ирландку-художницу… Однако от хроники чувствительного сердца Билибина пора вернуться к его железной руке и стальной линии. Билибин признавал только кисточку, но при этом, по словам Левитского, «рука его вела линию осторожно, осмотрительно, без поправок. Что проведено, то беспрекословно… «Стальная линия» - вот его характерное, самоличное определение». Иные из коллег назвали Билибина «Иван Железная Рука» или «Иван Стальная Рука», да и сам Билибин написал однажды о себе без лишней скромности в ревнивом письме любимой женщине, уехавшей за море: 128 «… художник Билибин не имеет в своем роде никого себе подобного… У этого художника есть настоящее мастерство и настоящий талант: у него есть волшебство в руке, и то, к чему он прикасается, становится красивым…» Это билибинское волшебство обнаружилось довольно рано, еще в ту пору, когда, окончив «тенишевку», он продолжал вольнослушателем занятия у Репина при Академии художеств. В 1899 г. и в последующие три года Билибин иллюстрировал по заказу «Экспедиции заготовления государственных бумаг» (той, что размещалась на Фонтанке в доме N 144) русские сказки – «Василиса прекрасная», «Финист Ясный Сокол», «ЦаревнаЛягушка», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван-царевич, Жарптица и Серый волк», «Белая уточка», «Марья Моревна»… Вот она передо мной, книжка – «Сказки», 1903 г. (уже и первый сын родился тога у Маши с Иваном), «цена каждой книжки 75 копеек», «куплено в магазине на Невском 19», а уж тиражи у нее потом были, тиражи – и все в карман вечно несытой казне… Помнится, что и полвека спустя, в мои студенческие годы, типография Гознак, известная всякому русскому, имевшему хоть сколько-нибудь бумажных денег, все еще выпускала сказки с иллюстрациями Билибина. Да что там, собираясь к дочке в Париж в 80-е г. минувшего века, я непременно вез в подарок деткам нарядные «билибинские» книжечки в переводе на французский (цена была все та же, копеечная, хотя копейка и упала в цене безмерно). Сколько же денег принес за сто лет чародей Билибин русскому государству и Гознаку? Так или иначе билибинские сказки, прекрасно иллюстрированные, прекрасно изданные и недорогие обрели всенародную известность. Они были достижением в области книжного оформления – настоящий ансамбль с типовой обложкой, буквицами, орнаментом. На обложках были три богатыря (гениальная находка Виктора Васнецова), птица Сирин, Змей Горыныч, избушка на курьих ножках, а по краям – цветочки, елочки, березки, грибы мухоморы… С 1900 г. и Билибин, и супруга его, Маша Чемберс, и ее брат Володя стали близки к «Миру искусства». Билибин оформлял журнал вместе с Бакстом и Е. Лансере. Добужинский так вспоминает об этом в своей «Азбуке «Мира искусства»: «Хотя Билибин был постоянным сотрудником «Мира искусства», я не помню его на собраниях у Дягилева, кажется, он был одно время «в опале», и я познакомился с ним позже, чем с другими. Вспоминаю, как Бенуа раз сказал при мне Яремичу: «Поедемте к Билибину, надо его наконец вытащить, кстати и жена его очень милая художница…» Жена Билибина, англичанка М. Я. Чемберс, была действительно очень милой художницей и милым человеком. Она делала тогда рисунки для детских книжек, но талант ее заглох из-за семейных забот: она всю себя отдала воспитанию маленького оглохшего сына». Мария Яковлевна Чемберс была на два года старше Билибина. В первое десятилетие XX в. она занималась книжной графикой, рисовала экслибрисы и открытки для Общины святой Евгении, сделала иллюстрации 129 для собрания сочинений Лермонтова, занималась станковой графикой и оформила книжечку собственных стихов. Она выставляла свои работа на выставках «Мира искусства» в Петербурге, в Москве и в Киеве, выставлялась в Салоне Издебского, на выставках Нового общества художников, на петербургской, московской и киевской выставках Союза русских художников… Ее брак с Билибиным распался к 1911 г. Она родила в этом браке двух сыновей – Сашу и Ваню. Старший, Саша, заболел в детстве скарлатиной и оглох… Весной 1914 г. Мария Яковлевна повезла Сашу для лечения в Швейцарию, но вскоре началась война, и в Россию Мария Чемберс больше не смогла вернуться. Она жила в Италии у друзей до 1917 г. позднее (поскольку мать ее сохранила английское подданство) ей разрешили задержаться, а потом и остаться на жительство в Англии. Саша учился в школе для глухих, читал по губам русскую и английскую речь, потом поступил в Лондоне в Центральную школу искусств и ремесел, писал декорации для театра, участвовал в художественных выставках С 1927 по 1936 г. он приезжал во Францию к отцу, и тот занимался с ним рисунком. Над эскизами для пражской православной церкви Саша работал вместе с отцом. Шестидесяти лет от роду художник Александр Билибин женился на англичанке, а в 63 года принял английское подданство. Говорят, что он надеялся с гордым британским паспортом посетить брежневскую Россию, но судьба судила иначе. Инсульт сразил его раньше, чем мечта его осуществилась, и он похоронен был по смешанному – англиканскому и православному обряду на церковном дворе в Хартинге, близ которого он столько раз писал мирные английские пейзажи. Младший сын Билибина Иван стал журналистом, связался с ненадежным политиканом Казем-Беком и младороссами, так что в последние годы своей долгой жизни состоял секретарем при великом князе Владимире Кирилловиче, том самом, что жил в Бретани, был в молодости небогатым поклонником Гитлера, а позднее был похоронен в присутствии самого Б. Н. Ельцина в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга… В 1917 г. уехал в Англию и брат Марии Чемберс Владимир Яковлевич Чемберс. Он был на три или четыре года моложе сестры, учился в мастерской М. Тенишевой у Репина и в Рисовальной школе Общества поощрения художеств, дружил с мирискусниками. Оформлял пушкинского «Евгения Онегина», в 1905 г. рисовал политические карикатуры для журнала «Жупел», позднее делал вместе с Добужинским декорации для Старинного театра и для театра «Лукоморье», участвовал в трех выставках «Мира искусства», был хранителем Музея барона А. Штиглица. После февральской революции он вошел было в какую-то комиссию Cоюза деятелей искусства, но дальнейшего развития русской трагедии дожидаться не стал – вовремя уехал в Англию… 130 В 1919 г. он еще собирал средства в помощь жителям освобожденных от большевиков районов России. Жителям тех районов, что были под большевиками, помочь мог только Господь… Осенью 1934 г. Александр Бенуа прочувствованно помянул любимца «Мира искусства» Владимира Чемберса в рубрике «Ушедшие» эмигрантской парижской газеты «Последние новости»… Однако вернемся к карьере самого Ивана Яковлевича Билибина. Для него первое и второе десятилетия XX в. были годами его всероссийской славы и бурной деятельности. Заказов у молодого, но уже признанного корифея «русского стиля» было теперь такое множество, что проучившись еще года полтора в Академии, он сбежал от Репина, а перед уходом, как припоминает Левитский, «выкинул мальчишескую вещь: сшил себе длиннополый сюртук, вроде онегинского, с огромным воротником. Этим он доставил нам много веселых минут. Прямые длинные волосы, походка петушком и русский стиль в ампире, конечно, производили пресмешное впечатление. Время было такое…» Итак. Дела шли у Билибина хорошо. После командировок на Русский Север он обратился к былинам и к сказкам Пушкина. В рисунках к былинам отразились впечатления его путешествий, появились пейзажи Севера, которые причудливо сочетались с видами фантастической придуманной Индии. Путешествия обогатили художника более глубоким знанием старинного русского орнамента. Среди его иллюстраций к пушкинским сказкам особенно прославились яркими эклектическими рисунками и юмором иллюстрации к «Сказке о золотом петушке», которые куплены были Третьяковской галереей. Русский музей приобрел у Билибина иллюстрации к «Сказке о царе Салтане». Это ли не успех? Билибин выполнял теперь заказы издательства А. Маркса, издательства Голике и Вильборга, издательства «Шиповник» и таких журналов, как «Мир искусства», «Золотое руно», «Аполлон», «Солнце России» и еще, и еще… Русские малыши, открывая свой первый учебник «Живое слово» Острогорского, с детства приучались к «русской вязи» Билибина. Не чужому дяде, а Ивану Билибину была заказана серия почтовых марок к 300-летию Дома Романовых. Марки понравились, хотя попутно выяснилось, что Дом Романовых Билибину не по душе. Этнографический отдел Русского музея посылал Билибина в поездки по Архангельской, Вологодской, Олонецкой и Тверской губернии. Художник-горожанин впервые увидел, «как эти старинные, срубленные церкви прилепились к берегам северных рек, как расставлена деревянная утварь в просторной северной избе и как деревенские щеголихи наряжаются в старинные наряды». Билибин увлеченно собирал старинные предметы, фотографировал избы и церкви, писал статьи о народном творчестве… На место фантазии и домыслов приходило точное знание этнографических деталей. Впрочем, не все знатоки искусства считали такую точность полезной для творчества. Тот же Левитский писал: 131 «он зарылся во всевозможные издания по стилю, в гравюры по дереву, лубки, набойки – ретроспективизм начал царствовать. Но знания точно шли Билибину во вред. Все больше и больше начало веять от его работ холодком и становилось уже страшно за чеканный грядущий штамп». Почти так же отзывался о влиянии этнографической учености на Билибина и сам Александр Бенуа, объясняя, отчего Билибин казался ему недостаточно изобретательным для оформления балета «Жар-птица»: «Из «специалистов древнерусского стиля» ни Билибин, ни Стеллецкий не подходили к данной задаче – слишком в творчестве как того, так и другого было много этнографического и археологического привкуса…» С ними соглашается и современный исследователь творчества Билибина С. Голынец: «Этнографические знания вытесняют из его творчества элементы ложнорусского стиля и стиля модерн, но одновременно начинают вносить рассудочность и сухость». Может, отчасти были правы и Левитский, и Бенуа, и Голынец, и другие, обвинявшие Билибина в холодном бесстрастии его «стальной руки». Но все же и театру сгодилось его мастерство, и «Жар-Птицу» он оформил в конце-концов (хотя и в далекой Бразилии) – все сгодилось и в России, и за границей. Любопытно, что работа в театре благотворно повлияла на книжную графику Билибина, чего не мог не признать ревнивый сверстник В. Левитский, писавший, что с театром «начался отход от «билибинского стиля» (ставшего к тому времени трафаретом и вызвавшего массу подражаний) – в последних былинах Ивана Яковлевича это ясно видно». Первая работа Билибина в театре была показана не в Петербурге, а в Праге, где Национальный театр заказал ему оформление оперы РимскогоКорсакова «Снегурочка». Это было в 1904 г., незадолго до Первой русской революции. Во время революции выяснилось, что Билибин, как и многие мирискусники «второго призыва» (вроде Добужинского и Лансере), революционер (пусть даже «карманный» или «комнатный» революционер). В N3 журнала «Жупел» за 1906 г. Билибин поместил дерзостную картинку, на которой Государь Император был изображен в виде осла. Подпись под карикатурой гласила, что это «Осел в 1/20 натуральной величины». Карикатура послужила поводом для закрытия журнала, полиция явилась домой к Билибину с обыском, и дерзкий художник был арестован проклятой царской полицией… на одни сутки. Нет, недаром россияне предпочти жесткому царскому режиму гуманистов-большевиков. Нарисуй Билибин по возвращении в Ленинград карикатуру на самого мелкого из большевистских бюрократов, ворон не сыскал бы его косточек уже и через сутки. А в 1906 г. целый и невредимый Билибин вернулся через сутки домой, к созидательному ревтруду. С 1907 г. до самой революции 1917 г. Билибин преподавал в Рисовальной школе Общества поощрения художеств. Он вел там класс 132 графического искусства и младший класс композиции. Среди его студенток была хорошенькая девушка из Запорожья Александра Щекатихина. По настоянию Билибина эта талантливая студентка совершила поездку по северным русским городам – прежде, чем выйти замуж, чем овдоветь, чем стать третьей женой самого Билибина… Впрочем, до всего этого было еще далеко. Пока что эта Шурочка дружила со второй женой Билибина Рене Рудольфовной О’Коннел, подолгу жила у Билибиных, у них и познакомилась с неизменным членом их компании симпатичным композитором и присяжным поверенным Потоцким, служившим в школе Общества поощрения художеств «деловодом». Поскольку этот милый человек склонил Шурочку Щекатихину к браку и подарил ей сына (прежде, чем навсегда покинуть вконец оголодавшую «колыбель Революции) и наш лучший из миров), позволю себе привести описание молодого юриста Потоцкого, оставленное учеником Билибина, художником Иваном Мозалевским: «Потоцкий был интересен внешне: он походил по фигуре и по типу своего худого загорелого лица на индийского факира. Он больше слушал, чем говорил, и все же умел, будучи даже грустным, как-то не вносить диссонанс в нашу веселую компанию. По общему решению ему пожалована была чалма из махрового полотенца. Он всегда надевал ее и становился еще более похожим на заклинателя змей». Итак. Компания у Билибиных была веселая, все были шутники и любили выпить. Что до Шурочки Щекатихиной, то она в ту пору, по сообщению Мозалевского, «была девицей провинциальной и весьма застенчивой. Иван Яковлевич любил подшутить над ней, чтобы ее смутить». Только лет через двадцать, в Париже, Мозалевский обнаружил, что третья жена Билибина, хозяйка салона на бульваре Пастера Александра Васильевна Щекатихина женщина «с норовом». Но это было много позднее, за тридевять земель от Петербурга, а пока, по свидетельству того же Мозалевского, «Иван Яковлевич очень любил петь, приплясывая, русские частушки или народные песенки вроде: Ой, девицы, По горошенке, Хоть по маленькой Да хорошенькой!» Выпивали по маленькой, потом еще – и веселье вступало в новую фазу, Иван Яковлевич «вместо бубна приносил из кухни какой-нибудь таз или решето и, жеманясь по-бабьи, подтанцовывал, эдак бочком, притоптывая каблучками, пел: Под горку шла, Решето несла – Уморилась, уморилась, Уморилася… 133 Иван Яковлевич любил повеселиться, - продолжает свой рассказ Мозалевский, - но особенно любил он кинематограф… Чаще всего мы ходили в «Солейль» и «Пикадилли». Это были тогда самые фешенебельные кинематографы Петербурга… … Один раз в год, на торжественном акте по поводу окончания учебного года… Иван Яковлевич декламировал сочиненную им оду… или, как сам иногда называл ее, «опус»… После чтения этого «опуса»… следовали бесконечные тосты…» Выпускник петербургской классической гимназии и юрфака, Билибин помнил кое-что из греческого и латыни, и оттого казался провинциалу Мозалевскому совершеннейшим полиглотом, ибо в застолье он поражал ученика и гостей фразами из учебника латыни. О чем же говорили в застольях у Билибина? Об искусстве или, может, о политике, о грядущих войнах и катастрофах… Нисколько. Если верить знатокам художественной среды, художники редко говорят о политике, и воспоминания Мозалевского подтверждают это наблюдение: «Приехавши в 1909 г. в Петербург, я попал в окружение, где о политике не говорилось вовсе… В годы моего пребывания в Петербурге мои руководители и наставники тяготели больше к коммерции, чем к политике. В течение 1913 и 1914 г. Иван Яоквлевич каждое утро звонил по телефону к своему биржевому агенту, некоему Белису, а иногда Рериху или Щуко, чтобы узнать у них достоверно, в каком положении на сегодняшний день находятся акции общества «Азиатик» … вся интеллигенция, в том числе и художественные круги столицы, были охвачены какой-то неудержимой жаждой наживы, желанием разбогатеть на спекуляции акциями…» Забавное, хотя и вполне «идейное» наблюдение подсоветского мемуариста над бытовыми подробностями Серебряного века… Кстати, и патриот Билибин и мистик-патриот Рерих (в отличие от трезвого «европеиста» Добужинского) были люди вполне деловые. В 1907 г. и в последующие годы Билибин много работал для театра. Мозалевский, кстати, помогал расписывать декорации по эскизам учителя (и работодателя), причем выяснилось, что Билибин способен оформлять не только «чисто русские темы. Он сделал эскизы декораций и костюмов для пьес «Действо о Теофиле» Тютбефа, для «Овечьего источника» Лопе де Вега и для «Чистилища святого Патрика» Кальдерона. Все три спектакля были поставлены Старинным театром. Московская опера С. Зимина заказала Билибину декорации для «Золотого петушка» Римского-Корсакова и «Аскольлдовой могилы» Верстовского. Билибин оформил также оперы «Садко» и «Золотой петушок» для театра Народного дома в Петербурге и участвовал в оформлении «Бориса Годунова» для антрепризы Дягилева… О знаменитых декорациях Билибина к «Золотому петушку» искусствовед С. Голынец пишет, что это был «такой же «облагороженный 134 лубок», как и иллюстрации к пушкинской сказке, с теми же стилизованными горками, деревьями, облаками и даже с той же контурной линией». Искусствоведы (в их числе С. Маковский) отмечали у Билибина сочетание грубоватого, чисто лубочного рисунка с «тончайшей вязью «а ла Бердсли». Англичанин Бердсли всех мирискусников волновал… За несколько предвоенных лет Билибин сделал поистине головокружительную карьеру. Не удивительно, что он был выдвинут в академики Академии художеств, но утверждения пройти не успел, и это тоже не удивительно: на дворе стоял 1917 г. В тот год рухнул прекрасный, незабываемый петербургский мир, который так дружно проклинала (а на поверку оказалось – так обожала) вся русская интеллигенция и даже самая ее аполитичная прослойка – художники… К моменту великого потрясения Билибин успел уже давно расстаться с милой Машей Чемберс и добрых пять лет прожить в новом браке с Рене О’Коннел, миловидный русской ирландкой, тоже художницей. Как богата была многонациональная русская земля, ежели на все браки Билибина хватило в ней красивых, талантливых художниц всех кровей и расцветок! После революции почтенный сорокалетний художник Иван Билибин вошел в особое совещание по делам искусств и в Комиссию по охране памятников искусства и старины. Было еще пока довольно весело, собирались по-прежнему в застолье, и спиртное удавалось добыть – не тем, так другим способом. В дневниках Бенуа за 1917 г. есть несколько записей о веселом человеке Билибине, который еще ходит на нудные совещания, где они с Нарбутом «балуются как мальчишки». Потом Билибину перестают нравиться большевики, а потом… Вот последняя запись о Билибине в дневнике суетливо-деятельного в ту пору А. Н. Бенуа (запись за 14 июня 1917 г.): «Представленные… проекты я забраковал и посоветовал обратиться к Билибину… Тотчас же по телефону справился у Билибина об условиях, причем получил от заики (вероятно, пьяного, ведь О’Коннель французская гражданка и может получать вино беспрепятственно) целый поток брани по поводу универсала Рады о независимости Украины… Говорят, Билибин в пьяном виде уже распевает «Боже, царя храни», восхваляет казаков…» А вскоре Билибин, не дожидаясь ни октябрьского контрреволюционного путча, ни обострения алкогольных трудностей в столице, уехал прочь от всей этой заварухи, а заодно и от миловидной жены… Он уехал в Крым, в свой баты-лиманский рыбацкий домик на берегу, который иные источники называют «имением», а иные даже «поместьем». Батылиманская идиллия Собственно, оно и было имением, это скопление дачных домиков, но имением коллективным, чем-то вроде дачного кооператива или колхоза. Вот как рассказывала о нем зачинательница и организаторша этого 135 интеллигентского кооператива, дочь знаменитого доктора и друга писателей Людмила Врангель-Елпатьевская: «Нас было много собственников имения Баты-Лиман… переживавших грозное революционное время в этом уголке южного берега Крыма. Баты-Лиман, прижатый огромной каменной стеной к морю, пожалуй самое теплое зимой и самое жаркое летом место в Крыму… Высоко поднялись серебристые скалы над пропастью внизу… Так дико все, земля бесплодна, и эта героическая красота, эта власть миров над человеком всегда привлекали к себе людей, настроенных пантеистически. Билибин много и любовно писал этот каменный хаос с редкими зелеными великолепными соснами, его прозрачное, голубое небо». Людмила Врангель случайно отыскала этот уголок берега близ Байдарских Ворот и купила его на паях с другими, чьи имена найдешь в ее позднем очерке: «Пайщики Баты-Лимана принадлежали к артистическим, литературным и общественным слоям дореволюционной России. Это были: артисты Московского Художественного Театра – Станиславский и Сулержицкий, певицы Е. Я. Цветкова и Ян-Рубан, художники Билибин и Руднев, писатели Короленко, Ельпатьевский и Чириков, профессора М. Ростовцев, П. Милюков, А. Титов и В. Вернадский, общественные деятели: Фон Дервиз, Де Плансон, Н. Шнитников, Радаков, М. Петрункевич, П. Гукасов, А. Кравцов и др…» Прикупили пайщики и соседнее имение Ласпи. Милюков одним из первых построил себе дачку, а Билибин, неоднократно упомянутый в очерке Л. Врангель, и вовсе купил готовый рыбацкий домик на берегу… Так возник в Крыму «второй Коктебель». Напомню, что «третий Коктебель» или «второй Баты-Лиман», стараниями той же Людмилы Врангель появился лет десять спустя, уже в изгнании, на Лазурном Берегу Франции, близ Борма и Лаванду, и в нем тоже поселились в первую очередь прежние батылиманцы – Милюков, Билибин, Людмила ВрангельЕлпатьевская… Почти два года, проведенные Билибиным в этом крымском убежище, были довольно идиллическими. Конечно, здесь не было питерского и московского веселого многолюдья, не сыпался на художника дождь заказов, но Билибин все же работал, и он был снова влюблен. Над его прибрежным рыбачьим домиком, на крутом склоне стояла еще не достроенная, но уже белевшая колоннами дача известного писателя Евгения Чирикова. Там жили в те годы вместе с писателем две его прелестные дочери – Новелла и Людмила. Красивая Людмила с пятнадцатилетнего возраста брала уроки живописи у Кардовского, участвовала в художественных кружках, а с 1918 г. в Баты-Лимане брала уроки у Билибина, который был в нее влюблен. Об этом свидетельствуют уцелевшие письма, стихи и рисунки Билибина. Их чуть не три четверти века спустя, из мирного пенсионерского штата Флорида 136 прислала в московский журнал «Наше наследие» 94-летняя Людмила Чирикова. Вот как она вспоминала о батылиманской жизни Билибина: «Наши дачи соединялись не очень долгой, но очень крутой тропой по обрывам с виноградниками, которые спускались к берегу моря. Мой отец был связан большой дружбой с художником, и много веселых и интересных бесед за стаканом вина происходило на нашем балконе с белыми колоннами и затягивались эти беседы иногда до полуночи. Я помню, как раз Билибин выпил немного лишнего, и мы с балкона смотрели с тревогой, когда он с фонарем, в темноте, возвращался домой по этой крутой тропинке. Огонек его фонаря тревожно колыхался и вдруг, проделав петлю в воздухе, круто спустился вниз и погас. Мы все ринулись его спасать…» Билибин писал тогда портреты Людмилы Чириковой и ее сестры Новеллы. В 1919 г. в Ялте, где собралось к тому времени немало русских художников, устроили большую художественную выставку, и Билибин повез туда написанные им в Баты-Лимане портреты, а также работы своей ученицы Люды, которой она так сообщил в письме об их успехе на выставкоме, где «жюрировали очень строго, почти по Мир-Искусственному масштабу»: «Ваши вещи вполне понравились и, главным образом, «Натюрморт с чайником»… Судейкин и Сорин вполне одобряют мой портрет Новеллы Евгеньевны. Мне это очень приятно. Ведь это мой первый портрет, и он, по мнению Милиотти и Судейкина, лучше соринских… Вчера на выставке мне очень понравилось суждение о нем Марии Павловны Чеховой, сестры А. П. Чехова. Она мягкий человек, хорошая русская душа, которая была и будет в нашем народе, несмотря на Совдепию. Меня она знает мало, но то, что она сказала, меня тронуло. Она мне сказала, что ей все равно, что за дамы нарисованы у Сорина, а молодую женщину, нарисованную мною, ей хотелось бы видеть и услышать ее голос. Теперь я буду рисовать Вас. Я вложу в эту работу всю мою жизнь и мое умение, а так как я Вас очень люблю, то это будет хорошо сделано. Простите меня и не сердитесь, если я Вам скажу, что я здесь очень скучаю по моей новой графической ученице… … Если бы Вы знали, какое я переживаю хорошее время. Не выставка, а нечто совершенно иное превратило все мои нервы в струны какого-то инструмента, и на душе у меня сплошная музыка. Возраста нет… … внутри есть скрипка, и скрипка эта поет только о моей возлюбленной, а кто она – знаете Вы! Вчера мы шуточно спорили с Судейкиным, кто из нас знаменитее? Он сказал, что он целый оркестр, а я только скрипка, и он попал в точку. Да, я скрипка, ренессансная, такая, знаете, с изогнутым луком смычком, но которым играют ангелы. Не сердитесь за это послание и при встрече со мной нацепите на себя какой-нибудь зеленый листик, а если листка не будет, то значит, мои сны останутся только снами…» 94-летняя Людмила сообщает читателю в двух словах, со всей деликатностью и застенчивостью русской барышни о том, что она осталась глуха к исступленному зову любви: 137 «Листик я все-таки не нацепила, я была вольная душа тогда». Это сообщение она подкрепляет двумя стихотворениями Билибина. Но это был еще далеко не конец романа и не конец злоключений его героев. Родители Людмилы уехали на север на поиски сыновей, а позднее уплыли из Севастополя в Константинополь. Людмила же и ее сестра поехали вместе с Билибиным в Ростов-на-Дону, где он работал в Осведомительном агентстве деникинской армии, так что успел побыть и «добровольцем» и «белогвардейцем». Потом они были все вместе в Новороссийске, где сестры Чириковы перенесли тиф, лежали обритые наголо в больнице, и, наконец, в феврале 1920 г., вместе с Билибиным отплыли в эмиграцию на корабле «Саратов». Тиф царил и на корабле. Ни в одном порту их не принимали из-за отсутствия тифозного карантина. Только в марте они добрались, наконец, в Египет, где их поместили в изоляторы карантина. Теперь Билибин писал Людмиле в женский изолятор письма с восточной цветистостью: «О, звезда моего сердца!» «О, гранатовое дерево в полном цвету», «О, источник жизни в пустыне моего сердца!»… Наконец, они все вместе добрались до окрестностей Каира. «… именно тогда, - вспоминает Людмила, - Билибин потерял равновесие и запил. Для меня это была первая и трагическая встреча вплотную с его алкоголизмом». Вопреки опасениям, запой вдруг кончился. Билибин считал, что в борьбе с пьянством ему помогут усилия воли и труд: «Ведь пьянство – это забвение, это вера в то, чего нет. Это утешение, это надстройка над жизнью… … Власть карандаша и бумаги твердая, трезвая власть. Как у больного апатией, так и у меня возрождается интерес к моему восхитительному и любимому делу». Пытаясь утешить вконец отчаявшуюся Людмилу, Билибин присылает ей «философские «Рассуждения о счастье»: «Вот я люблю пить вино. Это порок и очень скверный. Это, может быть, окончательная преграда для других людей, у которых есть гостиная, столовая, детская и все. Но для людей искусства это очень больная, обидная, словом, неприятная помеха, но не преграда. Ведь мы, имея крылья, можем перелететь через нее на зеленый луг с цветами!» Другими словами, «Нам нет преград…» Людмила, семьдесят лет спустя, сопровождала эту попытку философии грустными подробностями: «А ведь жизнь его выбивалась всякий раз в такие периоды на добрые две недели, и я всегда очень это переживала». Может, и окончательный разрыв произошел между ними именно из-за этих повторяющихся запоев… Ну, а пока, в Каире все более или менее обошлось. Общими силами оборудовали мастерскую, нашлись помощники – некий Есаул. А также былая ученица Билибина Ольга Сандер. А главное, нашлись заказчики. Кто-то (то ли бывший русский консул, то ли «очень предприимчивый итальянец») свел 138 Билибина с богатыми людьми из греческой колонии Каира, давшими ему заказы. Закипела работа. В своем мемуарном очерке Людмила Чирикова ностальгически описывает новую студию, оборудованную общими усилиями, и веселые минуты работы, дружбы и, наверное, любви тоже: «В мастерской было уже весело и уютно. У стены стояло начатое большое декоративное панно в пять с половиной метров длины и два с половиной метра ширины. Византийский стиль VI века эпохи Юстиниана. На нем было все: император, императрица, шествие придворных и богатейшие орнаменты, над которыми трудилась помощница Ольга Сандер. На мольберте стояло начатое панно «Борис и Глеб на корабле», которое я очень любила и над которым я работала. И уже подвигались иконы для маленькой греческой церкви при госпитале. Третий помощник, по прозвищу Есаул, трудился над ними, накладывая листовое золото. Наш маэстро выбрал старый стиль икон XV в., и заказчики, которые были не очень образованные люди, хотя они все же заплатили, но как говорил Билибин в свое оправдание, «довели меня до точки», в оправдание он хорошенька запил, нанял верблюда и стал разъезжать на нем по мусульманскому Каиру и по близлежащей пустыне. Работа остановилась на две недели. Я сидела огорченная и сердитая в моем английском пансионе, когда появился у меня наверху наш араб-слуга в белом халате с красным кушаком и в красной феске, и торжественно принес на подносе карточку посетителя, на которой было написано: «Иван Яковлевич Билибин стоит внизу Очень огорченный тем, что случилось, Но сердце его любвеобильно и вопрошающе: … Солнце, солнце! Выгляни в оконце!» И наша дружба была восстановлена, и работа пошла дальше. Мусульманский, арабский Египет… вдохновлял на творчество нашего маэстро… Все свободное от работы время мы осматривали город и знаменитые мечети. Тогда он сделал несколько очаровательных акварелей…» В начале 1922 г. Людмила Чирикова уехала в Берлин встречать своих родителей и братьев. Билибин еще и в конце 1922 г. посылал ей отчаянные призывы – в Берлин, а потом и в Прагу, утверждая, «что такая любовь бывает, вероятно, лишь один раз в жизни»: «Может быть, готовность отдать за человека последнюю каплю крови (это не слова только) – чего-нибудь да стоит! Я бы оберегал каждый шаг Ваш, и мы работали бы, и, что меня касается, я сделал бы замечательные вещи… … Может быть, теперь издалека Вы лучше увидите Вашего горюющего друга и, может быть, когда-то что-то созреет. О, Людмилица, как я досадую, если вместо меня Вы увидите только эту слабую, исписанную мною бумажку. Если бы она умела кричать, то Вы бы оглохли от ее крика». 139 Впрочем, к тому времени новая невеста любвеобильного Билибина уже была на пути из Питера в Египет… Что касается молодой художницы Людмилы Чириковой, то ей работать в Европе пришлось не слишком много. Она нарисовала обложки для книг Цветаевой и Сергея Маковского, для отцовской книги «Зверь из бездны». Уже в конце 20-х г. Людмила Чирикова-Шнитникова (если помните, Шнитников был тоже одним из баты-лиманцев) оказалась за океаном, в НьюЙорке. В Америке ей приходилось работать чертежницей, выполнять заказы театральных мастерских и текстильной фабрики, а в глубокой старости художница жила в жаркой Флориде, в тихом городке, который назывался точь-в-точь, как ее родной город: Санкт-Петербург. Письмо из московского журнала «Наше наследие» растревожило полвека спустя ее крымские, ростовские, новороссийские и каирские воспоминания. Оказалось, что все так ясно ей помнилось, помнилось даже за год до смерти, в 1989 г. Она написала трогательные слова: «В 1920 г., еще в России, в день моих именин, Иван Яковлевич принес мне в подарок маленькую акварельную миниатюру в старинном стиле, где на ярко-синем фоне были изображены две белые розы и красное сердце с буквами И. Б., пронзенное стрелой. И хотя это было так давно, и миниатюра эта каталась со мной по разным странам много лет – она и по сей день излучает все то же тепло и радость…» Что касается Билибина, то он к концу того самого 1922 г. воспрянул для новой любви. Он давно уже отправлял письма и телеграммы в Петроград бывшей своей ученице, овдовевшей супруге красавца Потоцкого – Александре Щекатихиной, предлагая ей приехать вместе с сыном к нему в Каир и выйти за него замуж. Может, писал уже с самого 1920 г., когда бывшая ученица его овдовела… На пути к новому, последнему и решающему для его судьбы браку Билибина надо непременно напомнить, что с той поры, как милая и талантливая девушка из старообрядческой запорожской семьи Александра Щекатихина начала учиться у Рериха, Ционглинского, Щуко и Билибина в Рисовальной школе Общества поощрения художеств, а потом еще и у Чехонина на фарфоровом заводе, и до той поры, когда она второй раз в жизни пересекла границу и взошла на борт корабля, шедшего к египетскому берегу, утекло немало воды. В 1910 г. способная ученица Билибина получила малую серебряную медаль, в 1911 г. – большую, а перед Великой войной она получила пенсию для заграничной поездки, побывала в Италии и Греции, надолго застряла в Париже и занималась там в академии Рансона, где учителями ее были знаменитый глава «набийцев» Морис Дени, а также не менее знаменитые Серюзье и Валлотон. Уже в первые годы работы в училище с ее знаменитым учителем Рерихом выпало молодой художнице помогать Рериху оформлять балет Стравинского «Весна священная» для антрепризы Дягилева и расписывать храм Святого Духа в имении у Тенишевой. Искусствоведы даже находят, что эскизы костюмов, выполненные молодой художницей для 140 знаменитого балета, превосходят своим динамизмом и выразительностью те, что придумал ее учитель. В 1916 – 20 гг. Щекатихина (а точнее уже Щекатихина-Потоцкая, ибо в 1915 г. она вышла замуж за юриста Николая Потоцкого и родила в этом браке сына, которого назвала Мстиславом) время от времени работает в театре, создает эскизы костюмов для оперы «Снегурочка» и для оперы «Демон», участвует в нескольких художественных выставках, в том числе, и в выставке общества «Мир искусства». Искусствоведы Г. и С. Голынец, изучавшие творчество А. Щекатихиной писали, что уже и ее ранние эскизы театральных костюмов отличались от костюмов ее учителя сценографии (Н. К. Рериха) большей «подвижностью мазка и динамикой форм», несколько сближающих ее театральные работы с работами знаменитой Натальи Гончаровой. Впрочем, в театре Щекатихина работала не часто, а понастоящему она нашла себя в 1918 г., когда ее взяли работать на государственный фарфоровый завод в Петрограде. Существование и выживание этого завода было настоящим чудом: в годы разрухи, голода, террора, разгула всяческого хамства слон новой власти, крушивший посудную лавку культуры, прошел, не задев, мимо изысканно-хрупкой и, без сомнения, «буржуазной» отрасли производства – производства фарфора. Кому-то удалось доказать там, наверху, что производство это будет доходным и выгодным не только для разоренной казны, но и для целей большевистской пропаганды. Что, конечно, это будет наш, новый, «пролетарский фарфор», наш, самый идейный в мира «агит-фарфор», почти не уступающий по накалу своей пролетарской сознательности шедеврам «монументальной пропаганды», а может, даже и «Окнам РОСТа». Конечно, должны быть выработаны новые формы воздействия, да и старые можно будет приспособить для новых, высочайших «пролетарских» целей. И конечно, возглавить такое производство должен истинный мастер. Гениальный художник, знающий вдобавок промыслы и производство, умеющий улавливать дух времени, новый запах в ветре эпохи (а пахло по большей части угрозой смерти и трупами), угадывать направление ветра… И такой художник отыскался. Отыскался, как ни странно, в новом поколении мирискусников: он сам вышел на ловца и сам встал во главе нового дела, прославив и «пролетарский фарфор», и свое имя, которое теперь с гордостью произносят не только в узком кругу коллекционеров и не только на зарубежных торгах, на каком-нибудь Сотебис, где расписанные им тарелки идут на вес золота, но и на родине, в валдайском Лыкошине (ныне снова Тверской, а не Калининской области), и в гордом ПетроградеЛенинграде (ныне снова ставшем Петербургом). Звали этого художника Сергей Васильевич Чехонин. Бенуа в своих мемуарах мельком упоминает его имя наряду с двумя другими книжными графиками нового поколения мирискусников – Митрохиным и верным учеником Билибина Нарбутом. А между тем, и до Октябрьского переворота, и, в особенности, после большевистского путча, до самого конца 20-х г. он был не последний человек в российской художественной жизни, так что, не рассказать о нем, 141 подойдя в нашей истории вплотную и к «пролетарскому фарфору», и к новому поколению мирискусников, было бы совершенно недопустимо. Великий мастер советского барокко «Серп и молот на окружностях…» Как я уже упомянул, Сергей Чехонин был из поздних мирискусников, но даже и среди поздних он стоял на особицу. Начать с того, что он не только не вышел из кругов петербургской интеллигенции, не только не учился в гимназии доброго Карла Мая, не только не кончал юрфак университета, но и вообще родился в семье машиниста и неизвестно, чему успел научиться в детстве у себя в Чудове. С пятнадцати лет он работал конторщиком, чертежником, еще кем-то, а потом приехал в Петербург, чтобы поступить на Рисовальные курсы Общества поощрения художеств. Там он проучился два года у знаменитого Ционглинского, потом еще три года занимался в Тенишевке у Репина (два из этих трех – одновременно с Билибиным). После окончания школы Чехонин уже рисовал виньетки и обложки для журналов, сотрудничал в солидных издательствах, вроде «Брокгауза» и Шиповника». Первая русская революция застала Чехонина уже довольно умелым карикатуристом. Он, правда, не сотрудничал в «Жупеле», как другие мирискусники, но зато рисовал для «Зрителя», тоже вполне сатирического журнала, рисовал для «Сатирикона» и «Нового Сатирикона», а в 1906 г. некоторое время даже сам издавал сатирический журнал «Маски». Два номера его журнала были конфискованы цензурой, и в середине 1906 г. Чехонину пришлось бежать в Париж. Один из биографов Чехонина смутно намекает в этой связи на некую близость Чехонина к сыну Г. Успенского и революционному подполью, но мне думается, не следует преувеличивать политическую заангажированность художника. Чехонин (как и Билибин, и другие) попользовался свободами 1905 г., порезвился, а чуть позднее включился в достойное оформление торжеств по случаю 300-летия Романовых. Работа есть работа… По возвращении из Парижа в Петербург Чехонин оформляет книги Тэффи, Аверченко, Бальмонта, «Историю живописи» А. Бенуа, собрания сочинений Достоевского, Толстого, Гюго, Вальтер Скотта. Он становится одним из самых знаменитых книжных графиков столицы. Вдобавок, он блестяще осваивает другие области прикладного искусства – майолику, финифть, роспись фарфора, продолжает работать в керамических мастерских Абрамцева и Талашкина, участвует в создании майоликовых панно для московской гостиницы «Метрополь» (вместе с А. Головиным и М. Врубелем), для церкви на Большом Сампсониевском пр. в Петербурге и для собора на Полтавской улице (панно «Родословное древо Дома Роановых»). Он декорирует комнаты Юсуповского дворца на Мойке, руководит мастерскими финифти в Ростове Ярославском, золотошвейным промыслом в Торжке, производством художественной мебели в тульском Кологриве, занимает должность консультанта по кустарным промыслам в Министерстве 142 земледелия. Он вознесся уже высоко, и он все умеет, на все руки мастер. Об удивительном искусстве Чехонина много писали и Э. Голлербах, и А. Эфрос, и Милашевский, а позднее Л. Андреева, С. Голынец, Ю. Герчук, Э. Кузнецов и др. По словам Абрама Эфроса, довоенный Чехонин был «очарователь и дамский кумир… изготовитель самых очаровательных и драгоценных безделиц, самых хрупких и самых бесцельных вещей, которые в состоянии был произвести российский императорский декаданс». Итак, он был мастер «императорского декаданса», мастер позднего ампира… Называя графика Чехонина художником с «комариным взглядом», Милашевский отмечал механическую четкость его книжной графики: «К слегка намеченной горизонтальной линии он на глаз восстанавливал перпендикуляр – можно было не проверять угольником. Безупречно проводил наклонную под углом в сорок пять градусов. Делил без инструмента линию пополам, на четыре, восемь и т. д. частей. Все буквы его шрифта были нарисованы и никогда не вычерчены». Искусствоведы замечают, как свободно варьирует Чехонин в своей графике классические темы, как легко совмещает стили, любой из которых был для него, по словам Ю. Герчука, «лишь мотивом, поводом для виртуозной интеллектуально-эстетической игры». Об этой игре стилями, об усвоении и переработке всех «измов» эпохи Чехониным так написал современный искусствовед Эраст Кузнецов: «Чехонинский стиль – блистательная эклектика, приведенная к формальному единству холодным умом и твердой рукой художника, но сохраняющая противоречивую разнородность ее слагающих. Демонстративная вычурная ретроспективность здесь оттеняется самыми свежими приемами, выхваченными из практики живописного авангарда – кубизма, супрематизма. Отточенная стильность – почти натуралистической дотошностью изображения растительных форм соперничающая с дотошностью ботанического атласа. Суховатая тщательность – пышной чрезмерностью. Энергичность – жеманностью. Чехонин все время рискованно балансировал на грани не допускаемого высоким вкусом – на грани пошлости, безвкусности, даже безобразности, никогда не переступая эту грань…» Но вот разразилась катастрофа, «и тот пленительный упадочный мир полетел в тартарары», но как отмечает Э. Кузнецов, Чехонин не погиб: «В 1915 г. он еще отделывал особняк Юсуповых на Мойке, а в 1918-м – чуть не прямиком из будуара, где по сусальному серебру в красивом беспорядке разбрасывал свои вазоны с цветами, - он уже заседал в художественной комиссии при отделе изобразительного искусства Народного комиссариата просвещения вместе с «левыми». Итак, Чехонин стал работать с «левыми» и даже нашел с ними общий язык. Вот как пишет об этом Ю. Герчук: «Он внимательно всматривался в диковинные произведения новых коллег, умея извлекать из них нечто приемлемое. Ему для этого не пришлось 143 становиться ни супрематистом, ни конструктивистом, он остался прежним Чехониным, хотя в его виньетках появились кубистические сдвиги формы, а в роспись фарфора вошла динамика супрематических композиций». Искусствовед отмечает чехонинскую «игру в левизну» и в его книжной графике: «Он как бы хвастается своей эклектичностью, способностью вместить и совместить несовместимое и противоположное: не могу по-всякому, и все у меня станет моим, чехонинским, артистически-капризно-личным, мирискуснически стилизованным, графичным, ритмичным, изящным…» Это смешение и смещение отмечал еще А. Эфрос: «В мистическом опьянении Чехонин сместил прошлое и будущее в настоящее. Эмблема РСФСР сплеталась у него из цветочных гирлянд отошедшего столетия, из сдвигов и разрывов футуристической эстетики 18 – 19 г. и из строгих очерков на некоем законченном фронтоне советской государственности». Оставляя на совести Эфроса «мистическое опьянение» очень трезвого Чехонина, напомню только, что художник не только придумал в ту пору герб РСФСР, но и нарисовал советские бумажные деньги, печати, штампы и прочие важные документы «советской государственности». Он нарисовал также Ленина, Зиновьева и других начальников. В общем, чехонинский эклектизм пришелся ко двору советам. У него нашлось множество подражателей, и все дерзкие «измы» революционных бунтарей он приспособил к делу, о чем убедительно пишет Ю. Герчук: «Препарированные Чехониным «измы» теряли свою суровость, переставали устрашать. Более того, они обретали способность украшать, проникались декоративностью чехонинского «ампира», по существу оставаясь все тем же, ничуть не «левым» чехонинским искусством. И столь же декоративными становились под его виртуозной кистью надписи лаконичных лозунгов революции, эмблемы орудий труда: Чехонин заплетал нежнейшими цветочными гирляндами серп и молот на белоснежных округлостях императорского старого фарфора. Художник примирял непримиримое». Русские искусствоведы, старые и новые, пишут о необычайной динамичности чехонинской графики, о богатстве его графических фактур, о своеобразии его декоративного стиля – «энергичного и подвижного, изящного и броского, глубоко укорененного в художественной традиции и открытого для новаторских поисков». Его индивидуальный изысканно-артистичный почерк, по наблюдению искусствоведов, «становился универсальным декоративным языком революционного времени». Художник был вознагражден за эту ловкость не только лавиной заказов и гонораров, но и высокими постами, популярностью, славой, вереницей подражателей, чьи не вполне самостоятельные творения (однако попроще, чем у самого Мастера, подоступнее) со всех обшарпанных стен России глядели тогда на замордованных трудящихся. 144 Чехонин теперь задавал тон и, как сообщили Александру Бенуа, на одном из заседаний, заявил, что «рассчитывает насаждать вкус, как он его понимает, не посредством творчества и живого примера, а посредством запретных циркуляров, направленных против плохих образцов». Надо признать, основатель «Мира искусства» А. Бенуа без восторга принял восхождение этой новой звезды их объединения и в своем дневнике называл Чехонина то «лилипутом», то «гномом»: «Чехонин… снова впечатление, что через густо пропитанную одеколоном (притом дешевым) атмосферу слышишь приторный и тошнотворный запах мертвеца. Недаром он так любит цветы, но не живые прелестные цветы на полях, а те цветы, что даются напрокат из «бюро» и уже провоняли от всех гробов, вокруг которых они «дежурили»… кошмарное жало его (Чехонина – Б. Н.) не грубело, муравьиное усердие не иссякло, но зато окончательно вылезла его суть – провинциализм, жалкое, беспомощное, близкое ко всему, что есть гадкого в разных наших «Огоньках»… в гогочущем смехе гимназистов, в жеманности гризеток со Среднего проспекта. И этот человек хочет реформировать кустарное дело, учить кустарей, насаждать вкус! Это ведь преступление!» Многие были согласны с Бенуа, однако тем временем знаменитый Абрам Эфрос все же объявил чехонинский стиль «советским ампиром». Впрочем, как отмечают более поздние наблюдатели, в частности, Э. Кузнецов, Эфрос поспешил со своим приговором: «… едва только грезы о раздувании мирового пожара рассеялись, и империя начала застывать на одной шестой земного шара, чехонинский стиль сделался анахронизмом». Э. Кузнецов относит этот спад чехонинского первенства к 1925 г., а к 1928 г. «застывание империи», видимо, стало казаться талантливому певцу империи угрожающим, и он попросился в Париж, на выставку, с которой, вероятно, не намерен был возвращаться, хотя и не спешил объявлять о своих намереньях. Об эмигрантских годах чуть не всех художников, обретших славу еще на родине, принято писать в тоне драматическом или даже трагическом. Но насколько известно, ничего трагического до самого 1936 г. с Чехонином не случалось. В год приезда в Париж он выставлялся в Осеннем салоне, в салоне ювелира А. Маршака на роскошной рю де ла Пеэ (соединяющей площадь Оперы с плас де ла Конкорд), в галерее Ль’Ирондель (вместе с Р. Фальком, Н. Альтманом и своим пасынком Петром Вычегжаниным, позднее избравшим псевдоним Пьер Ино), на русской выставке в Брюсселе. Выставки его в Париже, в Копенгагене, в Берлине и в Белграде проходили и в последующие годы. Чехонин оформлял спектакли для балетной труппы Веры Немчиновой, для «Летучей мыши» Балиева. К тому же он был умелый мастеровой, а в Париже, вдобавок ко всем своим навыкам, освоил еще эмаль. Он работал для журнала «Вог», выполнял самые разнообразные заказы – работы хватало. Писал он и портреты – портрет советского полпреда, три портрета Горького (один из них есть в необъятной коллекции француза Рене 145 Гера, и коллекционер утверждает, что Чехонин сделал Горького похожим на Сталина, - вероятно, в те годы обоих великих деятелей еще радовало такое сходство). В 1933 г. Чехонин взял патент на способ многоцветной печати на ткани с одного цилиндра ротатора. Пишут, что переговоры об использовании изобретения в СССР не увенчались успехом. Может, советские власти хотели, чтобы Чехонин вернулся, или просто не хотели ему платить. Какая-то швейцарская фабрика под Базелем построила установку по чертежам Чехонина, но во время первых испытаний изобретатель скоропостижно умер. Один из видных русских искусствоведов считал, что Чехонин был «убит при загадочных обстоятельствах» (см. журнал «Новый мир искусства N 2 за 1998 г.). Подобное предложение мало кого может удивить. В ту же пору был зарезан в Париже (а не в тихом заштатном Лёррахе) мирный банкирневозвращенец товарищ Навашин, так что и невозвращенца товарища Чехонина, который рисовал гербы, деньги и самого Ленина, а теперь что-то там изобретает для врагов пролетариата, люди товарища Ягоды вполне могли замочить… Но вернемся из области мрачного загрантеррора в привлекательную сферу росписи фарфора, на один из двух возглавленных Сергеем Чехониным в 1918 г. фарфоровых заводов, куда в том же 1918 г. пришла трудиться будущая жена Ивана Билибина красивая художница Александра Щекатихина-Потоцкая. Как мы уже упоминали, с приходом С. Чехонина на завод былой императорски-монархический и эксплуататорски-буржуазный фарфор стал воистину «пролетарским фарфором» (так его и зовут по сю пору, хотя тарелки эти стоят по миллиону рублей и больше, что впрочем, вполне по плечу новорусским пролетариям). На заводе работали вместе с Александрой Щекатихиной и Чехониным некоторые вконец «левые» художники-авангардисты (вроде Белкина), и хотя их авангардистская «левизна» отчасти влияла на самого великого Чезонина, главное направление задавала все же его рука, о которой Э. Кузнецов пишет так: «Та же твердая рука, что раньше выводила изящные гирлянды, розы и объятия обнаженных красавиц с чертями, наносила на тарелки и блюдо эмблемы и аббревиатуры новой власти и чеканила (в этом слове невольно слышится двусложное название того, на чем держалась власть коммунистов: чека – Б. Н.) афоризмы – от нужно расплывчатого «С высоких вершин можно раньше узреть зарю нового дня, чем там, внизу, среди сумятицы обыденной жизни» до деловитого «Кто не с нами, тот против нас» - в так называемом «агитационном фарфоре», который, как предполагалось, кого-то будет агитировать. Он выработал совершенно новый шрифт, непонятно из каких источников выведенный, - острый, торчащий углами, стремительно несущийся, и претворил его во множестве вариантов – от самого утонченного до самого элементарного. Свои надписи он загибал в дуги, закручивал в спирали, сплетал их друг с другом, ломал и рассыпал обломки в лихорадочно 146 прыгающем ритме – и все это с дерзкой изощренностью, порой превосходящей изощренность его прежних работ». Итак. Вскоре после украшения Божьих храмов, всего через три года после своего панно «Михаил Архангел» деловитый революционер Чехонин пишет на тарелке безбожный лозунг: «Кто не с нами, тот против нас». Он вообще заговорил языком революционных лозунгов. Стало быть, был опьянен революцией? А, может, просто деловой был мужик и не обращал внимание на тексты. Писал, что требуется. Даже нынешние искусствоведы не спешат согласиться с этим грубым предположением. Они зачарованно и бессчетно повторяют слова «революционный», «революционное время», «революционная эпоха». Просят нас верить, что художники писали эти кровавые гадости (вместе с портретами Ленина и Зиновьева) «по зову сердца», охваченные «революционным подъемом» и «правдой мечты»: «Тогда еще большевистское правительство не вмешивалось в искусство, - пишет маститый питерский искусствовед, - да и не имело никаких предпочтений. Новая эстетика рождалась еще свободно, на скрещении формальных исканий и наркотических идей революции, в которых испокон века верили свободолюбивые художники». То есть, надо так понимать, что комиссары уже назначены были в искусстве, на за всем уследить они еще не могли (к тому же, подумаешь, комиссары – Луначарский, Штеренберг, Шагал, Пунин, Лурье, Альтман). Впрочем, у самых умных художников был к тому времени уже и «внутренний комиссар» (нечто вроде «внутренней цензуры», существующей при любом режиме), который мог подсказать, что им делать. Скажем, можно нарисовать на фарфоровой тарелке одалиску, девушку из гарема, из Бакста, из борделя, но написать на тарелке надо слова «Пробужденный восток», а рядом с округлостями одалиски уместен будет портретик тов. Зиновьева, большого друга свободы и революции. Именно такая фантазия и была изготовлена на знаменитом заводе. Или, скажем, знаменитая тарелка с надписью «кто не работает, тот не ест». Всем известно, что не едят в Петрограде как раз работяги. Зато на этой гладоморной тарелке рука художника (тов. Адамович) невольно выводит милый сердцу лик тов. Ленина. И это объяснимо, потому что именно Вождь придумал организовать искусственный голод в Петрограде, чтоб тверже держать руку на горле пролетариев. А если ослабевшая головка в 1919 г. уже и кружится у петроградского художника (пусть даже самого идеологически выдержанного), то это не от «наркотических идей революции», а от голода. Однако, слава «пролетарскому фарфору», - никто, кажется, не сдох из работавших на заводе. Разве что вот у коллеги тов. Щекатихиной (автор тарелок «Комиссар… Площадь Урицкого», «Коммуна», блюда «Да здравствует 8-й съезд Советов») помер муж в те года, совсем молодой, веселый, красивый мужик, Николай Потоцкий. Русский это сможет понять: не всякий выживет при такой голодухе. Французам-то в далеком Париже (самому Анатоль Франсу) приходилось позднее эти дела как-то объяснять. 147 Однако, на счастье, всегда находился и в Париже кто умел объяснить. К тому же объясняющий товарищ Арагон с товарищ Эльзой доказывали, что пусть лучше сдохнут несколько миллионов идиотов, чем сорвутся планы ЦК. Русским же это и объяснять не надо было: они уже привыкли людей хоронить без счету в несчастном городе Петроград-Ленинграде. Вот только вдова осталась с мальчонкой у Коли Потоцкого, жаль, конечно, но ей пускай Горький поможет: Горький, Чуковский, Добужинский, они какой-то для бедолаг Дом искусств придумали устроить в доме купца Елисеева – для этой вконец оголодавшей интеллигенции. Туда ее с мальчонкой и пристроили, Александру Щекатихину. Лет 80 спустя тогдашний мальчонка, а в старости смотритель музея в маленьком Иван-городе, что на границе с Эстонией, вспоминал вечно раздраженного Ходасевича, который был их соседом в Доме искусств, и ласковую к нему, мальчонке, Ахматову. Сам же упомянутый выше Ходасевич вспоминал, что комнаты в этом доме Елисеева «отличались странностью формы». Та, которую дали Щекотихиной, была отчего-то круглая. «Соседняя комната, в которой жила художница Щекотихина, была совершенно круглая, без единого угла, - окна ее выходили как раз на угол Невского и Мойки». В Доме искусств давали на обед хотя бы и жидкий, но суп, иногда селедку и уж всегда пшенную кашу. В Доме было чуток теплее и светлее, чем в неосвещенных обледенелых домах и на темных, бандитских улицах города, да может, и чуток веселей: на миру и смерть красна. А смерть, конечно, подстерегала за каждым углом. В 1921 г. умер в голодном городе Александр Блок, а люди в кожаных куртках вывели в расход молодого поэта Николая Гумилева вместе с множеством ни в чем не повинных интеллигентов и «буржуев». Но может, в Доме искусств было не так темно, страшно и холодно… «Мерцали коптилки, - передает мужнины рассказы Н. Я. Мандельштам, - топились печки-времянки, но не дровишками, а бухгалтерскими книгами – часть дома когда-то занимал банк». Светлейшая княгиня Софья Волконская, которой пришлось некоторое время прожить в Доме искусств, с отвращением описывает спасительную столовую Дома, где «кормились все те, кто некогда составляли блестящий мир петербургской богемы. Сейчас не было больше ни блеска, ни богемы – той веселой, беззаботной богемы, о коей мы привыкли судить по первому акту Пуччиниевой оперы. Была ободранная голодная толпа, с жадностью набрасывавшаяся на жидкий суп с плавающей в нем головой воблы и на бесцветные куски вываренной в воде пшенной каши. Я дошла до того, что не могла больше выносить вида этой каши: меня тошнило от одного ее пресного, склизкого запаха…» О Доме искусств написано много – об унизительном голоде, унизительном холоде, о жалкой, заношенной одежде былых гениев. Один из 148 тогдашних соседей Щекатихиной художник Милашевский вспоминает пушкинский вечер 1921 г. в Петрограде: «Публика – маститые литераторы с профессорскими сединами… Их пиджаки за эти годы уже переродились в какие-то полукофты, полукуртки. Кроме того, они были подстегнуты не то ватниками, не то подбиты неопределенного меха жилетками – «заячьими тулупчиками». Цвета этих утеплений были неопределенны и носили оттенки дымов печек-буржуек». Нина Берберова, поселившаяся с Ходасевичем и ставшая ближайшей соседкой Щекотихиной по Дому искусств («Диску»), вспоминает, как те, кому удалось пережить зиму, с облегчением встретили весну: «Прекратилась топка для тепла, перешли на топку для готовки. Зато вдруг в солнечном свете заметнее стало нищенство одежд: зимой как-то сходило, не выпирали подвязанные веревками подошвы Пяста, перелицованная куртка Замятина, заплаты на штанах Юрия Верховского, до блеска заношенный френч Зощенки… … Что значило тогда «уцелеть»? - размышляет Берберова, физически? Духовно?» Мало свидетельств того, что интеллигенция «уцелела духовно», но понятно, что вдова бедного Николая Потоцкого пыталась уцелеть «физически» и сберечь маленького сына. «Пролетарский фарфор» все же помогал уцелеть, а потом пришло это спасительное приглашение от Билибина. Щекатихина уехала за границу в тот же год, что и ее соседи – Ходасевич с Берберовой. Перемена в судьбе Щекатихиной произвела большое впечатление на горемычных обитателей «Диска» и даже нашла отражение в романе Ольги Форш «Сумасшедший корабль». Я не нашел, впрочем, в «дисковских» мемуарах никаких упоминаний о фарфоровом заводе и «пролетарском фарфоре». Но ведь именно тогда Щекотихина и создала свои самые знаменитые тарелки, о которых пишут поныне искусствоведы и фарфороведы, за которыми охотятся коллекционеры-фарфорофилы и фарфороманы. О фарфоровых изделиях Щекатихиной-Потоцкой с большой обстоятельностью писали искусствоведы Г. и С. Голынец. Перечислив все работы художницы, они сообщали, что собранные вместе, они «показали цельность ее мироощущения, неповторимость образного мышления, убедительно продемонстрировали универсальность дарования, сделавшую художницу носителем в советском декоративном искусстве высокой культуры, яркой выразительной формы». Что «ее фарфор стал одним из свидетельств жизнеутверждающего мироощущения людей героической эпохи и сопоставим с самыми крупными явлениями молодого советского искусства». Напомню, что речь идет о посуде с жизнеутверждающими надписями «Да здравствует VII съезд Советов», «Борьба родит героев», «Интернационал», «Всем, кто сердцем молод, в руки книгу, серп и молот», «Коммуна» и т. п. 149 К тому времени, когда на тарелках появился гуманный рецепт Горького («если враг не сдается, его уничтожают»), Щекатихина уже успела осуществить, подобно юной Нине Берберовой, мечту всякого заморенного петроградского интеллигента – пересечь границу «молодой советской республики». К этому моменту мы, впрочем, вернемся, а пока еще несколько слов об агит-посуде… Почтенные искусствоведы (Г. и С. Голынец) находят, что, работая под началом чародея Чехонина, Щекатихина во многом превзошла своего великого наставника-начальника и даже кое-что ему противопоставила: «Мирискусническому стилизму и графической дисциплинированности Чехонина и его последователей она противопоставила стихийную красочность, композиционную свободу живописно-графического декора. Трактуя объемы плоскостями чистого, открытого цвета, художница изображает природу, интерьер, человека в резких пространственных сдвигах, рассыпает буквы ломающихся строк плясовым ритмом и т. д.» Если читатель не забыл, почти то же писали о самом Чехонине. Правда, у Щекатихиной «бабка слыла искусной вышивальщицей», а дед, бают, «занимался живописью», тогда как у Чехонина, не в пример прелестной хохлушке, папаша водил паровоз на Валдае. С другой стороны, как верно подмечают искусствоведы, главным стимулом работы с тарелками как для Щекатихиной, так и для ее наставника Чехонина является революционность и восприятие революции как народного буна (недаром же на хитроумной тарелке на тему пробуждения Востока у ног восточной вакханки сидит злодей-партайгеноссе Зиновьев). Без понятий о революционности ни одной тарелочки-чашечки не поймешь и главное – не опишешь Хорошо хоть люди грамотные знают, как это надо описывать: «Революционные идеалы художница стремится слить с давними чаяними и эстетическими представлениями народа. Отсюда та картина народного русского праздника, в которую выливаются ее впечатления о современности на фарфоре…» Итак, современность. Друг-читатель, это не обтрепанный, подыхающий от холода, от грабежей, голода и насилий нищий Петроград, это не затрепанные гении Дома искусств и не склизкая пшенная каша – это совершенно «новые образы: фигуры матросов, комиссаров, картины революционных праздников, советская эмблематика…» В общем, кто платит (не деньгами, а «пайкАми» и «пАйками»), тот и заказывает музыку. Запьешь корку хлеба водой – и сама запоет, зазвенит, заиграет в наркомпросовские гусли звучная «музыка революции»… Фарфора звон, бесценный звон, как много дум наводит он (Вставная новелла о жизни и смерти одной коллекции) 150 Тиражи у «агит-фарфора» были, конечно, ограниченные, работы все как есть – «авторские», подписные, к тому же ведь и сам фарфор – материал хрупкий. Понимая это, редкие в ту пору отечественные коллекционеры рано обратились собиранию «пролетарского фарфора». И не прогадали… В одном из номеров прекрасного московского журнала «Наше наследие» я прочел рассказ о коллекции, которую собрала супружеская пара эстрадных актеров Мироново-Менакеров. Они с начала 30-х г. и до конца жизни собирали этот фарфор, прожили долгую жизнь, вырастили в домашних стенах, увешанных тарелками, чудного сыночка, который стал гениальным киноактером… «Вот она где, могучая сила искусства, - подумал я, послушно дочитав очерк коллеги Сосниной, и хотел уже отложить бесценный номер журнала, как вдруг защемило сердце. Что-то вспомнилось… Ну да,. ну да, Леша… Вспомнился друг Леша, которого больше нет (как нет, впрочем, больше на свете и былой актерской семьи с «пролетарским фарфором», хрупкие жизни разбиты, остался один фарфор, где он?). Друг Леша… Когда я пробился после демобилизации и возвращения в родную Москву на работу в английскую редакцию московского радио, Леша первым учил меня исполнять утомительные, низкооплачиваемые и «малотворческие» обязанности выпускающего редактора. Все новички проходили через эту должность и уходили дальше, а Леша сидел на ней уже много лет и, похоже, никуда не стремился уйти. Все сотрудники в конце концов начинали ездить за рубеж (голубая мечта любого гражданина СССР), а мы с Лешей оставались невыездными. Почему я лично не езжу, я уже догадался. Через три месяца штатной службы я понял, что для выезда «в загранку» надо непременно связать себя «с ними» какими-то пока еще не очень ясными обязательствами, но все мое нутро противилось любым обязательствам и всей этой столь прозрачной «секретности». Осмотревшись в редакции, я отметил, что в массе своей коллеги мои были выпускники института международных отношений, мгимошники, мимовцы, но, как правило, не дети высокопоставленных функционеров (те-то сразу уезжали «туда» по окончании), а безродные, по большей части иногородние, из простых. Я назвал их про себя «черными мимовцами», чтобы отличать от «белых» - от мажорчиков и крупняшечек, быстрее делавших карьеру. В конце концов, и «черные» начинали ездить переводчиками от какой-нибудь «международной» шараги и со временем становились почти «белыми». Мой друг Леша был не похож ни на тех, ни на других. Он был странный человек, русский интеллигент, может, вообще единственный русский интеллигент на «иновещании» московского радио. Со временем я услышал его историю, и вправду ни на что не похожую в обстановке 50-х годов… Он учился в МГИМО, учился блестяще и уже должен был закончить институт, говорят, что ему уже было присмотрено место где-то в международной организации в Вене, когда с ним случилась эта неслыханная история. Его вызвали для рутинной беседы за черную дверь без вывески, какие существовали тогда (а может, cуществуют и нынче) во всех советских 151 учреждениях и учебных заведениях, и уже непременно в тех, что были связаны каким ни то краем с «международными отношениями». Любезный и улыбчивый сердцевед с почти типовым именем (Петр Иваныч), перебирая на столе бумаги, поздравил Лешу с успешной сдачей зимней сессии, сказал, что им довольны в «Инстанции» (так это называлось устно и письменно), что не за горами его отъезд в знаменитый город вальсов, где он будет достойно представлять и т.д. Что надо и дальше налегать на спорт и учебу, и все будет замечательно, как говорится, светлое будущее. На прощанье сердцевед спросил, как вообще кипит молодая жизнь, а потом, вдруг посерьезнев, сообщил, что у них был в институте, как известно, новогодний бал, и там, на балу, мой друг Леш танцевал с одной, высокой такой и худой девушкой. Но вот это знакомство нужно ему, Леше, прекратить, это никому не нужно, это лишнее, вопрос решен… Вот и все… Леша вышел из кабинета в растерянности и в омерзении. Он действительно танцевал тогда на балу с высокой длиннолицей прибалтийской девушкой по имени Вильма, но за время экзаменов и думать о ней перестал, а тут влез чужой мужик (якобы Петр Иванович) со своими шпаргалками и все в юной душе интеллигента изгадил… Леша стал с остервенением шарить по карманам своего нового выходного пиджака, нашел телефон девушки и побежал ей звонить. Выходит, что чего-то недодумал душевед и человекознавец Петр Иванович, потому что редко ему, Петрыванычу, попадалась на пути эта редкая, чудом выжившая двуногая разновидность – русский интеллигент. И теперь в результате не только этой чрезмерной старательности, но и бестактности всезнающего Петра Ивановича мой друг Леша позвонил этой почти забытой девушке Вильме, пригласил ее на прогулку, а потом, отстаивая свою дорогую самостоятельность и некую даже порядочность, на ней женился. И то сказать, предыдущую жизнь свою Леша провел в библиотеке и сколько-нибудь серьезного опыта общения с девушками не имел. Запретность же этого бледного северного плода, этой длиннолицей девушки Вильмы оказалась вовсе не такого свойства, чтоб друга моего оттолкнуть или напугать. Просто бедный отец девушки Вильмы был живописец и пылкий коммунист, а перед войной он был арестован как враг народов и расстрелян с конфискацией всех его пейзажей, на которых были по большей части ишаки, арыки и среднеазиатские кишлачные хижины, а также простые хлопкоробы, наверное. Даже ударники труда и орденоносцы. Я это точно знаю, потому что однажды – совершенно случайно, во время репортажа – обнаружил я немыслимое количество полотен этого художника в запаснике Музея революции на улице Горького, зачем их там хранили, не знаю, да и зачем меня туда посылали, убей Бог, не помню. Леше и его жене Вильме после реабилитации бедного коммунистахудожника (ни в чем, кроме пристрастия к гадкой компартии, он не был повинен) выплатили компенсацию за сотню изъятых картин – то ли по пятерке, то ли по десятке за полотно. Я упоминаю об этом, потому что воспоминание об этом странном, битком набитом полотнами запаснике 152 мешает полной ясности моей позиции при мысли о странном поведении художников в эмиграции. С другой стороны, какая может быть ясность в вопросе об эмиграции? Достать чернил и плакать… - Вот вы побывали во Франции… Ехать мне туда или не ехать? – спросила меня лежавшая под большим железным распятием старенькая, худущая, совершенно иссохшая, но все еще остроглазая Надежда Яковлевна Мандельштам, когда я передавал ей посылку из Парижа у нее дома, на московской окраине. - Куда ехать? – потерянно спросил я. Позднее я прочел в ее «Второй книге»: «У моих современников был выбор – чужой хлеб на чужбине или собственное смертное причастие. Ни одна из этих возможностей не является «меньшим злом». Зло меньшим или большим не бывает, потому что оно есть зло. Только в России все же говорят по-русски, а это великое благо…» Ну вот, перечитал я это суждение вдовы Осипа Мандельштама (который и сам ведь предположил однажды, что уезжать незачем, поскольку «звезды всюду те же») – и что я могу на это сказать? Отложив кисть или перо, они и здесь, в эмиграции, говорили только по-русски, русские художники, русские писатели, на том самом русском, который все еще понятен, хотя и малоупотребителен в нынешних Москве и Петербурге. Я и сам, отложив работу у себя на хуторе в Шампани, часами говорю по телефону по-русски (через сотни и тысячи километров). Да и как мне не звонить по телефону? Ближайшие русские, которых я знаю в этих местах (две – три русских монахини), живут за лесом От, в тридцати километрах от моего дома, в маленькой православной и разноплеменной обители Покрова Божьей матери… А по-французски поговорить по душам не получается. Не потому что чужой язык, а потому что чужой народ, французы… Однако вернусь к судьбе моего друга Леши и к ценным фарфоровым тарелкам с бессовестными лозунгами, из-за которых я и затеял этот рассказ. Оклад жалованья у нас на радио был более чем скромным, мне едва хватало на такси, чтоб добираться ночью до дома после любовного свидания, но Лешиной жене приходилось на эти деньги кормить семью. Можно было бы чуток подрабатывать журналистикой, но мой друг Леша писать не любил: он любил читать. Отработав до глубокой ночи «на выпуске», он два дня пропадал в Ленинской библиотеке, где изучил по книгам несколько наук – археологию, ономастику, бионику, еще что-то, в Ленинке все было доступно на полках и в хранилище, кроме тех книг и старых газет, которые считались «спецхраном»… Лешина жена Вильма была, конечно, недовольна таким его слабым заработком, но, в общем, они кое-как выживали у себя на Арбате в просторном ателье бедного Вильминого отца. Жили, конечно, бедно… Леша позвал меня как-то к себе на день рождения, где чуток пили, чуток ели и много-много говорили. Такого не бывает во Франции, и теперь я очень бы хотел попасть снова на такой вечерок, да где они, те люди? Помнится, главным оратором был Лешин друг Саша Пятигорский, такой шел 153 его долгий ахинейский монолог из смеси Бхагавадгиты, Рериха и семиотики, плюс Левада и Топоров. Как человек непьющий я скоро потерял нить разговора и стал гулять по захламленному арбатскому ателье, чтобы размять ноги. В одном из углов я наткнулся на маленькую девочку, которая предложила мне поиграть с ней в куклы. Мы мирно играли, ей было года четыре, мне 26, и завязался самый долгий и самый платонический роман моей жизни. Мы виделись после этого раз в год, на моем дне рождения, а лет через 15 она стала студенткой, полюбила кого-то, вышла замуж и родила сына, но до этого мой рассказ пока не дошел, а в ту пору… В ту пору мы, помнится, однажды гуляли с Лешей среди морозной зимы по улице Горького, где-то у белорусского вокзала, и Леша позвал меня погреться в отцовскую квартиру, от которой у него были ключи. Оказалось, что давно овдовевший Лешин отец живет один, работает скромным инженером, кажется, в сфере сантехники, и употребляет всю свою жизнь, свои досуги и свои скромные заработки на собирание предметов искусства. Когда мы вошли в теплую отцовскую квартирку, я их сразу увидел, эти предметы – они покрывали все стены. Это были тарелки, и Леша мне объяснил, что это вот «сам Чехонин», а это «сама Щекатихина», а тут вот Адамович, Белкин, Суетин, Чашник и еще, и еще. Мои усилия прочитать надписи, зашифрованные витиеватым шрифтом, увенчались успехом. Попутно я согрелся и потерял интерес к посуде. Тарелки они и есть тарелки. Что до надписей, то они показались мне отвратительными – «Если враг не сдается, его уничтожают», «Кто не работает, тот не есть»… Мне довелось много шататься автостопом по ГДР, где до черта было фарфоровых тарелок в частных домах и в неизменных «порцеллана-циммер» при музеях и замках, но никто мне все-таки не совал под нос редкие тарелки с надписью «арбайт махт фрай». Что же там у них не было своего агитпропа и своего агитфарфора, у немцев? Дикие люди… Леша сказал мне, что это все довольно дорогие тарелки, и нахмурился, потому что не любил говорить о своей семейной нужде. Мы наверно, оба подумали об одном и том же, о деньгах. Только я подумал, что дюжина этих агит-тарелок могла бы сильно пособить Лешиному семейству, а он-то сам знал, что спасти их от нужды смогли бы и полтарелки… Чтобы отвлечь меня от унизительных меркантильных соображений, Леша сказал, что когданибудь он будет приводить сюда друзей в интеллигентных девушек, чтобы говорить с ними об искусстве, потому что всех будет интересовать эта уникальная коллекция, и у него будет тогда много знакомых. Я обладал тогда абсолютной коммуникабельностью и сказал, что ключа от теплой квартиры достаточно, чтоб привести сюда любую клеевую телку с улицы Горького… И тут мы заговорили о том, что нас обоих занимало больше, чем тарелки, чашки, лозунги, подносы, чайники и коммунары, - о женщинах. Прошли годы. Мы оба с Лешей сбежали из редакции. Он ушел заниматься бионикой, а я ушел «на вольные хлеба» художественного перевода и журналистики (хлеба, хоть и вольные, но довольно скудные). Лешина Вильма долго болела и померла совсем молодой, но дочка 154 подросла… Леша увлекался одно время безногими девушками. Оказалось, что их много было, таких эстетов, как он, в Москве и собирались они на Ленинградском проспекте в сквере, напротив протезного завода. Безногие (и даже безрукие) девушки были недоступные и гордые, потому что пользовались успехом, были нарасхват. Леша посвятил меня в тайны их сексклуба на Ленинградке, и я должен был признать, что это вполне гуманное отклонение от «нормы», не то, что какая-нибудь, столь модная на Западе педофилия. Потом умер Лешин отец Иван Петрович, и у Леши с дочкой осталось на руках целое состояние. Тарелки оказались бесценными. Особенно высоко их ценили иностранцы, не читающие по-русски. Иностранцам даже забавным казалось, что русские писали там что-то про революцию, на своих тарелках. Замечено, что иностранцам ведь и фильм «Броненосец Потемкин» нравился безмерно. По этому последнему поводу один очень грамотный петербургский искусствовед (М. Герман) писал так: «За границей «Броненосец Потемкин» воспринимался как новаторская и блистательная киноформула восстания, как откровение художественное… зритель… не замечал примитивную спрямленность сюжета, наивное разделение на злых и добрых, убогую мораль, воспевание террора…» Впрочем. я уже намекал выше, что в большинстве случаев даже этот толковый искусствовед находит оправдания для «убогой морали» и «воспевания террора», широко распространенных тогда среди еще не посаженных и не расстрелянных советских творцов. Что уж тогда говорить о веселых иностранцах, не разжевавших соль русской азбуки, не понимающих смысла фальшивых надписей и даже издали сроду не видевших колючей проволоки концлагерей. Агрессивно-боевитые и нарядные тарелки (не оскверняемые ни кровавыми бифштексами, ни пустыми русскими щами) шли на мировых аукционах по баснословной цене, а у друга моего Леши были целые стены этих тарелок… Счастья они, кажется, никому не принесли. Дочка бросила учебу, да и работу, внук предался безделью и самым вредным способам веселья чуть не с детских лет, оба лечатся помаленечку… Лешеньки нет, а поредевшие ряды тарелок с кричащими лозунгами все еще уходят за море, на Сотебис… Похоже, что вообще судьба коллекций и их обладателей часто чревата бедами. Даже самых примитивных и малохудожественных из собраний – скажем, собрания устойчивых дензнаков, например, долларов… Однажды за парижским обеденным столом, где для поддержания разговора и аппетита обычно произносят почти одни только банальности, я, быстро покончив с десертом, позволил себе озвучить первую пришедшую на ум банальность. - Ах, - сказал я в ответ на какое-то бессмысленное сообщение о разорении кого-то мне мало знакомого, - не в деньгах счастье… Брякнув, я понял по нависшему молчанию, что опять не попал в струю. - Это смотря сколько денег, - поучительно сказал мне заморский гостьпрофессор. 155 Но, может, он прав. Может, там, за морем, там все иначе. Может, теперь и в Москве иначе… а только ведь и бедному другу моему Леше, одиноко ушедшему на Восток Вечный, да и его наследникам, которым я иногда звоню со своего шампанского хутора, счастья вся эта пролетарская агит-посуда не принесла. … Лежу иногда под утро без сна и думаю о всяком. Пытаюсь, например, догадаться, зачем покупает англичанин за полмиллиона старую тарелку с неаппетитной надписью «Комиссар». Может, недожаренный бифштекс кажется ему на ней еще кровавее? Или пудинг кажется менее пресным? Носят же их милые вежливые дети маечки с портретом бородатого бандита Че Гевары… Как понять? Чужая душа потемки. Дважды в одну реку Итак, мы узнали из трудов советских искусствоведов, что Александра Щекотихина-Потоцкая, похоронившая мужа в голодном Петрограде 1920 г., но охваченная революционным порывом, пишет под водительством С. Чехонина кровожадные лозунги на фарфоровых тарелках и пытается уцелеть с маленьким сыном в общаге Дома искусств, где ей дали совершенно круглую комнату по соседству с Ходасевичем. Более существенные подробности о тогдашней ее революционной жизни удается узнать лишь по каким-то случайным письмам или уцелевшим дневниковым записям. Вот обнаруженная мной в дневнике Корнея Чуковского запись о его визите к художнику Замирайло: «Живет он на В. О., Малый пр. 31, кв. 13. В квартире холод. Он сидит в пальто. В том же самом пальто выходит он на улицу. Только накинет на себя легонький плащ флотский. Ему теперь 55 лет. Старичок… Он влюблен в сестру Щекотихиной… Из-за Щекотихиной он и попал в тюрьму. Ее отец, подрядчик, подозревается в каких-то антисоветских кознях, из-за этого решили привлечь и ее друга…» Упоминания о бедах семьи Щекатихиной не найдешь ни в одной монографии, но вот посторонний человек Чуковский проговорился. Знатоки щекатихинской и билибинской биографии промолчали, и Бенуа молчит… А он ведь, Чуковский, и Виктора-то Замирайло в первый раз в жизни видел… Между тем, был это вполне известный график и живописец. В 1916 – 1918 гг. он то завтракал, то полдничал, то просто чай пил у А. Н. Бенуа, о чем в дневниках Бенуа каждый раз было упомянуто. А в ноябрьской записи 1917 г. сказано – в связи с очередным чаепитием – даже о творчестве В. Замирайло: «К чаю Замирайло… он совершенно сносен. При какой-то ограниченности мысли, он все же подлинно-художественная натура и, главное, обладает даром восхищения. А потом он как-никак первостатейный мастер – особенно в графике». 156 Записи Бенуа обрываются на 1918 г., еще не только ягодок, но и цветочков петербуржцы пока не понюхали, хотя Замирайло, с его «челом Виктора Гюго» уже выглядел в 1918 г. поплоше, чем в 17-м, а уж к началу 1923 г. он, по свидетельству Чуковского, - вообще обтрепанный старичок и сидит дома в пальто, дрожит от страха и холода. Есть еще одна запись в дневнике Чуковского о визите к тому же Замирайло (30 января 1923 г.), из которой мы и узнаем, что Александре Щекотихиной, в сестру которой влюблен Замирайло, только что удалось сбежать от суровой зимы, от пшенного супа с селедкой и устрашающих подвалов ЧК, где к тому времени уже прикончили Гумилева, - сбежать за море. Чуковский спрашивает у «старика» Замирайло о судьбе художницы Александры Щекотихиной и слышит умиленное: «Да, ей Билибин присылал такие теплые письма и телеграммы, что в Питере становилась оттепель: все начинало таять. Вот она вчера уехала, и сегодня впервые – мороз». Значит, только накануне и уехала Александра Щекатихина с сыночком, то есть 29 января 1923 г. Взяла командировку от Наркомпроса – для изучения производства Берлинской фарфоровой мануфактуры но в Берлине не задержалась – уже в феврале прибыла в Каир к Билибину. Командировку, вероятно, подписал Луначарский, но выпускал из счастливого Ленинграда, скорей всего, не Луначарский, а другой департамент, рангом повыше культурного. Мог бы и не выпустить, вот Блока, к примеру, не выпустили, несмотря на мольбы того же Луначарского: решено было, чтоб помирал гений на родине… Иные из нынешних историков-оптимистов говорят, что тогда уехать было легко, кого хошь отпускали, даже хотели избавиться от лишних едоков, Луначарский, мол, это знал и легко выпускал. Не знаю, было ли «уехать легко» когда-нибудь после путча 1917 г., было ли так легко сбежать или уехать в 1919, 1920, 1921 гг. … Бывало, конечно, что «высылали», но чтоб просто так – взять да уехать, не знаю… И высылкой, похоже, ведал не Луначарский, а другой орган – Лубянский… Соседка Щекатихиной по Дому искусств, светлейшая княгиня Софья Волконская, героиня Великой войны, хирург и летчица, которую выпустили с мужем, сумевшим доказать, что он «эстонский дворянин», так вспоминала про свой отъезд из Петербурга: «Никогда нигде не видела я такой жгучей зависти, как в глазах друзей, с которыми прощались перед отъездом. Если бы можно было спастись из страны, подобно тому, как во время войны самострелом спасались с фронта – вся Россия осталась бы без пальцев». Значит, все же не просто было уехать. Хотя и высылали, конечно, как раз в те годы. В том же 1922 г., когда оформляла свой отъезд Щекатихина, целых два корабля «ненужных людей» (писателей, философов, экономистов, выслали из России в Германию. Но оформлял высылку опять же не Луначарский, а все та же инстанция. Перед высылкой кое-кого (из тех, кто 157 позаметнее) подержали неделю-другую на Лубянке в камере смертников и, соответствующим образом обработав и дав им подписать какую-то бумагу, отпустили за границу – «для пользы дела». Недаром острый человек А. Карташов, прослушав в гостях у П. Струве в Берлине робкий лепет одного из только что сошедших на сушу интеллигентов (Н. Бердяева), сказал эти ужасные четыре слова – сказал, как припечатал: «Не высланы, а засланы». Так ведь и были уже в тот год задействованы гениальные разведоперации по разложению эмиграции («Синдикат», «Трест»), так что пересечение границы (туда-обратно) не было ни бесплатным, ни бесполезным делом. Большинство из тех, что уезжали «в командировки», предпочитали не возвращаться, Отчего же тогда отпускали новых и новых, откуда эта нескончаемая доверчивость? Теперь вот и Щекатихину, про которую уже весь Дом искусств знал, что уезжает она в Каир, а не в Берлин, оформляли «для изучения фарфорового производства в Берлине». Возможно, что Луначарский не знал, куда и зачем уезжает художница Щекатихина. Что про папеньку ее Луначарский и слухом не слыхал. Но уж для тех-то, кто давали разрешение на выезд, ни маршрут, ни цель поездки, ни судьба папеньки не могли оставаться тайной. Но может, полагали толковые чекисты, что такая поездка может оказаться для страны полезной? Как знать… Все эти тайны, возможно, откроются вместе с архивами. Станет ясно, отчего добрые и наивные дяди отпускали россиян в командировки, о чем говорили со счастливцами и счастливицами за служебной (или тюремной) дверью перед самым отъездом. Какие брала на себя обязательства перед высокой стороной сторона невысокая. Какие бумаги подписывали уезжающие, какие давали клятвы… Даже и тогда, когда высылали видных людей целыми пароходами. Особенно, когда видных… Пока что это никому наверняка не известно, и биографыискусствоведы для описания происходившего могут придумывать любые изящные и удобные им фразы – кто во что горазд: «Уехал с выставкой, но в последний момент решил…» «Уехал для изучения, но передумал…» «Сохраняла связи с СССР, считая, что скоро…» Одно можно отметить с несомненностью: даже став «невозвращенцем», мало кто из командированных за границу чувствовал себя совершенно свободным от Москвы. Московские разведчики (гулявшие по Елисейским Полям так же беспечно, как дома по Кузнецкому мосту) могли всегда призвать «невозвращенца» к ответу, имели право продлить ему паспорт и 15 лет спустя, а могли его лишить бумаг, как и прочего лишить того, что всего дороже… И они очень внимательно следили за поведением «советских людей за границей». Что до Щекатихиной-Потоцкой, то она и два года спустя (так и не заглянув на Берлинскую мануфактуру) выставлялась в советском отделе международной выставки в Париже (получила серебряную медаль), в 1927 г. – в советском отделе выставки в Милане, а уж дальше… 158 Впрочем, зачем нам загодя омрачать светлую минуту относительной свободы? Зачем забегать вперед? На дворе февраль 1923 г…. Сбежавшая из петроградского мрака, холода и голода, талантливая, красивая женщина, держащая за руку худенького шестилетнего сыночка, попадает в солнечный, яркий, пылающий красками Каир – в объятия заждавшегося уже мастера Ивана Яковлевича (с которым сразу по приезде вдовая Шурочка вступает в брак). Потом были совместные прогулки по восточным базарам (подробно описанные только что отбывшей из Египта Людмилой Чириковой), были полночные пиры (Попробуй, Славик, это банан, это ананас, а это груша, сынок! А мы с мамой еще по стаканчику, и еще). Были долгие, нескончаемые беседы… Молодожены совершили сказочные поездки по Сирии и Палестине, еще год спустя – поездку в Верхний Египет, в Луксор, в Долину Фараонов… «Истинно русский» художник Билибин в поездках рисует с натуры, щелкает затвором фотоаппарата и остро ощущает примесь мусульманской крови в своей русской крови. В 1929 г. Билибин писал об этом баронессе М. Д. Врангель, задумавшей составить справочник по искусству русского зарубежья: «Египет дал мне много материала. Это страна трех больших культур, очень интересных и очень разных, - Древний Египет, христианский коптсковизантийский и мусульманский. Я с увлечением набросился на ознакомление с доселе мне малоизвестной страной, очень и очень много фотографировал в музеях и на месте, и в Каире, и в районе пирамид, и в древних коптских монастырях. Все три культуры меня захватывали: Древний Египет – праматерь нашей общеевропейской культуры: Копто-Византия – прямая праматерь культуры русской и искусство Ислама – если и не прямой родственник, то хотя и косвенный (внучатый дядя), но все же родственник несомненный, ибо моя страна – Московия, и татарских кровяных шариков во мне немало, и мусульманский базар с мечетями на фоне для меня обстановка близкая и приятная, тогда как какой-нибудь Тироль с тирольцами ничего не говорит моему сердцу». Супруги-художники рьяно берутся за работу. В 1923 г. приезжает в Каир на гастроли божественная русская балерина Анна Павлова. Билибин делает две декорации для ее выступлений, Александра – эскиз для костюма лебедя, который так чудно умирает под музыку Сен-Санса. Билибин по-прежнему создает композиции для греческих церквей, рисует карандашные портреты местных жителей. Александра начинает свои «восточные» росписи по фарфору – «Выбор невесты», «Царская невеста», чашки «Древние египтяне». Изготовляет «арабский» и «Персидский» сервизы. Дело идет, заработок есть… В 1925 г. супруги переезжают в Александрию, где проходит персональная выставка Билибина. Работу ему дает там уже не греческая, а швейцарская иностранная колония. Конечно, бывали у него в работе, как он 159 сам выражался. «и перерывы (зияющие черные дыры), когда приходилось весьма трудно». Но в целом не худо было в Египте. Летом 1925 г. Билибин и Щекатихина-Потоцкая вдруг перебираются в Париж… Супруги снимают просторное застекленное ателье («огромное и высокое, как храм, помещение», - изумленно пишет бедный посетитель) на четвертом этаже дома 23 на бульваре Пастера. Далекий от Билибина Ходасевич предполагает, что это Билибин увез Щекатихину в Париж, а оттуда в Питер. Более близкий к Билибиным Мозалевский вспоминает поздние парижские жалобы Билибина на то, что он «дал себя в Александрии уговорить переехать в Париж. И всегда при этом с досадой произносил: «Этто в-се Шу-шурочка – в Па-париж д-да в П-париж». На последней дистанции По воспоминаниям того же Мозалевского, Билибин привез в Париж много заработанных «египетских фунтов». Начинается парижская жизнь, не бедная трудами и событиями. Впрочем, Париж не оправдал всех надежд Билибина. Французские вершители художественной моды не заинтересовались ни его книжной графикой, ни его сценографией, и работал он главным образом с русскими издателями и русскими театрами, так что, хотя вовсе уж без работы не сидел, но был унижен и жаловался в упомянутом выше письме баронессе М. Д. Врангель: «Еще будучи в Египте и предвкушая переселение в Париж, я думал, что буду в состоянии вести свою прежнюю национальную линию в своем искусстве, надеясь на многочисленных русских издателей, но, увы, все издатели оказались без грошей и издать мало-мальски хорошо отрепродуцированной русской иллюстрированной книги не могут». Конечно, Билибину, который помнил свой шумный петербургский и петроградский успех и занимал когда-то вполне почетное место в русском художественном мире, да и в отсталом Египте был на виду, невнимание к нему французов, увлеченных «измами» авангарда, шокирующими находками, шагаловским сюрреализмом, кубизмом, орфизмом, экспрессионизмом, Пикассо, Сутиным и еще Бознать чем, показалось обидным. Но совсем без работы он не сидел: делал открытки для издательства Карбасникова и Дьяковой, стал членом-основателем русского общества «Икона», оформил спектакль для Дюссельдорфа и несколько русских книг в парижских издательствах, работал в Праге и Брно. Правда, в Праге он (по воспоминаниям того же Мозалевского) так увлекся пивом, что даже не успел посетить ждавших его издателей. С 1930 г. Билибин оформлял сказки во французских издательствах, но уже и с 1927 г. он начал работать над эскизами костюмов и декораций для 160 русских оперных спектаклей в театре Елисейских полей («Сказка о царе Салтане», «Царская невеста», «Князь Игорь», «Борис Годунов»…). Оформлял он так же спектакли для Праги, для Брно и даже балет «Жарптица для бразильского театра Колон в Буэнос-Айресе. Да и в художественных выставках участвовал он многократно – и в Париже, и в Брюсселе, и в Амстердаме, и в Бирмингеме, и в Копенгагене, и в Берлине, и в Белграде… В организационном бюро последней (1927 г.) парижской выставки «Мира искусства» Билибин занимал вполне почетный пост. И хотя выставка не имела большого успеха, пост он все же занимал – наряду с Добужинским, Сомовым и прочими светилами «Мира искусства». В начале 30-х г. член парижского общества «Икона» Иван Яковлевич Билибин исполнил эскизы для иконостаса и фресок церкви Успения Пресвятой Богородицы, что на Ольшанском кладбище в Праге. Как раз в ту пору и захоронили там близ церкви старого баты-лиманского друга-писателя Евгения Николаевича Чирикова, отца прелестной Людмилы. Эх, сколько раз, бывало, у них на террасе в Баты-лимане, высоко над морем, засиживались за стаканом, за беседою до полуночи и позже. Хорошо сидели… Да и тут, конечно, во Франции, можно было посидеть. Хотя бы и со стаканом (вино тут хорошее), хотя бы и над морем… Сидеть, вспоминать… Сидели и вспоминали не раз. Вон и говорун Коровин выпить любит, с ним интересно… Молодая, красивая и талантливая Александра Щекатихина-Потоцкая имела в Париже даже бОльший успех, чем ее муж и учитель. Приехали он в Париж в тот самый год, когда Щекатихиной была присуждена золотая медаль на международной парижской выставке декоративного искусства, где ее росписи по фарфору демонстрировались (несмотря на ее странное отклонение от маршрута «командировки» 1923 г.) в советском павильоне. Еще два года спустя, несмотря на ее затянувшуюся задержку в египетской и парижской командировках, была она представлена в советской экспозиции на миланской выставке и вообще «не порывала связи с родным ленинградским заводом. Но что еще важнее, ей удалось зацепиться на знаменитой фарфоровой мануфактуре в Севре (то, чего не удалось сделать ее наставнику и начальнику Чехонину), удалось расписать для Севра две вазы, два блюда (сюжеты росписи были скорее парижскими, чем ленинградскими) и цикл тарелок. Она помогала Билибину делать эскизы костюмов для оперного спектакля, но в отличие от мужа выставлялась она и во французских салонах – в Осеннем салоне и салоне Тюильри. В двух французских галереях прошли ее персональные выставки, и о них тепло отозвался во французской прессе ее бывший французский наставник, знаменитый вождь художников-«набийцев» Морис Дени. В общем, художественная супружеская пара далеко не бедствовала в Париже, но конечно, Париж не был таким дешевым для русского эмигранта, каким казался для состоятельных гостей из довоенного Петербурга, щедро 161 тогда сыпавшего твердой русской валюты и своим художникам, и своим писателям. А Билибину теперь приходилось за все платить – и за роскошное ателье, которое нелегко было прогреть зимой, и за регулярные многолюдные журфиксы по средам. Билибин жаловался Мозалевскому, что реальной отдачи от этих сборищ нет: приходят одни русские, а какие с ними дела? И все же супруги жили в Париже на широкую ногу, а в 1927 г. Билибин даже обзавелся небольшим участком и построил дачку на берегу Средиземного моря – в русском окружении, в дачном поселке, который некоторым образом был связан с незабвенным крымским Баты-лиманом. Случилось так, что эмигрант из России Борис Швецов приобрел довольно крупный участок по соседству с рыбацкой деревушкой Лаванду и живописным крошечным городком Борм-ле-Мимоза (Мимозный Борм, который аж с самого февраля бывает окутан облаком цветущей мимозы), километрах в сорока от Тулона. Швецов решил поделить свою землю на мелкие участки и продать их для постройки дач самым преуспевающим из русских эмигрантов, которых разыскать для него взялась былая застрельщица интеллигентского поселка в крымском Баты-лимане Людмила Сергеевна Врангель (жена инженера-путейца Н. А. Врангеля и дочь знаменитого доктора С. Елпатьевского). Понятно, что первыми, к кому обратилась с предложением Л. С. Врангеля и дочь знаменитого доктора С. Елпатьевского). Понятно, что первыми, к кому обратилась с предложением Л. С. Врангель, оказались былые баты-лиманцы: профессор П. Милюков (в эмиграции редактор популярной русской газеты) да художник Иван Билибин. Построили себе дачи на своих скромных участках композиторы Николай Черепнин и Александр Гречанинов, философ Семен Франк, поэт Саша Черный, биолог Сергей Метальников и др. Те, у кого денег на постройку дачи не хватало (вроде как у Куприна), те просто приезжали сюда отдохнуть, покупаться, половить рыбку. Но у Билибиных денег хватило, так что каждое лето супруги жили в русском Ла Фавьере на собственной даче у песчаного пляжа и бухты. Билибин рисовал прелестный городок Борм, воспетый в стихах Саши Черного: Борм – чудесный городок, Стены к скалам прислонились, Пальмы к кровлям наклонились, В нишах тень и холодок… … Как цветущий островок, Дремлет Борм в житейском шторме… Билибин тоже любил этот французский Баты-лиман, а что до Саши Черного, то он этот мирный островок Франции по-настоящему обожал. Впрочем, дремотный покой, царивший в русском Ла Фавьере, был иллюзорным, недаром же столько лафавьерских обитателей (Билибины, 162 Куприны, М. Цветаева и С. Эфрон, Н. Столярова, В. Кондратьев…) ринулись отсюда в сталинский ад середины 30-х г. Билибин с супругой жили в русском окружении не только в Ла Фавьере, но и в Париже. Их ателье на бульваре Пастера стало не слишком знаменитым, но все же вполне оживленным русским «салоном» Парижа. Здесь бывали русские художники, поэты, писатели, журналисты, эмигрантские общественные деятели. Одним из первых объявился у Билибина его бывший ученик из Рисовальной школы Общества поощрения художеств Иван Мозалевский. После школы Мозалевский посещал мастерскую В. Матэ, занимался книжной графикой, в 1913 – 1914 гг. участвовал в выставках «Мира искусства», помогал Билибину оформлять оперу «Руслан и Людмила» для театра Народного дома и часто встречался с бывшим учителем, работая в журналах «Аполлон» и «Лукоморье», делая книжные обложки для издательств. До встречи в Париже они с Билибиным не виделись чуть не десять лет. В 1917 г. Мозалевский уехал на Украину, а в 1918 г. развил бурную деятельность в Киеве при правительстве Рады. Он основал собственную художественную мастерскую, женился на своей ученице Валентине Розовой, стал учредителем профессионального совета киевских художников, возглавлял гравировально-художественный отдел Экспедиции заготовления государственных бумаг Рады, разработал проект петлюровских денег, потом основал Художественно-промышленную школу в прелестном городке Каменец-Подольске, где был избран главой губернского школьного правления. Но и в Каменец-Подольске Мозалевский застрял ненадолго. В 1920 г. он эмигрировал, уехал в Вену, оттуда в Берлин, где работал в местном отделении Госиздата РСФСР. Видимо, это и было поворотным пунктом в его биографии: может, тогда он и заработал свой советский паспорт. Из Берлина Мозалевский переехал в Прагу, где преподавал графику в Украинской студии пластических искусств, а в 1926 г. поселился в Париже, где принял советское гражданство, но возвращение на родину, как объяснял эмигрантам советский посол, им «еще надо было заслужить», особенно таким, как Мозалевский, который делал купюры для Рады, или как, скажем, Билибин, который что ни говори, работал у Деникина. Мозалевскому пришлось заслуживать долго (но, в конце концов, и он уехал в Киев, то есть, видимо, заслужил). В Париже Мозалевский входил в Союз украинских граждан, редактировал художественный отдел газеты «Украинские вести», где пропагандировал успехи советского искусства, но работал также и в журнале «Наш Союз», который выпускали агенты НКВД Сергей Эфрон и его дочь, а также в «Парижском вестнике». В общем, был он человек активный и обладал новым своим советским паспортом. Но лишь после войны, в 1947 г., когда таких, как он, с паспортами, стало в Париже больше десяти тыщ, переехал постаревший Мозалевский в Киев, а потом смог поселиться в Крыму, где он внес свой посильный вклад в советское графическое искусство, сотворив плакат «Да здравствует созданный волей народа великий, могучий Советский Союз!» а также праздничный плакат «1 мая 163 все за мир!» Там же, как сообщает его биограф, он, несмотря на частичную потерю зрения, сумел исполнить пером миниатюрный портрет полководца С. М. Буденного и вырезать гравюру «В. И. Ленин в редакции газеты «Правда». Что еще важнее, Мозалевский оставил воспоминания о парижском «салоне» Билибиных на бульваре Пастера. Судя по его описанию, салон был «возвращенческим» и «просоветским», каких в Париже и его пригородах было в ту пору уже несколько. В таких салонах будущие «возвращенцы» могли встречаться с советскими представителями, имевшими разрешение посещать сборища эмигрантов для выполнения своих служебных задач. Дело в том, что именно в 1925 г. с подачи помощницы тов. Дзержинского и бывшей жены Горького Е. П. Пешковой была начата широкая кампания поддержки большевистской власти и «возвращенчества» среди русских эмигрантов. Случайно или не случайно Билибин переехал в Париж и открыл свой «салон» тоже в 1925 г. Не исключено, что накануне переезда были ему даны какие-нибудь обещания, невыполнение которых вызвало у него разочарование в парижской жизни… В воспоминаниях И. Мозалевского, написанных им в поздние годы жизни, визит мемуариста на «журфикс» в парижском ателье Билибина описан вполне элегантно. Приведу отрывок из этих воспоминаний: «У Ивана Яковлевича был приемный день (журфикс) – среда. В одну из первых «сред», посещенных в его мастерской, чуть не разыгрался скандал. Иван Яковлевич, приехав из Египта, стал в центре внимания всей русской эмиграции как народный национальный художник бывшей Российской империи. Поэтому мастерскую его посещали и самые махровые эмигранты, что называется тузы эмигрантского движения. У него можно было встретить всех писателей, журналистов, артистов и художников, причислявших себя к бывшей России, противопоставлявшейся Советской России. Несколько «сред» я посетил благополучно: они не были слишком многолюдными. Но вот однажды, когда я вошел в мастерскую Билибина и журфикс был в полном разгаре, случилась беда. На это раз «среда» была многолюдна и шумна. В огромном и вы соком, как храм, помещении столбом стоял табачный дым. Было впечатление, что тут происходит нечто напоминающее какое-то даже не богослужение, а эмигрантское радение. Разбившись на несколько групп, все сразу оживленно и громко говорили, перебивая друг друга. Иван Яковлевич, взяв меня приветливо под руку, вывел на середину мастерской и громогласно возвестил, дружески похлопывая меня по плечу: «Разрешите вам представить моего старого ученика и приятеля Ивана Ивановича Мозалевского! Он хотя и большевик, но прекрасный малый». Моя служба в месткоме советских учреждений воспринималась как самим Билибиным, так и вообще всеми эмигрантами как партийная («большевистская») работа. Тем более, что в парижской советской прессе, как русской, так и украинской, часто появлялась под статьями моя подпись». Далее, сообщив наивным доперестроечным русским читателям о «большевистском», а не чекистском характере всех этих «советских 164 учреждений», посольских газет и таинственных «месткомов», Мозалевский продолжает свой рассказ: «Эффект от представления меня как большевика всему этому обществу, ненавидящему Советскую власть, был не особенно приятен ни мне, ни моему любезному легкомысленному хозяину (со стороны хозяина было бы, напротив, легкомысленно и непорядочно не предупредить гостей о присутствии совслужащего на их сборище – Б. Н.): он даже не ожидал такого результата от своих слов: один за другим, молча покинули мастерскую многие из почитателей его таланта. Лишь несколько человек, преимущественно молодых писателей и журналистов, из любопытства к моей особе остались. Когда в мастерскую вошла с подносом полным чашек чаю, жена Билибина, она, видимо, была поражена такому внезапному исчезновению большей части гостей. За чашкой чаю один из наиболее развязных молодых литераторов, залихватски закинув ногу за ногу и деланно-ухарски закурив папиросу, задал мне провокационный вопрос: «А когда же большевики ваши подохнут?» - «Обратитесь в Наркомздрав к т. Семашко, - ответил я, - К вашему сожалению, я не в курсе дел о здоровье всех советских граждан». Мозалевский до глубокой старости гордился придуманной им на крымском отдыхе репликой и, наверно, имел основания гордиться этим перлом советского юмора: сам Маяковский в российской аудитории отвечал на все неудобные вопросы еще круче: «На этот вопрос вам ответит ОГПУ». «После такого неудачного дебюта, - сообщает Мозалевский, - Иван Яковлевич предложил мне приходить в среду не днем, а вечером…» На самом деле, ходил Мозалевский к Билибиным часто, а со временем в «салоне» Билибина, как и в других подобных русских «салонах», в самый разгар сталинского террора принято стало говорить о том, что на родине «жить стало лучше, жить стало веселей». Сомневающихся в этом могли выкрасть в центре Парижа среди бела дня (как Кутепова и Миллера) или зарезать на мирной прогулочной аллее Булонского леса (как Навашина). Зато «уговаривающие» товарищи без помех проникали в любую эмигрантскую компанию, на любое, самое узкое сборище, особенно охотно и успешно на те, которые считались «тайными» (вроде русских масонских лож) или «махровоантисоветскими» (вроде великокняжеской виллы в Бретани или штаба русского Общевоинского союза на рю Колизее). Даже раскаленные средиземноморские пляжи близ русских дач не сулили больше покоя и безопасности. В русском Ла Фавьере, где подолгу жили на своей даче Билибин с супругой, самым большим и долговечным русским пансионом заправляли агент Москвы В. И. Покровский (имевший также явочную квартиру в Исси-ле-Мулино под Парижем) и Юрий де Планьи, брат которого Вадим Кондратьев, часто приезжавший в Ла Фавьер, был завербован в советскую разведку мужем Марины Цветаевой С. Эфроном, охотился на сына Троцкого, а бежал в Москву, как и сам Эфрон, вскоре после нашумевшего убийства Рейса-Порецкого. Как можно понять, и Ла Фавьер больше не был приютом мира. 165 Биографический словарь эмигрантских художников сообщает, что в 1934 г. Билибин «познакомился» с советским послом Потемкиным. Словарь не уточняет, как и где «знакомятся» с послами – в метро, в автобусе, на балах или в дискотеках… В 1935 г. Билибин уже получил советское подданство и задание – расписать стену в посольстве «в русском духе». Сергей Прокофьев, который познакомился в гостях у Гучковой с видным советским разведчиком из Москвы (Ланговым) заключил из своей беседы с ним, что «там у них в Москве теперь в моде русское». Откуда было знать Прокофьеву, что «русское» шло пока только на экспорт. Осенью 1936 г., когда Билибин закончил панно для посольства («Богатырь Микула Селянинович»), его семье было позволено двинуться в обратную дорогу. Просьбу Билибина о возвращении поддержал с высочайшего разрешения директор Академии художеств, известный ленинописец Исаак Бродский. Кстати, под занавес Билибин оказал небольшую услугу жене Куприна (а может, и услугу посольству): помог Елизавете Морицевне оформить вывоз уже мало что соображавшего писателя. Возвращение, почти одновременное, сразу нескольких видных парижских эмигрантов (Билибина, Куприна, Прокофьева и др.) напоминает запланированную акцию, но может, оно и было приурочено к чему-нибудь государственно важному и возвышенному, скажем, к пику «московских процессов» и Большого Террора, к подготовке мировой революции или, на худой конец, мировой войны, от которых эта патриотическая акция эмигрантской верхушки должна была отвлечь внимание уже вполне одураченного Запада. Так или иначе, осенью 1936 г. «салон» на бульваре Пастера опустел. А Билибин с женой и юным Мстиславом двинулись в Петербург-Петроград, именовавшийся тогда Ленинградом. По возвращении на родину Билибин, так обидно не успевший стать академиком в 1917 г., был года через три утвержден в звании профессора и доктора искусствоведения. Он стал профессором графической мастерской при Академии, оформил все ту же «Сказку о царе Салтане» для Кировского театра, сделал иллюстрации к этой сказке и к «Песне о купце Калашникове» для издательства, был привлечен к декоративным работам для Дворца Советов в Москве. Хотя Дворец этот с гигантской фигурой Ленина, которой предназначено было взмыть в небо на месте взорванного храма Христа Спасителя, так никогда и не был построен (в молодые годы мне доводилось плавать в открытом бассейне на месте дворцового фундамента), участие в этих работах почиталось за награду и особое доверие для всякого художника, тем более такого, что украшал некогда русские церкви. Как метко отметил современный питерский искусствовед (М. Герман), «дворец явился реальностью советского сознания, не став реальной постройкой, как социализм и коммунизм вошли в обиход граждан СССР, оставаясь лишь мифом. Перед проектами Дворца Советов люди не столько испытывали восхищение, сколько робели…» Что ж, было им от чего робеть в кровавом 1937 г.! 166 В подсоветских монографиях и мемуарах ни слова не сказано о том, страшно ли было Билибину и Щекатихиной в ночном Ленинграде 1937 г. ждать по ночам «гостей дорогих, шевеля кандалами цепочек дверных». Василий Шухаев, получивший по возвращении те же почести, что и Билибин, гостей дождался и отбыл с супругой на десять лет на Колыму. Свезли в концлагерь и жену возвращенца Прокофьева. Однако, Билибнн уцелел. Он даже приглашен был однажды, вместе И. Бродским, на заседание горсовета в качестве гостя. Но чаще он заседал вместе с Тырсой, Наумовым, Василием Яковлевым и Осмеркиным в ресторане «Золотой якорь» близ Академии, где нарисовал однажды Осмеркина и сопроводил рисунок стихами: - Сидим мы в «Якоре златом» И говорим о том, о сем, Я про грибы и патиссоны, Про то, что мне по духу ближе… Осмеркин же – о Барбизоне, Версале, Шартре и Париже… Как можно понять из стишат, Билибин уже усвоил, о чем безопаснее говорить в разгаре питерского террора. Но может ведь и правда, патиссоны были ему «по духу ближе», чем барбизоны… А потом пришла новая война. В 1920 г. умер в голодном Питере, сладковато пахнущем трупами, первый муж Александры Щекатихиной и друг Билибина Николай Потоцкий. Полтора десятка лет спустя ЩекатихинаПотоцкая-Билибина привезла нового мужа в проклятый город. Кто сказал, что нельзя войти дважды в ту же смертоносную воду? А. И. Бродский в своих вполне подцензурно оптимистических мемуарных заметках рассказывает, как они с Билибиным, который жил теперь постоянно в «профессорском бомбоубежище, посетили однажды брошенную квартиру самого мемуариста: «Теперь черные глаза Ивана Яковлевича как-то особенно выделялись на осунувшемся, потемневшем и всегда грустном лице. Он по-прежнему следил за собой: одетый в ватник, неизменно был «при галстуке»… При посещении промерзшей квартиры А. И. Бродского Билибин сказал: «… Оказывается, это возможно, заморозить жизнь… А вот удастся ли ее воскресить!..» «Мы пошли на кухню, - продолжает мемуарист, - Окно там было открыто настежь, стекла выбиты воздушной волной.. Весь пол замело сухим снегом. Иван Яковлевич посоветовал мне закрыть окно кухонным шкафом… Отодвинув шкаф, я увидел лежащий на полу окаменелый заплесневевший тульский пряник. Это была счастливая находка. 167 Мы стали растирать пряник снегом. На плите, в кастрюле, на ее дне лежала ледяная чушка замерзшей воды. Я растопил плиту, набросав в нее обломки стульев, газеты, кустки паркета и разогрел чай. Пили мы в комнате, не снимая пальто, в шапках, замотанные шарфами…» Коллега по Академии профессор Киплик придумал тогда превращать казеиновые краски, оставшиеся от ремонта Академии, в питательный казеин. Находчивый Билибин предложил получать фруктовую воду из японских крахмальных воротничков. Опыт не удался: в японских воротничках не оказалось крахмала… Однажды начальник городского отдела пропаганды полковник Цветков пообещал угостить А. Бродского и Билибина пшенной кашей, и Билибин с Бродским отправились пешком через Неву. Как рассказывает А. Бродский, шли они два часа: «… осторожно, держась друг за друга, мы спустились у сфинксов на лед и медленно, боясь упасть, пошли по заснеженной ледяной тропе. На Неве, в открытом пространстве, было ветрено и холодно. Мы шли медленно, осторожно, обходя проруби, из которых ленинградцы брали воду, часто останавливались. Город был очень красив при луне…» Подобную же прогулку через Неву, почти в ту же пору, только в дневное время, и оттого, может, прогулку менее романтическую и менее оптимистическую, трижды совершила в ту зиму жена (а на обратном пути в третий раз уже и вдова) поэта Даниила Хармса Марина Дурново, так рассказывавшая об этом путешествии заезжему гостю полвека спустя (на 96м году своей жизни, в неподцензурной Венесуэле): «Когда оцепененье прошло, я бросилась искать его по тюрьмам (речь идет об арестованном органами в блокадном Ленинграде муже рассказчицы, поэте Д. Хармсе – Б.Н.). Я искала его повсюду и никак не могла узнать, в какой тюрьме го держат. Наконец, кто-то сказал мне, где он находится, и в какой день можно передать ему передачу. Я пошла туда. Надо было по льду переходить Неву. На Неве лежал снег выше моего роста, и в нем был протоптан узкий проход, так что едва-едва могли протиснуться плечом к плечу. Я надела валенки и пошла. Я шла, шла, шла, шла, шла… Когда я уходила из дому, было утро, а когда возвращалась – черная ночь. Раза два я доходила туда, где он был, и у меня принимали передачу. А на третий… … Наверно, и в третий раз я пошла туда же, чтобы передать ему передачу. Я положила кусочек чего-то, - может быть, хлеба, - что-то маленькое, мизерное, что я могла передать ему. Пакетик был крошечный. 168 Всем знакомым я сказала, что иду туда, чтобы знали, потому что я могла и не дойти, у меня могло не хватить сил, а туда надо было идти пешком. Я шла. Солнце сверкало, сверкал снег. Красота сказочная. А навстречу мне шли два мальчика. В шинельках, в каких ходили гимназисты при царе. И один поддерживал другого. Этот уже волочил ноги, и второй почти тащил его. И тот, который тащил, умолял: «Помогите! Помогите! Помогите!» Я сжимала этот крошечный пакетик и, конечно, не могла отдать его. Один из мальчиков начинал уже падать. Я с ужасом увидела, как он умирает. И второй тоже начинал клониться. Все вокруг блистало. Красота была нечеловеческая – и вот эти мальчики… Я шла уже несколько часов. Очень устала. Наконец, поднялась на берег и добралась до тюрьмы. Там, где в окошко принимают передачи, кажется, никого не было или было совсем мало народу. Я постучала в окошко, оно открылось. Я назвала фамилию – ЮвачевХармс – и подала свой пакетик с едой. Мужчина в окошке сказал: «Ждите, гражданка, отойдите от окна» и захлопнул окошко. Потом прошло минуты две или пять. Окошко снова открылось, и тот же мужчина со словами «Скончался 2-го февраля» выбросил мой пакетик в окошко. И я пошла обратно. Совершенно без чувств. Внутри была пустота. У меня мелькнуло: «Лучше бы я отдала это мальчикам» Но все равно их было уже нельзя спасти. Солнце садилось, и делалось все темнее. Я была в таком отчаянии, что не могла уже ни думать, ни идти…» На этой печальной ноте мы завершим рассказ вдовы Хармса и вернемся к оптимистическому рассказу А. Бродского о том, как они с Билибиным дотащились по той же тропе, протоптанной доходягами через Неву, до логова видного политработника, по доброте душевной посулившего деятелям советского искусства единовременное угощение. Накормив гостей пшенной кашей и селедкой (как видите, питерские меню и события повторяются через 20 лет с роковой неизбежностью), полковник Цветков попросил Билибина надписать для него на память былые открытки с репродукциями билибинских акварелей. Эти надписи передают неотступные предновогодние мысли профессора-репатрианта: «Какая в этих местах семга! Кто не пробовал свежей семги, тот не может себе представить, что это за божественная рыба! Писано в дни голодовки: декабрь 1941 г. Ленинград. И. Билибин» «Эти бы грибки, да сейчас на сковородку со сметанкой. Эх-ма!.. 30. XII. 1941». Обратно великодушный политрук отвез гостей на машине, чем вероятно, продлил жизнь нашего героя… 169 Для новогодней ночи 1941 – 42 гг. профессорские жены из жилого бомбоубежища академиков попросили мужей устроить «что-нибудь веселое». Билибин предложил нарисовать веселые картинки и к ним подписи-эпитафии. Потом Билибин передумал и так объяснил свой отказ А. И. Бродскому: «… знаете, я передумал… Я бы, например, не хотел прочесть сейчас эпитафию, посвященную Билибину. Уж очень мы все смахиваем на покойников. Я лучше напишу торжественную оду в виде новогоднего тоста. С него мы и начнем наш вечер. И вот Билибин написал и даже сам зачитал свой последний «опус» (позднее он хранился в собрании полковника В. Цвтекова), из которого можно заключить, что престарелому художнику-мирискуснику предвоенная советская действительность представлялась почти так же смутно и недостоверно, как нам, малолетним советским школьникам: … Когда презренные тевтоны, Как гнусный тать в полнощный час, Поправ законные препоны, Внезапно ринулись на нас: Когда вверху стальные враны, Бесчисленны аэропланы Парят, грохочут и гудят: Бросают смертоносны бомбы: О сколь несчетны гекатомбы Зиянья на земле таят! …И мы, что в этом подземелье Уж много месяцев сидим. Мы снедью и питьем в веселье Себе за глад сей воздадим! Мы голодны! И наши крохи Малы сейчас, как неки блохи! Но час придет и будет пир! Мы будем есть неугомонно! Без перерыва непреклонно! И пить, и петь, и славить мир! Жить художнику и пииту оставалось каких-нибудь пять недель, а есть и пить неугомонно и того меньше. 7 февраля 1942 г. второй муж Александры Щекатихиной Иван Билибин помер в больнице среди смертного голода, холода и трупного запаха, неотступного в этом проклятом Богом городе. Чем можно было ему помочь? Такое уж было тогда «международное положение»: Сталин боролся с Гитлером за мировое господство, и под колесо Истории (гнусной истории противоборства двух социалистов-националистов, двух тирано-мегаломанов) попал веселый и талантливый человек Иван Билибин. 170 Его свалили в общую («братскую») яму на Смоленском кладбище вместе с другими работниками искусств. Понятно, что в осажденном городе, где полено было на вес золота, гробов на бесчисленных дохляков нельзя было напастись. В такую же общую яму под Москвой в одной куче со всеми бедолагами из московского народного добровольного ополчения (народного – это бесспорно, но что добровольного, позвольте усомниться) свалили трупы трех моих дядьев (отцовских братьев) и восемнадцатилетнего отцовского племянника, моего двоюродного брата, в отличие от меня подававшего большие надежды… Вот в эту грустную пору, слыша за океаном лишь стоны истерзанного Питера, и вытащил из дальнего ящика Мстислав Добужинский свою «азбуку «Мира искусства», где у него на веселой картинке – лихой охотник Иван Билибин с подстреленными горлицами и зайцем. Вытащил в ту самую пору, когда помер Билибин, человек еще не больно старый – жить бы ему да жить (беглый Добужинский прожил на шестнадцать лет дольше, а бежавший Бенуа на все 24)… Не знаю, как выжила Щекатихина, но знаю, что выжила. Может, она уехала в то время на выставку в Москву. Может, просто эвакуировалась. Во время войны она расписывала фарфоровые вазы – Александр Невский, Дмитрий Донской, Кузьма Минин… Тоже агит-фарфор, весь набор из текста великой речи Великого Повелителя. Расписывала теперь как положено, без супрематистских экспериментов и чехонинских вывертов… После войны Александра Васильевна делала сервизы массового производства. Как раньше, с закруткой, бессмертные тарелки ей расписывать было уже не след, а лепить без росписи масленки – пожалуйста. Тем она и занималась. В 1955 г. провела в Ленинграде персональную выставку, а умерла в 1967 г., на полвека пережив первого мужа и на четверть века второго. Была похоронена на Большеохтинском кладбище вблизи киевской дороги, неподалеку от балерины Сахновской и тайного советника Кмиты… Сыночек ее Мстислав кончил биофак за два дня до начала войны. Воевал всю войну, был ранен, защитил родину, а, вернувшись, защитил и диссертацию. Работал в Зоологическом институте, а в старости был смотрителем в Ивангородском этнографическом музее, которому подарил коллекцию работ матери и отчима. Случайные посетители, забредшие в эту приграничную глушь, с любопытством смотрят на скромный рисунок Билибина с подписью «Борм». - А где он, граждане, этот Борм, в каком краю? - Господи, да как же Вы не знаете, граждане, это же Мимозный Борм, чудесный провансальский городок, по которому Билибин и Александра Васильевна гуляли мирным вечером с поддатым Куприным, с прелестным вралем Коровиным, тоже, конечно, не слишком трезвым, и с милым шутником Сашей Черным! Когда ж это было, дай Бог память… Вот и наш уездный город, Три сестры стоят обнявшись, 171 Почтальон гуляет с теткой, В небе лунное серсо… Вот я доживу до февраля и поеду снова в Борм… Остановлюсь в дешевой «Террасе», где балкончик над уютной площадью близ храма, буду гулять по узким улочкам, засыпанным первыми катышками мимозы, вспоминать Билибина, Коровина, красивую Александру Васильевну, милого Сашу Черного, Марью Ивановну Гликберг, да и мальчика Славу Потоцкого, ставшего в старости музейным смотрителем – почтенным Мстислав Николаичем – Царствие им всем Небесное… «Не лепо ли нам, братие…» Дмитрий Стеллецкий Надо напомнить, что среди европеизанствующих стилизаторов«западников» было в «Мире искусства» вполне внушительное число стилизаторов «истинно-русских». Не то, чтоб Рерих (Roerich), Стеллецкий или более поздний Григорьев могли похвастать большей примесью «русской крови» в своих жилах, чем Бенуа, Лансере, Нувель, Нурок, Нарбут или сами «императорской крови» Романовы, но зато «истинно-русскими» они были по убеждению, по вкусам, по самоощущению, а разве не это главное? Малопомалу стилизаторы истинно-русские, славянские или даже языческискифские взяли верх в «мире искусства», они даже стали в нем (в лице Рериха и Билибина) верховодить – время было за них. Но, строго говоря, ведь и в пору своего зарождения дягилевский «Мир искусства» (по тем или иным причинам) поднял на знамени Виктора Васнецова, трех богатырей, мамонтовское Абрамцево и тенишевское Талашкино (да Мамонтов и Тенишева были главные спонсоры-благодетели) и даже все то, с чем стали ясно различать позднее некие, уже всем набившие оскомину элементы «петушкового стиля». Среди «истинно-русских» был и брест-литовский уроженец Дмитрий Стеллецкий. Напомню, что трезвый «западник» Александр Бенуа всегда с подозрительностью относился к националистам и мистикам, к «истоворусским» или неистово религиозным стилизаторам (а их с приближением войны становилось все больше). Ища, к примеру, художника для постановки «Жар-Птицы», мечтал он о Босхе и Брейгеле, или хотя бы о Сомове, а Стеллецкому с Бибилиным не доверялся. «Из «специалистов … древнерусского стиля», - писал он, - ни Билибин. Ни Стеллецкий не подходили к данной задаче – слишком в творчестве как того, так и другого было много этнографического и археологического привкуса…» Однако, в конце концов, и сам Бенуа (уже и в довоенные годы) был «околдован чарами Стеллецкого», «зачарован волшебным плетением его 172 узоров», «заворожен окончательно», признаваясь в этом не без удивленья и устно, и письменно. «… Стеллецкий – нам, европейцам, западникам и «парижанам», читает древние церковные причеты и хочет заставить наши гостиные иконами, накадить нам ладаном, навести на нас дурман какого-то не религиозного, не то колдовского оцепенения, - писал Бенуа, - Не знаешь, как выбиться из этих чар, как вырваться на свежий воздух: не знаешь-таки потому, что цепенение это сладко, сладки «причитания» Стеллецкого». «Я долгое время противился этим чарам, - продолжает А. Бенуа, - не сдавался, да и сейчас Стеллецкий мной еще не завладел совершенно. Но, зная его деспотический и хитроумный нрав, зная его неумолимый фанатизм, вспоминая путь, мною пройденный с того момента, когда в 1897 г. впервые увидел его «пастиччио» на древнерусские миниатюры (и так решительно их тогда отверг), до сего дня, когда я им увлекаюсь больше, нежели многими другими (кому, думалось, буду верить до конца жизни), зная и вспоминая все это, мне представляется возможным, что Стеллецкий меня заворожит окончательно, уложит, заставит иконами, усыпит ладаном и чтением, заупокойными колыбельными». Поразительное признание делает уже в те предвоенные (в 1909 и 1911 гг.) маститый историк искусства, идеолог «Мира искусства». Это признание в любви, ибо при всей широте своей, при всем эклектизме и служении одной лишь «красоте», Бенуа вовсе не сошел со своих «западнических» позиций и стоит твердо перед тогдашним наступлением нового славянофильства, византизма, «скифства», вполне официальной гордости и внеофициальной гордыни русского мессианства. Он тут же это и оговаривает в своих статьях о Стеллецком со всей возможной резкостью: «Мне чужды его святые и его небеса, мне чужда его Москва, его Россия, его Византия. Это – страшная Россия, это чудовищная для нас, нынешних, Византия – страна живой смерти, летаргии, какого-то душевного скопчества. А между тем, нельзя освободиться от баюкающих объятий его темного, таинственного, колдовского искусства, оно как-то укладывает, чертит вокруг вас волшебные круги, и уже не встать, не сбросить с себя тяжелые покровы, не удается подышать свежим воздухом». Итак, речь уже идет не об «этнографическом и археологическом привкусе, речь идет о несомненном искусстве. К тому же речь идет о Византии, о важном и вечном споре, про национальное, про «истиннорусское» искусство, споре о том, что же здесь истинное искусство, а что «пастиччио», подражание. Речь идет о молитвах и ладане – о новом религиозном искусстве… на мысли обо всем этом наводит неистовое искусство Стеллецкого, его стойкость, его фанатическая борьба за свои убеждения. Ко всему этому мы еще должны будем вернуться, а пока хоть кратенько – о самом чародее-мирискуснике Дмитрии Стеллецком. Родился он в 1875 г. в Брест-Литовске Гродненской губернии (ныне пограничный Брест) в семье военного инженера. В жилах его текли самые экзотические крови, вплоть до грузинской, что не мешало ему стать 173 фанатическим, «истинно-русским» националистом и православным патриотом (как не мешало самому Государю императору с его двумя процентами русской крови и Государыне, не имевшей и этих двух процентов, не мешало датчанину Далю или, скажем, жестокому национал-большевику Сталину, который был то ли грузин, то ли осетин). Трезво-романтический и столь терпимый Бенуа пытается, впрочем, опознать «голос крови (грузинской) в творчестве зрелого Стеллецкого: «В склонности к узору, в презрении к лицу, к душе, быть может, сказалась примесь грузинской крови в художнике (ибо прабабка Стеллецкого, выкупленная прадедом из персидского плена, принадлежала древнему, легендарному роду Елеозовых)». Вот вам и еще одна легенда, не хуже «татарской» легенды о предках Горенко-Ахматовой или слухов о викигах «Роэрика»… Что до более достоверных фактов, то известно, что в 1896 г. Стеллецкий поступил в Академию художеств в Петербурге и учился сперва на архитектурном, а потом на скульптурном отдалении – аж до самого 1903 г., когда он получил звание скульптора-художника. Бенуа рассказывает (вероятно, со слов самого Стеллецкого), что тяга к лепке проявилась у Стеллецкого рано: «будучи еще десятилетним мальчиком, он стал лепить мавзолей для «птичьего кладбища», устроенного им в отцовской усадьбе. На начало это, столь характерное для всего «некрофильского» элемента в его искусстве было все же – что касается выбора способов художественного выражеиия – случайным. Случайность эта отозвалась на нем в течение многих годов, она привела его в Академию к Залеману… она же его заставила сделать длинный ряд этюдов, бюстов и статуй, из которых большинство поражает своей холодностью и несколько ординарной умелостью». Говоря о «некрофильстве» Стеллецкого, Бенуа может иметь в виду лишь интерес к мукам человеческим и смерти, которые неизменно и по праву присутствуют в религиозном искусстве, хотя, вероятно, и в обычной жизни Стеллецкий был человек не слишком понятный и какими-нибудь «фильством» и «фобством», быть может, и грешил. О скульптурах Стеллецкого – и деревянных, и бронзовых, и гипсовых, и раскрашенных – написано мало, а между тем, Стеллецкий создал в 1906 – 1912 гг. скульптурные портреты Леонардо да Винчи, А. Головина (написавшего, между прочим, интереснейший портрет самого Стеллецкого), О Преображенской, В. Серова, Э. Направника. Что до внешности самого Стеллецкого, до его походки, речи, его выходок, до того, какой он был все же этот «чудом живущий среди нас» странный человек - об этом не осталось почти ничего даже у Бенуа, рассказавшего лишь анекдот о его странных загулах и недолгой дружбе с театральным начальством в Петербурге. Потому удивляют сообщения, вроде записи в завещании старого В. Анрепа о том, что взял у него Стеллецкий целых десять тыщ в долг и не отдал (завещатель просит наследников деньги эти взыскать с прохиндея с процентами – ищи ветра в поле!). описание 174 внешности Стеллецкого можно найти у Сергея Маковского, который был знаком с художником на протяжении сорока лет: «Маленький, щуплый, большеголовый, скуластый, поблескивающий через очки близоруким взором (слепнул к старости, умер совсем слепым). Нервно-подвижный, вечно спешащий куда-то и размахивающий короткими руками, непоседа из непосед, но упорный в труде, неумеренный во всех проявлениях неудовольствия или восторга, спорщик неуемный, заносчивообидчивый и добрый, измученный жизнью и одиночеством, несоответствием того, что он считал правдой, с тем признанием, которое изредка выпадало на его долю, - таким вспоминается мне этот не совсем русский по крови, но глубоко чувствующий все русское художник, восторженно православный в идее и не умудренный верой с миренных, этот до мозга костей эстет, для которого духовный идеал сводился в конце концов к прекрасному звучанию линий и красок, этот ученый воссоздатель старины не без налета темпераментного любительства, этот самоотверженный труженик, не балованный судьбой и не лишенный, однако, самообольщенного славолюбия…» Карьеру свою, как уже было сказано, Стеллецкий начинал как скульптор. В 1935 г. скромная ленинградская библиотекарша Татьяна Модестовна Девель передала в Русский музей пять работ Стеллецкого. Среди них были скульптурная группа, изображавшая профессора Василия Константиновича Анрепа (фон Анрепа) с любимой его собакой Шамиль (как видите, не один Толстой поминал в России имама Шамиля), скульптурный портрет прелестной сестры самой Т. М. Девель Нины Модестовны и портреты двух сыновей В. К. фон Анрепа – Бориса и Глеба. Можно признать, что портреты (раскрашенный и тонированный гипс и бронза) мастеровиты, холодноваты, хотя в них и нет того более позднего невнимания к лицу персонажей, о котором неоднократно упоминает Бенуа. Что касается скульптурных портретов Бориса Анрепа (их было сделано несколько), то резкий поворот его обнаженного атлетического торса выдает скорее даже волнение, чем холодность скульптора. Автор заметки в журнале «Художник» (N8 за 1979 г.), посвященный тайне Русского музея, сообщает, что Стеллецкого «связывали глубокие дружественные узы» с высокоинтеллигентными, истинно русскими петербургскими семьями Девель и фон Анреп. Профессор Василий Константинович Анреп был основателем и первым ректором Женского медицинского института в Петербурге (ставшего впоследствии Первым медицинским институтом). Младший сын В. К. Анрепа Глеб стал физиологом, любимым учеником И. Павлова. Что же касается Бориса Анрепа, поэта, художника, офицера и дипломата, то немногие из русских художников в эмиграции (разве только М. Шагал) выполняли столь престижные заказы, как Борис Анреп. И уж вовсе немногие сыграли сыграли столь романтическую роль в русской поэзии XX в. (перед ней бледнеет и роль самой Олечки Судейкиной), как атлетический Борис Анреп. 175 Б. В. Анреп был на восемь лет моложе Стеллецкого и познакомился он с этим странным мирискусником еще в студенческие годы, в ту пору, когда закончив Императорское училище правоведения, молодой аристократ Анреп поступил на юридический факультет университета. Как и многие студенты этого знаменитого факультета, Борис интересовался не правом, а поэзией и живописью. Считают, что на почве любви к искусству и сошлись старший и младший художники. И что именно на почве этой дружбы (а может, и не только дружбы) вольноопределяющийся лейб-гвардии Драгунского полка Борис Анреп склонился в сторону художественной, а не научной, государственной или военной карьеры (хотя он и был уже оставлен при университете для написания диссертации и подготовки к званию магистра). Вдвоем со Стеллецким совершил Борис фон Анреп путешествие по Италии и Франции, с ним начал посещать музеи, кажется, что сперва заграничные, а потом петербургские. Вскоре Борис и сам уже писал статьи об искусстве для «Аполлона», писал стихи и поэмы. По всей видимости, и его захватила восторженная и неутомимая славянофильская («древне-русская») проповедь фанатика Стеллецкого, захватили его и византийство, и любовь к иконам. Памятуя о тогдашней петербургской утонченности, можно предположить, что дружба их произрастала и на какой-нибудь другой, еще более возвышенной почве, что Стеллецкий, к примеру, был влюблен в Анрепа, так же как позднее была влюблена и в Анрепа, и в подружку Олю великая поэтесса Серебряного века Анна Ахматова. Так или иначе, прославившийся на Британских островах русский художник-мозаичист, русский и английский поэт-символист, неуязвимый воин и неутомимый любовник Борис Анреп заслуживает особой, пусть даже самой короткой, главки в нашей книге о путях русских художников на Первой и на Другой родине. Вставная главка о преуспевшем художнике, о влюбленной поэтессе и совсем коротко – о навязчивой теме – «ехать или не ехать»… Петербургские фон Анрепы вели свой род от шведских воинов Карла XII, взятых в плен Петром Великим и с тех пор служивших при русском дворе. Военную семейную традицию нарушил только отец Бориса Анрепа, ставший профессором медицины, получивший пост попечителя учебного округа в Харькове, а потом и пост в Петербурге, где Анрепы купили дом. Было у них также имение близ Ярославля (что позволило Ахматовой называть англомана Бориса «ярославцем»). Харьковский друг Бориса Николай Недоброво пристрастил Анрепа к стихам, а Стеллецкий, с которым его познакомил тот же Недоброво, поддержал увлечение юноши живописью. С 1908 г. Борис учился в академии Жюлиана в Париже. Во Франции он и женился впервые – на Юнии Хитрово. Позднее, с 1911 г. он жил в Шотландии, где учился в Эдинбургском 176 колледже искусств, а потом переехал в Лондон. Здесь Борис Анреп завел много знакомств в довольно высоких кругах, завоевал симпатии знаменитых английских художников и литераторов, провел первую персональную выставку, получил первые заказы на оформление вилл. Больше всего он увлекался мозаикой и в Париже, одновременно с занятиями живописью у Жюлиана, Борис Анреп работал на парижской фабрике Эбеля, где изготовляли мозаики. Работал он упорно и уже перед войной смог провести в Челси персональную выставку, не оставшуюся незамеченной. «Борис Анреп – это русский художник, который работает в Париже, писал в связи с выставкой видный лондонский критик Роджер Фрай, - с востока он несет нам осознание своей духовной жизни, выраженное гораздо ярче и точнее, чем принято у людей западной цивилизации. По темпераменту и склонностям он символист. Но если бы он был замечателен только этим, вряд ли бы его творчество произвело на нас впечатление. Его знакомство с жизнью и искусством Запада научило его делать символ выразительным, независимо от того, что этот символ означает. Для него это символ, для других – выразительная форма. Символизм Анрепа есть ядро, вокруг которого, как кристаллы, вырастают художественные образы, ядро, являющееся символом его творческих усилий. Начинает он с идей, которые могут быть выражены словами (что часто и случается, потому что Анреп – поэт, пишущий по-английски и по-русски), но когда он берется за художественное изображение, то переходит от идей в ту область, где их точный смысл оказывается неважным. По своей сути – Анреп – художник…» У Анрепа появляется много друзей и поклонников среди английских знаменитостей. Не меньше, чем искусством, Борис Анреп увлекался женщинами, у которых имел неизменный успех. Уже в 1911 г. он ввел в свою семью (где уже была к тому времени жена Юния) богатую певицу Элен Мейтленд, которая подарила ему дочь и сына, а также дом в Хэмстеде для ателье. Юния до времени мирилась с таким семейным устройством и уехала в Россию только перед войной. В 1913 г. Борис Анреп напечатал свою английскую поэму «Предпсловие к Книге Анрепа», навеянную космогоническими видениями Блейка и получившую (благодаря Недоброво) отклики в России. А в 1914 г. Борис Анреп впервые получил заказ на фрески для Вестминстерского собора. С началом войны Борис с братом устремились на родину, и Борис был прикомандирован к русской армии в Архангельске. Потом он воевал в Галиции и Закарпатье, время от времени, удаляясь по каким-то делам в Англию, где у него появились высокие связи в военной верхушке. Он был удачливым, храбрым и неуязвимым… С 1915 г. он работал в Лондоне в Русском правительственном комитете по снабжению русской армии. Британских друзей-пацифистов из Блумсбери он шокировал своим боевым патриотизмом, военной выправкой, звоном шпор, капитанскими погонами и сокрушительным успехом у женщин. Все это навеяло ревнивому писателю Олдосу Хаксли (у которого Анреп однажды 177 увел невесту) сатирический образ художника Гомбо в его новом романе «Желтый Кром». Борис Анреп иногда наезжал в Петроград и регулярно переписывался со старым другом Н. Недоброво, который неоднократно рассказывал ему в письмах о поэтессе Анне Ахматовой, в которую Недоброво был влюблен. В одном из своих писем (от 27 апреля 1914 г.) Недоброво советовал Анрепу сделать с Ахматовой «леонардовский рисунок, гейнсборовский портрет маслом и икону темперой, а пуще всего, поместить ее в самом значащем месте мозаики, изображающий мир поэзии». Самое поразительное, что именно так и поступил позднее Борис Анреп, притом дважды. Впрочем, к тому времени это были лишь символические портреты, даже и не символы мира поэзии, а лишь символы человеческой муки и сострадания к ним. В те поздние годы, после долгих лет разлуки с Россией Анреп сумел понять, сколь глубокого сострадания заслуживают его былые друзья и возлюбленные, оставшиеся в так хорошо ему знакомом родном Петербурге, уже носившем в ту пору подпольную кликуху Вождя. Мозаики эти были созданы через много лет после великой войны, но мы вернемся в военный 1915 г. Если верить рассказам Анны Ахматовой, именно в тот год, на Великий Пост, в Царском Селе, в гостях у Н. Недоброво хозяин дома представил Анну Андреевну Ахматову (в ту пору, впрочем, еще Гумилеву) своему другу Борису Анрепу, и верный своему обычаю неотразимый Анреп сразу увел любимую женщину друга (не слишком, впрочем, его, этого друга, любившую). Анна влюбилась в Анрепа, но виделись они всего несколько раз, во время его нечастых приездов в Петроград: по ее собственным словам, «семь дней любви и вечная разлука». Отметим, что такая разлука бывает очень плодотворной для чувства, для фантазии, для поэтизации, для творчества (и мифотворчества). Если у Анрепа в двух его поздних мозаиках отражен облик Анны, то у Ахматовой в сборнике «Белая стая» (к которому и автограф взят из поэмы Анрепа) и в сборнике «Подорожник» знатоки поэзии насчитывают больше тридцати стихотворений, обращенных к Борису Анрепу, а ведь позднее она написала и еще… Вернувшись в Петроград с австрийского фронта, Борис привез в подарок Анне Ахматовой деревянный крестильный крест, который он нашел в какой-то разрушенной церкви в Карпатских горах. Она хранила его до самой смерти: он и сейчас в музее в Фонтанном доме. Подарок свой Борис сопроводил четверостишием: Я позабыл слова, я не сказал заклятья, По немощной я только руки стлал. Чтоб уберечь ее от мук и чар распятья, Которые я ей в знак нашей встречи дал. 178 13 февраля 1916 г. Ахматова и Борис Анреп вместе слушали поэму Недоброво «Юдифь». В тот вечер Ахматова передала Анрепу «залог любви» - черный перстень. Февральская революция застала Анрепа в Петрограде. В мемуарном очерке, написанном перед смертью, он вспоминал: «Революция Керенского. Улицы Петрограда полны народа. Кое-где слышны редкие выстрелы. Железнодорожное сообщение остановлено. Я мало думаю про революцию. Одна мысль, одно желание: увидеться с А. А. Она в это время жила в квартире проф. Срезневского, известного психиатра, с женой которого она была очень дружна. Квартира была за Невой… Я перешел Неву по льду, чтобы избежать баррикад около мостов… Добрел до дома Срезневского, звоню, дверь открывает А. А. «Как, вы? В такой день? Офицеров хватают на улицах». «… Она волновалась и говорила, что надо ждать больших перемен в жизни. «Будет то же самое, что было во Франции во время Великой революции, будет, может быть, хуже». Это была их последняя встреча перед полувековой разлукой. Как только кончилась забастовка, Анреп первым же поездом двинулся в Англию – через Финляндию, через Норвегию… Вспоминают, что Анреп и раньше признавался друзьям, что предпочитает «английскую цивилизацию разума» российскому тогдашнему «религиозному политическому бреду». Стихи Ахматовой, ему посвященные, как будто подтверждают эти слова: Ты говоришь, что вера наша – сон И марево – столица эта. Ты говоришь – страна моя грешна, А я скажу – твоя страна безбожна. Пускай на нас еще лежит вина, Все искупить и все исправить можно. Анреп никогда больше не возвращался в Петроград. В 1918 г. он радушно принимал в Лондоне Гумилева, о чем пишет английский биограф Анрепа: «… Николай Гумилев, будучи в Лондоне и работая с Борисом в шифровальном отделе… читал свои стихи в гостиной дома на Понд-стрит. После чего леди Констанс Ричардсон танцевала в обнаженном виде, а русские офицеры смотрели на нее, открыв рот. В тот раз Борис дал Гумилеву отрез шелка, чтобы он передал его Анне Ахматовой», которой Гумилев и рассказал о Борисе по возвращении: «Семья его в деревне, а он или на службе, или в кафе». В знаменитых своих стихах, посвященных Анрепу, Ахматова писала, что он напрасно звал ее за границу и что сам он «загляделся на рыжих красавиц». Но к тому времени она уже знала наверняка о первой «рыжей 179 красавице» из новой серии разлучниц. Это была никакая не англичанка (и не рыжеволосая, а черноволосая и черноглазая, восемнадцатилетняя красавица и вдобавок свояченица Бориса Маруся Волкова, сестра братниной жены). Анреп плыл с ней на пароходе, возвращаясь в Англию, и еще в пути стал ее возлюбленным. Сойдя на берег, он привел ее в свой семейный дом, ко второй жене Элен и двум детям, как некогда привел саму Элен в дом Юнии. Оно может показаться странным, это вполне магометанское стремление селить всех своих жен и любовниц под одной крышей, но оно не так редко наблюдалось у тогдашних героев-любовников. В конце концов, ведь именно так поступил и третий муж Ахматовой Николай Пунин. Благожелательные биографы объясняют это российским жилищным кризисом, но на Англию в ту пору подобный кризис еще не обрушился… Маруся Волкова и удалой денщик Анрепа стали со временем первыми ассистентами мозаичиста… С отъездом Анрепа в Англию его образ занимал все большее место в стихах Ахматовой. И чем дальше, тем горше звучали ее обвинения беглецу, изменнику, отступнику. Сперва это были стихи о простой любовной измене, но мало-помалу они переросли в стихи религиозно-патриотические, обличающие «безбожную» Европу, а заодно и всех «отступников»эмигрантов, «предавших» родину, революцию, молитвы и грядущие русские страдания… Очень знамениты стали эти патриотические стихи: Ты – отступник: за остров зеленый Отдал, отдал родную страну. Ниши песни и наши иконы, И над озером тихим сосну. Фантазия поэтессы разыгрывалась, плач эмигранта чудился ей под собственным окном: … Для чего ж ты приходишь и стонешь Под окошком высоким моим? Дальше – больше. В апреле 1918 г. в «Воле России» было напечатано с посвящением Аанрепу еще одно знаменитое ахматовское стихотворение, впрочем, пока еще без последних четырех строк (добавленные поэтессой позднее): эти две отчаянные строфы были напечатаны впервые лишь в 1967 г., да и то в Мюнхене): Мне голос был. Он звал утешно, Он говорил: «Иди сюда, Оставь свой край глухой и грешный, Оставь Россию навсегда. Я кровь от рук твоих отмою, Из сердца выну черный стыд, 180 Я новым именем покрою Боль поражений и обид». Но равнодушно и покойно Руками я замкнула слух, Чтоб этой речью недостойной Не осквернился скорбный дух. Придуманный поэтессой «голос», который звал Ахматову оставить Россию, это, по верному наблюдению историка О. Казниной, «внутреннее сомнение и соблазн, который она отвергла как временную слабость». И ни в чем (кроме очередных любовных увлечение – Б. Н.) не повинный Анреп «был символом этого соблазна». Остается с печалью добавить, что «внутреннее сомнение», «временная слабость» и «соблазн», вероятно, не раз возвращались в тяжкие минуты жизни. Скончался Блок, которого не выпустили за границу для лечения, расстреляли ни в чем не повинного Гумилева, и раз, и два арестовали их сына, потом гноили в лагерях… Очень скоро Ахматову запрещено было печатать: на вершине славы она замолчала… Боже, сколько боли, муки и страхов. Пытаясь вызволить сына из-за колючей проволоки, она писала какие-то письма тирану, какие-то гимны, была на время прощена, приобщена к мощному патриотическому хору (таких голосов не хватало). Может, и сына б ей отдали, но однажды, через двадцать лет осторожности и страха, некий человек из «безбожного» Лондона (да еще из британского консульства в Питере) вдруг явился к ней домой и показался ей Гостем из Будущего. Его визит и их единственная светская беседа дорого обошлись бедной женщине: на весь мир прозвучавший полицейский окрик Жданова и еще чуть не десять лет унизительного смертельного страха… Еще позднее, в ахматовской «Поэме без героя» лирическая героиня пытается напомнить этому Гостю из Будущего (ставшему одним из персонажей поэмы) о том самом «голосе» из прославленной строки («Мне голос был…»), но Гость в ответ лишь укоряет бедную женщину вполне цинично: «У тебя мнимые воспоминания». Нет, не было голоса, и никогда не плакал Анреп под ее окнами… А чем же он был занят, «отступник» и изменщик Анреп? У него полвека была мастерская на бульваре Араго в Париже, которой больше тридцати лет (с 1931 г.) заправлял его помощник, уроженец Николаева, русский грек Леонидас Инглези, который учился когда-то в московской школе живописи и в мастерской Юона, был гласным городской Думы в родном Николаеве, радел о создании в этом городе художественного музея, был изгнан из родного дома, но не убит – сумел выехать в Париж в 1928 г. Анреп работал в этой своей мастерской еще с 1926 г., но главные его заказчики были в Англии и главным трудом жизни были полсотни мозаичных напольных картин для лондонской Национальной галереи. Былой друг Стеллецкого, Борис Анреп продолжал традиции монументальной 181 византийской мозаики. В символических фигурах его аллегорий («Труды жизни», «Современные добродетели», «Пробуждение муз» и др.) можно узнать У. Черчилля, Э. Резерфорда, Т. С. Элиота, в аллегории «Сострадание» - Анну Ахматову, а в мозаике «Я здесь лежу» увидеть даже будущую могилу самого художника. Знаменитыми стали и напольные мозаики Анрепа для Английского банка в Лондоне, его мозаичное панно для лондонской греческой церкви, мозаики для собора в ирландском Маллингере, для Вестминстерского собора… Много десятилетий напряженной творческой, светской, писательской, мужской жизни… Может быть, не вполне безмятежной, не лишенной сомнений и угрызений совести… Недаром же, в 1965 г., когда стало известно, что пережившая все лишения, муки и страхи его мимолетная любовь, великая Анна Ахматова приезжает в Англию по приглашению Оксфордского университета, Борис Анреп сбежал в Париж под тем хлипким предлогом, что пора было там ликвидировать старую добрую парижскую мастерскую на бульваре Араго. Художнику ведь и самому было уже за восемьдесят… Но 76-летняя Ахматова проявила упорство в своих поисках прошлого, разыскала его номер в парижской телефонной книге и добилась свидания – первого их свидания за полвека. Он был одним из тех немногих, кто уцелел в их кругу… Они встретились, два очень немолодых человека, ничего. Впрочем, не забывших… Беседа не клеилась. Она пыталась напомнить ему о 13-м февраля !916 г., когда она передала ему перстень, который где-то давно пропал. Пыталась оживить чувства. (Может, в интересах безжалостной своей повелительницы – музы… А может, этого требовала былая любовь и былая женская обида…) Анреп покрылся холодным потом: ну да, она намекает на кольцо… Но что там могло уцелеть – в суете жизни, в тысяче встреч, сотне любовей… В разбомбленном Хэмпстеде, в разбомбленном Лондоне, в нетронутом среди чужих бед и страданий, легкомысленном и чужом для них многолюдном Париже… Позднее Анреп написал воспоминания об Анне, которые он просил напечатать после его смерти (она не заставила себя ждать). В них он кается, говорит о своей подлости и трусости, но все же не решается говорить о главном – говорить о жизненной неудаче или грехе. Он цепляется за щадящее мелочные проступки этой жизни, вспоминает о пропавшем кольце: «Трусость, подлость. Мой долг был сказать ей о потере кольца. Боялся нанести ей удар? Глупости, я нанес ей еще бОльший удар тем, что третировал ее лишь как литературный феномен… Я ищу себе оправдания… я его не нахожу. 5 марта 1966 г. А. А. скончалась в Москве. Мне бесконечно грустно и стыдно». Он подписал свою рукопись, а ниже приписал другими чернилами ее стихи 1917 г., - точно отыскав у нее самой оправдание для своей небрежности: 182 Это просто, это ясно, Это всякому понятно – Ты меня совсем не любишь, Не полюбишь никогда… Через три года после их последней встречи, известный в Англии русский художник-мозаичист отправился на последний суд и сам стал «литературным феноменом», может, даже в большей степени, чем феноменом искусства. Связанные с ним три с лишним десятка стихов самой знаменитой русской поэтессы XX века и одни роман известного английского романиста могли бы обессмертить любого художника, если б за спиной у него не было вдобавок столь знаменитых собственных мозаичных панно… Магия красок и вкус допетровской Руси Если вы считаете, что бюсты художника-поэта Бориса Анрепа и членов его семьи увели нас слишком далеко от их автора Дмитрия Стеллецкого, мы напомним, что по наблюдению Бенуа, Стеллецкий был «в собственном представлении … именно скульптор». Бенуа объясняет эту самооценку молодого Стеллецкого решительно ошибочной, ибо уже в ранней «скульптуре Стеллецкого стал сказываться живописец. Началось это в тот момент, когда он принялся раскрашивать свои фигуры или прислонять их к стене». Колористом-живописцем в первую очередь считает Стеллецкого и пристально наблюдавший его стенопись, его книжную графику, и главное его знаменитые листы к «Слову о полку Игореве» искусствовед Сергей Маковский: «Тут «магия» - и от цвета. Техника, которая применялась Стеллецким, ярко-красочная гуашь – побуждала его к «цветному мышлению». Это последнее относится к рисункам Стеллецкого, иллюстрирующим знаменитейшее произведение древнерусской литературы «Слово о полку Игореве», но дать подробное описание этих листов (которые многие считают шедевром Стеллецкого) Маковский не берется: «Нельзя описать графику, столь насыщенную цветом, символикой цвета: она еще иррациональнее, чем графика blanc et noir». Маковский признает, что смысл изображения на листах только намечен, а главное здесь – «декоративное заполнение бумажного листа», которое «доведено местами почти до орнамента». Но откуда эта вязь старинных узоров, что они воспроизводят? И в точности ли воспроизводят? Маковский не отрицает великой учености Стеллецкого, но отмечает в его графике прежде всего «живое чутье художника». Вот как он пишет об этом: 183 «Стеллецкий не претендует на точность, он берет у старины все, что отвечает по духу одиннадцатому-двенадцатому векам… Он черпает из «обширной» древности, ему близкой, любимой, свободно выбирая то, что нужно для художественного целого, скрепленного скорее единством его собственного вкуса, чем исторической справкой… Вот почему впечатление непосредственности, свежести дают эти иллюстрации к «Слову», хоть и напоминают столько древней красоты: «звериные» буквы Остромирова Евагнелия: лицевое «Житие Бориса и Глеба» и более ранние, византийские книги; Кенигсбергскую летопись; «Хождение св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова» по рукописям XV и XVI вв. (изд. Н. П. Лихачева); соборы в Юрьеве-Польском и Владимире-на-Клязьме; народные узоры великорусского севера; фрески IX века в знаменитом аббатстве св. Савена в Пуату и романские ткани в Байе, изображающие поход… в ту отдаленную эпоху, когда искусство европейского Запада и Востока еще дышало единой сутью византийского наследства. Где только ни был Стеллецкий, из каких музеев и библиотек не извлекал частицы того декоративного единства, что вызывает в нас тем меньше сомнений, чем больше мы ценим оригинальность «чудом жившего среди нас» русского мастера». «… Надо ли повторять, что не в документальной точности прелесть этих столь русских иллюстраций, а в духе таланта, веющем «где хочет». К тому же выводу привели иллюстрации к «Слову о полку Игореве» и самого, так долго упрекавшего Стеллецкого в «этнографичности» и подражательности Александра Бенуа. Увидев эти купленные Третьяковской галереей листы, Бенуа написал, что Стеллецкий творил «не подражание древним монахам-миниатюристам, а нечто совсем-совсем им родственное по духу»: «Эти иллюстрации к «Слову» тем и изумительны, что в них вовсе не сказалось наше современное понимание древней поэзии, а сказалось подлинно древнее отношение к ней. Без всякой позы, свободно, широко, гибко Стеллецкий сочинял свой узорчатый припев, и самое замечательное здесь, помимо красоты красок и линий, это именно свобода, естественность, непосредственность плетения. Когда-то творчество Стеллецкого я готов был клеймить словом пастиччио. Ныне я вижу его свободную основу, и о «подделке» не может быть речи». Так писал «западник» Бенуа о яром антизападнике и ненавистнике всякого европеизма Стеллецком. «Мирискусники не чуждались его, отмечал С. Маковский, - признавали талантливость его византийствующих композиций – в качестве индивидуалистов-эклектиков они соглашались и на этот прием художественного самоутверждения. Но Стеллецкий думал не о художественном приеме, не о стилизации, он грезил о Реформе (с большой буквы), а новой эре искусства, отказавшегося от Ренессанса, об искусстве, верном древнему канону; плоскостному, двухмерному изображению, обратной перспективе, анатомической отвлеченности, красочной 184 символике… Притом верность далекому прошлому представлялось ему как свободное вдохновение… отнюдь не слепое подражание…» Признавая несомненное и немалое дарование Стеллецкого, Маковский (как, впрочем, и Бенуа) считал, что «роль художественного реформатора была Стеллецкому не по плечу». Впрочем, те идеи, которые вдохновляли Стеллецкого, разделяли в ту пору многие. Переход от Московской Руси к императорской России многим казался слишком резким. И при последних русских императорах были сделаны попытки возврата к допетровскому искусству – «к декоративной восточности церковных куполов и узорчатых деталей». Это была плохо понятая «русскость». Однако тогда же вырос интерес к подлинным достижениям русского искусства XI – XVI вв. Все творчество Стеллецкого и было «попыткой восстановить художественный вкус допетровской Руси». Бенуа считал, что,несмотря на отдельные удачи (особенно в области сценографии), такие попытки, вполне многочисленные в ту пору, ни к каким большим достижениям привести не могли. В середине 30-х г. XX в. Бенуа рассказывал в одном из своих писем: «В среде самого Мира Искусства… производились всякие опыты создания или возрождения какого-то русского декоративного стиля (художники, которые уплатили дань так называемому «национальному романтизму», претворяя в своем творчестве мотивы народного прикладного и декоративного, а также древнерусского искусства (вспомним о деятельности Поленовой, Якунчиковой, Ап. Васнецова, Врубеля, Стеллецкого, Малютина, Коровина, Головина, Рериха, Билибина)… но эти опыты носили скорее характер эстетического прихотливого дилетанизма, и во всяком случае они (несмотря на поощрение двора и некоторых представителей высших кругов) ни к чему серьезному не привели». С еще большим скептицизмом рассматривает Бенуа в том же письме 1934 г. тогдашние русские опыты в области религиозной живописи: «Спорить о том, какую роль сыграло вообще в культурном развитии России христианство, не приходится – даже в наши дни, когда… мысли, высказанные Достоевским об особенной призванности и святости России, скорее представляются поэтическим визионерством, нежели подходят под понятие «установленного реального знания». Самая идея “La Sainte Russie” в дни Сталина должна казаться призрачной, ирреальной и даже слегка иронической. И особенно она может казаться такой, если мы обратимся к русскому искусству. Именно для укрепления этой идеи, для придачи государству Российскому ореола «национальной святости» было, накануне революции, сделано еще больше усилий со стороны правительства и высших кругов, нежели для возрождении исконных форм русского декоративного стиля. И однако все эти усилия и все достижения их относились к настоящему религиозному художественному творчеству, как мистика всяких салонных «дилетантов религиозности» относилась к подлинной религиозной мистике… 185 Но и свободнее от всякой правительственной опеки искусство религиозного характера – Врубеля, Стеллецкого, Петрова-Водкина – было, в сущности, милым, талантливым, но по существу поверхностным дилетантством – разновидностью той же пассеистической игры, какой были все другие «художественные эвокации» (заклинания – Б. Н.). По существу, это все не было серьезно. Религиозное творчество Иванова было глубоко и серьезно, не менее серьезно, нежели творчество Беато Анжелико. Хотя оно было обречено на неудачу в смысле своего применения к церкви (ибо канонически оно не было приемлемо), оно все же означало великое трепетание, полное поглощение души – и если хотите, то именно души «русской» (если вообще все еще верить в исключительную религиозную призванность русских людей). … Но творчество упомянутых выше художников, бравшихся в дни Николая II за религиозные темы… не было серьезным – не говоря уже о том, что оно ни в коей мере не приоткрыло завесы в потустороннее, оно не было отмечено и малейшим отблеском высшего порядка». По мнению Бенуа, «кое-что обещал… Врубель», но и Врубель не служит «подтверждением того, что Русь была отмечена особой благодатью (следы ее в живописи уже теряются к концу XVII в.), что Россия есть преимущественно страна христианской культуры». В написанной за четверть века о процитированного мной письма статье о Стеллецком Бенуа связывает успех религиозной живописи Стеллецкого с ее декоративностью, напоминая замечание Маковского о том, что Стеллецкий «игнорирует человеческий лик»: «Лиц у Стеллецкого даже нет совершенно, - пишет Бенуа, - То, что он выдает за лица, это – иконописные схемы. Но Стеллецкий в своем аскетическом презрении к человеческому лицу, к человеческой жизни, идет еще дальше, нежели Рерих, и в нем оно выражается в какой-то полной чуждости ко всему, что живет, что играет, любит и страдает. Вот, пожалуй, почему искусство Стеллецкого в высшей степени декоративно. Я бы даже сказал, что основная стихия Стеллецкого: декоративность – в этом преимущественно смысл его искусства, точно так же, как преимущественный смысл традиционной Церкви – та же декоративность, то есть литургические чары. Не соблазны мысли, не тревоги душевных сомнений, не радость сознательного экстаза – а погружение в какие-то дремотные глубины, плетения каких-то форм с выдохшимся смыслом и лишенных силы первоначального воздействия. Причитание плачем – уже не заклинание для нас, а баюканье: образы Стеллецкого не предметы молитвы, не откровения мысли, а баюканье, песни с непонятными словами и скорее совсем без слов». И далее Бенуа высказывает пожелание, которое оказалось пророческим, которое осуществилось, и притом в обстановке, которую и сам Бенуа, и Стеллецкий вряд ли могли бы вообразить в те мирные годы в милом их сердцу Петербурге: «Мне бы хотелось видеть целые соборы, расписанные Стеллецким. Не думаю, чтобы в них было хорошо молиться, и едва ли покидали мы их с тем 186 «трагическим» чувством, которое вселяют в нас религиозные образы Врубеля. Но чисто художественное наслаждение от таких целостностей было бы большим, и мне (по опыту кажется – неисчерпаемым. Возродились бы подлинные древнии гармонии, возродилась бы вся чудесная внешняя, эстетическая сторона древних действ. Хороводы темных теней по стенам давали бы иллюзию какого-то печального неподвижного праздника, гармонии коричневых, желтых, синих и пурпурных красок услаждали бы глаз, не утомляя его и не приедаясь. В таких храмах казалось бы, что все еще жива Византия и подлинна вся показная сторона ее искусства, ее одежда была бы налицо. А что вообще осталось от Византии, кроме риз ее?» Пожелание Бенуа сбылось через полтора десятка лет. Но каких лет! За эти годы исчезли с лица земли и «Аполлон» и «Речь», в которых сотрудничал Бенуа, пала монархия, был позорно переименован истерзанный Петербург, крушили его храмы, разочаровался в большевистских миротворцах и строителях сам бедный Бенуа и, бросив налаженный быт и все нажитое, осел в Париже. Но зато, каким это ни покажется странным, «безбожный» Париж устоял, и именно в Париже осуществилось давнее пожелание главного мирискусника Бенуа о храме Стеллецкого и осуществился давний замысел самого Стеллецкого. Жив еще был в ту пору и бывший редактор «Аполлона», давний поклонник творчества Стеллецкого искусствовед Сергей Маковский, который и написал позднее, что «из всего, что за сорок лет эмиграции создано было в художественной области эта роспись (роспись Стеллецкого в новом храме – Б. Н.) – значительнейшее явление». Что же до чувств, испытываемых во время службы в знаменитом храме, расписанном Стеллецким, читатель сам может их проверить, побывав на воскресной службе. К этому и призывал Маковский полвека назад: «Нужно присутствовать на одной из … торжественных монастырских служб, чтоб почувствовать, насколько умным, вдохновенным является этот художнический подвиг как свидетельство о возрождении нашего христианского сознания». Магический холм на рю Криме В свои последние русские годы Стеллецкий занимался мелкой пластикой и художественным фарфором, писал картины и фрески. В частности, писал он фрески для церкви, поставленной близ города Ровно в память о Куликовской битве. Как и большинство мирискусников, работал он также для театра. Ему не очень везло с постановками, которые чаще всего откладывались по тем или иным причинам, но то, что он сделал для театра, не прошло незамеченным. Две его театральные работы с восхищением и будто бы даже не без страха описал в своей статье Александр Бенуа: «Вот Стеллецкий сочиняет постановку к очаровательной сказке о «русской любви» - к «Снегурочке»… перед ним тема русской идиллии, возможность повести нас по милым лесам, погреться на солнышке, побывать в гостях у доброго Берендея, насладиться лунными ночами, снегом. Вся 187 пестрота и яркость, и звон жизни – в его распоряжении. Иди, пляши, пой, а взгрустнется к концу, так и грусть сладкая. Почему же Стеллецкий дает совсем иное и почему этому иному, этим пейзажам из Апокалипсиса, этим пророчествам о каких-то «последних днях» веришь больше, нежели собственным мечтам, мало того – подчиняешься им. Отдаешься их мертвящей прелести? Красивые пейзажи эти, и небывалой красоты могла быть вся постановка «Снегурочки», но красота эта особая, одного Стеллецкого, и в то же время эта красота могущественная, властно навязывающая, вытесняющая всякую иную красоту. И Островский рядом с этим наваждением кажется слишком простодушным и прямо слабым». Выходит, что и как все прочие мирискусники в театре, Стеллецкий указывает путь и режиссеру, и автору, и актерам (а они этого все не любят), Как и прочие мирискусники Стеллецкий оказался замечательным сценографом. И хотя с постановками ему не повезло, что в них толку, в постановках? С изумлением пишет Бенуа и о другой театральной работе Стеллецкого – об оформлении драмы из русской истории: «Досталось еще Стеллецкому сделать постановку к вялой, устарелой… трагедии Алексея Толстого «Царь Федор». И опять он сочинил, - нет, наворожил – что-то совсем неожиданное, совершенно свое, совершенно порабощающее, вытесняющее драму и становящееся на ее место. Исторического царя Федора нет и в помине, царя Федора по Толстому подавно, но вместо того – точно с закоптелых древних стен сошли суровые образы святителей или колдунов, и эти бредовые фигуры зачали какой-то странный литургический хоровод, в котором неминуемо (если бы все удалось на сцене) должна потонуть была бы и самая фабула, и все душевные переживания действующих лиц. Остались бы только чудесные, несколько монотонные, но чарующие, ворожащие узоры и плетения Стеллецкого». А все же довелось поработать и в театре Стеллецкому, довести кое-что до постановки, скажем, участвовал он в 1909 г. в оформлении оперы «Псковитянка» для дягилевского «Русского сезона» в Париже. Участвовал он также во многих выставках – выставлял и живопись, и скульптуры на выставках Нового общества, «Мира искусства», Союза русских художников, в «Салоне» Маковского, в парижском Осеннем салоне… Начало Первой мировой войны застало Стеллецкого во Франции, где он изучал романское искусство. В Россию он так больше и не вернулся. В 1920 г. он построил себе мастерскую на Лазурном берегу Франции близ Канн, расписывал чьи-то виллы, рисовал чьи-то портреты, участвовал в выставках, был в 1925 г. одним из учредителей общества «Икона». Осенью того же 1925 г. Стеллецкий начал трудиться над росписью православного храма на Сергиевском Подворье в Париже. На внутренней стороне северных врат иконостаса до сих пор можно прочитать надпись: «Начал расписывать церковь 6 ноября 1925 г. пятницу. Кончил 1 декабря 1927 г. четверг Д. С. Стеллецкий». 188 Это был великий труд его жизни, и труд этот, а равно и история этого парижского храма, этой, как сам художник выразился, им «опровославленной» протестантской кирхи, заслуживает хотя бы краткого упоминания. Историю эту можно найти в замечательной книге митрополита Евлогия «Путь моей жизни», откуда я ее и позаимствую. Вот что рассказывает владыка Евлогий о тех первых годах «эмигрантского православного ренессанса», когда пережившие столько мук и страха, разоренные, лишившиеся родины и дома русские люди с новым рвением дружно устремились за утешением к церкви: «Александро-Невская церковь всех молящихся не вмещала. Я с болью наблюдал, что многие богомольцы, стремившиеся попасть в храм, оставались за дверями… … у нас возникла мысль купить… какое-нибудь секвестированное здание (т. е., реквизированное французами в войну у недругов немецкой национальности – Б. Н. ). М. М. Осоргин нашел подходящую усадьбу под N 93 по рю де Кримэ (улица названа Крымской. В честь французской военной победы в Крыму, каковая победа многократно отражена в парижской топонимике – Б. Н.), бывшее немецкое учреждение, созданное пастором Фридрихом фон Бодельшвингом: немецкое общество попечения о духовных нуждах проживающих в Париже немцев евангелического исповедания устроило там детскую школу-интернат… А в верхнем этаже была устроена кирха. (В кирху эту ходили по большей части работяги-немцы с близлежащего кирпичного завода – Б. Н.). … Я осмотрел усадьбу. Она мне очень понравилась. В глубине двора высокий холм с ветвистыми деревьями и цветочными клумбами. Дорожка вьется на его вершину к крыльцу большого деревянного здания школы, над его крышей виднеется маленькая колокольня кирки… Настоящая «пустынь» среди шумного, суетного Парижа. «вот бы где хорошо нам устроиться, вслух подумал я…» На торгах дело было решено в пользу русских покупателей. К 18 августа надо было внести 35 тысяч, остальную сумму, еще 270 000, внести до декабря. Создан был комитет по изысканию средств: кн. Б. Васильчиков, кн. Г. Трубецкой, гр. Хрептович-Бутенев, Шидловский, Аметистов, Ковалевский и другие небогатые эмигранты… Сбор пожертвований начался – и деньги потекли… - вспоминает митрополит, - Э. Нобель пожертвовал 40 000 франков, А. Ушаков – 100 фунтов… Посыпались и мелкие пожертвования… бедные рабочие, шоферы несли свои скромные трогательные лепты. Много было пожертвований от «неизвестного». Стал нарастать подъем. Дамы приносили серьги, кольца… А тем временем срок платежа приближался…» Собранных денег было совершенно недостаточно, и митрополит был в отчаянии. Однако все вдруг разрешилось, вполне экуменическим эмигрантским способом. 189 «В эти тревожные дни, - продолжает свой рассказ владыка Евлогий, пришел ко мне один приятель и говорит: «Вот вы, владыка, так мучаетесь, а я видел на днях евреяблаготворителя Моисея Акимовича Гинзбурга, он прослышал, что вам деньги нужны. Что же, говорит, митрополит не обращается ко мне? Я бы ему помог. Или он еврейскими деньгами брезгует?» Недолго думая, я надел клобук и поехал к М. А. Гинзбургу. Я знал, что он человек широкого, доброго сердца и искренне любит Россию. На мою просьбу дать нам ссуду, которую мы понемногу будем ему выплачивать, он отозвался с редким душевным благородством. Ссуда в 100 000 его не испугала (а эта сумма нас выручала). Он дал нам ее без процентов и бессрочно. «Я верю вам на слово. Когда сможете, тогда и выплатите…» - сказал он. Благодаря этой денежной поддержке, купчая была подписана…» В конце концов, еврейская благотворительность мало кого удивляла в той волне русской эмиграции: меценаты-евреи, уехавшие из России еще до революции, щедро жертвовали на обнищавших русских литераторов и актеров, на детские учреждения, на медицину. Усадьба в Бургундии, где размещается ныне женская православная обитель Покрова Богородицы, тоже была завещана монахиням крещеными супругами-евреями. Однако на этом экуменические чудеса подворья Святого Сергия не кончаются. Во время Второй мировой войны немцы почти без боя вошли в Париж и вполне могли потребовать, чтоб им вернули так беспощадно отобранное школьное и церковное имущество. Но случилось иначе. Вот как рассказывает о случившемся парижская журналистка Н. Смирнова: «… во время оккупации… усадьбу, ставшую с тех пор русской собственностью, посетил немецкий офицер, сын прежнего владельца пастора фон Бодельшвинга. Осмотрев помещения и увидев в бывшем кабинете пастора висевшую на прежнем месте фотографию отца, он заверил нынешних владельцев, имевших все основания опасаться возвращения когдато принадлежавшей его семье собственности, что им не стоит беспокоиться». Итак, храм был освящен 1 марта 1925 г., но как рассказывает владыка, «Храм имел еще довольно убогий вид и все еще напоминал кирху…» Привести немецкую кирху в божеский (точнее, конечно, в «опровославленный») вид и должен был художник-иконописец. Дмитрий Стеллецкий с готовностью и вполне бескорыстно вызвался выполнить эту сложную работу, но были у него и конкуренты на престижный этот заказ, и если Стеллецкий прислал Комитету лишь «эскиз, сделанный отдельными широкими мазками», то его конкурент, князь М. С. Путятин представил подробнейший проект иконостаса, который понравился Комитету. Стеллецкий же считал, что его имени Комитету будет достаточно в качестве гарантии качества. Как сообщает «Церковный Вестник ЗападноЕвропейской Епархии» (N 6 за 1947 г.), выручила кандидатуру Стеллецкого поддержка великой княгини Марии Павловны. А поддержке великой княгини, кроме ее великокняжеского титула, придали вес благоприятные слухи о том, «что у Вел. Кн. Марии Павловны хранится ценный изумруд, 190 данный ей покойной теткой Вел. Кн. Елизаветой Федоровной с пожеланием, чтобы этот камень был использован на украшение какого-нибудь храма». При этом великая княгиня Мария Павловна на просьбу пожертвовать камень «ответила, что готова это сделать, но ставит непременным условием, чтобы храм расписывал Стеллецкий и никто другой…» Работа была быстрой и вдохновенной. Как обычно, Стеллецкий не обращал внимания на лики. Как сообщает тот же «Вестник», «верная сотрудница Д. С. по росписи храма кн. Е. Е. Львова со свойственным ей талантом выписывала все лики святых на всех иконах, которые сам Стеллецкий иногда не дописывал, всецело доверяя эту работу ей». Росписи на Сергиевом подворье напоминают поклоннику Стеллецкого Сергею Маковскому то византийские века православия, то клейма Ферапонтова монастыря, то северные русские узоры и русские терема, то московский период с его «палатным письмом». Особенно большое впечатление произвело на Маковского огромное Знамение в алтарной апсиде: «… Из всего, что создано Стеллецким в храме, это монументальное апсидное Знамение (образцом послужили лучшие иконы «золотого века» новгородского) – всего убедительнее. Тут художник действительно проникся мыслью просветленной, от веков народного благочестия, чудесной верой в чудесную запредельность…» Историю украшения храма на Сергиевом подворье можно найти и в автобиографии митрополита Евлогия, которую владыка надиктовал Татьяне Манухиной: «Благодаря жертвенному порыву добрых людей храм весьма скоро приобрел благолепный вид… Великая княгиня Мария Павловна изъявила желание пожертвовать большую сумму (до 100 000 франков) на внутреннюю отделку Сергиевского храма, в память своей благочестивой тетушки, замученной большевиками, Великой Княгини Елизаветы Федоровны. Художественная роспись его, сооружение иконостаса и прочие работы по украшению храма были жертвенно, безвозмездно исполнены талантливым художником Дмитрием Семеновичем Стеллецким. Все преобразилось до неузнаваемости, стены и своды потолка покрыла художественная роспись. Художник вдохновлялся в своем творчестве лучшими образцами фресок древнерусских церквей и монастырей до начала XVI века (ферапонтовский монастырь и др.); в прекрасный многоярусный иконостас, в левый его придел вставили царские врата XIV в., приобретенные у какого-то антиквара за 15 000 фр. … Немецкая протестантская кирха скоро превратилась с чудный православный древнерусский храм». Стеллецкий любил церковь Сергиева подворья. «За последние два года его жизни в русском Доме, - рассказывают о Стеллецком, - неоднократные уговоры съездить в Подворье, он отвечал решительным отказом, ссылаясь на то, что ничего не увидит из-за плохого здоровья и будет только плакать». 191 Умер Стеллецкий в 1947 г. Отпевал его декан богословского института, что и ныне размещается на Сергиевом подворье, протоиерей Василий Зеньковский, пел хор из храма Сергиевского Подворья, на гроб был возложен венок от Института и цветы от прихода с Подворья. Институт этот и Подворье сыграли немалую роль в духовной жизни эмиграции. «На вавилонских реках русского рассеяния. – писал здешний профессор литургии архимандрит Киприан Керн, - дано было, по промыслу Божию, передать пламень старой русской духовной культуры в руки ее молодых продолжателей». В стенах этого расписанного Стеллецким храма в начале Великого поста 1932 г. облаченная в простую рубаху поэтесса, философ, подвижница Елизавета Скобцева спустилась по лестнице с хоров и распростерлась крестообразно на полу. Она стала монахиней матерью Марией и еще десть лет спустя отдала свою жизнь за ближних… Уже восемьдесят лет звучат молитвы в этих стенах, расписанных Дмитрием Стеллецким. После смерти художника в 1947 г. «Церковный Вестник Западно-Европейской Епархии» выразил надежду, что «Господь… вознаградит его за его чистую веру…» Пепел таинственного петербуржца над долиной Северного Пенджаба В середине декабря 1947 г. в глухом уголке долины Кулу близ Нагара, что в Пенджабе, умер известный русский художник, чьи театральные декорации потрясали Париж и Лондон еще перед Великой Войной (и в 1909 г., и в 1913 г.). Тело покойного было в соответствии с его завещанием сожжено по буддистскому обряду, а прах рассеян с горы над живописной долиной, в которой он прожил последние два десятилетия своей жизни. пользуясь репутацией великого учителя (гуру-деви) не только среди местных жителей, но и на других континентах нашей планеты. Впрочем, отголоски этой мировой славы русского художника-мирискусника, великого путешественника, мистика, писателя и неутомимого «борца за мир» лишь изредка долетали до глухого уголка Индии: электричество туда еще не провели, и радиоприемник лишь хило потрескивал на батарейках… Все же смерть его не прошла незамеченной: по всему миру рассеяны были к тому времени его персональные музеи и ассоциации, названные его именем, да еще и живы были его собратья по «Миру искусства», его соратники и соперники, которые помнили о первых днях его славы. В Париже жив был главный его соперник, тот самый, что некогда назвал его, молодого и победоносного, кондотьером… И правда ведь был некогда седобородый обитатель индийской горной долины Кулу неукротим, 192 загадочен и удачлив – был он истинный победитель. Звали его, как вы уже догадались, наверное, Константин Рерих. Многие черты его жизни и творчества сближают его с коллегами и соперниками из общества «Мир искусства» (которое он и возглавил в начале 10-х г. прошлого века) – и образование, и пристрастия… Однако были и различия, при том, что был Николай Рерих всего на четыре года моложе Шуры Бенуа и на пять лет моложе Кости Сомова, стоявших у истоков общества. В «Мир искусства» молодой Рерих пришел уже победителем и знаменитостью, хотя отец его и не занимал столь видного места в петербургском художественном мире, как отцы Бенуа или Сомова. Рерих всему был обязан лишь своей железной воле, своей работоспособности, своей сдержанности, такту, дипломатическому и многим другим талантам, а также еще чему-то таинственному, почти тайному, о чем не говорят, во всяком случае долгое время не говорили… но уж мы-то обо всем поговорим без утайки, кто нам с вами указ? Родился Николай Рерих (или Рёрих) в Петербурге осенью 1874 г. в особняке на Университетской (в ту пору еще Николаевской) набережной. Отец будущего художника Константин Федорович Рёрих был преуспевающий нотариус, лютеранин, скорей всего – немец, а мать, Мария Васильевна Калашникова – родом из Пскова. Мальчика крестили по православному обряду, умер он буддистом, и даже трудно сказать, какой веры он на самом деле придерживался на протяжении своей бурной, победоносной жизни знаменитого мистика – был скорее всего новоязычником, пантеистом, розенкрейцером, теософом, отцом некого учения Живой Этики… Разнообразные легендарные подробности о псковских и скандинавских предках Николая Рёриха (в неблагоприятную для петербургских немцев пору он даже просил именовать себя Роэриком – хотя, надо отдать ему должное, все же и не Рюриком) – о викингах, о воинах и купцах незапамятных времен и вдобавок о каком-то шведском офицере – все это можно, вероятно, оставить без внимания, памятуя о том, что знаменитый Николай Рёрих был не только художник, но и фантазер-литератор, авантюрист-путешественник удачливый политик и мифотворец. Невольно приходит в голову история Миколы Миклухи, остроумно назвавшего себя бароном де Маклаем, или киевлянки Ани Горенко, взявшей чужой псевдоним Ахматова, да еще и придумавшей себе вдобавок родство с каким-то ханом Ахматом. У Рёрихов было загородное имение Извара в полсотне верст от Петербурга – не наследственное, а просто купленное петербургским нотариусом перед рождением сына. Про эту Извару Рерих, конечно, тоже много напридумывал… в Изваре проводили дети Константина Федоровича счастливые летние месяцы. Но может, и впрямь зародился именно там у юного Рёриха интерес к старинным курганам и могильникам. Страсть к науке археологии. 193 Итак, археология, книги, охота, уроки рисования, которые давал мальчику М. Микешин, - отрадная школа усадебного самообразвоания, знакомая русским читателям по упоительной прозе Набокова… Как и будущие собратья по «миру искусства», юный Николай Рёрих кончал частную гимназию Карла фон Мая. Старый добрый Май преподавал географию, и уроки его нашли благодатный отклик в душе по меньшей мере одного из учеников: среди русских художников-путешественников Николай Рёрих занимает выдающееся место. Уже в гимназические годы Рерих получает от Императорского археологического общества разрешение на самостоятельные раскопки. Позднее он вспоминал, что при раскопках на могильнике ему чудились мертвяки Гоголя: весьма характерное для Рериха соединение науки, литературы и мистики… Как и другие мирискусники, Рёрих кончал юридический факультет университета (эту знаменитую кузницу литературных и художественных кадров Петербурга), одновременно с Академией художеств. В академии его наставником был Куинджи, и следы влияния этого живописца иные искусствоведы усматривают даже в поздних полотнах Рериха. На юридическом факультете Рерих защищает диплом по истории Древней Руси. Культура дохристианской, языческой Руси и даже пещеры доисторического человека бередят воображение молодого художника-археолога с юридическим дипломом. Его дипломная работа в Академии художеств тоже посвящена как бы древнерусскому сюжету. Картина называется «Гонец. Восстал род на род». На ней какие-то два мужика (предположительно, древние славяне) плывут в узком струге вверх по реке мимо селения, подступающего к воде и увенчанного крепостью. Селение затаилось в молчании, и в воздухе ощутима угроза. Людей (как и в более поздних работах Рериха) почти не видно, но незримое присутствие их ощутимо, и на затаившийся берег мы смотрим их глазами. Во всем же, что касается струга, прибрежных хижин, крепости на холме, пейзажа, одежды гребца и гонца – во всем мы полагаемся на образованного археолога-художника и ярого новоязычника. Все берем на веру. Ну да, это они, наверно, и есть, наши древние славяне, какие-то там высококультурные языческие племена… Во всем, что касается ощущения угрозы и тайны, мы тоже полагаемся на молодого художника, склонного к мистике и уже этим интересного в Петербурге: мистика там была в большой моде на этом рубеже страшного XX в. Славяне были тоже в моде, тем более, древние. Что касается уровня и техники живописи, то картина не вызывает никаких нареканий у академической комиссии 1897 г., одни только похвалы. Ученику уже отставленного к тому времени профессора Антона Куинджи Николаю Рериху присваивают за «Гонца» золотую медаль и звание художника. Более того, сам Третьяков покупает картину для своей галереи – высокая честь. Стасов же берет молодого художника к себе помощником в журнал «Искусство и художественная промышленность». Картину дипломника поднимают на щит и противника Стасова, но старик Стасов, 194 несмотря на это, поддерживает кандидатуру Рериха на пост помощника директора в музее влиятельного императорского Общества поощрения художеств. Кто-то там его еще поддерживает, посильней Стасова, но это именно Стасов дает бесценный практический совет начинающему художнику: звание званием, медаль медалью, Третьяковка Третьяковкой, внимание знатных особ вниманием, но есть в глазах русского общества и повыше знаки признания… Сведу-ка я вас, сын мой, к самому графу Льву Толстому, великому писателю земли русской, и ежели он что скажет (уж чтонибудь да скажет), то и через сто лет не устанут повторять потомки, что этого «сам Толстой заметил» (так было уже со многими пишущими, рисующими, изобретающими, да вот славный наш путешественник МиклухоМаклай вообще от фразы Толстого ведет всю свою славу, а не от собранных им черепов да палок). И не обманул Стасов. Повез Рериха в Хамовники. И сказал Толстой что-то невнятное, но полезное – что-то вроде того, что мол, все мы гонцы, плывем против течения – на сто лет потомкам повторять хватит такую фразу. Блистательный акт того, что нынче называют пиаром… С влиятельным Стасовым, своим покровителем и журнальным начальником, далеко не во всем молодой художник был согласен (а по характеру стилизации ближе он стоял к враждебному Стасову «Миру искусства»), но хватило у молодого и умения, и такта острые углы обойти, ничем не обидеть старика, так что Стасов с радостью ему помог получить, и старшими, чем он, давно вожделеемую должность, а также войти во многие петербургские салоны. В одном из таких салонов, у сестер Шнайдер, сделал молодой Рерих запись, отвечая на вопросы модного «исповедального» альбома, и из записи этой видно, что уже сложился характер молодого художника, определились на десятилетия его черты и пристрастия. Главным из ценимых им качеств назвал Рерих неутомимость и любовь к путешествиям, а лозунг при этой неутомимости был неистово-безоглядный: «Вперед, вперед без оглядки!» И неутомимость эта, и безоглядность немало поражали тогда современников, да и нынче страшновато вчуже на разброс его глядеть: зачем столько всего взваливать на свои неокрепшие плечи? Впрочем, многое представляется и вчуже славным, завидным: где вы, наши младые годы? Летом 1899 г. молодой Рерих пускается в первое свое, еще довольно скромное, вполне комфортабельное, а нынче и вовсе интуристовское, путешествие, на пароходе в Новгород, по следам древнего пути «из варяг в греки». Похвастаю, что мне и самому в молодые годы, в обществе младшей моей сестренки-школьницы доводилось искать в валдайских лесах следы старых волоков на этом пути, ибо во второй половине XX в. снова пробуждался у нас, россиян, как и на рубеже того века, интерес к Древней Руси. И вот тогда, близ валдайских озер, в лыкошинской и вельевской глуши, не раз набредал я в своих странствиях и на следы молодого Рерихаархеолога. Ему же удалось совершить в том валдайском озерном краю находку и посущественней черепков из кургана: близ станции Бологое, в 195 имении славного археолога князя Путятина встретил молодой Рерих девушку с чудо-косой, племянницу княгини и правнучку фельдмаршала Кутузова Елену Ивановну Шапошникову. Самый был ему возраст кого-нибудь встретить, хотя бы и в валдайской глуши, а тут – племянница, да правнучка с русой косой, на фортепьянах играет замечательно, увлекается русской историей и имеет такое же, как сам молодой художник (а может, еще и большее, чем он), тяготение ко всяческой мистике, эзотерике. Ко всему загадочному и непонятному – родство душ, судьба, самое время вмешаться судьбе… без нее, как выбрать подругу жизни? Вероятно, выглядело это сближение явным мезальянсом, имелись у Елены и более завидные претенденты на ее руку, но «ясный взгляд» знаменитого уже художника пришелся ей по душе. От семьи пришлось их отношения до времени таить – все же был художник лишь сыном нотариусанемца (их, впрочем, всех тогда называли «немцами» - Немецкая слобода). Конечно, у самого художника сыскалась для подобных случаев семейная легенда, упоминавшая про какого-то якобы существовавшего в роду нотариуса Рериха шведского офицера, где-то там, в дыму далекой петровских времен войны, но ни князей, ни фельдмаршалов даже в том непроглядном легендарном дыму не маячило, а тут… В бологовском имении князя Путятина сын нотариуса сидел в кабинете, где не раз сиживал гостивший у князя Павла Арсеньича император Александр II… Красивая аристократка Елена была на пять лет моложе Николая, в общем, было за что бороться. И еще что-то прибавлялось к этому, неуловимое и важное… В общем, все признаки любви. В Петербурге Елена Ивановна (в дальнейшем прозываемая Рерихом «Ладой» и «другиней») стала заглядывать в мастерскую художника. Как бы смущенный таким оборотом дела, рассудительный Рерих поверяет свое смущение дневнику: «… была Е. И. в мастерской. Боюсь за себя – в ней очень много хорошего. Опять мне начинает хотеться видеть ее как можно чаще, бывать там, где она бывает». Он как бы пытается защищаться, но разум молчит: дело идет к браку. А может, именно разум, новая вера и общность убеждений помогают ему решиться на брак. Елена учит его манерам и светской дипломатии – как надо писать ее дяде о безмерном к нему уважении, в каких словах, чтоб не переборщить… И с его стороны тут все, может быть, вполне искренне – потому что и князя-дядю, президента Археологического общества Рерих почитает, и других князей, которые у них на заседаниях общества присутствуют, тем более великих князей… Вот, намедни, молодой Рерих сделал сообщение, а председательствовал на заседании общества великий князь Константин Константинович, и дяденька князь Павел Арсеньевич были, кажется, довольны. После втайне проведенной молодою парой подготовительной кампании Рерих делает предложение Елене, и красивая Лада из знатного дома отвечает вполне худородному петербургскому Лелю согласием. Впрочем, может быть, в их кружке, где верят в «Высшие существа» и 196 «сверхчеловеков», в посланцев иного мира или прежних миров, там вообще несколько по иному выглядит старая табель о рангах. Пока что приходится бракосочетание отложить: на первом месте всетаки живопись. Рерих работает с упорством и неслыханной плодовитостью, умножая картины из серии «Начало Руси. Славяне». По мнению некоторых знатоков, картины его были однообразны и похожи на увеличенные книжные иллюстрации. По мнению других, они были прекрасны. По всеобщему мнению, они были своевременными, идейно выдержанными, отвечали высоким задачам нашего величия и оттого высоко ценились в верхах. Была в них также уместная мистика, которая ценилась не меньше патриотизма. Как раз в ту пору Николаю Рериху представилась возможность поучиться во Франции – и живописи и языкам. Ему ведь не довелось в детстве, как Косте Сомову, колесить с маменькой по всей Европе. А тут как раз скончался отец, Константин Рерих, матушка продала имение Извары, и Николай Рерих, получив свою долю, смог уехать на год в Париж. Он снял ателье на Монмартре, много работал, брал уроки у знаменитого педагога Фернана Кормона, который и сам увлекался историческими сюжетами. Искусствоведы отмечали, что после Парижа сдержанная и несколько мрачноватая палитра Рериха стала красочней. Из французов ему по душе пришлись Гоген, Дега и, конечно, автор стилизованных росписей на темы истории Пьер Пюви де Шаванн. Следы их влияния нетрудно углядеть в послепарижских работах Рериха. На парижскую всемирную выставку 1900 г. Рерих отдал свою картину «Сходятся старцы». Летом 1901 г. Рерих вернулся в Петербург, а в конце октября обвенчался в церкви Императорской Академии Художеств с Еленой Ивановской Шапошниковой, ставшей по выражению Рериха, его «другинейвдохновительницей». В целях прокормления семейства Рерих решил стать секретарем Общества поощрения художеств и смог получить этот многими собратьями вожделеемый пост. Для этого мало было поддержки Стасова, но молодой художник уже умел заручиться доброжелательной симпатией и в более высоких сферах, отчасти теперь родственных, отчасти единомышленных. Он оказался блестящим дипломатом, тактичным царедворцем и энергичным администратором. Да и художественная его репутация росла неуклонно. Одна из первых его картин, написанных по возвращении из Парижа в новой, более красочной чем прежде, манере («Заморские гости. Народная живопись.1901), была замечена на выставке в Академии художеств Государем и куплена для царского дворца. Похоже, что имя начинающего художника уже было известно во дворце через многих славных и власть имущих. Несмотря на занятость административной и педагогической работой, Рерих пишет очень много картин. Всю жизнь он писал много и быстро, раз в двадцать быстрее, чем какой-нибудь Сомов. Он оставил после себя не сотни, а тысячи (тысяч семь, а может, и больше!) картин. Даже в среднем на каждый 197 год его творческой жизни приходится больше сотни картин (а были ведь при этом месяцы и годы трудных путешествий). В академической «Истории русского искусства» (выходившей под редакцией И. Грабаря) один из авторов X (же почти «оттепельного») тома (В. Петров) отмечает раннее сближение Рериха с другими мирискусниками и их дальнейшее расхождение. У Рериха «… цвет ложится яркими локальными пятнами, очерченными жесткой силуэтной линией. Стилизуя картину в духе средневековой миниатюры, художник не отступает перед деформацией и нарочитой условностью. Форма превращается в плоский силуэт, композиция строится на ритме контурных линий, образующих почти орнаментальный узор, а пространственное решение обнаруживает тенденцию к плоскостности. Преобладание линейно-графических приемов над живописнопространственными, а также черты стилизации характеризуют и позднейшие циклы картин Рериха, однако это сближение с методом мастеров «Мира искусства» осталось в значительной степени внешним… Мастерское владение линией может повести художника к графике, миниатюре, к искусству книги, но от тех же линейных приемов открывается и иной путь к синтетическому монументально-декоративному творчеству. Именно этот путь выбрал для себя Рерих». Как и многие художники «Мира искусства», Рерих был художником «ретроспективным», писал картины на темы прошлого. Иногда эти картины называют «историческими», но они не в большей степени историчны, чем «исторические» романы Дюма. Пожалуй, даже в меньшей, ибо от тех времен, которые волновали воображение Рериха, не осталось ничего, кроме черепков и железок. Ведь одной из его любимых тем были жизнь доисторического человека и Каменный век, специалистом по которому слыл в Петербурге его новый родственник князь Петр Арсеньевич Путятин. Жизнь дикаря из каменного века представлялась петербургскому художнику-новоязычнику идиллической, гармонической и бесконечно длинной – в общем, существовал некий золотой век человечества, то ли дикий, то ли высококультурный. Может, наш дикий предок жил даже в гармонии с убиваемым им мамонтом или раздирающим его тигром. Жил в согласии со своими таинственными идолами… В сущности, не многим больше было известно и о психологии славянских или дославянских племен. Существуют лишь какие-то мифы и легенды, которые как раз и волнуют художника, именно своей таинственностью, ненадежностью… Тем лучше – художник сам примет участие в мифотворчестве, тем более, что подобное мифотворчество, как выяснилось, поощряется щедрой властью, которая ищет себе великих предков в смутных глубинах незапамятных времен. Тому примеры сыщутся не в одной России, но и в передовой Франции. Скажем, доподлинно известно, с кем спала длинноносая и темпераментная падчерица Бонапарта, но что от этого проку прижитому ей с кем-то императору? А вот таинственные галлы – другое дело, они всем нужны. А кто о них помнит, кто их видел? Разве что Юлий Цезарь, оставивший нам это имя в знаменитой 198 книге. Но маловато одной книги, нужны раскопки, нужны мистические картины, скульптуры… Те же проблемы могли возникнуть и ближе по времени, скажем, с небезупречного поведении немочки, которую привыкли звать русской матушкой-государыней. Или вот еще заманчивая тема – исконные наши древние славяне и скифы, и благородные скандинавские викинги, а также идолы и вещие кудесники… Можно было бы, конечно, обратиться к более цивилизованным эпохам, от которых уцелели на Руси великолепные памятники архитектуры, живописи, народного искусства. До начала новой эпохи национализма, до начала XX в., зачастую эти памятники оставались в пренебрежении и даже разрушались. Художники «Мира искусства» и щедрые русские меценаты – покровители искусств обратили к ним взгляд на рубеже веков. Началась великая эпоха изучения и спасения русской старины: Рериху довелось принять в ее делах активное участие. К сожалению, не все его тогдашние подвиги были отмечены высоким вкусом, но вкус - дело наживное. К сожалению, новые войны, бунты и революции очень скоро оборвали эту охранительную деятельность – чуть не в самом ее начале, принесли немыслимую разруху, но пока… В 1903 г. Николай Рерих отправился с молодой женой в долгое летнее путешествие – по двадцати семи городам России – от «злого города» Казани до ганзейской Риги. На всех остановках Рерих делал маслом этюды архитектурных памятников – церкви Святого Иоанна-Богослова в РостовеЯрославском, Дмитриевского собора во Владимире, церкви Спасителя в Боголюбове и еще, и еще… В начале 1904 г. выставку этюдов Рериха посетил Государь и пожелал, чтобы все этюды были куплены Русским музеем (в ту пору еще Музеем Александра III). Семь десятков этюдов были отправлены для продажи на выставку в американском городе Сент-Луи (более известном русским любителям джаза, чем ценителям живописи). В этих этюдах Рерих не стремился к документальной точности рисунка (как делал это во время подобной поездки Билибин), а скорее хотел передать общий «портретный облик» каждого строения. Критика отмечала, что в этих этюдах Рерих, как никто, «остро почувствовал и запечатлел национальный лад, какое-то задумчиво-грузное, почвенное своеобразие древней архитектуры нашей». Доктрина, бывшая тайной С годами «историческим» сюжетам Рерих начинает предпочитать сюжеты чисто легендарные и религиозные, почерпнутые из разнообразных апокрифических преданий, а к 1905 г. в его творчестве начинает звучать тема Индии. Сам Рерих намекает в своих рассказах на какие-то не слишком убедительные детские воспоминания. Скажем, на рисунок гималайской вершины в былом воронцовском имении, в дачной Изваре на санскритское происхождение названия Извара, на соседа-раджу или на дальнего родственника, которого он и в глаза не видел. Естественнее предположить, что Индия пришла к Рерихам через теософические писания Елены 199 Блаватской, которая еще в 1879 г. перенесла штаб-квартиру своего Теософического общества в Индию. Супруги Рерихи увлекались учением Блаватской, включавшим в себя немало существенных положений индийской философии, а Елена Рерих даже перевела позднее на русский язык труд Блаватской «Тайная доктрина, синтез науки, религии и философии». Как кратко формулирует французский автор, «теософия добавила к новоязычеству набор восточных верований и индуистскую терминологию. А скорее, открыла путь на Запад определенным видам восточной дьявольщины. В конце концов, именно под именем «теософия» стали обозначать широчайшую волну возрождения магии, сбившей с пути немало интеллигентов в начале века» (Луи Повельс «Утро магов»). Известный русский философ Владимир Соловьев считал применение слова теософия (мистическое богопознание) к доктрине Блаватской неправомерным. «Одно учение, - писал Соловьев, - не может быть зараз и буддизмом и теософией, т. к. буддизм атеистичен». Старая добрая энциклопедия Брокгауза и Ефрона видит в теософии «причудливое сочетание крайней фантастичности содержания» с попыткой создать некую систему и находит в ней богатый «материал для изучения «мистического воображения». Признаем, что такая доктрина не могла не увлечь художника, тем более, что она обещала создание некого ядра человеческого братства (объединяющего членов общества «более равных, чем другие», как горько шутил полвека спустя другой разочарованный сектант) и развитие некой сверхувственной силы человека. Вероятно, в случае Рериха обещания эти в какой-то степени были исполнены. Учение ссылалось также на множество чудес и волшебных фокусов, но требовало от своих адептов абсолютной веры и детской доверчивости. Правдолюбцу и реалисту пришлось бы в компании теософов и спиритов тяжко. Брат философа Владимира Соловьева Всеволод (довольно известный в свое время беллетрист) попал на сеансы самой Блаватской и был страшно разочарован. Обнаружив мошенство. Он даже посвятил страстному разоблачению этого жульничества целую книгу («Жрица Изиды»). Почтенная русская энциклопедия сообщила о том же без излишней страстности: «В сочинениях, как и в жизни Блаватской, трудно провести границу, где кончается сознательный или бессознательный обман и самообман и начинается искреннее увлечение мистикой или простое шарлатанство». Последнее это неуважительное словечко проскальзывало иногда и в разговорах мирискусников о Рерихе, но очень скоро положение его и авторитет в разнообразных, в том числе и в художественных кругах, укрепились настолько, что никому бы не пришло в голову «озвучить» эту опасную мысль. Конечно, ни увлечение художника и его супруги «тайной доктриной» (даже, может, ведущая роль супруги в этой деятельности), ни сама доктрина не были абсолютной тайной в столичном Петербурге. И все же слухи о столоверчении и спиритических сеансах были настолько 200 смутными, что письменно упоминать об этом принято было лишь между прочим (в сноске) или иронически. Довольно известный журналист и состоятельный литератор Владимир Крымов, в лондонской квартире которого Рерихи устраивали сеансы после бегства из России, вспоминал об этом иронически-смущенно: «Жена Рериха и его два сына, живя в Лондоне в 1919 г., чтобы развлечь впавшего в меланхолию отца, стали морочить его на спиритических сеансах…» Крымов сообщает об этом как о странном курьезе, с которым он раньше не встречался. Между тем, не только в столичном Петербурге, но и в провинциальной Москве были наслышаны обо всем этом интеллигентные женщины (в первую очередь – женщины), скажем, актрисы знаменитого Художественного театра (МХТ), где Рерих оформлял спектакль «Пер Гюнт» по Ибсену. На упоминание об этом я наткнулся однажды, листая мемуары известной актрисы Марии Германовой, которая так пишет о своей позднейшей встрече с Рерихом в эмигрантских кругах Нью-Йорка: «В Нью-Йорке встретила я нашего русского художника Н. К. Рериха. Я смолоду была его рьяной поклонницей. Его картины были всегда такие содержательные… уносили далеко за свои рамки. Что-то в них было необыкновенное, беспокоящее самую душу. В России я познакомилась с ним, только когда он писал декорации «Пер Гюнта» для Театра… Я ужасно обрадовалась, когда узнала, что он в Нью-Йорке… С первых же наших встреч он поразил меня рассказами об Индии, об ее мудрецах и знании, о своем опыте там. Он так проникновенно, увлекательно и так поновому говорил о том, что интересовало меня больше всего, - о духовных путях души… … Собственно, идеи Рериха не были новостью для меня: когда-то я читала и знала обо всем этом по теософическим книгам и разговорам. Но Рерих с его громадным талантом так умело, цельно, по-своему представлял все, что убеждал и заражал своим горением». Итак, Николай Рерих слыл в Петербурге и его окрестностях великим мистиком, «убеждал и заражал своим горением» и, вполне возможно, что отчасти этим объясняется его влияние при дворе. В эпохи, предшествующие великим катастрофам, все виды мистики (в том числе, и мистика теософии) обретают особую популярность. Общеизвестна придворная популярность французского жулика Филиппа и мужика Распутина, да и нам, жившим вдали от петербургского двора (в драных московских дворах), помнится, как в семидесятые годы истекшего века (еще задолго до того, как провинциальные телепаты, мистики и мистификаторы наводнили телеэкраны) девушки из хороших семей до предела заполняли университетский зал на лекциях моего друга-буддолога и буддиста А. М. Пятигорского. Да и на лекциях С. Аверинцева о ранних христианских мистиках место найти было трудно, а уж «блюдечко крутили» во многих «хороших домах», не исключая и писательских «Домов творчества»… Любопытно, что в те же годы, но в 201 совершенно иных («высших») кругах – и с совершенно иными потребностями и целями – возрождается интерес к нечуждой тем, прежним теософам и придворным тяге к новоязычеству, к великой эпохе и великой культуре, существовавшей на Руси еще и до прихода «иудео-христианства», еще и до крещения. Да и само слово «Русь» как название одного из скандинавских племен, откуда и «были призваны» наши рюрики, потребовало дополнительных околонаучных усилий для углубления в истинно-древние, а может, и в доисторические эпохи. Я прочел недавно у нового российского членкора, что и слово «Русь» (позднее репатриированное) скандинавские воины занесли домой из исконной Руси, которой начало теряется в кромешной тьме пещер. Так вот, перед «концом великой эпохи» социализма новоязыческие идеи получают поддержку в не слабой верхушке ВЛКСМ, располагавшей своими многочисленными изданиями… Эта «молодая гвардия» патриотов-новоязычников, вероятно, не была ни забыта, ни обделена при денационализации всего, что уцелело на родине ко времени Перестройки… Поскольку в начале прошлого века кое-какие доктрины все же оставались, по выражению самой Блаватской, «тайными», честный А. Н. Бенуа отважился лишь мельчайшим петитом (да и то в сноске) сообщить в своих мемуарах, что Н. Рерих занимался в каких-то собраниях «столоверчением». Легко предположить, что это происходило в высоких собраниях, с участием принцесс и княгинь, может, даже великих княгинь… Так или иначе, служебные успехи Н. Рериха были в ту пору головокружительными. В 1906 г. он стал директором крупнейшего художественного училища – Рисовальных курсов Общества Поощрения Художеств. Конечно, при назначении пришлось преодолеть отчаянное сопротивление весьма почтенных конкурентов, но был произведен нажим с самого верху. Рериха поддержала президент Общества принцесса Евгения Ольденбургская (рожденная Лейхтенбергская). Возвышение Рериха было стремительным: он стал членом-учредителем Общества Куинджи, членом-учредителем, а позднее и председателем Общества «Мир искусства», членом совета Общества возрождения художественной Руси, действительным членом парижского Осеннего салона и венского «Сецессиона», академиком искусства, кавалером французского ордена Почетного легиона и шведского – Полярной звезды… Не знаю, что думают об этом познавшие «мудрость владык», но, по мне, попахивает это суетой и потом жизнеустройства… Работоспособность и плодовитость Рериха были поразительными, безумными. Если он участвовал в престижной выставке, то корабль выставки, по наблюдению А. Н. Бенуа, начинал крениться на один борт (на тот, где десятками развешаны были многочисленные новые полотна Н. Рериха). Суждения о картинах Рериха бывали противоречивыми. Все сходились на том, что это все же слишком «литературно», что это «не убеждает». Надо признать, что большинство русских художников (и передвижники, и 202 мирискусники) писали «литературно», а заодно и пробовали себя в литературе. Замечательно, к примеру, писали прозу А. Н. Бенуа, Коровин, Добужинский, Милашевский… Рерих написал много беллетристики, религиозно-заклинательной, публицистической, очерковой прозы, которую, вероятно, одолеют любители восточной мистики. Он написал также много стихов, целую поэму о Чингиз-хане. Сдается все же, что Бенуа, Коровин, Добужинский или Миклашевский писали и пограмотнее, и поинтереснее. Что же до тогдашнего рериховского художественного модерна, то на его картины, вероятно, надо смотреть из той, вековой дали. Попробуем воспроизвести тот взгляд, тем более, что не сгорели ни тогдашние рукописи, ни газеты, ни книги. Довольно много писал когда-то о Рерихе редактор модного журнала «Аполлон», художественный критик и поэт Сергей Маковский. Одно из первых своих суждений о полотнах знаменитого Николая Рериха Сергей Маковский повторил позднее в своей эмигрантской книге: «Он пишет, точно колдует, ворожит. Точно замкнулся в чародейном круге, где все необычайно, как в недобром сне. Темное крыло темного бога над ним. Жутко. Нерадостны эти тусклые, почти бескрасочные пейзажи в тонах тяжелых, как свинец, - мертвые, сказочные просторы, будто воспоминания о берегах, над которыми не восходят зори». Маковский вспоминает, что Рериха «влекло к эзотерическому мятежу Врубеля, к великолепному бреду врубелевского безумия», но «сердце ледяное» Рериха «предохраняет его от многих искушений…» О сюжетах и «исторической» реальности Рериха Маковский судит вполне здраво, о форме, пожалуй, тоже: «Образы мира для него не самоценность, а только пластическое средство поведать людям некую тайну духа, сопричастившегося мирам иным… У Рериха живописная форма кажется подчас косноязычной (какой-то тяжко-искусственной или грубо-скороспелой), зато как поэт… он в картинах своих неиссякаемо-изобретателен: в них живопись и поэзия дополняют друг друга, символы вызваны словом и вызывают слово… многое в произведениях Рериха… и впрямь иллюстративно, просится в книжку, выигрывает в репродукции. Это, если угодно, его недостаток, что неоднократно и отмечалось критикой. Недостаток, вытекающий однако из сущности его творческого credo: писать «из головы»… пренебрегая натурой». В эти годы Рерих, одним из первых, берется за реставрацию старинных церковных росписей, византийских икон и фресок новыми художественными средствами и за написание новых икон и фресок, иначе говоря, становится религиозным художником. Престижные заказы поступают к нему со всех сторон, он исполняет их профессионально, интересно и быстро. Религиозная, точнее, православная живопись Рериха вызывает, пожалуй, даже больше восторгов и больше нареканий, чем его «историческая» живопись. Такое можно было бы предвидеть, даже просто проглядев список любимых героев 203 и учителей Рериха, вроде Рамакришны и Вивекананды, Гессер-хана, Чингизхана, Елены Блаватской, дерзко отвергавшей библейские догматы, и т. п. Сомнение в уместности этой новой (вполне активной) деятельности Рериха высказывал даже осторожный и деликатный Сергей Маковский, который так написал в главе о весьма им хвалимом живописце: «Отдавая должное его археологическим познаниям, декоративному вкусу и «национальному» чутью, - все это бесспорно есть и в иконах, - я не нахожу в нем призвания религиозного живописца. Рерих все что угодно: фантаст, прозорливец, кудесник, шаман, йог, но не смиренный слуга православия. Далеким, до-христианкским, до-европейским язычеством веет от его образов, нечеловеческих, жутких своей нечеловечностью, нетронутых ни мыслью, ни чувством горения личного. Не потому ли даже никогда не пытался он написать портрета? Не потому ли так тянет его к каменному веку, к варварскому пантеизму, или вернее – пандемонизму безликого «строителя пещер»? Тайна Рериха – по ту сторону культурного сознания, в «подземных недрах» души, в бытийном сумраке, где равно связаны идолы и люди, и звери, и скалы, и волны…» Маковский отваживается признать, что для воссоздания лика Божия Рериху не хватает средств. И верно ведь, в знаменитом Нерукотворном Спасе из фленовской церкви (в имении Тенишевой) художник подавляет нас размерами площади и суровостью лика, но разве пугать был намерен человеков страдающий за них Спаситель? Здесь любопытно было бы после красноречивых рассуждений эстета из «Аполлона» услышать голос одной из былых восторженных поклонниц Рериха, той самой актрисы Марии Германовой, что встретив однажды в НьюЙорке, на распутье эмигрантских путей былого российского кумира-мистика, вновь увлеклась его пылкой проповедью. Продолжу начатый мною выше простодушный («по моему неумному суждению», - скромно оговаривается актриса), но вполне созвучный евангельской истории о фарисее и мытаре мемуарный рассказ Германовой, где, кстати, как и в вышеприведенном суждении Маковского, присутствует мысль о христианском смирении и гордыне: «Эти встречи в ним (с Рерихом – Б. Н. ), разговоры, этот опыт был очень ярок, очень всколыхнул мою душу. Теперь, когда вспоминаю то время в Америке, мне кажется, что я тогда будто переступила заколдованную черту, проникла сквозь какую-то невидимую стену, поднялась на какую-то внутреннюю ступеньку, и что-то новое, неведомое доселе открылось и окружило меня. Я ходила как будто в светло-голубом, искрящемся тумане, особо от людей, в каком-то другом плане. Необычность для меня Америки… обстановки там, людей – все помогло этому, может быть, искусственному и нарочитому подъему, и я отдалась целиком этому течению… Но когда вернулась в Париж, к своим… то понемногу, постепенно рассеялась и мечта, как светлый сон. 204 Как ни возвышенны, ни велики образы, которые прельщали и манили, но все же они чужие… да и не время теперь уж бросаться из стороны в сторону, искать… Хотя и очень он интересен. Но отошла я от этого пути. Не по мне он. Теперь даже совестно как-то вспомнить, что обольщала себя мыслью, что могу стать чуть ли не йогом или святой что ли, своими собственными потугами, претензиями на совершенство, сама, без помощи Божией. В этом самообольщении гордости, по моему неумному суждению, самый большой соблазн и неистинность всех этих учений. Холь себя – ешь то и не ешь того, носи только шелк и полотно, «мой скамейки и чашки», «отцеживай комара», выбирай строго друзей, чуждайся больше людей, «не пируй с грешниками», одним словом – думай только о себе, вот что грешно и высокомерно. После таких приемов понемногу бес гордыни заставляет думать, что ты чище и лучше других: кажется, что все, что совершается кругом, совершается нарочито для тебя, что все какие-то знаки посылаются тебе. И до того напряжено это внимание и ожидание, что действительно начинаешь, как будто видеть видения, слышать голоса. Сны снятся особенные, встают вдруг образы-символы, и все так красиво, поэтично, значительно, «прелестно», слишком прелестно, чтобы быть истинным… В этом светлом затмении пути широки, и по ним легко пойти на какието компромиссы, согласиться с тем, что потом при протрезвлении оказывается не только неправдой, но просто смешным. (Думаю, нынешнему читателю рериховской «святительской» прозы смешным покажется многое, а к компромиссам этого широкого пути мы обратимся далее – Б. Н.). Я делилась моим у влечением этими идеями с покойным отцом Г. Спасским. Он терпеливо слушал меня, но когда я, спустя несколько месяцев, пришла к нему и сказала, как я разочаровалась, то он радостно воскликнул, встав перед иконами: «Слава Тебе, Господи!» Не перестану и я повторять: «Спасибо Тебе, Господи, что уберег меня от этого пути». Наиболее известными образцами религиозной живописи Рериха остались его иконы и фрески, сделанные в имении княгини Тенишевой в Талашкине и Фленове. Красивая, энергичная, небесталанная, а главное – щедрая и богатая меценатка Мария Клавдиевна Тенишева за несколько лет до знакомства с Рерихом в 1903 г. облагодетельствовала молодого Шуру Бенуа, положив ему оклад жалованья, поручив ему разобраться в ее личной коллекции и пополнить ее новыми покупками – чистая синекура. Она отправила Бенуа в долгосрочную командировку во Францию, а чтоб ему не одиноко было на чужбине, оплатила и поездку его молодой жены с детишками. Но видимо, высокоученый, но не проученный жизнью А. Бенуа не сумел скрыть своего высокомерного отношения к вкусам благодетельницы и к ее коллекционерской деятельности. Кончилось все обидами и полным разрывом. Иначе повел себя загадочный, но, по точному наблюдению Маковского, «житейскиприспособленный» Николай Рерих: он 205 поддерживал все «национально-русские» начинания благодетельницы, преподавал у нее в Талашкине, делал росписи и проектировал тамошнюю тяжелую мебель «петушкового» и даже «конного» стиля. Очень скоро Рерих стал одним из наиболее высоко ценимых Тенишевой сотрудников, и она так написала о нем в своих поздних воспоминаниях: «Из всех русских художников… кроме Врубеля, это единственный… культурный, очень образованный, настоящий европеец, не узкий, не односторонний, благовоспитанный и приятный в обращении, незаменимый собеседник, широко понимающий искусство и глубоко им интересующийся». Из этого можно понять, что ни Репин, ни Бенуа, ни прочие (их было много у М. К.) не смогли проявить такой тактичной незаменимости в беседе (а в каких эзотерических беседах был собеседник Рерих «незаменим», догадаться уже не трудно). Случилось так, что именно это новое увлечение знаменитой меценатки отчасти и ускорило кончину знаменитого журнала «Мир искусства». Журнал основан был, если помните, на деньги Тенишевой и Мамонтова. Дягилев почти с самого начала повел себя очень независимо и Тенишеву к линии журнала близко не подпускал. Позднее финансовую помощь журналу оказал (по просьбе Валентина Серова) Государь император. Но к 1904 г. Мамонтов был разорен, а Государю стало не до журналов. М. К. Тенишева предложила Дягилеву деньги, но потребовала, чтобы Бенуа был исключен из членов редакции, и чтобы на его место Дягилев взял Рериха. Рерих к тому времени уже не раз участвовал в выставках журнала, но к предложенному Тенишевой переходу под руку нового «кондотьера» основатели журнала еще не созрели (они дозреют лет через шесть). «… это совершенно не нравилось никому из нас, - вспоминал Бенуа позднее, - так как, при всем уважении к таланту Рериха, как художника, мы «не вполне доверяли ему» как человеку и товарищу, не верили в его искренность и в самое его расположение к нам». С. Маковский вспоминал, что дягилевцы Рериху долго не верили, и в талант Рериха не верили: «Опасались и повествовательной тяжести, и доисторического его археологизма, и жухлости тона: а ну, как этот символист из мастерской Куинджи – передвижник наизнанку? Что если он притворяется новатором, а на самом деле всего лишь изобретательный эпигон?» Надо сказать, что в письменных отзывах Бенуа о Рерихе есть и более резкие словечки, чем «кондотьер». В очерке об издании «Художественных сокровищ России», написанном в 1931 г. вдали от Петербурга и северного Пенджаба, Бенуа уже без всяких дипломатических экивоков сообщает о роли, которую сыграл «кондотьер» Рерих в отстранении его, Бенуа, в 1903 г. от всех дел редактирования издания: «Игра, которую этот кондотьер играл против меня не без известного плана, кончилась моей отставкой… и посему он – черный Лепорелло, всегда такой низкопоклонственный и по-украински ласковый… выразил одно лишь досадное смущение». 206 Комментируя переписку Рериха с Бенуа. Современный искусствовед (И. Выдрин) высказывается не менее резко: «Посылая Бенуа любезные письма, Рерих, верный своему обыкновению подлаживаться к ходу текущих событий, вел двойную игру». Видимо, и в судьбе журнала «Мир искусства» двойная игра Рериха сыграла свою роль. При переговорах с Тенишевой в 1904 г. хитрый Дягилев кивал и соглашался, а потом оставил фамилию Бенуа в перечне членов редакции. Тогда Тенишева написала в газеты письмо о нарушении договора и о своем отказе субсидировать журнал. Денег у Дягилева не было, и он решил, что с журналом пора покончить. Так что, победоносное восхождение Рериха не осталось незамеченным и в истории русского журнального дела. В 1905 г. прошла персональная выставка Николая Рериха в Праге (позднее те же картины были показаны в Вене, Берлине, Мюнхене и Дюссельдорфе). А в 1906 г., забыв о старых обидах и распрях, практичный Дягилев пригласил Рериха на выставку русской живописи в рамках парижского Осеннего салона. Выставка прошла с большим успехом, и в том же году Рерих был награжден орденом Почетного легиона. Понятно, что импровизации Рериха на экзотические древне-славянские и «истиннорусские» темы были для французов интереснее, чем вариации на темы их собственной истории. В том же 1906 г. Рерих отказался от масляной краски и стал писать только темперой. Темперой были написаны Рерихом и все его театральные декорации. Оформлять театральные спектакли Рерих начал с 1907 г. – сперва в Петербурге, в новом Старинном театре Евреинова и фон Дризена, позднее – в московском камерном театре и в МХТ. В 1908 г. Рерих оформил «Снегурочку» для парижской Опера-Комик и позднее не раз возвращался к этой опере и к этой истории, в которой ему хотелось передать языческий дух берендеева племени, пришедшего, по его соображениям, откуда-то с Древнего Востока. Благодарного зрителя и настоящий успех рериховские фантазии по поводу этой оперы нашли только в пору третьей ее постановки, четверть века спустя – в чувствительном Чикаго, однако еще задолго до чикагской «Снегурочки» развитие этих идей и этой темы принесло Рериху успех в театре и как декоратору, и как автору – тот подлинный успех, который называют «успехом скандала». Об этом я рассажу позже, а пока надо хоть в нескольких словах упомянуть о театральном успехе, который выпал на долю Рериха в том же Париже весной 1909 г. – во время первого балетного сезона Дягилева. Рерих написал тогда декорацию к поставленным Михаилом Фокиным «Половецким пляскам» на музыку оперы Бородина «Князь Игорь». Когда в первые открылся занавес театра Шатле на этом спектакле и парижане увидели декорацию Рериха, они поняли, что именно такого они давно ждали от русских… Сила и уместность написанного Рерихом пейзажа признана была тогда всеми. Ее признал (пусть даже нехотя, с оговоркой, напоминая, что главное очарование от половецкого стана следует главным образом приписывать 207 музыке) – признал даже тогдашний соперник Рериха, чьей работой («Павильон Армиды») начался сезон, - Александр Бенуа. Позднее Бенуа так рассказывал о рериховских «Половецких плясках» в своих мемуарах: «… декорация производила громадное впечатление. Созданный Рерихом по «принципу панорамы», лишенной боковых кулис, этот фон с его золотисто-алым небом над бесконечной далью степей. С его дымами, столбами поднимающимися из пестрых приземистых кочевых юрт, - это было то самое, чему здесь надлежало быть!» Что до парижской публики, не имевшей (в отличие от Бенуа) никаких счетов с Рерихом, - она была просто в экстазе. Ей, наконец, показали настоящую Русь, настоящую степь, настоящую страсть, настоящую дикость… Оглядываясь назад четверть века спустя, Бенуа написал однажды об их общем успехе и о сути их направления – со здравой жесткостью, не пощадив даже любимого своего «Петрушку»: «… когда Дягилев… показал русское искусство Парижу, то значительная часть успеха этой «манифестации» пришлась на долю как раз все того же пассеизма. И Мусоргский, и Бородин, и Петрушка»… показались «особенно пленительными», оказались особенно доступными. Они «дошли до сердца» в значительной степени благодаря тому, что «гурманам до всего экзотичного» был показан в убедительной наглядной форме целый неведомый мир. Этот ансамбль был сочтен за нечто чисто русское, тогда как это были только «фантазии на русские темы» художников, влюбленных в прошлое своей страны и любивших углубляться в него, отворачиваясь от действительности…» В довоенные годы Рериху довелось оформлять не раз спектакли в МХТ и в московском Свободном театре, а также в петербургском Театре музыкальной драмы, однако по-настоящему большой театральный успех он снова познал в Париже. В 1910 г. Рериха представили молодому композитору Игорю Стравинскому, и художник предложил композитору идею все того же весеннего языческого обряда, который волновал его при работе над «Снегурочкой»: торопя приход весны, язычники-славяне приносят богу солнца Яриле человеческую жертву… Летом 1911 г. Рерих и Стравинский уехали в тенишевское Талашкино и там, в окружении неподдельной красоты среднерусской природы и более или менее убедительных подделок под красоты народного искусства сели вдвоем сочинять либретто того авангардного, опередившего свое время балета, который получил название «Весна священная». Там были, конечно, и ритуальные танцы загадочного славянского племени, и трехсотлетняя сказительница (согласитесь, что меньше жить в тот золотой век просто не стоило), и старейшины в медвежьих шкурах, и человеческое жертвоприношение, которому предшествует исступленный танец смерти. Работая вместе, композитор и художник с гордостью назвали это новое 208 произведение своим «детищем», а, увидев впервые эскизы костюмов, Стравинский воскликнул: «Боже, как они мне нравятся – это чудо!» Ставил балет ведущий танцовщик труппы, тогдашний «фаворит Дягилева» (эти сладостные слова мечтательно повторял уже в те годы молоденький танцовщик из Киева Сергей Лифарь, чья мемуарная книга об учителе и кумире – воистину гимн гомосексуальной любви) – гениальный Вацлав Нижинский. Конечно, молодой Нижинский был еще не слишком опытным постановщиком, и он во всем слушался Рериха. Так сложилось, что на постановках Дягилева художники (скажем, и Бенуа, и Бакст) вообще были больше, чем просто художниками. И если маститый Рерих присутствовал на репетициях, Нижинскому легче бывало совладать со своеволием исполнителей, старших его по возрасту и без особого энтузиазма воспринявших и эту странную музыку, и эту непривычную хореографию. Вообще-то у Рериха не было привычки пропадать день и ночь в театре: он обычно просто отдавал другим художникам для увеличения написанную им на мольберте пейзажную картину, но на сей раз речь шла об их необычном «детище». Музыка Стравинского была полиритмичной, диссонирующей, атональной, конвульсивной, в общем, вполне авангардной, угловатые движения танцоров казались странными, а вместо привычных «маленьких лебедей», на сцене неистовствовали какие-то старики в медвежьих шкурах, намекая на что-то темное, загадочно-мистическое… Премьеры этой в театре Елисейских полей ждали не без тревоги и ожидания (или опасения) оправдались в полной мере. «Весна священная» с ее, как выразились вконец шокированные критики, «ритуально-эротическим беснованием» имела успех скандала. Театральный зал содрогался в тот жаркий вечер парижского мая от свиста и криков. Потом в древнеславянских декорациях на сцене вдруг появился в цилиндре и с тростью сам Дягилев и крикнул парижским зрителям, что они невежды, не понимающие гениального творения века. Похоже, что и тогда уже Париж радостно согласился с этой оценкой… Скандалы в театральной зале случались в Париже и раньше. Скандал на «Эрнани» Гюго возвестил некогда приход Романтизма в театр. Но на сей раз скандал и беснование зрителей превзошли, похоже, ожидания самого главного искателя скандалов Дягилева. Рерих, вспоминая позднее этот вечер 29 мая 1913 г., намекал на умение создателей балета пробудить в толпе зрителей дремавшие в их душах первобытные чувства: «Кто знает, может быть, в этот момент они в душе ликовали, выражая это чувство, как самые примитивные народы. Но должен сказать, эта дикая примитивность не имела ничего общего с изысканной примитивностью наших предков, для которых ритм, священный символ и утонченность движения были величайшими и священными понятиями». Так или иначе, Рерих пережил в те дни самые яркие мгновения своей театральной славы. Скандальный спектакль был показан пять раз в Париже и три раза в Лондоне. 209 Тою же памятной весной 1913 г. Рерих посетил в парижском музее Чернуши (он вполне справедливо именует его галереей Чернуского) выставку предметов восточного искусства из частных собраний. Рерих встретился на выставке со своим жившим в Париже русским приятелем, востоковедом В. В. Голубевым (в его украинском имении Рерих писал образа для церкви). В отчете об этом совместном посещении парижской выставки Рерих сообщал: «… Уже давно мечтали мы об основах индийского искусства. Невольно напрашивалась преемственность нашего древнего быта и искусства от Индии. В интимных беседах часто устремлялись к колыбели народной, а нашего славянства в частности». Этот свой кратенький отчет 1913 г. (написанный в характерном для него стиле – со всеми инверсиями и причитаниями) художник назвал «Индийский путь» и завершил его вполне романтично и живописно: «К черным озерам ночью сходятся индийские женщины. Со свечами. Звонят в тонкие колокольчики. Вызывают из воды священных черепах. Их кормят. В ореховую скорлупу свечи вставляют. Пускают по озеру. Ищут судьбу. Гадают Живет в Индии красота Заманчив Великий Индийский путь». По этому заманчивому пути индийской красоты упорный Рерих отравился лишь десятилетие спустя, а пока ни индийские мечты, ни парижские или московские театральные заказы не освободили Рериха от его многочисленных, взваленных им на себя художественных, организационных и административных хлопот. Он возглавлял и реформировал рисовальные курсы ОПХ, писал темперой многочисленные картины (по мнении С. Маковского, в поздний период «именно красочные задачи преобладают над остальными», хотя самому критику и «жаль прежнего» Рериха, менее эффектного и театрального, и глубже погруженного в омуты своей стихии»), расписывал стены в церквах и частных особняках, участвовал в работе Петербургского теософического общества и в сооружении буддийского храма в Петербурге и еще, и еще … В 1910 г. бывшие мирискусники вышли из Союза русских художников и основали Общество «Мир искусства». Николай Рерих возглавил комитет Общества, а картины его заполняли теперь залы выставок. Он признан всеми. Хотя соперников своих (и людей, далеких от теософической мистики) он попрежнему «не убеждал». Вот запись в дневнике мирискусника Александра Бенуа: «В подробности обозрел нашу выставку… Выставка никакой радости мне не дает. Внушительнее прочих Рерих, но и он почему-то не убеждает: слишком во всем усматривается намерение. С другой стороны, эти сложные и монументальные по намерениям композиции удивительно как напоминают 210 иллюстрации в немецких сказочных книжках или в журналах, вроде «Юношества». Вредит впечатлению и то, что я уже многое видел у него, и тогда многое меня даже поразило и выдумкой, и красками, а вот при более близком знакомстве их прельщение не действует. К ним нехорошо «возвращаться» - открывается какая-то их внутренняя пустота». Мы могли бы пренебречь мнением такого авторитетного, но не слишком дружелюбно настроенного критика, как Бенуа, если бы мнение о похожести станковых картин Рериха на книжные иллюстрации не было уже и в ту пору очень распространенным. Но что иллюстрирует Рерих, какие «намерения» проглядывают в его картинах? Трудно предположить, что вполне светский петербуржец Бенуа не знал о теософских идеях и высоких теософских связях Рериха. Но говорить об этом, видимо, было не принято (даже в дневнике). Вот ведь и Маковский туманно пишет о «темной ворожбе», а не о вполне определенной символике Рериха. Возможно, и в лукавой записи Бенуа содержится намек на наивные научно-фантастические теории теософии, на некие немецкие легенды, и «сказочные книжки». В ту пору их уже было много. Скажем, безумный Хобергер прожужжал всем уши своими теориями «обледенения земли», разговорами о племени доисторических великанов, об уцелевших племенах высшей расы своими нападками на жалкую буржуазную науку. Конечно, легенды эти были поддержаны творчеством гением, подкреплены именами Ницше и Вагнера, но именно далеким от гениальности Хобергеру и Хаусхофферу удалось позднее подыскать для них столь перспективных поклонников, как Розенберг, Гиммлер, Геринг и Гитлер с его доктором Морелем. Все эти люди (не к ночи будь помянуты) входили в «Группу Туле», которая (если верить почти фантастическим клятвенным заверениям уже упомянутого нами однажды французского автора) имели свой «тибетский центр» и поддерживали с ним связь при помощи каких-то коротковолновых передатчиков (о том, что Н. К. Рерих был – конечно, также позднее – снабжен русской радиотехникой, упоминают нынче в русской печати нередко) и при помощи «игр» (тибетская колода карт таро, цифровой код, гадание на картах). Упомянутый французский автор (Л. Повельс) клянется, что лидеры III Рейха регулярно занимались этими «играми» и что об этом знал даже противник и поклонник Гитлера «замечательный грузин» И. Сталин, сообщивший однажды на высоком партийном совещании, что «трудно даже представить себе, чтобы в XX веке руководители государства занимались подобной чертовщиной». Стало быть, все же следил за этой «чертовщиной» и был немало взволнован ее успехами. Недаром на исторической встрече с делегацией Рейха (в 1939 г. – далеко же мы забежали вперед) он сам поднял тост за несправедливо забытого Гиммлера и просил передать лично фюреру о его восхищении радикальным решением цыганскоеврейского вопроса… Конечно, в том, что случилось в Европе в 30-е - 40-е г., нельзя впрямую винить духовные искания знаменитой Елены Блаватской, однако подобный поворот событий умели предвидеть многие. Французский философ 211 Рене Генон писал в своей книге о теософии («Теософия, истории одной псевдорелигии»): «Нам не верится, что теософам, равно как оккультистам и спиритам, удастся многого добиться собственными усилиями. Но не может ли появиться в тени всех этих движений нечто более устрашающее, появления которого не предвидят, вероятно, даже их вожди, которые, тем не менее, являются инструментом в руках этих сил». Опасения эти были преданы гласности за двенадцать лет до прихода Гитлера и Гиммлера к власти. А поклонников теософии можно было обнаружить и еще раньше, причем не только в Западной Европе или в США, но и в высоких русских кругах, с которыми близок был перед Великой войной герой нашего повествования художник-мирискусник Николай Рерих. Настолько близок, что ему даже было предложено звание камергера. Кстати сказать, ведь и полотна его предвещали уже тогда неизбежную и близкую катастрофу. Когда же кровопролитная эта война, возвестившая подлинное начало страшного века, разразилась, Рерих во всеуслышание впервые объявил о своей озабоченности гибелью памятников архитектуры. За два месяца до начала революции 1917 г. прозорливый Рерих покидает «град обреченный» (именно так называлась одна из его новых картин) и переезжает с семьей и имуществом в не слишком далекую (но вполне финскую Сортавалу (Сердоболь). Понятно, что врачи сообщали ему при этом о полезности здорового чистого воздуха. Но у кого еще были в ту пору столь политически грамотные врачи? Разве что у здоровяка Билибина, но и тот не догадался перевезти в Крым всю свою продукцию, да и сам потом уплыл за море не без трудностей… Рерих много работал в ту пору – писал мистические картины, сочинял поэму о Чингиз-хане, драму о революции и роман, часто наезжал в Петроград по многим своим делам, но дом его и мастерская теперь были не в Петрограде, хотя казенная квартира в училище оставалась за ним. После революции Рерих был, как теперь выражаются, востребован новой властью. В марте 1917 г. он присутствует на знаменитой встрече интеллигенции у Горького, его имя на одном из первых мест (где-то после Дягилева и Бенуа) во всех «авторитетных» перечнях, в том числе, в составе президиума Особого совещания по вопросам искусства. Вначале Рерих пытается также спасти рисовальную школу, втягивается во всю отчаянную организационную возню, но мало-помалу от нее отходит. Вот некоторые из дневниковых записей Александра Бенуа: «4 марта (1917 г.) … У Горького набралось свыше пятидесяти человек. Председателем выбрали Рериха, я отказался. Из собрания вышла, как я и предвидел, сплошная бестолочь… Рерих с аляповатой решимостью стал докладывать наши предначертания… Совсем не на месте оказался Рерих, кое-как грубо, наспех прочитал список депутатов, которых надлежит отправить к Временному правительству. Кандидатами в министры искусств я назвал Дягилева, затем Грабаря и третьим Рериха, последний чуть не захлебнулся от 212 гордости и даже не сделал отводящего жеста, - скромная амбиция! В сущности, он в министры не годится, скорее – в интенданты культуры…» Бенуа рассказывает о попытках Рериха сохранить казенную квартиру при школе и о том, как быстро он остывает к бурной «организационной» и «совещательной» деятельности: «Совсем бесполезным оказался Рерих, имеющий такой вид, точно он непрестанно передо мной робеет и потому заранее на все утвердительно кивает головой». В конце 1917 г. Рерих еще привозит в Петроград какой-то проект реорганизации Академии художеств в «свободную Академию». Проект имеет, по догадке Бенуа, единственной целью сохранить за Рерихом«ректором» его казенную квартиру. После доклада Рериха соперники по «Миру искусства» еще собеседуют, и Бенуа поверяет позднее дневнику свою новую, снова вполне тщетную, попытку разгадать тайные мысли хитрого Рериха: «Послушав от Николая Константиновича и от Елены Ивановны (как всегда, красивой) жалобы на всякие трудности житья в Сердоболе (эти жалобы были изложены больше для того, чтобы другие русские, не дай Бог, не наводнили Финляндии), я… отправился домой». Ах, мало что угадал Бенуа. Вскоре, к удивлению Бенуа, Рерих предупреждает его, что хочет (из-за угрозы туберкулеза) реже приезжать из Финляндии. На дворе уже 1918 г., у власти симпатичные для Бенуа миротворцы-большевики, и до Бенуа не сразу доходит, что благоразумный Рерих уже готов к отъезду – сперва на Запад, а потом, может, и в магическую Индию, по следам махатм и Блаватской. В октябре 1917 г. Рерих записывает в своем дневнике: «Делаю земной поклон учителям Индии. Они внесли в хаос нашей жизни истинное творчество и радость духа, и тишину рождающую. Во время крайней нужды они подали нам зов. Спокойный, убедительный, мудрый». Понятное дело, чтобы откликнуться на зов из такой дали, нужны были свобода передвижения и, по меньшей мере, деньги на проезд. Некоторые современные биографы пишут, что новая граница с Финляндией «отрезала» Рериха от родной станы, но все было проще: в январе 1918 г. Рерих сел в один из последних поездов, уходивших в Финляндию, и уехал в эмиграцию. Бенуа решился сделать то же самое лишь восемь лет спустя, а за эти восемь лет на Западе Рерих воистину своротил горы. Восемь лет спустя Рерих уже счел нужным разыграть «возвращение», но об этом я расскажу в свой срок, пока же – лишь о первых шагах Рериха. Он осел в финском Выборге с целым собранием своих картин и стал готовить выставку для Швеции. Стокгольмская выставка Рериха имела большой успех, позднее те же картины показаны были в Норвегии и в Дании, а Рерих, получив приглашение от сэра Томаса Бишема и театра Ковент Гарден, переехал с семьей в конце 1919 г. в Лондон. Здесь ему пришлось очень много работать. Для начала надо было сделать декорации к «Князю Игорю». Сэр Томас 213 Бишем заказал Рериху также декорации для спектаклей «Снегурочка», «Царь Салтан» и «Садко». Увы, тех денег, которые могли уплатить Рериху сэр Томас и театр «Ковент гарден», оказалось явно недостаточно для того, чтобы предпринять семейное путешествие в Индию, хотя выставка картин Рериха имела успех в Лондоне и в других городах Англии, а затем была отправлена в Венцию. Неизвестно, с кем из единомышленников и единоверцев встречался Рерих в городе Блаватской, но проскользнули сообщения, что английские власти одобряли не все индийские контакты художника. Сам он пишет лишь о памятном визите, который нанес ему писатель и мудрец Рабиндранат Тагор. Иные современные биографы Рериха сообщают, что художникэмигрант Рерих затруднялся определить свое отношение к русской революции и к большевистскому перевороту. Судя по таким серьезным работам о русской эмиграции, как скажем, книга О. Казниной «Русские в Англии»), отношение это было вполне определенным. Рерих принимает в Лондоне активное участие в деятельности «Комитета освобождения России» и откликается на смерть Леонида Андреева статьей, в которой называет большевиков «Гонителями искусства» (статья так и называется – Vialators of art). Рерих написал в ней о российских расстрелах, о голодной смерти, об изгнании ученых и художников из большевистской России, о разрушении памятников искусства, об анархии… Лондонские корреспонденты газет сообщают о том же со слов Рериха. Конечно, в своих рассказах о России Рерих допускает кое-какие мелкие неточности, но ведь он и уехал из России не вчера, а полтора года назад, да и при большевиках жил совсем недолго. Сам он предстает в этих интервью в роли решительного врага большевистского режима, а также его жертвы. «Ему удалось спастись от режима, который ставит перед интеллигентом выбор: совесть или послушание режиму», - сообщает о Рерихе журнал «Квест», - Этот режим объявляет, что Бога нет, есть только диктатура. «… ему с трудом удалось бежать из России, - подтверждает еженедельник «Рашн аутлид», - И он отверг предложения большевиков о сотрудничестве с организациями Красного террора». Нельзя требовать от политизированной прессы (или от самого беженца) большой точности и тонкости, но тенденция тут вполне определенная. Впрочем, вполне преуспевающему в Англии Рериху очень скоро становится понятно, что, несмотря на весь их энтузиазм, Англия и обнищалая послевоенная Европа не смогут помочь ему в осуществлении его грандиозных планов путешествия. Оставалась заокеанская Америка, уцелевшая вдали от войны, революций и послевоенной скудости. Среди разнообразных приглашений, полученных Рерихом в Лондоне, было и одно американское – от директора Чикагского Института Искусств Роберта Харша. Так что, не сумев уплыть в Индию, благоразумный Рерих отправляется на завоевание США и в первую очередь оказавшегося 214 благодарным центром мирового искусства и эзотерики города Чикаго. Семья Рериха сошла на берег в Нью-Йорке осенью 1920 г., и уже в декабре в ньюйоркской галерее открылась устроенная Харшем большая персональная выставка художника. С этой выставкой, а также с лекциями об искусстве и о мудрости Владык Рерих посетил двадцать восемь городов США, выступал в самых разнообразных учебных заведениях, в музеях и даже в большом чикагском универмаге. Он горячо и убедительно пропагандировал свою веру. Мемуаристы попроще называют эту веру теософией, щепетильные нынешние биографы пишут о «духовной философии, включающей элементы буддизма, индуизма, пантеизма, теософии, русского православия, теории относительности и сотрудничества с духовной эволюцией космоса, вмещающей древнее учение Агни Йоги и еще. И еще (это при том, что сама теософия отвергала библейские догматы и объединяла некоторые концепции индийской философии, включая реинкарнацию, карму, почтительное отношение к духовном учителю – гуру). Гуру Рерих вовлекал в свой круг все более влиятельных сторонников из самых разнообразных, по преимуществу высоких, кругов американского общества. Американцы оказались чувствительными к его проповеди. Они вообще оказались чувствительными ко всяким новинкам в религиозной сфере: суровое пуританство пионеров в сочетании с осатанелым ежедневным трудом им наскучили, их утомили. Ведь и нынче во всех уголках планеты гладко выбритые и аккуратно одетые американские юноши разносят по домам брошюрки, возвещающие Конец Света или новейшие трактовки Священного Писания. Помнится, на одной улице крошечного городка в Новой Англии, где живут мои сестры, я насчитал как-то полдюжины церковных разновидностей, на которые разбилась одна только христианская религия, не говоря уж о других великих религиях и мелких «учениях». Так что Рериху с выбором поля деятельности повезло. В Чикаго ему удается организовать международное общество художников «Пылающее сердце» (Cor Ardens), в Нью-Йорке он открывает школу объединенных искусств, которая позднее была преобразована в Международный художественный центр «Венец мира» (Corona Mundi). Вскоре на основе первых рериховских учреждений в 30-этажном здании на берегу Гудзона был открыт Музей Рериха, где выставлены были сотни его картин, иконы и восточные экспонаты. Вместе с единомышленницей-супругой Рерих основывает в США Общество АгниЙоги, Живой этики. Легко заметить, что все художественные учреждения, созданные Рерихом и его поклонниками, носят культовый характер. Причем, созданные им учреждения не прогорают, а напротив, обогащаются, процветают, создают прочную базу для путешествий и безбедной эмигрантской жизни их создателя. Конечно, чтобы преуспеть в чужой стране, надо иметь высоких покровителей, знание конъюнктуры и финансовый талант. Среди поклонников и помощников Рериха оказались влиятельные знающие финансисты, такие, скажем, как умелый и удачливый биржевой брокер Луис Хорш. Позднее, при Рузвельте и Трумене Хорш работал аж в Коммерческом департаменте президентской администрации. У Рериха он 215 был президентом Школы объединенных искусств и президентом Музея Рериха, начавшего с трех сотен картин, но имевшего их к 1930 г. уже больше тысячи. Сообщают, что даже в нелегких условиях главного своего путешествия Рерих написал еще 5000 картин - было что продавать и распределять по музеям и галереям, а биржевой брокер Хорш оказался великим маршаном, преданным Учителю. Лишь десять лет спустя, в начале 30-х г. довольно трудных для США, Ученик Хорш решил, что хватит ему работать на Учителя и объявил, что весь этот музей и здание со всеми его потрохами и картинами должны принадлежать ему, Хоршу, что он их заработал. Американский трибунал, разобравшись в деловым бумагах, признал неоспоримую правоту Хорша. Однако, не будем забегать вперед… Пока что Рерих пишет картины из серий «Океан», «Нью-Мексико», «Аризона», «Санкта» (Подписи под ними загадочны, но многозначительны: «И мы открываем врата», «И мы не боимся», «И мы пытаемся», «И мы продолжаем лов», «И мы несем свет», «И мы видим»). Вспомним, что «обращенная» Рерихом в Нью-Йорке мхатовская актриса позднее устыдилась новой арийской гордыни и вернулась к своему парижскому духовнику-батюшке. Вспомним, что чуть позднее скромный парижский художник-эмигрант А. Бенуа, внештатный автор эмигрантской газеты, обвинил Рериха в мессианстве… Вспомним и забудем, потому что пока все идет прекрасно. Пока что Хорш приносит деньги, много денег, и Учитель отправляется с семьей в сказочное путешествие по путям героев великой уцелевшей расы. Неслыханная в эмигрантских кругах семейная экспедиция финансируется не могучей фирмой «Ситроен» (как было позднее у художника А. Яковлева), а всего-навсего частной Школой искусств и таинственной «Короной мунди». Не одни только новые пейзажи и приключения зовут художника в дорогу, но и приближение к тайнам Владык, к великой мудрости, сокрытой в пещерах, в предгорьях Тибета. Первые Владыки и наставники попадались им уже и на шумных путях Запада, о чем свидетельствуют загадочные беседы и Учительские письма супругов – вроде этого письма, отправленного в июне 1924 г. Еленой Ивановной в Харбин мужнину брату Владимиру и поклоннику розенкрейцеров П. А. Чеснокову, которому Елена Ивановна подарила чудодейственную фотографию «владыки М,»: «Будем ждать вопросов, но просим писем наших никому не показывать и надеемся, что раздавая «листья сада Морни», наше имя не связывается с этой книгою, как Н. К. уже указывал. … 10 ч. веч. Получили Указ: «хочу выполнить общие желания, потому пусть каждый, имеющий знак или имя, возьмет два листа бумаги. На одном пусть напишет, что он дает Мне, на другом – что он желает получить от Меня, пусть запечатает и пришлет ближайшею почтою вам. Спросят, почему нельзя обратиться в духе, - ибо часто мышление неточно. Вместо ясного вопроса, посылается хвост мохнатого мышления, забывая, Куда и Кому обращаются. Советую, чтобы желания приличествовали плану Владык. Мы увидим и измерим». 216 Письмо это из тех документов, которые полвека спустя насмешник Высоцкий называл в своей песне – «находка для шпиона». И уж, наверно, шпионы его не проморгали, если даже низкооплачиваемые харбинские газетчики сумели выкрасть эту переписку для своих фельетонов. Что до «планов Владык», то они, как выяснилось два года спустя, в точности совпадали с планами большевиков. Впрочем, не будем забегать так далеко вперед – за целых два года и многие тысячи миль пути… В мае 1923 г. Николай и Елена Рерихи, а также их сын, молодой художник Святослав отплывают в путешествие и, сделав остановку во Франции, встречаются в Париже с Юрием Рерихом, изучающим восточные языки. В октябре 1923 г. пакетбот «Македония» отчалил из Марселя и взял курс на Бомбей. На борту пакетбота среди множества пассажиров была семья пока еще мало кому известного в Марселе русского художника Николая Рериха. А между тем, супруги Рерихи были уже к тому времени людьми заметными в мире теософии и прочих эзотерических учений, создателями «Живой Этики» или «Агни Йоги». Как раз в пору их путешествия вышла первая книга их учения «Листы сада Мории», вслед за которой, в течение десятилетия (начиная с 1929 г.) вышли еще несколько книг. Рерихи отказывались называть себя их авторами, они были лишь рупором таинственных махатм, с первым из которых (может, его действительно звали Мория) супруги встретились в 1920 г. в Англии. Если в первой книге Учения еще можно узнать поэтические медитации из сборника стихов Николая Рериха, то в дальнейшем книги строятся как собеседования Учителя с его учеником, точнее, даже ученицей (вероятно, Еленой Рерих), ибо речь махатмы в «Агни Йоге» явно обращена к существу женского рода: «Я дал огненный камень той, которая по решению нашему будет именоваться матерью Агни Йоги, ибо она предоставила себя на испытание пространственному Огню». Первая часть первой книги «Листья сада Мори» называется «Зов». Тех, кто испытывают потребность в обновлении, зовут в новую страну (русские переводчики уточняют, что речь идет о новой России, той самой, о которой лондонские собеседники махатмы пока что рассказывают корреспондентам и публике всякие малопривлекательные подробности. Но может, эти собеседники еще не решили, на чью сторону они встанут в предстоящей борьбе миров. Одно ясно: «темные силы тайно и явно сражаются». И еще ясно, что «жестокостью не стучатся к посвящению». Но тогда отчего же махатмы в «Послании» (то ли «записанном», то ли сочиненном Рерихом два года спустя) одобрили все самые жестокие акции большевиков? Впрочем, не будем добиваться ясности и нырять в глубины того, что должно оставаться предельно непонятным. На то она и мистика… А впереди – загадочная Индия, трижды загадочные Гималаи и где-то там (никто не знает, где) – бесконечно загадочная Шамбала… Художник-путешественник 217 Провинциальное (смоленское) издательство «Русич» предпослало недавно изданию очерков Рериха заголовок «избранное наследие великого художника» Я не набрался бы смелости назвать вполне известного художника Рериха великим художником, да и литературное его наследие, даже избранное, сильно уступает по уровню писаниям того же Бенуа или Коровина, но вот в чем Рерих и впрямь превосходил современных ему художников, так это в своей страсти к путешествиям. А ведь и до него, не только художники (вроде Серова и Бакста), но и литераторы (вроде Бальмонта и Бунина) немало постранствовали. Впрочем, страннику Рериху пришлось столкнуться с особыми трудностями, ибо путешествовать он начал в весьма неподходящую для странствий эпоху. А все же он преуспел и сумел проявить умение, доблесть упорство, хитрость, буквально горы свернув на своем пути. В начале декабря 1923 г. Рерихи сошли на берег в Бомбее, и началось их сказочное путешествие – Джайпур, Сарнат, Агра, остров Слонов, Бенарес, Калькутта, Сикким… В написанном позднее очерке «Сердце Азии» Рерих приводит сухой список посещенных им за пять лет местностей, и есть от чего опьянеть при перечислении мест любому фантику странствий: «Дарджилинг, монастыри Сиккима, Бенарес, Сарнат, Северный Пенджаб, Равалпинди, Кашмир, Ладак, Каракорум, Хотан, Яркенд, Кашгар, Аксу, Кучар, Карашак, Токсун, Турфанские области, Урумчи, Тянь-Шань, Козеунь, Зайсан, Иртыш… Цайдам, Нейши, хребет Марко Поло, Кукушили, Дунгбуре, Нагчу, Шенза-Дзонг…» Нам еще далеко до конца, мы не назвали тридцать пять заоблачных перевалов, пройденных караваном Рериха, не назвали всемирно известных храмов, святилищ, пещер, озер… Впрочем, не будем терзать свое сердце путешественников-неудачников перечнем упущенных возможностей. Пожалеем лишь, что книга Рериха «Сердце Азии» дает не слишком подробное и не очень вразумительное описание путешествий. Впрочем, это описание и не рассчитано на нас с вами. Оно рассчитано на верующих, на единоверцев Рериха. Путь экспедиции пролегает по сказочным горам, мимо храмов и пещер, в окружении заоблачных вершин. Для художника, его жены и сына, для их американских спутников и для местных лам все полно здесь тайных знаков, всякое упоминание имен из легенды предстает как откровение. Для нас, маловеров, Рерих дает как бы почти документальные ссылки: «а вот один лама говорил», «а вот одна дама видела», «а вот газета «Стэтсмен», наиболее позитивная газета Индии, опубликовала следующий рассказ британского майора: «однажды еще до зари…» Дальше идет описание призраков, высоких людей с длинными волосами (ибо где-то здесь, в Гималаях, живут допотопные великаны). Рерих и сам видит однажды голубое сияние вокруг своих рук и вокруг своей жены. О чудесах свидетельствует в книге Рериха великий знаток здешних чудес миссис Дэвид Ниель, да и сам М. Горький о чем-то свидетельствует. Вот показание Горького, пересказанное Рерихом в его очерке: 218 «Однажды на Кавказе пришлось мне встретиться с приезжим индусом, о котором рассказывалось много таинственного. В то время я не прочь был и сам в свою очередь пожать плечами о многом. И вот мы наконец встретились, и то, что я увидал, я увидал своими глазами. Размотал он катушку ниток и бросил нитку вверх. Смотрю, а нитка-то стоит в воздухе и не падает. Затем он спросил и меня, хочу ли я что-нибудь посмотреть в его альбоме и что именно. Я сказал, что хотел бы посмотреть виды индусских городов. Он достал откуда-то альбом и, посмотрев на меня, сказал: «Вот и посмотрите индусские города». Альбом оказался состоящим из гладких медных листов, на которых были прекрасно воспроизведены виды городов, храмов и прочих видов Индии. Я перелистал весь альбом, внимательно рассматривая воспроизведения. Кончив, я закрыл альбом и передал его индусу. Он, улыбнувшись, сказал мне: «Вот вы видели города Индии», дунул на альбом и опять передал мне его в руки, предлагая посмотреть еще. Я открыл альбом, и он оказался состоящим из чистых полированных медных листов без всякого следа изображений. Замечательные люди эти индусы». Рерих считал, что научившись всяческим чудесам, мы сильно усовершенствуем свою природу. Может, это и гнало его в бесконечную дорогу по «сердцу Азии». Это и прочие чудеса… За первый месяц в Индии супруги Рерихи добрались в Дарджилинг, посетив Агру (и, вероятно, волшебный Тадж-Махал), Джайпур, Бенарес, Калькутту, остров Слонов… Но конечно, не слоны (и даже не прославленные памятники архитектуры) волновали художника, а священные знаки, знаменья и всеведущие ламы. В ставшем уже курортным Дарджилинге супруги поселились в том самом доме (Талай-Бхо-Бранг), где когда-то останавливался тибетский далайлама Пятый. Видимо, Тибет подавал супругам тайный знак. Более того, как раз в ту пору разнеслась весть о бегстве за границу тибетского таши-ламы. Вам трудно будет понять, почему этот, по выражению Рериха «героический экзодус» так взволновал Рерихов. Но «ведь именно таши-ламы связываются с понятием Шамбалы», - пишет Рерих и вскоре спохватывается, что русский читатель окажется «без понятия»: «Если будет произнесено здесь самое священное слово Азии – «Шамбала», вы останетесь безучастны. Если то же слово будет сказано посанскритски – «Калапа», - вы также будете молчаливы. Если даже произнести здесь имя великого Владыки Шамбалы – Ригден-Джапо, даже это громоносное имя Азии не тронет вас. Но это не ваша вина… на западе нет ни одной книги, посвященного этому краеугольному понятию Азии». Дальше на целых пятнадцати страницах Рерих пересказывает легенды о снежных людях и прочих диковинах Гималайских гор, из которых человек романтического склада мог бы заключить, что где-то там, среди Гималаев, спрятана священная страна, где загадочные мудрецы хранят тайны и ждут своего часа. Время от времени являются какие-то знаки того, что близится час Шамбалы, а заодно, конечно, час истины, мира и красоты. Знаки 219 множатся, а час все не приходит. Вот и некая миссис Дэвид Ниель (крупный знаток этих дел) возвестила в 1924 г., что скоро вернутся из прежней жизни вожди и сотрудники Гессер-Хана, которые «воплотятся в Шамбале, куда их привлекут таинственная мощь их Владыки или те таинственные голоса, которые слышны лишь посвященным». В конечном итоге, из Рериха про Шамбалу поймешь не много. Коекакие, тоже не слишком убедительные подробности о Шамбале я нашел в той части французской книги Луи Повельса, где рассказано о близкой к Гитлеру эзотерической группе тибетского толка, носившей название «Группа Туле» и включавшей таких влиятельных персонажей, как Гиммлер. «Философское обоснование своей деятельности, - пишет Повельс, группа черпала в знаменитой книге «Дзянь», тайной книге тибетских мудрецов. Согласно этой книге существует два источника энергии: Источник правой руки, проистекающий из подземной монастырской крепости медитации, разместившейся в городе, носящем символическое имя Агарти. Это источник созерцательной энергии. Источник левой руки – источник материальной энергии. Он протекает в наземном городе Шамбала. Это город насилия, которым повелевает Король страха. Тот, кто вступит с ним в союз, сможет повелевать миром». Похоже, что многих диктаторов в XX в. очень соблазняла помощь Короля Страха, ибо власть их держалась на укоренении страха в ничтожных «винтиках» - рабах. Во время его пребывания в Дарджилинге, а может, и до этого в душе Рериха созрел план великого путешествия по Средней Азии – через перевалы Тибета и Западные Гималаи в Китайский Туркестан. На Алтай, в Сибирь и Монголию, потом к Югу через пустыню Гоби, Тибетское нагорье и Восточные Гималаи обратно в Дарджилинг. Готовясь к этому величайшему своему путешествию, Рерих посещает США, откуда идет приток средств, заезжает и в Европу, навещает в Берлине советское посольство, ведет там какие-то переговоры, потом навещает ПортСаид и пирамиды в Гизе, остров Цейлон, штаб-квартиру теософического общества в индийском Адьяре и, наконец, возвращается к подножью Гималаев – в Дарджилинг. Рерих серьезно готовится к тяжелому переходу, предвидя пограничные трудности, завязывает связи с дипломатами разных стран и попутно создает девятнадцать картин, изображающих духовных учителей христианства, буддизма, ламаизма, синтоизма и даже духовного водителя алтайцев… В марте 1925 г. вместе с женой и сыном Юрием Николай Рерих из кашмирского Шрингара двинулся в путь во главе своей экспедиции. Из Кашмира экспедиция идет по караванному пути в тибетский Ладак, который считается родиной Гессер-Хана. Если верить просвещенной миссис Дэвид Ниель, «Гессер-Хан – это герой, новое воплощение которого произойдет в Северной шамбале». Рерих снова прикоснулся к легенде. Может, это и было 220 одной из целей его паломничества. В сентябре, покинув Ладак, экспедиция Рериха через семь горных перевалов входит в китайский Туркестан. «Рассказать красоту этого многодневного снежного царства невозможно… - пишет путешественник, - такие фантастические города, такие многоцветные ручьи и потоки, и такие пурпуровые и лунные скалы. При этом поражающе звонкое молчание пустыни…» Лично мне в долгие годы моей российской жизни посчастливилось открыть для себя горы Кавказа, Тянь-Шаня и Памира, много счастливых месяцев и недель провести в горах, так что самым понятным для меня в извилистом пути малопонятного человека Н. К. Рериха является как раз стремление этого петербуржца в горы. «Лучше гор могут быть только горы», - пели у нас под Эльбрусом загорелые горнолыжники, забывая обо всех равнинных Владыках… Но так и не вставший на лыжи бородатый теософ Рерих копал глубже. «Все учителя ходили в горы, - пишет он, - самое высокое знание, самые вдохновенные песни, самые прекрасные звуки и краски рождались в горах. На самых высоких горах сосредоточено Высшее. Высокие горы – свидетели великих событий. Даже дух древнего человека радовался величию гор». Помнится, как однажды, пропетляв среди каменных стен на афганской границе, крошечный чешский самолет в первый раз в жизни доставил меня в памирский Рушан. На тесном летном поле рядом с нами стоял под погрузкой вертолет геологов. _Куда летите? – спросил я. - На Саезское озеро. Людей доставим – и обратно. - Возьмете меня? – спросил я нагло. - Летим… Таких ослепительных льдов и снегов я никогда не видел. Мы пролетали шеститысячные пики, носившие какие-то унизительные большевистские клички. Но даже эти клички не снижали их, не пятнали их белизны… Вот по таким снегам Рерих бродил долгие месяцы. В Хотане, на китайской стороне местные власти надолго задержали и разоружили его караван. Рерих терпеливо писал полотна из серии Майтрейя, на которых человек посвященный нашел бы немало символов и тайных знаков, пророчивших наступление века Шамбалы. Однако век Шамбалы все не наступал, а задержка в Хотане затянулась на долгие месяцы. Потеряв философское спокойствие, Рерих пытался связаться с Нью-Йорком, Парижем или хотя бы с Пекином и попросить содействия. Он неоднократно обращался за помощью не только к британскому консулу в Кашгаре, но и к советскому консулу. Последнее может показаться странным, если вспомнить, что он был «белый» эмигрант, бежал от большевиков и выступал против них в Лондоне. Однако, если учесть то, что случилось дальше, то хочешь не хочешь придется искать объяснения этим странностям. В конце января Рериха выпустили (благодаря содействию британского консула), из Хотана. Через Яркенд, Кашгар, Курчар и Каршар караван его 221 добрался в самый большой город Китайского Туркестана – в Урумчи, и тут Рерих получил советскую визу, а может, даже и приглашение посетить Москву. Для Рериха это, видимо, не было неожиданным, но его биографов этот зигзаг до сих пор озадачивает до такой степени, что авторы лучшего из биографических словарей русских художников стыдливо сообщают, что художник «в мае 1926 г. проездом посетил Москву». При простом взгляде на географическую карту оба небрежных слова – и «проездом», и «посетил» застревают в горле. Остается гадать, чего хотел наш странник от Москвы, и чего хотела от него большевистская Москва. С Москвой более или менее понятно: Москва добивалась именно в те годы международного признания легитимности большевистского правительства, и русская эмиграция должна была сыграть в этих усилиях Москвы вполне определенную роль. Недаром же в Париже (в рамках разведоперации «Трест») затеяна была шумная кампания «возвращенчества», а парижские художники-эмигранты, ведомые М. Ларионовым и Зданевичем, во всеуслышанье заявили о своей лояльности большевизму. Собственно, эмигрант Рерих очень точно угодил в струю «возвращенчества» и «признания легитимности». Он даже заявил в Москве о своем намерении вернуться и взять советское гражданство – вот только завершит путешествие, доберется до Индии… Гражданства он не взял, сославшись на какие-то временные осложнения, а в последующие четверть века все обещал Москве вот-вот вернуться, не сегодня – завтра, все собирал вещи, все покупал билеты… Собственно, никому он (равно как и прочие эмигранты) не нужен был в Москве. Москве нужны были жесты примирения со стороны эмигрантов и экономическая помощь Запада. А благосклонные и признательные эмигранты даже полезнее были для родины на своих новых местах, тем более в таких чувствительных точках планеты, как взбудораженная приграничная Азия. И надо сказать, что предусмотрительный Рерих отдавал себе в этом отчет и хорошо подготовился к московскому визиту. Биографы рассказывают, что н вручил советскому наркому Чичерину ларец со священной гималайской землей – с каких-то могил каких-то там махатм (не слабый символ чужой земли), сопровождаемый не только многозначительной подписью («Посылаем землю на могилу брата нашего махатмы Ленина»), но и посланием влиятельных мудрецов-махатм оголодавшему «советскому народу». В этом послании некие политически грамотные махатмы (браться злодея Ленина) одобряли и похваливали все, даже самые катастрофические и кровавые мероприятия большевистской власти, суля ей свою беззаветную помощь в преобразовании континента. Сам шеф Восточного отдела Коминтерна тов. Петров (он же Раскольников) не сформулировал бы эти похвалы лучше и не облек бы их в более восточную форму, чем тов. Рерих (подписавшийся псевдонимом «махатмы»). Вот он, этот бессовестный текст: «На Гималаях мы знаем совершаемое Вами. Вы упразднили церковь, ставшую рассадником лжи и суеверий. Вы уничтожили мещанство, ставшее проводником предрассудков. Вы разрушили тюрьму воспитания. Вы уничтожили семью лицемерия. Вы закрыли ворота ночных притонов. Вы 222 избавили землю от предателей денежных. Вы признали, что религия есть учение всеобъемлющей материи. Вы признали ничтожность личной собственности. Вы угадали эволюцию общины. Вы указали на значение познания. Вы преклонились перед красотою. Вы принесли детям всю мощь космоса. Вы открыли окна дворцов. Вы увидели неотложность построения новых домов Общего блага! Мы остановили восстание в Индии, когда оно было преждевременным. Также мы признали своевременность Вашего движения и высылаем Вам всю нашу помощь, утверждая единение Азии!» Трудно представить себе, где собрал Рерих общее собрание «махатм» для принятия столь политически грамотного (с коминтерновской точки зрения) обращения. Ну, может, сгонял на день - два в Шамбалу. На каком языке писали махатмы, отчего их стиль так подозрительно похож на слащавый стиль рериховской прозы? Откуда они так точно определили задачи социалистического строительства в данный момент, остается лишь гадать… О последнем, впрочем, можно догадаться, уже и читая путевое письмо Елены Ивановны Рерих из Кашгара, где супруги посещали советское консульство и каждый вечер, сидя под портретами Ильича и Эдмундовича, потешали разговорами любознательных московских разведчиков: «С восторгом читали «Известия», прекрасное строительство там, и особенно тронуло нас почитание, которым окружено имя учителя – Ленина… Воистину это – новая страна, и ярко горит звезда учителя над нею… Пишу эти строки, а за окном звенят колокольчики караванов, идущих на Андижан – в новую страну. Трудно достать лошадей – все потянулись туда…» Вот видите – граница открыта, все стремятся к большевикам. А то, что рассказывал Рерих в Лондоне, вовремя сбежав от злодея Ильича, об этом пора забыть. Если верить новым, еще более мудрым текстам, которые Рерих репетировал для предстоящей поездки, сидя по вечерам в советском консульстве, освобождение придет народам мира с севера, «от красных богатырей». В Кашгаре, в советском консульстве Рерих и встретил день рождения Ленина, смастерив по просьбе консула эскиз памятника Учителю… Возвращаясь к тексту политически грамотного «Наказа махатм», проявим снисходительность и не будем придираться к фальшивым бумажкам и справкам. Всякий путешественник знает, что без бумажек лучше не пускаться в сомнительное путешествие. Помню, как, отправляясь в первый раз с моим соавтором по киносценарию за таджикский горный перевал, мы запаслись справкой о том, что мы ищем «типичного таджикского героя» для студийного вдохновения. Эта справка очень нам помогла. Сам секретарь гармского райкома повез нас на престижные поиски – повез прямым путем в кишлачный дом своего отца. В те же годы, отправляясь в первый раз автостопом по Восточной Германии, я попросил в секретариате пригласившего меня в ГДР Христианского демократического союза справку с печатью – о том, что я ихний «партайгаст» и «доктор чего-то такого». Полицейские, задержав меня на дороге, замерзшего и изрядно умученного, 223 для проверки документов, поначалу долго таращились на эту идиотскую справку, а потом вдруг почтительно рявкали, взяв под козырек своих почти эсесовских фуражек: «Хер доктор!» Отчего же нам думать, что опытный путешественник Рерих был дурнее нас с вами. Правда, мне довелось прочитать в Интернете, что у него была настоящая «официально заверенная махатмами» шамбальская справка, но компьютерный экран, он все стерпит… А что там вообще знали в ту пору про наши дела в Гималях? Сам Рерих, доносивший о великой популярности махатмы Ленина на востоке. Приводит в своей книге рассказ какого-то влиятельного ламы-губернатора о покушении на Ильича: «Жил человек Ненин, который не любил белого царя. Ненин взял пистолет и застрелил царя, а затем влез на высокое дерево и заявил всем, что обычаи будут красными и церкви должны быть закрыты. Но была женщина, сестра царя, знавшая и красные и белые обычаи. Она взяла пистолет и застрелила Ненина». Но дело, может, не в том, что с гималайских вершин Рериху не слышны были крики жертв, терзаемых на русской равнине, не видны были лагеря и тифозные бараки, разрушенные монастыри, убитые монахи или распухшие с голоду дети. Может, с высот его мифологии ему и впрямь чудился приход нового, высшего человечества, так что старое могло бы и потесниться, освобождая землю для нового. Может, об этом он и толковал в Москве с Луначарским и Чичериным, которому он показался «полукоммунистом – полу-буддистом». А что людишек перебили коммунисты тьму тьмущую, то жестокостью восточного человека не испугать. Среди восторженных рериховских рассказов о мудрых ламах, ламаизме и Тибете человек не брезгливый выберет себе для чтения перед сном один – два по вкусу, скажем, вот такой: «… высшим наказанием считается здесь лишение перевоплощения. Для этого у наиболее важных преступников отрезают голову и сушат ее в особом помещении, где хранится целая коллекция подобных останков. Около Лхасы существует место, где рассекаются трупы и бросаются на съедение хищным птицам, собакам и свиньям. На этих трупных остатках принято кататься в голом виде «для сохранения здоровья». Бурят Цибиков в своей книге о Тибете уверяет, что Его Святейшество Далай-лама выполнил этот ритуал. Очень замечательны показания тибетцев о… воскрешении трупов. Всюду говорят о воскресших трупах, которые вскакивают и, полные необычайной силы, убивают людей». Рерих сам этого не видел, но свидетельства эти его не смутили. Так что, для обсуждения вопроса об истреблении его не дозревших до высшей мудрости современников Рерих не ошибся в поисках собеседников: и покойный махатма Ленин, и еще не добитый в ту пору махатма Троцкий, и более поздние махатма Сталин и махатма Гитлер с махатмой Пол Потом были до крайности разочарованы в отданных им во власть русских, немецких и камбоджийских трудовых массах. Щадить этих воспитанных старым миром тружеников-мещан и собственников они были не намерены. Об этом 224 редко говорили вслух, но отзвуки этой надменности слышны там и сям, скажем, в записи беседы бисексуального француза Арагона с княземкоммунистом Святополк-Мирским. Француз сказал, что даже если погибнут три – четыре миллиона ничтожеств, храбрый новый мир не пострадает. Русский князь одобрил эту точку зрения, не подозревая, что сам угодит в число упомянутых трех (или тридцати) миллионов… В рериховском «Послании махатм», наряду с желанием угадать волю заказчика, слышны отголоски теософических мечтаний и петербургских разговоров у Горького. Вероятно, все же в деловых московских переговорах Рериха (с каким-нибудь полномочным замом уже выходящего в тираж т. Дзержинского) было меньше эзотерических и больше профессиональных тайн. Как сообщают люди «допущенные», никаких документов на этот счет «в архивах» не найдено, но это как обычно. В былом советском быту эта ситуация нашла отражение в байке о «беспроволочном телеграфе». Искали, мол, на подмосковных раскопках телеграфные провода, но не нашли. Пришли к выводу, что под Москвой уже в V в. существовал беспроволочный телеграф. Так или иначе. Рерих получил разрешение на путешествие по Алтаю и на переход через Монголию и пустыню Гоби в Тибет. Как пишут, разрешение было дано, чтобы «выполнить задание махатм». Сообщения о московских визитах «возвращенца» Рериха звучат фантастически. Пишут, что он посетил Каменева, посетил вдову Великого махатмы Ильича и даже супругу Троцкого посетил. Вероятно. К махатме Троцкому у делового Рериха были коммерческие предложения. Сообщают, что вместе с приехавшим из Ленинграда братом Рерих хотел взять концессию на разработку месторождений в Алтайском крае и зарегистрировать корпорацию, носившую название священной горы ойротов – Белуха. А комитетом, дававшим концессии, еще ведал в то время махатма Троцкий. Нетрудно заметить, что мистические побуждения Рериха всегда счастливо сочетались с деловыми. С продвижением живописи дело в Москве пошло хуже. Рерих подарил целый цикл Матрейя Луначарскому, но грамотная комиссия запретила передавать эту декадентскую поповщину в музеи, и картины отдали «возвращенцу» Горькому, чтоб тот повесил их на подмосковной даче, во дворце, отобранном еще самим Учителем у вдовы Саввы Морозова (на этой роковой даче и Учитель благополучно отдал душу, и сам Горький за ним вслед – всех тайн этой дачи не перечесть). Новые картины Рериха, несмотря на наличие в них революционных намеков, понравились Горькому все же меньше, чем старые, и он отправил их в Нижний Новгород. Не оценил – хотя ведь Рерих очень старался. На его картине «Явление срока» голова богатыря, похожая на ленинскую голову, выглядывает себе добычу на востоке, а под картинкой рериховская подпись (для политически малограмотных): «Настал срок восточным народам пробудиться от векового сна, сбросить цепи рабства». 225 Как и в начале 1918 г., Рерих проявил большую расторопность и предусмотрительность по части отъезда: он двинулся в обратный путь из Москвы в день похорон Феликса Дзержинского (который оказался не железным), но при этом всем знакомым и незнакомым в Москве (в том числе и корреспондентам) сообщил, что он спешит в Абиссинию. Заметал следы. Понятное дело, что Рерихи отправились не в Африку. В поезде транссибирской дороги они поехали в Омск, а оттуда, в августе 1926 г. добрались до гор Алтая. К концу сентября 1927 г. их караван добрался до первого тибетского форпоста. А до того были на пути многие пустыни и горы, перевалы, горы, пустыни… Конечно, время от времени до путников долетала таинственная весть о Шамбале. Не то, чтоб они отыскали реальные шамбальские поселения, но вот мчался же, например, по улицам Урги отряд конников и пел песню о Шамбале, которую сочинил Сухэ-Батор… Чем не встреча? Конечно, ближе этого Рерих читателя к Шамбале не подпускает, а скорее всего, и сам до нее не доходит, однако чувствует, что знатоков географии и читателей, любящих мистику, надо чем-нибудь этаким утешить. «Географ может успокоиться, мы занимаем на земле определенно место», - сообщает Рерих загадочно. Иные из туманных сообщений Рериха о тайном шамбальском убежище способны были разволновать и самого ленивого разведчика: «Почему же трудно принять, что группа, получившая знание путем упорного труда, может объединится во имя общего блага? Опытное знание помогло найти удобное место, где токи позволяют легче сообщаться в разных направлениях». Нацисты поговаривали в Берлине о том, что «их направление» было для Шамбалы главным. Какие хвастунишки… Рерих посетил на пути юрты кукунорских монголов: «Из дальних становищ съезжались на маленьких лошадках кукунорцы к нашему стану, дивовались на снимки нью-йоркских небоскребов, восклицали: «Страна Шамбалы»! – и радовались каждой булавке, пуговице или жестянке из-под консервов. Каждый маленький обиходный предмет – для них настоящий предмет гордости. И сердце этих людей пустыни открыто к будущему». Так, может, она похожа на Нью-Йорк, Шамбала? Стоило огород городить… Помню, как я попал в монгольскую Ургу (Улан-Батор) через пятьдесят лет после знаменитого «полубуддиста-полукоммуниста» Рериха. Час Шамбалы и тогда еще не пробил, но местные коммунисты уже перебили к тому времени почти всех лам, а из тыщи былых монастырей оставили один (Гандан Текченлинг) – для нужд долларовых интуристов. Они отобрали у монголов их лошадок и весь скот, устроили колхозы, построили тюрьмы… Мои молодые друзья-монголы, кончавшие ВУЗы в Москве, решались рассказывать мне об этом лишь на огромной, пустынной площади СухэБатора. 226 - Здесь никто не подслушивает, - говорили они, испуганно озираясь. Во времена Рериха тоже было здесь кому подслушивать. Недаром посылали в то время в Ургу легендарного чекиста Я. Блюмкина. Кем он дополнил караван Рериха, мы пока не знаем, хотя перестроечная московская печать уделяла этой загадке в свое время большое внимание… В Монголии и в пустыне Гоби Рерих записывал все то же ценное наблюдение, что и во всех прочих местах: «Район Монголии и Центральной Гоби ожидает исследователей и археологов». Трудное его странствие по горам продолжалось долго. Шел караван, в котором кроме жены и сына художника, были его друзья, переводчики, слуги, проводники, охранники, какие-то ламы, врач… Не знаю даже, как это можно назвать – научной экспедицией, религиозным паломничеством или разведоперацией. В любом случае это было, конечно, великое путешествие художника, самое крупное в его жизни. Путешествие, полное трудностей, опасностей, двусмысленностей и угроз, но на меньшее не соглашалась его бьющая через край жизненная сила. Он служил какому-то тайному богу или богам, и караван сумел завершить полный круг по малоприступной Внутренней Азии, по стране легенд. Где-то там, между американскими небоскребами, снежными горами и свалками мусора в пустыне скрывалась Сияющая Шамбала, но пока, на пути встречались одни трудности и преграды… «На перевалах замечается также кровотечение, сперва из носа, а затем и из других менее защищенных мест… Караванный путь… обильно усыпан скелетами всех родов животных, лошадей, ишаков, яков, верблюдов, собак. Мы встречали на пути несколько брошенных ослабевших животных, из носа которых обильно текла струя крови. Неподвижные и дрожащие, они ожидали неизбежный конец свой… Среди особенностей снежных перевалов мы подверглись так называемой снежной слепоте… Вся неприятность длилась от пяти до шести дней с разными следствиями… Мы имели еще три неприятности в караване, а именно явления сердечные, от которых погибло трое, и явление простудное, унесшее двоих…» Обтрепанные охранники на погранпостах останавливают караван на долгие месяцы в самых неуютных и холодных местах. Но зато какие художественные находки, какие наблюдения холодного ума! Какие крупицы то ли научных, то ли еще каких открытий: «Когда сгущается дневной жар, проводник каравана начинает тихо свистеть какую-то странную мелодию: он вызывает ветер. Какой замечательный сюжет для театра: «продавцы ветров». С тем же обычаем можно встретиться, знакомясь с обычаями Древней Греции». Рерих всюду примечает черты сходства – в обычаях, в лицах: есть, например, тибетцы, похожие на лионских торговцев… Рерих выслеживает пути великой миграции народов. По его мнению, вполне успешно. 227 А иногда, на перевалах, когда пульс достигает 145, какие выпадают мистические случаи и находки: «Около десяти вечера я уже спал, а Е. И. подошла к своей постели и хотела открыть шерстяное одеяло… Вскочив, я увидел следующее. Темный силуэт Е. И., а за нею движущееся, определенно осветившее палатку пламя. Е. И. пыталась руками гасить этот огонь… Эффект от прикосновения был лишь теплота, но ним алейшего ожога, ни звука, ни запаха…» Ничего удивительного – она ведь «матерь Агни Йоги», Елена Ивановна… Большинство тибетских чудес, конечно, описаны с чьих-то слов у вечернего костра, списаны из газет и брошюр, из редких книг. Где больше газет, там и больше чудес . Только на Тибете, там какие газеты? И на каком языке? Собственно, Тибет караван прошел только краем, почти в обход. В Лхасу с ее многоэтажной Поталой и с ее далай-ламой Рериха не пустили. Там вообще иностранцам не слишком рады, тем более, таким, о которых говорят, что они… В жутком холодном месте, где странники рассчитывали пробыть три дня, недоверчивые тибетские власти продержали Рериха пять месяцев. Может, были наслышаны о его разнообразных связях. Наконец, все же пустили караван, но в обход столицы… За гималайским перевалом караван Рериха спустился в столицу Сиккима, где путники «были радушно встречены британским резидентом полковником Бейли, его супругой и махарджей Сиккима. «26 мая 1928 г. прибыли в Дарджилинг, поместившись опять в нашем Талай-По-Бранге…» Но на постоянное жительство в оживленном Дарджилинге Рерих благоразумно решил не оставаться. Решил перебраться в тихую Кулуту и отправился в Нагар: «К Рождеству 1928 г. доехали до Нагара… еще не перешли Беас… увидели высоко на холме дом. «Вот там и будем жить». Нам говорят: «невозможно. Это поместье раджи Манди. Дом не сдается». Но если что-то должно быть – оно и делается. Все устроилось, несмотря на немалые препятствия. Все-таки преодолели». После переговоров с министром финансов раджи Рерихи купили этот 18-комнатный дом, последний дом художника. Дом в живописной долине Кулу. Здесь Рерих прожил последние 19 лет своей жизни. Долина была укромная, чужие люди тут не шастали, порученьями не обременяли. А исторический фон, как объясняет сам Рерих, был вполне удовлетворительный: «Севернй Пенджаб дает массу исторического материла как по древнейшей истории Индии, в Хараппа, на севере Лахора, также по индийскому средневековью от восьмого века нашей эры. Не забыт здесь и буддизм, хотя официально и не проявляемый… в одной долине Кулу считается триста местных почитаемых риши… Говорится, что сам Араджуна из Кули проложил подземный путь… Здесь же в махараджестве Манди 228 находится знаменитое озеро Ривалсар, соединенное в предании с именем Падмы Самбхвавы…» Всех преданий пересказывать не беремся, тем более, что они на редких языках, которые и сам Рерих тоже не знает. А имен труднопроизносимых было множество, ими заполнены сочинения Рериха. Самое написание их и чтение превращается в род молитвы или камлания… Художественная и научная работа Рериха продолжается в тихой долине вполне успешно. Он пишет портреты воображаемых богов и героев, местных и заграничных. Он рисует мудрецов и лам, совершающих чудеса. Как и в юности, он верит, что кое-кому из людей удастся преодолеть ограничения, навязанные нам природой: «Если одни может идти по огню, а другой сидеть на воде, а третий подниматься на воздух, а четвертый покоиться на гвоздях, а пятый поглощать яды, а шестой поражать взглядом, а седьмой без вреда лежать под землею, то ведь некто может собрать и в себе эти крупицы познания. И так может перебороть препятствия низшей материи». Надо пытаться, надо трудиться, наука нам поможет, в некоторых из восемнадцати комнат купленного Рерихом дома махараджи работает его научный институт «Урусвати» (что значит «Свет утренней зари»). Науками и переводами занимается сын Юрий, он издает всякие полезные вещи – описание трав, словари, переводы восточных рукописей. А сын Святослав, который учился на художника, осуществляет тем временем в США руководство организациями, которые питают гималайское семейство, поддерживают путешествия и исследования. Тут выпадает иногда и не старому еще Рериху подсуетиться. Трижды за эти двадцать лет приходилось ему покидать мирную долину Кулу и добираться в беспокойную Европу и щедрую Америку – по делам. Нужно было проследить за работой полезных организаций, установить новые контакты и, главное, - заявить о своей позиции в борьбе за мир. Для сталинского режима, лихорадочно готовившего мировую революцию и на пути к ней мировую войну, кампания по «борьбе за мир» становится важнейшей сферой заграничной пропаганды. Нужно было убедить мир в мирных намерениях большевиков. Работой этой успешно занимался Коминтерн, подключивший к кампании самых знаменитых из попутчиков-простаков (Роллана, братьев Манн, Хемингуэя, Чаплина, Рассела – имя им легион). Некоторые из них потом изумленно били себя по лбу, разводили руками и называли самих себя плохими словами, особенно в ту пору, когда Сталин начал делить с Гитлером мир… Конечно, довоенную пацифистскую кампанию, руководимую Коминтерном, можно назвать успешной лишь с некоторыми оговорками. Не сдайся разложенная пацифизмом Франция так легко и охотно, труднее пришлось бы Гитлеру на Восточном фронте, не захватил бы он в считанные месяцы полстраны со всеми донбассами и днепрогэсами… Но что махать руками после драки, довоенная пацифистская кампания, на которую Москва не жалела денег, удалась. Пенджабский анахорет Рерих уже в 1929 г. активно включился в эту кампанию. У него была собственная, давно 229 продуманная идея – охрана памятников архитектуры и прочей культуры . Борец за мир Рерих вхож был в самые высокие инстанции, его именем названо движение за пакт об охране памятников – Пакт Рериха. И Лига Наций и президент США хотят, чтоб их подписи тоже стояли под столь благородными соглашениями. В 1929 г. в «городе желтого дьявола» НьюЙорке Рерих провозглашает свой Пакт. Высокие люди торжественно обещают бесценные средневековые соборы не бомбить. Дело благородное, культурное. Живую силу можно бомбить, а соборы нельзя. Высокие люди подписывают, они знают, что они люди временные. Потом, когда начнется война – все раскурочат, как во Франции в 1940 г. или в 1944 г., как в Варшаве в 1939 и 1945 гг. (а в Кенигсберге- Калиниграде уже и в 60-м). Но почему в Нью-Йорке, а не в Москве пакт подписывают? В Москве денег нет. К тому же в Москве эти самые памятники и безо всякой войны ежедневно курочат – и церкви XVI., и монастыри XVII, и усадьбы XVIII, а уж те, которые XIX – те и вовсе жгут. В центре Москвы взрывают храм, чтобы установить статую богохульника Ленина. Так что гуманные документы Рериха – непонятно о ком они и о чем. Разве что агенты Коминтерна их толкование возьмут на себя… Между прочим, в смертельно его обидевшей статейке о «музеях Рериха», напечатанной в Париже, Бенуа задел и новую политическую («мессианскую») деятельность Рериха. Не многие это заметили, но сам Рерих заметил и неоднократно писал об этом сочувственному В. Ф. Булгакову, жалуясь на отвратительного и подлого «версальского рапсода» и тартюфа Бенуа: «он… ненавидит наш пакт об охранении памятников культуры и все мои призывы к культурному строительству, называя их мессианством! Попросту говоря, он производит подрывную кротовую работу…» После своего шумного художественно-политического успеха на Западе Рерих возвращается в свой гималайский приют. Пишет картины, посвященные своему Пакту, символам Шамбалы, разнообразным местам, которые лежат на пути к Шамбале, и всяким местным святым. Конечно, тому, кто не увлечен Шамбалой, картины Рериха могут показаться однообразными, а плодовитость его граничащей с деловитостью, но сам труд и путешествия служили ему вознаграждением. «Те, кто трудится с Шамбалой, - писал он, - посвященные и вестники Шамбалы, не сидят в уединении, но путешествуют повсюду. Но они выполняют работу не для себя, а для великой Шамбалы. Они не имеют никакой собственности. Все - для них, но они не берут для себя ничего. Поэтому, если ты посвящаешь себя Шамбале, все отбирается и все дается тебе. Если ты пожалеешь, то потеряешь, отдашь с радостью – обогатишься. По существу, учение Шамбалы заложено в этом, а не в чем-то далеком и таинственном. Поэтому, если ты знаешь, что все может быть достигнуто здесь, на земле, тогда и вознаграждение придет здесь, на земле». Впрочем, в середине 30-х г. жизнь внесла некоторые уточнения в теорию, и Рериху пришлось снова плыть за океан. Вышла неприятность с 230 доверенным финансистом Луисом Хоршем. То ли Хорш вышел по причине дальности расстояний из-под влияния харизмы Учителя, то ли он вообще в Шамбале слегка разуверился: подсчитал он, сколько он денег заработал для чужой эзотерической жизни и решил, что пора о себе подумать. То, что это все он, Луис Хорш, заработал, ему в трибунале доказать было просто: перешло к нему по суду здание музея со всеми картинами, которые Рерих считал своей собственностью. Но Рерих встретил потерю как настоящий мудрец: открыл новый музей, для которого он еще столько же написал картин, если не больше – работал он быстро. Да и верные ученики его не предали. Зинаида Лихтман (во втором браке Фосдик) до самой смерти пеклась о музеях Рериха. А Рерих открыл музей своего имени в разных городах мира, в том числе в городе Риге. Верным остался учению Рериха и депутат Генри Уоллес, который сделался американским министром сельского хозяйства. Министр устроил Рериху командировку в Манчжурию и Внутреннюю Монголию для собирания засухоустойчивых трав. Вместо Монголии, Рерих отправился в Харбин, где жил его родной брат, и вместе с братом они учредили комитет Пакта Рериха. Недалекий от русской границы Харбин был тогда городом русской эмиграции, там выходили русские газеты, и надо сказать, что они отнеслись к пятимесячному пребыванию Рериха в городе с недоверием. Иные из эмигрантов в этом городе, кишевшем русскими монархистами, русскими фашистами и просто советскими агентами, предположили, что Рерих был «наш человек в Харбине». Что-то в этом духе сообщил в местной прессе журналист Василий Иванов, которого Рерих потом до конца своих дней называл «иудой-мракобесом». Удивление стреляных харбинских эмигрантов (менее доверчивых, чем чикагские мистики) можно понять: Рерих ездил в Москву и там поладил с большевиками, теперь он приезжает по американской командировке «собирать дикие травы» в Харбине, где негде яблоку упасть, и сидит в городе чуть не полгода, создавая восточную ячейку «Пакта Рериха». На чьи деньги? Из теософического общества его уже исключили (за московскую поездку и «Наказ махатм»), так кто же ему платит? Харбинские журналисты в середине 30-х г. XX в., а потом и московские в начале XXI в. немало страниц исписали на эту тему и высказали немало гипотез не подтвержденных, впрочем, надежными документами, которые то ли пропали, то ли засекречены. Правда харбинским журналистам удалось перехватить письмо, отправленное Рерихом в Харбин брату Владимиру 30 ноября 1934 г. Письмо это не рассеяло никаких подозрений, вполне загадочное письмо: «У Вас есть Знак и Книга, значит есть полная связь с невидимым еще Вами источником…» Одни недоброжелатели углядели за этими строчками происки розенкрейцеров и масонов, другие – козни то ли американской, то ли русской разведки. Ни одна из версий не может быть отвергнута сходу: и розенкрейцеры были недалеко, да и американцы, заодно с Коминтерном активно трудились на ниве довоенного пацифизма, так что вполне могли 231 увлажнять долларами даже такой хилый росток движения, как харбинское отделение Пакта Рериха. Надо сказать, что на «пацифистском» или «антивоенном» направлении подготовки мировой войны обе разведки достигли больших успехов и даже, думается, слегка перестарались: деморализованная Франция сдалась вермахту без сопротивления, чем сильно пособила Гитлеру на востоке (куда он ринулся сломя голову, чтобы хоть на месяц – два опередить бросок Сталина на запад…) Возвращаясь к нашему художнику-мистику (о чьих непонятных играх столько понаписали нынче русские журналисты), отметим, что его таинственная многоотраслевая поездка в целом (несмотря на неприятные харбинские «разоблачения») обошлась благополучно. Рерих отправился позднее в пустыню Гоби, откуда он отсылал в США почтовые посылки с семенами трав. Что он еще там делал, нам доподлинно не известно… Позднее Рерих стал путешествовать меньше. Мешало слабое сердце. Однако на ближних пешеходных прогулках в долине Кулу его соседи почтительно приветствовали иностранца с длинной, белой, как снег, бородой, в круглой черной шапочке и черном шерстяном плаще из театрального гардероба. Одни считали, что это учитель, гуру или даже деви-гуру, другие полагали, что это американский шпион. Про другие разведки слухи в долину еще не доползли, хотя «деви-гуру» сообщил им, что «люди северной страны и их учитель Ленин» добыли для них рецепт земного блаженства… Судя по тогдашним письмам Рериха ни спокойствие, ни мудрость не переполняли душу этого «махариши и великого друга Индии». Он обменивается письмами с «советским гражданином из Праги В. Ф. Булгаковым, и оба «невозвращенца» наперебой расхваливают в письмах жизнь в сталинской России – то ягодовский канал Москва–Волга, построенный доходягами-зеками, то великие пятилетки. Оба жалуются на происки врагов социализма и на бедствия населения в прогнившей Америке. «Мне прислали из Ревеля новую книгу «Волга идет на Москву», посвященную новому грандиозному каналу – он уже есть, - сообщает Рерих в Москву через Прагу, - Уже идут новые пароходы, и страна обогатилась новым нервом. Хотелось бы скорее быть там и принести русскому делу опыт и познание». Понимая, что переписка с Булгаковым не вполне интимна, Рерих регулярно заверяет всех невидимых читателей в своей готовности вернуться на родину (как он и обещал уже в 1926 г.) однако никуда не едет. «Как нужно помочь молодому поколению в его новых исканиях! – пишет он, - Так бы и поехал, чтобы передать весь накопленный опыт. Ведь в конце концов, несправедливо, что мы отдаем наши труды и накопления чужим народам…» Рерих сообщает в письмах из Пенджаба смутные сведения о «всеобщем на Западе экономическом оскудении населения»: «В России – культурная пятилетка, а в других странах что-то об этом не слыхать… в Чикаго одно время годами не выдавали жалованья учителям – вот Вам и прогресс!» 232 До времени постаревший Рерих видит повсюду врагов и не может забыть о злодействе «мракобеса Васьки Иванова»: «сколько человеконенавистичества, злобы, клеветы и лжи извивается, а ведь эти яды надолго впитывается, и целые поколения окажутся искалеченными. Если же мы еще вспомним о всяких надувшихся богатеях, сидящих под … колоннами гостиниц, то картина становится еще ужаснее. Мог бы рассказать вам о многих потрясающих знаках. Люди толкуют их примитивно и объясняют пятнами на солнце… Из некоторых мест жалуются на молодежь, особенно же за то, что она чрезмерно занимается спортом, который затмевает все прочие гуманитарные стремления». Достается в письмах и статьях Рериха всем эмигрантам, которые с ним не во всем согласны – и Судейкину, и Александру Бенуа, и прочим… А где же «великая сила прощения людям их недостатков», которую проповедует «Агни Йога»? «Знайте врагов, берегитесь от них, пресекайте их действия, но злобу не имейте. И если враг ваш добровольно придет под крышу вашу, согрейте его, ибо велика крыша ваша и вновь пришедший не займет ваше место… Обманывающему скажи – как полезен мне обман твой…» Впрочем, к великим покойникам Рерих более снисходителен, чем к ничтожному антисоветчику Ваське Иванову. В их биографиях Рерих старается отыскать сочувствие к советскому режиму, даже в мирно прожившем за рубежом Дягилеве: «Утонченный, благородный человек, воспитанный в лучших традициях, он встретил и войну, и революцию, и все жизненные вихри с настоящею улыбкой мудреца. Такая мудрость является знаком синтеза…» Проходят годы, десятилетия, но Рерих не забывает на всякий случай упомянуть в письмах о своем обещании вернуться на родину. Он ведет свою лукавую переписку не только через В. Ф. Булгакова, но и через Грабаря: «Вот Грабарь пишет о глубоком внимании правителей к Академии наук, к ученым, учителям. Только что получили от него письмо с этими ценнейшими сведениями. Из ТАССа получаем газеты и следим за новыми достижениями. Не мало удалось поработать во Славу Русскую за эти годы (все же удалось – Б. Н.), и такие посевы нужны безмерно. Народы во множестве своем верят Советскому строительству… … Вперед, вперед и вперед! Учиться, учиться и учиться, как заповедал Ленин!» Подъяремный искусствовед Грабарь тоже по долгу службы напоминает Рериху о его обещании вернуться и получает в ответ новые прочувствованные заверения: «Ты пишешь о приезде нашем. Думается, сейчас должны собраться все культурные силы, чтобы приобщиться к общей восстановительной работе против всех зверских немецких разрушений. Мы все четверо готовы потрудиться для блага Родины… если, как ты пишешь, - шибко говорят о моем возвращении, - а мы всегда готовы были приложить силы на родине, то за чем дело стало… конечно, караван выйдет немалый… Ты прав – зачем 233 на Гималаях греметь во славу Руси, когда можно всем вместе потрудиться на любимой родине. В смысле служения русской культуре мы оба всегда были верны ей и знали, на какую высоту взойдет народ русский. И ты, и я работали во имя Руси, и нынешний подъем для нас – великая радость». В письмах своих Рерих часто поминает махатму Ленина, но и Великий ученик Ленина Гуталинщик Сталин тоже не забыт в писаниях пенджабского анахорета. Впрочем, не следует удивляться попыткам старого художника делать время от времени политические заявления, силясь вспомнить при этом смутно знакомые ему лозунги. Он чувствует себя теперь, если и не полпредом, то на худой конец атташе советского посольства. В 1943 г. его посетили Джавахарлал (иные русские думали, что это не имя, а глагол в прошедшем времени) Неру, его дочка Индира и другие видные люди. Дружба укреплялась после войны, и мое поколение русских доныне хранит в своей ненадежной памяти несколько индийских слов: «хинди-руси пхай, пхай». Послевоенные письма Рериха в Европу были еще эмоциональнее, чем военные. Особенно взволновал его мудрый доклад товарища Жданова. Видимо, произвели отрадное впечатление рассуждения махатмы Жданова о заблуждениях Зощенко и Ахматовой, те самые, что испугали в эмигрантской среде даже самых завзятых просоветчиков. Рериха этот грубый окрик нисколечко не испугал: «Русь живет творчеством, наукою. Народы поют, а где песня, там и радость. Слушали вчера доклад Жданова – хорошо сказал. Сейчас слушали парад. Величественно… У нас, если атмосфера не мешает, хорошо доносится. Но электричества у нас, в Гималаях, нет, и приходится пользоваться сухими батарейками. Все-таки слышно – и на том спасибо! …конечно, нашим сотрудникам в Америке сейчас не легко, ибо реакция и наветы на СССР велики. Вчера (в связи с годовщиной большевистского переворота, отмеченной 6 ноября 1946 г. – Б. Н.) Жданов хорошо сказал: «во время войны восхищались нашим мужеством, патриотизмом и моральными качествами, а теперь вдруг у нас оказался подозрительный характер, и мы сделались угрозою миру». Любопытно, что самое острое сочувствие у Рериха вызывают именно «выездные» советские работники, которые малозаметно, но успешно трудятся за границей… А что за накопленные знания, о которых Рерих поминает в каждом письме коллеге по заграничной работе В. Булгакову и которые они с супругой (все еще занятой переводом «Тайной доктрины» Блаватской) собрались везти в подарок родине? Это все та же теософия, обогащенная новым знанием буддизма… А может, и опыт мучительной ностальгии, накопленный в глухой иноязычной долине Пенджаба. Не лишенный и в старости практического чутья, Рерих чувствовал, что с буддизмом и с «возвращением» спешить не стоит. Так он и умер в своем дворце на исходе 1947 г., завещав обитателям давно оставленной Родины кое-какие из своих 234 странных икон чужой веры, а также более доступные и по-человечески понятные патриотические лозунги (известные и мудрецам-махатмам и эстрадной певице Г. Ненашевой, но от этого не теряющие своего природного смысла): «Собственности у меня нет (Почти так же заявил в стихе поэт Маяковский при покупке автомобиля в Париже – Б. Н.). Картины и авторские права принадлежат Елене Ивановне, Юрию и Святославу.. Но вот что завещаю всем, всем. Любите Родину». Этот простенький, почти биологический завет рассеянные ныне по всему свету рабы Божии, вдали от своих тысячи родин, неуклонно выполняют – в меру своих слабых эмигрантских сил. А Рериха, согласно его завещанию, сожгли через два дня после смерти перед его царственным домом, где и поставили камень с такой надписью: «Тело Махариши Николая Рериха, великого друга Индии, было предано сожжению на сем месте 30 махар 2004 г. Ом рам». Так уж у них принято, у буддистов: сожгут и – Ом рам, ищи пепла в поле. Вот бедного еврея-поэта Сашу Гингера сожгли в неживописном дворе парижского дома: тоже был буддист, все рвался из эмиграции на родину, даже паспорт взял советский, но не успел уехать. Да и не резон еще было спешить буддистам. Уже и в начале 70-х г. прошлого века рассказывал мне мой друг, ученый буддолог А. М. Пятигорский, что «за буддизм» опять сажают. Вон снова посадили многострадального ламу Дондарона, который на сей раз не выдержал и умер. Вскоре благоразумно уехал на Запад с православной женой и детьми мой друг Пятигорский, и его даже выпустили, посчитав за еврея. Может, менее благоразумно поступил сын Николая Рериха, ученый – буддолог, лингвист и историк буддизма, участник великого отцовского путешествия Юрий Николаевич Рерих, вернувшийся в Москву в 1957 г… После смерти отца Юрий с матушкой Еленой Ивановной перебрались из долины Кулу под Калькутту, в Калимпонг, где Юрий Николаевич стал работать в местном университете. Елена Ивановна прожила еще восемь лет, потом была похоронена под ступой на склоне горы, а сын Юрий, оставшись сиротой, двинулся на забытую родину. Москва соблазняла научной работой, столичной жизнью, сулила златые горы – все же Москва не Калимпонг, можно понять ученого. Трескучие передачи батарейного радиоприемника и зазывные письма подневольного Игоря Грабаря, видно, сидели в памяти у молодого Юрия. Да и разоблачитель Сталина Никита Сергеевич в речах и личных беседах обещал неуклонное «потепление». Юрий Николаевич был принят в Москве по-царски, ему дали хороший пост – завсектором в Институте востоковедения. Он читал лекции, у него появились ученики и последователи. Одним из первых учеников его и стал мой друг А. М. Пятигорский, молодой индолог-лингвист, завершавший работу над «Тамильско-русским словарем». Ю. Н. Рерих произвел переворот в жизни учеников, потому что он (по воспоминанию А. Пятигорского) «был не «диссертацией о буддизме», он сам был буддизмом». Начав работать в 235 секторе Ю. Н. Рериха, А. Пятигорский писал теперь об истории индийской философии, о буддизме, а может, и сам тоже «становился буддизмом». Любопытно, что ощутил Юрий Рерих, попав в этот мир, столь непохожий на эпистолярные описания И. Грабаря, на рассказы посольских сотрудников и «материалы ТАСС», попав в компанию молодых ученых и студентов, так мало похожих на «новую молодежь» из хитроумных очерков его покойного отца. Он обнаружил, вероятно, что они все как есть «диссиденты», и постарался их уберечь, поучая на правах старшего и мудрейшего. На торжественном собрании, посвященном столетию со дня рождения Ю. Н. Рериха (в октябре 2002 г.) и проходившем в Петровском зале Двенадцати коллегий Санкт-Петербургского государственного университета, приехавший из Лондона ученик Ю. Рериха 73-летний философ Александр Пятигорский попытался воспроизвести по памяти эти отеческие увещевания учителя: «Вот вам не нравится этот мир, но вы же и есть мир. Значит, надо обо всем думать и говорить только в смысле своего собственного сознания. Вы же это и есть». И вы знаете, у нас на глазах он это стал применять на практике. Эта манера! Эта манера человека, живущего в сознании и учащего молодых людей жить в сознании, а не жить в этих пошлых, как бы сейчас сказали лингвисты, оппозициях, которые разрушают сознание, которые губят сознание, которые не дают сознанию развиваться, потому что в итоге ведь всегда получается, что я прав, а тот, кого я не люблю, не прав: что я хороший, а кто-то дурной… Это его обращение с людьми – я никогда не скажу здесь вульгарного слова как с равными – как и с сознаниями, потому что ни одно сознание не может быть равным другому…» Такими вот воспоминаниями о своем наставнике Юрии Николаевиче Рерихе поделился мой друг А. М. Пятигорский с благожелательной петербургской аудиторией через сорок с лишним лет после смерти Учителя. Возможно, откровенные речи эти вел Ю. Рерих лишь в интимном кругу учеников, но конечно, они не оставались неизвестным кругам неблагожелательным, для которых самое признание, что этот может «не нравиться» звучало криминально. Думаю, очень скоро Рерих должен быть обнаружить, что «жить в сознании» не положено. С ним поговорили, объяснили ему, наверно, что тут у нас Москва, а не Калимпонг. Он отозвался на это очень по-человечески: умер после одного такого разговора – от острого сердечного приступа, умер еще совсем молодым. Мало успел пожить при оттепельном, только начавшем оттаивать и снова затвердевшем социализме. Может, и климат московский был ему вреден. А может, все же железная марксистская лапа давила на сердце вольного буддидста из гор. Не могу знать наверняка… Дойдя до той строки, я добросовестно позвонил в Лондон Саше Пятигорскому, но толком ничего не понял – как быть свободным при несвободе. Но может, все же и умер-то вовремя Юрий Николаевич, потому как и благоволившему к нему Н. С. Хрущеву царствовать оставалось 236 недолго. А еще через десяток лет стали сажать новообращенных буддистов… Да вот и совсем недавно, если верить российской печати, архирейский собор отлучил аж всех Рерихов от русской Православной Церкви, к которой они не вполне и принадлежали… Счастливее сложилась судьба младшего сына Николая Рериха, художника Святослава. Святослав родился в 1904 г. в Петербурге, учился в той же, что многие мирискусники, а потом и их сыновья, гимназии Карла Мая (поступил он туда на два года позже, чем Коля Бенуа, сын основоположника «Мира искусства» А. Н. Бенуа). С ранних лет Святослав помогал отцу делать эскизы декораций, копировал под руководством отца чужие картины. Петроград покинул с семьей четырнадцати лет от роду, а с шестнадцати жил в США – учился на архитектурном факультете Гарварда и в знаменитом технологическом институте в Бостоне, помогал отцу оформлять спектакли в Чикаго. В 1923 г. он отправился с родителями в великое семейное путешествие, но уже через год двадцатилетний Святослав вернулся в Америку и занимал там различные высокие посты в отцовских полумистических-полукоммерческих организациях. В 1928 г. он поселился у отца в пенджабской долине Кулу, писал картины из жизни индийских крестьян и «стилизованные картиныпритчи. Созрев для брака, он женился на известной в ту пору индийской кино-актрисе Девике Рани и привел ее в дом. Отец его Николай Константинович Рерих сообщал в отчетном письме В. Ф. Булгакову: «Святослав сильно преуспел в художестве. Он женился на Девике Рани, самой блестящей звезде Индии в фильмовом искусстве. Помимо великой славы в своем искусстве, Девика – чудный человек, и мы сердечно полюбили ее. Такой милый, задушевный член семьи, с широкими взглядами, любящий новую Русь. Елена Ивановна в восторге от такой дочери». Когда Святославу было 30, а отцу его 70, Николай Рерих, получив по почте первые цветные фотографии картин сына, написал для журналов восторженный очерк о «сверкающих красках, которыми насыщены картины» Святослава: «Если возьмем сравнить его достижения за последние годы, то можно видеть, как неустанно совершенствуется та же основная песнь красок… В каждой картине Святослава есть то, что мы называем композицией… Прекрасно, если можно любоваться звучными творениями. Прекрасно, если дан в жизни этот высокий дар, которым все темное, все бедственное превращается в радость духа. И как радостно мы должны приветствовать тех, которые волею судеб могут вносить в жизнь прекрасное!» Как раз в те годы Люксембургский музей Парижа приобрел портрет знаменитого борца за мир Николая Рериха, написанный его сыном. Святослав Рерих вошел после войны в элиту индийского общества, писал портреты Джавахарлала Неру и Индиры Ганди, был награжден индийским орденом Падма Бхушан и премией Неру. С начала 60-х г. он неоднократно приезжал в Советский Союз, где у него проходили персональные выставки. Он подарил советским музеям больше полсотни 237 своих работ, а накануне перестройки был награжден орденом Дружбы народов. Он жил долго, а умер в индийском штате Бангалор, куда он переехал после смерти отца и где прожил почти полвека. Он счастливо не дожил до газетной и административной бури, разразившейся недавно в Москве из-за споров о наследстве. Международный Центр Рерихов, какие-то могучие русские учреждения и далекие бангалорские наследники (там еще жива была поющая кинозвезда) жестоко спорили из-за картин, из-за жилплощади в лопухинском имении, из-за «прав», в общем, качали права… Как и при жизни мудреца и пророка Н. К. Рериха, туманная мистика причудливо переплеталась с бухгалтерией, статистикой и судебной казуистикой… Вот был бы жив дедушка-нотариус Константин Рерих, он бы сумел навести порядок. Улыбка египетской царицы, глаза великого учителя и бедная принцесса серебряного века На петербургской выставке «Мира искусства», а потом и в рамках парижского Осеннего сезона, на устроенной Дягилевым в том же 1906 г. русской экспозиции выставлялась молодая русская художница, чьи не слишком многочисленные портреты и картины, а также поздние религиозные росписи в храмах немецкого религиозного движения «Христианская общине» могли бы ныне принести известность любой коллекции, не грозя разореньем при покупке, но суля обеспечить и радость поиска и дальнейшее обладание раритетом… Что до автора этих строк, то легкий, призрачный силуэт этой загадочной, взбалмошной художницы впервые замаячил в мире моих «избранных призраков» каких-нибудь лет тридцать тому назад в тогдашнем полуреальном, полупридуманном нами Коктебеле… Я тогда впервые поселился с хрупким своим семилетним сыночком в «писательском» парке близ Дома Волошина, подружился со смотрителем Дома Володей Купченко и стал время от времени, в свободную от отцовских обязанностей минуту – то утром, то в полдень, а то и в полночь, в полнолунье – навещать волошинский кабинет, где по-прежнему, как в те золотые времена, до потопа, не взирая ни на пуганых писателей (совпис), ни на их милых жен (жопис), ни на вдову бедного Макса Марью Степановну, все так же загадочно улыбалась каким-то своим тайным мыслям египетская царевна Таиах из парижского музея Гимэ… Тихо, грустно и безгневно Ты взглянула. Надо ль слов? Час настал. Прощай, царевна! Я устал от лунных снов. Эти стихи Волошин написал (и тут же подарил их своей невесте) в Париже, в самом начале века. Невесту звали просто Маргарита (Маргарита Васильевна Сабашникова), но он звал ее, конечно, загадочней – Маргоря, 238 Аморя, и я по молодости лет еще и не знал в тот первый коктебельский год, как надо опасаться всего этого амурного аморно-маргорного морока. Мы все балдели тогда от волошинских или ивановских стихов, от коктебельских чужих романов, от былых принцесс Серебряного века, не предвидя от этого для себя никакой беды: да что там может случиться, думали мы, - век уже на дворе не Серебряный, а вполне Оловянный, хотя залив все еще трепещет дымкой серебряной фольги, на дальних пляжах таятся лунные камни сердолики, а с лунно-бледных, еще не загорелых женщин так легко спадают в Коктебеле одежды… Помню, как потом, в то же лето, беда грянула в моем собственном доме, как я, едва выжив, спасался от нее писанием романной прозы, и первый мой роман был, конечно, о Коктебеле. В роман попали и равнодушная улыбка древней египетской царицы, и былые неотвязные коктебельские призраки, и, конечно, Аморя…(1) (1) См. Б. Носик. Свет в конце аллеи, Коктебель. Изд-во «Текст», Москва, 2006 Крымская подруга Волошина и Амори (Евгения Герцык) написала когда-то о ней вполне элегантно, хотя и вполне безжалостно: «… не запомню другой современницы своей, в которой так полно бы выразилась и утонченность старой расы, и отрыв от всякого быта, и томление по необычно-прекрасному. На этом-то узле и цветет цветок декадентства. Старость ее крови с востока: отец из семьи сибирских золотопромышленников, породнившихся со старейшиной бурятского племени. Разрез глаз, линии немножко странного лица Маргаритиного будто размечены кисточкой старого китайского мастера. Кичилась прадедовым шаманским бубном». Как видите, подруга Герцык ищет корни пресыщенности, декаданса, тонкости и таланта «тоненькой девушки с древним лицом» не на обживаемом россиянами (самой Аморей в первую очередь) предвоенном Западе, а на древнем Востоке. Сабашниковы и вправду пришли с востока, из пограничной Кяхты. Отец Маргариты, Василий Михайлович, был потомок золотопромышленников, и в «египетском» вестибюле его московского особняка на скрещенье Большой и Малой Никитской лежал в напоминанье об истоках семейного богатства мешок с золотоносным песком. Отец и сам торговал, не слишком, впрочем, успешно, но вот братья его и Михаил, и Сергей, и Федор (подобно потомкам других русских богачейпредпринимателей) ушли в культуру и искусства. Михаил с Сергеем создали в Москве прекрасное книжное издательство, в котором вышли первым изданием совершенно замечательные, всем нынче известные русские книги – шесть сотен книг. Издательство это прославило имя братьев Сабашниковых и Михаила, и Сергея. Меньше известны были подвиги старшего из братьев, Федора, который был поначалу крупным золотопромышленником, а позднее стал искусствоведом, великим знатоком и «Кодекса» и, вероятно» «кода» Леонардо да Винчи. После смерти итальянского библиофила графа Мандзони и распродажи его коллекции страстный поклонник Леонардо да Винчи Федор 239 Васильевич Сабашников купил рукописную тетрадочку, оригинал таинственного «Кодекса о полете птиц». В 1893 г. именно Федор Сабашников напечатал в Париже первые 300 экземпляров «Кодекса», приложив к каждому экземпляру копию манускрипта. А в 1900 г. Федор Сабашников купил и выпустил в свет еще один манускрипт да Винчи… В какой-то связи с этими издательскими подвигами Федора стояло таинственное убийство его брата-издателя Сергея – через год после смерти Федора… В такой вот «восточной» семье родилась будущая художница и писательница Маргарита Сабашникова. Детство ее прошло в Москве, а с двенадцати лет она уже странствовала с родителями по всей Европе – не спеша переезжали из страну в страну, с одного курорта на другой, добрых три года. В конце 1890 г. молоденькая москвичка приехала в Петербург и поступила в Рисовальную школу княгини Тенишевой, где занималась у Репина. Примерно в эту пору и увидел ее впервые будущий собрат по антропософскому обществу поэт Андрей Белый, который так описал ее в своей книге: «Сидела протонченная семнадцатилетняя бледно-снежная девушка, млеющая от собственной тонкости: золотые кудри, перловое лицо, голубые, расширенные от изумления перед всем, что ни есть (не то перед собой), глаза - вызывали впечатление, что это не барышня, а вздох, веющий в ухо: «Как странно!» Вот такая «млеющая от собственной тонкости» девушка желала «совершенствоваться в искусстве», чтобы потом «воздействовать искусством» на людей и способствовать улучшению жизни. И конечно, она должна была получить ответ на проклятый вопрос – о смысле жизни. За ответом она отправилась в Москве к великому учителю Льву Толстому, но великий старик сильно ее разочаровал и озадачил. Он сказал, что она должна прежде всего отказаться от своего образа жизни состоятельной девушки, должна отказаться от денег, жить с народом и жить не по лжи. И еще Толстой обругал искусство вообще, и обругал, в частности, картину ее любимого художника Врубеля «Хождение по водам». В заключение великий старец велел Маргарите бросить всякие чудеса и суеверия, а читать рекомендовал пересказанное им самим Евангелие, «очищенное от всякого мистического вздора». «Я не поверила своим ушам, - вспоминала Маргарита каких-нибудь сорок лет спустя, - … как следует понимать чудеса в Евангелии, я не знала. Но я знала одно: именно в мистическом и таинственном этого сочинения кроется суть христианства, а не в моральных нравоучениях». Девушка отправилась в имение, там в роскошном цветущем яблоневом саду она читала Бхагаватгиту, и мир «был мечтой, майей». Позднее она продолжала занятия живописью в мастерских у Валентина Серова, а также у Константина Коровина. Ей запомнилось, как жгучий 240 красавец и говорун, талантливый Коровин подходил к ней, чтобы исправить ее работы: «он останавливался около меня и шептал мне на ухо что-то о красоте красок, которыми были написаны модель и фон.. Он шептал: «Когда я вижу Вашу манеру рисовать, я могу представить, что Вы могли бы написать картину…» И он описывал ее приблизительно так: «Снег за окнами с голубыми тенями – а на переднем плане кто-то в белом легком платье с маленькими фиолетовыми цветочками и т. д.». Шепот его действительно вдохновлял – я делала тогда большие успехи». В 1903 г. в знаменитой галерее Щукина в Москве Маргарита повстречала русского поэта, который тоже учился живописи. Он уже был парижский завсегдатай, был свой в русском салоне художницы Кругликовой, которая так вспоминала о первом его появлении: «Стремительно появляется толстый юноша с львиной шевелюрой, в пенсне на широкой ленте, и заявляет с изысканно-вежливым поклоном, что он имеет рекомендации со всех концов мира… «Садитесь»… «А можно мне тоже порисовать? Я никогда не пробовал». Даем ему мольберт и бумагу…» Сам Волошин в предисловии к каталогу своей выставки 1930 г. развивает эту легенду, рассказывая, как назавтра после визита к Кругликовой он купил краски, лист бумаги «энгр», взял в ресторане кусок мякоти непропеченного хлеба «и стал художником». Конечно, в обоих рассказах – и в этом «я никогда не «пробовал», и в этом «стал художником» можно без труда распознать невинное кокетство: кто же тогда из грамотных людей, из тех, кто получил мало-мальское образование, не учился рисовать и «никогда не пробовал». Что тут правда, так это то, что Волошин и впрямь очень долго оставался любителемхудожником. Ну а что до выставки 1930 г., для которой он написал эту байку, то она так и не состоялась. Впору было не выставки готовить в том 1930 г., а искать надежное убежище в глухом углу Сибири, искать, где можно укрыться от грядущего ужаса. Волошин ушел от него вовремя, скончавшись в 1935 г., до первого допроса… Возвращаясь в мирный парижский салон Кругликовой, в идиллическое начало страшного XXв., надо отметить, что молоденький Волошин, симпатичный толстяк с львиной шевелюрой, очень скоро стал душою этого художественного кружка и вообще фигурой вполне заметной в кругах тогдашней русской эмиграции (той Первой русской эмиграции, которая была действительно первой, потому что и революция случилась тогда в России «Первая»). И о Кругликовой, и о молодом Волошине, и о молодой волошинской супруге забавно написал в своих мемуарах Александр Бенуа – в главе, посвященной его последним бретонским каникулам 1905 – 1906 гг.: «… мы как раз тогда очень сошлись с Елизаветой Сергеевной (Кругликовой – Б. Н. ), и это несмотря на то, что ее искусство (и особенно присущий ему несколько любительский оттенок) не могло нам импонировать… Вовсе не импонировало нам и старание Кругликовой идти вместе с веком, быть передовой, ā la page ( в ногу со временем – Б. Н.). Все 241 это, однако, не мешало этой некрасивой и стареющей девице обладать большой «притягательной» силой. Она отличалась исключительной силой темперамента, страстно всем интересовалась, что и позволило ей устроить у себя в Париже, на улице Буассонад, что-то вроде русского художественного центра, усердно посещаемого не только русскими. Была она и очень отзывчива, разные бедняки и неудачники нередко прибегали к ее кошельку… непременным гостем Кругликовой бывал добродушный Макс Волошин, дружба у меня с которым тогда и завязалась. Жил он где-то по соседству на бульваре Эдгара Кине, снимая мастерскую скульптора au rez-de chaussèt (на первом этаже – Б. Н.). Несмотря на молодость, лицо его было украшено густой рыжей бородой, а на плечи падали такие же рыжие вьющиеся волосы, что придавало ему какое-то сходство с древнегреческим Юпитером. При этом он был очень близорук, и благодаря этому было в его взгляде нечто «отсутствующее», а в сложении этого коренастого, довольно полного человека не было ничего величественного. Не совсем было понятно, почему ему понадобилась мастерская художника, раз он тогда живописью не занимался, но возможно, что он уже тогда в интиме что-то пробовал, что пригодилось ему впоследствии – когда он вместе с молодой, прелестный и талантливой женой М. В. Сабашниковой расписывал, собственными руками построенный «храм теософов», и тогда, когда он, поселившись безвыездно в Крыму, в Коктебеле создал длинную серию очаровательных акварельных пейзажей…» Итак, вскоре после их московского знакомства Волошин и Маргарита снова встречаются, уже в Париже, и там, как вспоминает она, «по галереям Лувра, в садах Версаля медленно зрел их роман – не столько роман, сколько рука об руку вживание в тайну искусства». Волошин щедро делился с ней своими восторгами и знаниями. «Изумление, шок…» - записывает она, впрочем, без особой уверенности, а в следующий приезд даже воображает «страшный, замкнутый в себе самом, ослепленный мир, безудержно несущийся к пропасти…» Подруга Маргариты и Макса Евгения Герцык верно поняла, что и на вершине их общего «вживания в тайну искусства» томящейся и пылкой девушке бывало с ним скучновато: «…он жадно глотает все самое несовместимое, насыщая свою эстетическую прожорливость, не ища синтеза и смысла, - вспоминает мемуаристка, - Пышноволосый, задыхающийся в речи от спешки все рассказать, все показать, все воспринять. А рядом с ним тоненькая девушка с древним лицом брезгливо отмечает и одно, и другое, сквозь все ищет единого пути и ожидающим и требующим взглядом смотрит на него. Он уставал от нее, уходил». И все же они много бывали вместе – то в Лувре, то в парижских парках, то в музее Трокадеро, то в старинных католических храмах. Вот запись Волошина, помеченная 7 июня 1904 г. 242 «Мы утром поехали в музей Гимэ. Я сказал на конке: «Мне кажется, что эти три стиха, которые я написал на книге, очень определяют ее содержание. «О, если б нам пройти через жизнь одной дорогой»… Мне показалось, что она сделала радостное движение. В музее… - Королева Таиах. Она похожа на Вас. Я подходил близко. И когда лицо мое приблизилось, мне показалось, что губы ее шевелились. Я ощутил губами холодный мрамор и глубокое потрясение. Сходство громадно». Через год Волошин остановился у царевны Таиах уже с Анной Рудольфовной Минцловой, и эта великая теософка изрекла: «У нее серые близорукие глаза, которые видели видения… и губы чувственные и жестокие». Анна Рудольфовна открывала тогда Волошину тайный Париж. Она ощутила тяжкий и враждебный дух в его мастерской: «Кому принадлежат эти вещи? Кто был здесь в последний раз? Пойдемте в Люксембургский сад… Я не вижу лиц людей, но вижу с ними рядом сияние. Астральное…» Она находила в Париже следы тамплиеров: «… их реликвии хранятся в Париже. Во многих церквах есть их знаки. В Notre Dame есть. Notre Dame раньше была их церковью. Немудрено, потому что на ее месте был раньше храм Изиды. И в тех местах, где были оставленные ими знаки, там во время революции проносился вихрь безумия. Там все начиналось…» Египетская царица Таиах (Тайа) была женой Аменхотепа III и матерью Эхнатона. В музее Гимэ выставлена была копия скульптуры, а оригинал хранился в Каире. Волошин заказал копию для своей мастерской и написал стихи о царице, которые подарил Маргарите: … Много дней с тобою рядом Я глядел в твое стекло. Много грез под нашим взглядом Расцвело и отцвело. Все, во что мы в жизни верим, Претворялось в твой кристалл. Душен стал мне узкий терем, Сны увяли, я устал… Я устал от лунной сказки. Я устал не видеть дня, Мне нужны земные ласки, Пламя алого огня. … Тот, кто раз сошел с вершины, 243 С ледяных просторов гор, Тот из облачной долины Не вернется на простор. Мы друг друга не забудем. И, целуя дольний прах, Отнесу я сказку людям О царевне Таиах. Стихи рассердили Маргариту. Она не была влюблена в Волошина, но ждала развития событий. Однако, ничего не случалось. Волошин, не оправдав ожиданий Маргариты, не придумал ничего лучшего, как жениться на ней. А она, хоть и далеко не была уверена в том, что его любит, согласилась на брак: брак всегда интересен, разве не этого ждут девушки? Нет, конечно, не только этого… Но с тем другим, чего они ждут, у Волошина были трудности. Сестре Евгении Герцык, поэтессе Аделаиде Волошин признавался: «… женщины? У них опускаются руки со мной, самая моя сущность надоедает очень скоро, и остается одно только раздражение. У меня же трагическое раздвоение: когда меня влечет женщина, когда духом близок ей – я не могу ее коснуться, это кажется мне кощунством…» Эта странность мучила Волошина в Париже. Он рассказывает в дневнике о том, как он мирно бодрствует в постели рядом с влюбленной в него прелестной нагой ирландкой Айолет… и «этого» не происходит… Волошин умел внимательно слушать женщин. Он умел гадать им по руке. Предсказывать будущее. Что же до его сексуальных трудностей, то он в конце концов находил выход из положения. Все его терзания шли в стихи. А сам он служил женщинам, дружил с ними. Е. Герцык вспоминает о множестве «девушек, женщин, которые дружили с Волошиным и в судьбы которых он с такой щедростью врывался, распутывая застарелые психологические узлы, напророчивал им жизненную удачу, лелеял самые малые ростки творчества…» Ведь и второй брак Волошина был продиктован поисками такого служения: если б не было М. С. Заболоцкой, он женился бы на Ребиковой. Ей тоже надо было помочь… А любовь к Дмитриевой, из которой он сотворил Черубину де Габриак? Главной жизнью хроменькой учительницы стала эта короткая, Волошиным придуманная жизнь в мифе. Защищая ее честь, он даже дрался на дуэли с Гумилевым… Ну, а что же метущаяся Маргарита, Маргоря, Аморя? Под влиянием Волошина растет ее увлечение мистикой. Писатель Василий Амфитеатров так вспоминал о симпатичном Максе Волошине: «Кем только не перебывал чудодей в своих поисках проникновения в сверхчувственный мир? Масон Великого Востока, спирит, теософ, антропософ, возился с магами белыми и черными, присутствовал при сатанических мессах, просвещался у иезуита Пирлинга… Отношение ко всем 244 этим кругам, в которые он, ненасытно любопытный, нырял со своим «Это очень интересно», было зыбкое: иной раз не разобрать, то ли он преклоняется, то ли издевается. И в связи в этой зыбкостью огромное знакомство чудодея кишело живыми «монстрами». Отнюдь не менее, а иной раз даже более удивительными, чем его загробные дружбы и интимности». Еще два десятилетия спустя Волошин и сам описал эти «блуждания души» в своей автобиографии: «буддизм, масонство, католицизм, теософия, антропософия и православие, магия и оккультизм». Как тут было устоять склонной к мистике Маргарите-Аморе? В Париже Волошины, поженившись, обставили, по воспоминаниям Маргариты, «маленькую солнечную квартиру в Пасси – несколько кушеток покрыто коврами, множество полок служит вместилищем для библиотеки Макса. Лучшее украшение нашего жилища – копия – в натуральную величину – гигантской, высеченной из песчаника головы египетской царевны Таиах с ее вечной загадочной улыбкой,. И конечно, оба учились живописи. Маргарита посещала академию Коларосси, училась также у художника Люсьена Симона. Волошин пристально изучал историю искусства, со страстью учился и стихам, и живописи, писал статьи об искусстве. Учился живописи по большей части сам, занимался, как он говорил, «самовоспитанием», То есть, был самоучкой, как, кстати, и сам Бенуа. Волошин писал стихи и картины, а также писал об искусстве и вскоре составил себе имя в искусствоведении. Александра Васильевна Гольштейн, в чей весьма популярный среди русских салон был вхож и Волошин, свела его со знаменитым художником-символистом Одилоном Редоном, и Волошин первым напечатал о нем в России статью. А еще лет десять спустя Александр Бенуа, все еще почитавший Волошина дилетантом, прочитал в Петербурге волошинские статьи и записал в своем дневнике восхищенно: «Среда, 2 ноября, 1916 г. … Читали статьи Макса Волошина для моей монографии. Поражен тем, что, при некоторой литературной фразеологии, столько действительного понимания, столько верного и меткого. Милый Макс!» Милый Макс стал с годами и замечательным поэтом, и прекрасным акварелистом. Еще шестнадцать лет спустя, в Париже, стареющий эмигрант А. Н. Бенуа напечатал очерк «О Максимилиане Волошине», в котором он с удивлением написал о былом друге и былом «дилетанте»: «Не так уж много в истории живописи, посвященной только «настоящим» художникам, найдется произведений, способных вызывать мысли и грезы, подобные тем, которые возбуждают импровизации этого «дилетанта». На сей раз слово «дилетант» Бенуа берет в кавычки, как бы вспоминая о былых опрометчивых своих суждениях по поводу милого Макса. Думается, к 1932 г. Бенуа успел увидеть в частных парижских собраниях немало акварелей увидеть в частных парижских собраниях немало акварелей Волошина, увезенных эмигрантами, былыми гостями коктебельского Дома 245 поэта. Еще полвека спустя (в 1983 г.) автор этих строк попал в гости к одной из былых обитательниц коктебельского дома Волошина. Звали ее Наталья Кедрова, она была певица, сестра актрисы Лили Кедровой и дочь одного из братьев Кедровых (из тех, что составляли знаменитый квартет Кедровых). У нее было замечательное меццо-сопрано, она пела в Париже то в опере, то в ресторане «Распутин» вместе со своим голосистым мужем Малининым, русским инженером, русским певцом и русским таксистом. Жили они в тесной квартирке в Медоне. Она рассказывала мне, какой успех у них в ресторане имели русские песни («Даже Интернационал пели!») после освобождения Франции союзниками, а я слушал ее и с любопытством смотрел на стену. Потом я спросил, кивнув на акварель: - Коктебель? Волошинская? - А вы там бывали? Так вы, наверно, знаете смотрителя Купченко? – обрадовалась она. – У меня было два десятка акварелей Волошина – и недавно я их все отправила в подарок дому-музею Волошина в Коктебель. Такой вот царственный подарок из нищенской квартирки в Медоне. «Где они теперь гуляют, эти акварели?» - подумалось мне, а она вдруг взглянула на меня недоверчиво и спросила: - А вы что, ничего не хотите купить? - Нет, ничего, - удивился я, - Никогда и ничего. А почему вы спрашиваете? - Когда у нас бывает Еврей Иваныч, он всегда просит продать. Я понял, что речь идет об известном парижском антикваре, но хозяйка сочла своим долгом мне объяснить, что это не имя, а прозвище, изобретенное для русских евреев. - Еврей Иваныч – это мы так шутим. - Я так и понял… Я уже был наслышан, ибо не вполне невинные эти шутки вывезли с собой за рубеж и многие славные люди эмиграции – сам Прокофьев, и сам даже Бенуа, не говоря уж бравых младороссах, монархистах, молодогвардейцах или русских фашистах… Позднее я встречал Наталью Кедрову и ее мужа Малинина в церкви на бульваре Экзельманс, где они пели в прекрасном церковном хоре у регента Юрия Киселева. Они меня познакомили со стареньким князем Голицыным, который удивился, что мне доводилось жить в голицынском Доме творчества, что я ходил пешком в Малые Вяземы и что станция близ Дома творчества до сих пор называется Голицыно… Впрочем, чету Малининых, как и меня самого, больше интересовала тогда судьба коктебельского Дома поэта. Как сам Коктебель, этот любимый дом претерпел немало перипетий, но выжил. Еще до Великой войны благодаря Волошину успел стать Коктебель русской художественной и культурной Меккой, русским Барбизоном, прошли через него и Шаляпин, и Скрябин, и Мандельштам, и Андрей Белый, и Гумилев, и В. Иванов, и Цветаева – да кто там только не жил? Тени Серебряного века (самого Волошина в первую очередь) и до, и после 246 сталинщины влекли русскую интеллигенцию в Коктебель. Уже и подаренный Украине, вместе со всей Новороссией, тянул к себе Коктебель и русских, и литовцев, и грузин, и киргизов, и белорусов, и армян… Тянули общие наши воспоминания (не о виденном – о читанном и пережитом), тянула живописная тень бородатого хозяина и могила его на холме… Поразительной оказалась судьба этого места, где жил дух. Конечно, распространилась, пришла мода, которая все может затоптать, так что теперь там – толпа, многолюдье… лет десять тому назад я слышал песню барда Александра Городницкого, побывавшего тогда в волошинском прославленном доме, на прославленных пляжах: Акварели Волошина в темной висящей спальной, Выгорают со временем – синее стало зеленым. Я с трудом опознаю, вослед за поэтом опальным, Этот мыс, что не зря называется Хамелеоном. Там гуляет орда у морщинистых гор Карадага, Где в окрестные скалы впечатался профиль поэта… О коктебельском анахорете Волошине, успевшем уже к 20-му году написать все свои астральные циклы, все космологические циклы, написать удивительные пророческие стихи и с каждым годом писавшем все лучше, в 20-е годы слагали легенды. Позднее марксистская и пролетарская критика объяснила читающей публике, что Волошин был представитель «бонапартистски-буржуазной контрреволюции, облеченной в архаическиславянофильские одеяния». Поэта престали печатать и мало-помалу забыли. В ожидании худшего он мирно почил в 1935 г. в милой его сердцу Киммерии, поскольку не уехал вовремя в милый его сердцу Париж. А потом стало понемногу теплеть в России – и в Москве, и в Крыму – и тогда слава Волошина начала возрождаться. Любопытно, что толчок к этому возрождению дала выставка волошинских акварелей в 1960 г. Широкая публика увидела его акварели, которые сам он – в поисках жанра – называл даже не пейзажами, а «красочными композициями на тему киммерийского пейзажа». У доброго мистика Волошина, как и у коварного мистика Рериха, пейзаж – придуманный, он пришел из глубины тысячелетий, но пророчит не завтрашнюю беду, а незыблемость разумного мира. Так казалось мне и многочисленным поклонникам Волошина, все еще искавшим на пляжах сердолики… В 60-е г. Волошин стал возвращаться из отчужденного Крыма в Россию. Снова стали печатать его стихи, даже статьи о волошинских стихах, о его очерках и акварелях. Сперва, конечно, вспомнили о поэзии, но потом в Мюнхене вышла диссертация о поэтике киммерийского пейзажа, о криптограммах и криптофигурах на волошинских картинах. Вспомнили, что Сергей Маковский писал когда-то об «универсализме художественных и умозрительных пристрастий Волошина», что уже собрат-антропософ Андрей 247 Белый отмечал своеобразие Макса, который «проходил через строй чужих мнений собою самим, не толкаясь…» В общем, рукотворные памятники первому мужу беспокойной Маргариты Сабашниковой воздвигают и здесь, и там. Что же до поклонников чудного Коктебеля, то они знают, что сама природа заранее заготовила ему памятник, придав одной из карадагских скал волошинский профиль… Свои «киммерийские» акварели Волошин начал писать перед началом Великой войны и написал их много. Одна из последних выставок волошинских акварелей открылась в Москве в конце 2006 г.: 28 акварелей, присланных в подарок московскому музею из Нью-Йорка знаменитым русским танцовщиком Михаилом Барышниковым. Перед открытием выставки в Музее изобразительных искусств ученая кураторша выставки объяснила публике, что Волошин не писал с натуры, что, работая, он даже садился спиной к окну: - Все, что вы видите на этих акварелях, - это на самом деле не Крым, а воображаемая Волошиным древняя земля, которую он называл Киммерией… Ни один из пейзажей не повторяет реальный. Хотя на Крым похоже очень… Однако не пора ли нам от очередного триумфа Волошина вернуться на столетие назад, в Париж, где мы оставили молодых супругов Макса и Маргариту. Причем оставили в очень опасный момент их жизни – в первые месяцы брака. Что же уготовил им Гименей? В этом браке было немало хорошего, однако он не дал покоя смятенной душе Маргариты. Но вот по возвращении в Россию она попадает как раз туда, куда было нужно (или, напротив не нужно). Попадает туда, увы, не без содействия самого Макса… Волошин близко сходится в ту пору в Петербурге со «златокудрым магом», поэтом Вячеславом Ивановым и снимает квартиру рядом со знаменитой Ивановской «башней», над Таврическим садом. По средам в салоне Ивановых на «башне» регулярно бывают Блок, Белый, Сологуб, Кузмин, Ремизов, Чулков, Сомов, Нувель, Лансере, Гржебин… На «башне» сидят ночами и говорят об Эросе. Причем, высокоумный и гостеприимный хозяин «башни» не только великий теоретик, но похоже, и практик эротики. Как выражаются некоторые авторы, «на башне» пахнет серой. Е. Герцык, говоря в этой связи о молодоженах Волошиных и их отношениях с Ивановым, выражается еще более изысканно: «Оба сразу поддались его обаянию, оба вовлечены в заверть духа, оба – ранены этой встречей». Конечно, «башня» Ивановых была далеко не единственных (хотя и очень знаменитым) петербургским средоточием соблазнов. Люди солидные много понаписали о духе времени, о декадансе и упадке нравов и сопутствующем расцвете искусств. «Искали экстазов, - свидетельствует философ Н. Бердяев, - Эрос решительно преобладал над Логосом. Было чтото двоящееся: была экстатическая размягченность: в петербургском воздухе того времени были ядовитые испарения…» 248 Итак, герои нашей истории мастер Макс и Маргарита, попали «на башню»… О том, что случилось с ними, до смерти вспоминала завороженная и тамошней атмосферой, и самим хозяином «башни», и даже оригинальной ее хозяйкой «египетская царевна» Маргарита Сабашникова, вдохновенно описавшая всю эту историю в своей книге «Зеленая змея». Поселившись близ «башни» («в одном доме – дух захватывает!,,), супруги решают не ехать в Мюнхен (чтоб быть ближе к Учителю Штейнеру), а остаться в Петербурге ( ближе к Учителю Иванову): «Мы с Максом шли по жизни, держась за руки, как дети…». Маргарита дает в своей книге собственное объяснение тому «интимному», что затем последовало: «Все, что произошло, все мои переживания я нахожу симптоматичными для предреволюционной России, характерными для той «люциферической» культуры, что, по моему мнению, достигла в России наивысшего расцвета…» Конечно, как дитя предреволюционной эпохи Маргарита винит в своей лени (а может, и распущенности) проклятый царский режим: «Косный самодержавный режим, бюрократизм закрывал пути к малейшим переменам для всех, кроме революционеров… Оторванные от практической деятельности, погруженные в свой внутренний, отделенный от реальной жизни мир, что неминуемо вело к переоценке собственной личности, российские интеллигенты пускались в разного рода чудачества, красочные и характерные. Такой была и я… Гипертрофированные душевные переживания дурно влияют на мое здоровье. Макс, добрый и самоотверженный, ничему не может меня научить…» Итак, в какие же «красочные чудачества» пустилась Маргарита и чему смог научить ее хозяин «башни»? В этой до крайности подробно описанной Аморей истории выделим лишь отдельные, ключевые моменты. Маргарита-Аморя, которая восторгается стихами Вяч. Иванова, сообщает ему об этом: «Иванов так и впился в мое лицо широко раскрытыми маленькими глазами… Комната Вячеслава – узка, огненно красна, в нее вступаешь как в жерло раскаленной печи… Я чувствую себя зайчонком в львином логове». В логове, впрочем, есть и львица, жена Иванова Лидия ЗиновьеваГаннибал, но и она небезопасна: «Оригинальность и сила переживаний Лидии удивительны, она ни в чем не уступает мужу. Необычен ее интерес ко мне…» В общем «зайчонок» готов ко греху, раз таким невыносимо тяжким оказался царский режим: «Томление, отчаяние – это было характерно для нашего времени. Люди мечтали о несбыточном. Люцифер завлекал их в сети Эроса. Жизнь была пронизана драматизмом. Особенно жизнь художников. Дружные супружеские пары встречались редко, их даже несколько презирали… 249 … Однажды вечером Вячеслав обратился ко мне: «Сегодня я спросил Макса, как он относится к растущей между мной и тобой близости, и он ответил, что это глубоко радует его». Я поняла, что Макс сказал правду, он любил и чтил Вячеслава. Но постепенно я заметила, что сам Вячеслав дурно относится к моей близости с Максом… Скоро я поняла, что Вячеслав любит меня. Я рассказала Лидии об этом и о своем решении уехать… Ответ Лидии: «Ты вошла в нашу жизнь, ты принадлежишь нам. Если ты уйдешь, останется – мертвое… Мы оба не можем без тебя». После мы говорили втроем. Они высказали странную идею: двое, слитые воедино, как они, в состоянии любить третьего. Подобная любовь есть начало новой человеческой общины, даже начало новой церкви, где Эрос воплощается в плоть и кровь. Естественный мой вопрос был о Максе. - Нет, только не он». То есть, любовь втроем, но не вчетвером… Дневник Волошина доносит до нас отзвуки бесконечных истерик и драм. Герои не могут решиться, когда и куда ехать, целуют друг другу руки и ноги, плачут врозь и вместе, скандалят и всуе поминают Имя Божье. Любовь Амори то к одном, то к другому «доходит до апогея». Но, в конце концов Вячеслав все-таки уговаривает ее остаться. Аморя вдохновенно описывает мужу «события минувшей ночи»: «Он страшно изменился в лице. Он мне говорил, что он увидел, что я действительно его не люблю, если могла в тот момент, когда только стали слагаться наши отношения, вдруг решить ехать в какую-то санаторию. Ах, как он говорил, Макс. Он говорил про себя, что жизнь от него отворачивается. Скульптор, который изваял его, не может продолжать работы. Он гениально говорил. Он сравнивал себя с Лиром, который в гордости не захотел больше повелевать и остаться покинутым. Макс, он Тантал». Макс не выдержал танталовых натиска и мук, он уехал с матерью в Коктебель. От прежнего счастья ему оставалась теперь лишь царевна Таиах в кабинете его коктебельского дома… Он оставался в России в годы революции и переворота, выжил в гражданскую войну, написал свои лучшие стихи и написал множество «киммерийских» акварелей. Их высоко ценят фанатики Коктебеля, в котором у Волошина много подражателей… В годы Волошина и после него татарское местечко Коктебель влекло к себе русских поэтов, диссидентов, богему, художников, ученых… Даже после того, как выслали татар. Даже после того, как иные из выживших татар вернулись… Что до Маргариты, то заехав позднее к Ивановым на дачу, она обнаружила, что старшая дочь от первого брака Лидии, восемнадцатилетняя белокурая красавица Вера относится к ней недоброжелательно и Маргариту «явно заменила … в прежнем «тройственном союзе»… Вдова Ромэна Роллана Майя Кудашева (она и сама была влюблена в В. Иванова) со злорадством мне рассказывала в Париже (лет 80 спустя), что когда умерла Зиновьева-Ганнибал, Маргарита (соперница Майи) «помчалась 250 к Иванову», но «место уже было занято падчерицей Верой, на которой Иванов и женился. Сама Маргарита так сообщает об этом разочаровании в книге «Зеленая змея»: «… я не узнала Вячеслава. Он был в чьей-то чуждой власти. Я отошла». … Однажды, в начале восьмидесятых годов в Риме, в старинной церкви за Тибром, в заречном Трастевере я познакомился с симпатичным Димой, сыном Веры и Вячеслава. К этому времени не было уже на свете ни Макса, ни Амори, ни Веры, ни Вячеслава Иванова, который в 1924 г. уехал в Италию, перешел в католичество и профессорствовал в Риме до самой своей смерти в 1949 г. с сыном Вячеслава Иванова меня познакомили московские друзья-писатели, приехавшие на юбилейный семинар, посвященный почтенному католическому профессору и поэту Вячеславу Иванову, некогда «златокудрому магу» из модной петербургской «Башни». Мои друзьялитераторы собирались на прием к папе римскому и позвали меня с собой. Но я путешествовал автостопом, в ковбойке и джинсах, пришлось рыться в шкафу у Антонелло, который дал мне в тот раз приют в Риме. Но Антонелло был тоще меня и ниже ростом, так что его костюм выглядел на мне на смех курам и ватиканской страже. А может, я еще боялся и самой аудиенции, боялся «последствий» и недреманного ока Москвы… Или боялся разочароваться в столь симпатичном мне издали пане Кароле Войтыле, Наместнике Бога на земле из столь любимого мной Кракова… … Можно отметить, что в плане профессиональном пребывание в «Башне» оказалось не бесполезным для Маргариты. Заинтересованный Иванов занимался с ней стихами, а живописью она занималась в том же доме – в знаменитой школе Званцевой, которую по имени ее главных преподавателей называли «Школой Бакста» или «Школой Добужинского». Кстати, оба профессора-мирискусника, их ученики, а также их собратья по журналу «Мир искусства» были частые гости на сборищах у Вячеслава Иванова. Да и кто там только не гостил… В 1905 – 1907 гг. Маргарита Сабашникова пишет портреты друзей и знакомых, портреты завсегдатаев «Башни» - М. Кузмина, М. Волошина, В. Иванова, Валерия Брюсова, Андрея Белого, Чуйко. Она пишет также картину «Убийство царевича Дмитрия в Угличе», участвует в Выставке русского искусства 1906 г. в парижском Осеннем салоне, в выставке, организованной журналом «Аполлон», впервые печатает свои стихи… Позднее она берется за книгу о святом Серафиме Саровском. Стихи Маргариты Сабашниковой печатались также в антологии близкого к антропософам издательства «Мусагет» и были упомянуты в рецензии Николая Гумилева. Победоносный конквистадор, вершивший судьбы литературной критики в «Аполлоне», не пощадил в своей рецензии прелестную принцессу Серебряного века. «Стихи Маргариты Сабашниковой, - сообщил Гумилев, - очевидно порождены мистицизмом автора, но они не убедительны ни как мистические прозрения, ни как поэзия». 251 Впрочем, сама Маргарита, запоминавшая лишь избранные комплименты, была более высокого мнения о своих писательских и художнических достижениях. Она всего достигла, считала она, - всего, кроме спокойствия и верной дороги. Но вот, однажды летом, в Цюрихе, Маргарита, «занимавшаяся Вагнером», впервые отправилась вместе с братом на заседание теософского общества, где читал доклад председатель немецкой секции общества доктор Рудольф Штейнер (или Штайнер). Там и произошла встреча, определившая ход всей ее жизни – она встретила Учителя, наставника, гуру: «Совершенно черные волосы косо свисали на его красиво вылепленный лоб, под ними глубоко посаженные глаза. Что поразило меня в этом облике? То была поднимающая дух сила – захватывающая всего человека, когда он пружинящим шагом пересекал аудиторию. Голова его оставалась в покое, шея откинута назад, как у орла. Как только можно так ошеломляюще быть похожим на орла, подумала я. «Посмотри,– сказала я брату, - он, должно быть, йог». Это был Рудольф Штайнер». Маргарита написала записочку после лекции, и доктор Штейнер (в ту пору он возглавлял теософическое общество Германии) ответил ей подробно на ее вопросы. Его ответ она передала позднее в своей книге воспоминаний: «… есть мысли и ощущения, не зависящие от пространства и времени. Если мы будем культивировать в себе подобные настроения души, мы дадим пищу вечному, мы укрепим его, мы сделаем его независимым от нашего физического тела». Он подробно говорил о медитации, с помощью которой в нашей душе образуются сверхчувственные органы, позволяющие ощущать объективный духовный мир, о воспитании мышления… Впервые в жизни я слышала о соответствующем нашему времени пути понимания миров. Я видела вблизи профиль Рудольфа Штайнера, слышала его теплый, полный энтузиазма голос и воспринимала каждое слово как радостное послание». Подозреваю, что подобные откровения Учителя могут не дойти до читателя ни в мутном пересказе Ученицы, ни в бледном переводе с немецкого, просто потеряют свою убедительность в чужом исполнении. О магии речи Штейнера написаны восторженные тома, но достаточно привести оценку русского религиозного писателя, не всегда благоволившего к антропософскому учению Штейнера. Об ораторском искусстве Штейнера этот писатель (Николай Бердяев) сказал так: «Его манера говорить была магическим актом овладения душами при помощи жестов, повышений и понижений голоса, меняющегося выражения глаз. Он гипнотизировал своих учеников, некоторые даже засыпали». К 1908 г. Маргарита Сабашникова уже рассталась с Волошиным. Она жила за границей, странствовала, писала мистические картины (например, «Три жертвы») под влиянием антропософского учения Штейнера. Она присутствовала на докладах Штейнера, на семинарах, участвовала в постройке знаменитого Гетеанума в швейцарском Дорнахе, расписывала малый купол. Отныне творчеством ее руководил великий Учитель Штейнер. 252 Согласно объяснениям знатока (Э. Вандерхилл) Штейнер «соотносил все виды искусства с человеческими телами так: архитектура отражала человеческое тело, скульптура – эфирное тело, живопись – астральное дело, музыка – Эго или Дух, поэзия – следующее тело, Духовное Я, а эвритмия (практическое искусство движения, разработанное Марией фон Сиверс) – еще более высокое тело, Жизненный Дух». Надо напомнить, что руководитель германского отделения Теософического общества Рудольф Штейнер в 1912 г. порвал с теософией и поднял знамя антропософии. Как сообщают нынешние знатоки, «Штейнер, будучи искренним христианином, не признал Кришнамурти… в качестве нового Христа». Разногласия Штейнера с теософами, похоже, углубились под влиянием его жены, бывшей актрисы из Прибалтики Марии фон Сиверс, «питавшей страсть ко всем видам публичных и драматических выступлений». Это она разрабатывала систему эвритмических танцев и вообще тяготела к языку искусства. В поисках самого краткого определения отличий антропософии Штейнера от прочей теософической мистики, обращусь к коротенькому наблюдению Л. Повельса: «Поиски Штейнера исходили из той предпосылки, что человеческий дух вмещает всю вселенную и способен на деятельность неизмеримо большую, чем утверждают признанные светила психологии. И действительно, некоторые открытия, сделанные Штейнером в области биологии (об удобрениях, которые не вредят почве), в области медицины (использование металлов, влияющих на метаболизм) и особенно в области педагогики (ныне в Европе работает много штейнеровских школ) обогатили человечество. По Штейнеру поиски «магического» происходят в сферах «черной» магии и «белой» магии. По его мнению, теософия и различные школы новоязычества черпали силы в подземном мире Зла и возвещали демоническую эру. В собственном учении он стремился обратить учеников к моральной доктрине, черпающей силы в источниках добра. Он стремился к утверждению мира Добра. Ранние нацистские сообщества приняли Штейнера в штыки. Они разгоняли штейнеровские собрания и угрожали смертью их участникам, в 1924 г. изгнали их из Германии в Швейцарию, а храм в Дорнахе подожгли. Сгорели архивы, и год спустя Штейнер умер». Последних подробностей нет в книге Маргариты Сабашниковой, но ведь ей довелось работать над книгой в не слишком безопасном для слова 1942 г. Впрочем, вернемся в спокойные предвоенные годы. Тетушка Александра, которой покойная бабушка Маргариты оставила «несколько мильончиков», позволяла племяннице не стеснять себя в средствах, и вот типичный маршрут на тогдашних путях художественных и духовных поисков Маргариты: «Теперь моя жизнь благодаря свободе передвижения… стала еще более непостоянной. Например, я решила, сняв только что мастерскую в Париже, 253 провести зиму в Риме и послала туда все свои пожитки, но потом осталась в Мюнхене. В другой раз на обратном пути из Праги (где читались лекции об оккультной физиологии) в Париж я остановилась в Штутгарте, чтобы прочесть в местной библиотеке книгу о мистиках, необходимую для предисловия к моему переводу Экхарта, но поэтичная резиденция, какой был тогда еще город, понравилась мне настолько, что я провела несколько недель в отеле «Серебро», где смогла хорошо поработать. А вечерами я очень часто ходила в оперу, спектакли которой проходили тогда на сцене Временного театра. Была ли эта симпатия предчувствием того, что этот город однажды станет моей второй родиной?» Вопрос риторический. Но можно подтвердить, что М. Сабашникова действительно дожила девятый десяток своей жизни в штутгартском доме престарелых и умерла в Штутгарте на десятом. Хотя труднее сказать, сколько могли стоить студия в Париже, отель в Штутгарте и все эти разъезды по Европе накануне Великой войны… Иные из редких поисков и неблизких путешествий М. Сабашниковой проходили даже в рамках Российской Империи. Так летом 1910 г., услышав от писателя Ремизова, что где-то в неблизком Верхотурье проживает старец Макарий, который один может знать, заниматься ли Маргарите живописью, она отправилась с отцом в Верхотурье… На первый взгляд, самым неразумным из маршрутов странницы был, видимо, тот, который она избрала в 1917 г., когда после многих лет заграничных странствий, антропософских штудий, трудов и эвритмических танцев отправилась вдруг в Москву с группой возвращавшихся на родину социалистов. О русском 1917 г. написаны сотни книг. Недавно я прочел в новейших московских трудах академика Окорокова и профессора Назарова, что все обстояло очень просто: еврейские банки решили погубить православие и для этого сгубили Россию. Вполне доступное объяснение. Хотя в эту схему все же не укладываются истории художницы Сабашниковой, поэта А. Блока или художника А. Н. Бенуа, возлюбивших революцию и даже большевистский путч. Что до февральской революции, то о ней так писал из России дочери Маргарите за границу мирный коммерсант Василий Сабашников: «Мы переживаем чудо! Русский народ с утра сегодняшнего дня отказался от водки. Россия свободна! Все люди на улице чувствуют себя братьями, обнимаются и целуются, как на Пасхе. Поздравляют друг друга с великой, бескровной русской революцией!» Маргарита рванулась в Россию, но путь был закрыт – шла война. В конце концов, художнице удалось попасть в поезд с русскими социалистами, которых немецкое командование решило пропустить в Россию для подрыва русского фронта. В первом поезде этой «пятой колонны» и был «пломбированный вагон» с главными подрывниками и самим Лениным. Но что могла понимать во всем этом зацикленная на своем душевном благополучии поклонница Штейнера? Позднее она, впрочем, объяснила в 254 своих мемуарах (в связи с рассказом о мясном супе, приносимом в их вагон добрыми немецкими солдатами): «О всемирно-историческом значении этого поезда и той причине, по которой Людендорф допустил возможность подобного передвижения, я не имела тогда ни малейшего понятия. Я не знала, что с первым таким поездом отправились в Россию Ленин и другие коммунистические лидеры. С нашим поездом ехали отставшие с семьями, как правило, грязные, нервные и заносчивые люди: это было как бы прелюдией к предстоящим событиям». Путешествие на родину было долгим и невеселым. Бедную женщину неоднократно обкрадывали в дороге, с огромным трудом она добралась в Москву: «Бледные и измученные, оборванные люди стояли на улицах в длинных очередях у магазинов. Ожесточенные, даже преисполненные ненавистью лица. Таких злых лиц я никогда не видела в России – словно все, что прежде униженно и подавленно пряталось по подвалам, вышло теперь на свет». Это было только началом… Она пережила в России страшных пять лет (до 1922 г., когда ей удалось выехать за границу «на лечение»). У нее осталось самое светлое воспоминание об этих годах: она впервые была тогда занята и «востребована», ей впервые пришлось искать крышу над головой и зарабатывать на хлеб (на пайку хлеба). Она работала секретаршей в большевистском Пролеткульте (хотя была уверена, что «большевизм, такой чуждый русскому народу, удержится лишь недолгий промежуток»), потом она трудилась на какой-то мелкой должности в театральном отделе и в «школе для гениальных детей». Она встречалась с замечательными людьми (вроде князя С. Волконского или Андрея Белого, которым тоже впервые пришлось отрабатывать свою пайку), бывала на совещаниях у возглавлявшей русские театральные дела сестры Троцкого мадам Каменевой, имевшей родовспомогальный опыт и даже акушерское образование. Пришлось бедной Маргарите и доходить в больничной тифозной палате («мы лежали на носилках в снегу перед величественным зданием в стиле барокко эпохи Павла I»), и голодать, и хоронить близких… Довелось ей также (все за ту же пайку и крышу над головой) рисовать по фоткам портрет самого товарища Ленина, о котором она знала не слишком много: «Бруни, знавший его, описал мне его краски: свежий теплый тон его лица… абстрактный интеллект в сочетании с высокой энергией… чувства, середины ему не хватало… Он стремился осуществить абстрактный идеал. Террор тоже был для него абстракцией». Что касается красного террора, то он, похоже, не сильно занимал художницу, все же слышавшую по ночам расстрельную пальбу. Безграмотные партячейки, мешавшие работать, и комиссар-террористка, собиравшая на нее кляузы, тоже не смущали душевный покой Маргариты. Зато ее до слез трогала солидарность собратьев-антропософов, помогших ей уцелеть. И главное – представилась возможность передавать уроки Учителя и его жены-актрисы на собраниях Антропософского общества. 255 Антропософское общество открылось в Москве 20 апреля 1913 г. в день заложения краеугольного камня дорнахского Гетеанума. К антропософии тянулись люди самые что ни есть «культурные» (Белый, Волошин, Вяч. Иванов…). Даже сам Бердяев… позднее, впрочем, изведав во «внутренней» лубянской тюрьме «эти страхи, соприродные душе», православный писатель Бердяев стал осторожнее относиться к тогдашней «моде на мистику» и в своем «Смысле творчества» уже упоминал о ней вполне иронично: «В нашу эпоху есть не только подлинное возрождение мистики, но и фальшивая мода на мистику… мистика делается достоянием литературщины и легко сбивается на мистификацию. Быть немного мистиком ныне считается признаком утонченной культурности, как недавно еще считалось признаком отсталости и варварства». Но эта ирония пришла позднее, а пока, в 1920-м… Объявившуюся в московском антропософском обществе после революции Маргариту Сабашникову приняли со всем почтением, которого заслуживала ученица самого доктора Штейнера. В бесценном альманахе Владимира Аллоя «Минувшее (вып. 6, 1992 г.) мне попались трогательные воспоминания антропософки М. Жемчужниковой о заседаниях Московского антропософского общества в начале 20-х г., и там, конечно, была упомянута Маргарита Сабашникова:. «На рождественском собрании 1920 г. эвритмический кружок, руководимый Сабашниковой, показал 2 главу Евангелия Луки: «В те дни вышло от кесаря Августа повеление…» Начинающие эвритмистки знали только гласные звуки и выполняли их движениями рук. Так как согласных в каждом слове обычно больше, чем гласных, то для синхронного их исполнения требуется более быстрый темп. Кроме того, внутренняя жизнь читаемого текста выражается движениями ног, вычерчивающих на полу определенные формы. Это могла только сама Маргарита Васильевна… Эвритмистки – все в белом – стояли полукругом. Впереди, в центре эллипса, образуемого полукругом эвритмисток и дополняющим их полукругом зрителей, стояла Маргарита Васильевна. … то была уже не Маргарита Васильевна, знакомая нам личность! Высокая, тонкая, овеянная белым сиянием покрывала, развевающегося от ее движений, она превратилась в белое пламя!...» Маргарита Васильевна посещала в ту пору и заседания вольной философской академии, и четверги Бердяева, и еще, и еще… «Вы не представляете себе, в какой духовной роскоши вы живете в Москве», - сказал Маргарите посетивший ее немецкий журналист Шеффер. Художница охотно с ним согласилась, но, почувствовав, что долго в такой роскоши не протянет. Попросила журналиста переправить для нее с Запада приглашение за границу «для лечения легких». Пришло приглашение из Голландии… «Я все откладывала отъезд… - вспоминала позднее Сабашникова, - мне многое хотелось еще увидеть здесь в России и пережить». 256 Выяснилось, что Маргарита и впрямь многого на родине еще не видела… К тому же надо было заработать деньги на отъезд, хотя бы на дорогу. И тут Маргарите подвернулся заказ от издателя на серию портретов знаменитых людей. Она написала портреты Бориса Зайцева, Павла Муратова, Николая Бердяева, Вячеслава Иванова, Михаила Чехова и многих других. Старый друг-антропософ доктор Трапезников помог Маргарите (через семью Троцкого) получить визу на отъезд, и она уплыла в мирную Голландию, где ей снова стало скучно… Вскоре после приезда Маргариты на Запад дела доктора Штейнера пришли в полный упадок, и был подожжен Гетеанум. В своих мемуарах Маргарита Сабашникова не сообщает никаких подробностей о врагах Доктора, о предъявленных ему конкурентами-теософами и друзьями Гитлера обвинениях (в симпатии к социалистам и евреям, в подрыве немецкой военной силы и в чем-то, еще столь же ужасном). Может статься, что Маргарита поостереглась писать обо всем этом при Гитлере, при котором не было, конечно, столь разветвленной системы лагерей и доносов, как при его учителях Ленине и Сталине, но все же были сделаны населению эффектные «прививки страха» и существовала, наряду с внешней, и «внутренняя цензура. Остаток своей долгой жизни Маргарита Сабашникова прожила под знаком учения Штейнера, занималась с учениками в вальдорфских школах, основанных на педагогических идеях Штейнера. Помнится, я еще застал такую школу в Париже в 80-е г. прошлого века. В ту пору в этих школах насчитывались в мире десятки тысяч нормальных учеников (не считая детей слаборазвитых). Благожелательные исследователи (такие как Э. Вандерхилл) ценят педагогические достижения доктора Штейнера даже выше, чем его идеи в сфере биодинамического земледелия (роль гумуса), экологии и медицины (духовная диагностика). Те же исследователи сообщают, что Штейнер «выделял в детстве три семилетних стадии, приблизительно соответствующие трем функциям астрального тела - воле, чувству и мышлению – и старательно разрабатывал учебные программы, соответствующие этим стадиям». Основными составляющими штейнеровской педагогики было «доверие и самоотверженность»: «Личные отношения между учителем и ребенком ставятся здесь превыше всего… своей добротой и идеализмом учителя пробуждают в детях чувство удивления и восторга перед миром и любовь к наукам и искусствам… Труды Рудольфа Штейнера очень привлекают тех, кто хочет жить в согласии с окружающей средой и в гармонии с миром природы. Они привлекают и тех… кто черпает высший смысл своей жизни из воспоминаний о прежних воплощениях и придает большое значение информации, полученной сверхчувственным путем». Сама Маргарита о педагогической системе Штейнера писала вполне туманно: «Целью педагогики Рудольфа Штейнера, берущей за основу тройственность человеческой сути – дух, душу и плоть, было прежде всего 257 воспитание в человек, поддержание творческих сил, заложенных в каждом ребенке, стремление не погубить их, чрезмерно развивая интеллект, а способствовать всестороннему развитию его способностей…». До конца своих дней художница Сабашникова была озабочена проблемами штейнеровской школы. Но она не окончательно забросила и живопись: расписывала храмы «Христианской общины, развивавшей теологические идеи Штейнера. Современники Маргариты Сабашниковой, да и все, кому доводилось видеть ее работы, сходились на том, что была она по-настоящему талантлива. Но работ от нее осталось мало. Коктебельская подруга Макса и Маргариты Евгения Герцык объясняла это ее непрестанным томлением духа (в большей степени, чем отсутствием привычки к упорному труду): «как многие из моего поколения, она стремилась решить все томившие вопросы духа и решала их мыслью, не орудием мастерства своего, не кистью…» Когда ей было лет шестьдесят, и в России шла страшная война, Маргарита писала в Штутгарте свою знаменитую мемуарную книгу «Зеленая змея». Интересная, вполне профессиональная немецкая книга, из которой много можно узнать подробностей о людях Серебряного века… Много узнать, но не так много понять. Книга начинается с описания счастливого детства в роскошном родительском доме на углу Большой и Малой Никитской, близ знаменитой церкви. Конец праздничной обедни, звонят колокола «сорока сороков православной Москвы: «Морозный, пронизанный солнцем воздух дрожал от знаменитого перезвона московских колоколов: от медленных низкогудящих ударов больших колоколов, на фоне которых звучали на разные лады меньшие колокола сорока сороков колоколен… Нарастающий звон колоколов был столь мощным, что дрожало в груди от их колебаний. Словно на весь город сплошным потоком спускались ликующие ангелы, несущие благую весть: и свет, и звук сливались воедино в этом ликовании». Но кто объяснит, как приходят от этого ликующего звона к полигамным страстям на «башне» или к сверкающим глазам Великого Доктора, к его тысячам фей и гипнотических заклинаний, подобным такому: «Мы не должны просто избегать Люцифера, а должны завоевать его силы для наступательного движения человеческой культуры. То же и с Ариманом… во взаимодействии зла и добра, в объединении силы становятся плодотворными именно в состоянии равновесия, которого мы должны добиваться в жизни, учась в определенной степени овладевать ариманическим и люциферическим…». «Меня пишет Браз…» 258 Во Франции есть два уголка, где на память мне с неизменностью приходит имя известного русского художника-портретиста и пейзажиста Осипа Браза. Второе из этих мест, несмотря на его чудную зеленую красоту, воспоминания вызывает обычно печальные, тогда как первое, в значительной степени утратившее свою былую зеленую прелесть, наводит на очень милые воспоминания – о Чехове, который как бы «нанюхался хрену» о влюбленных «антоновках», так высоко ценивших в мужчине не только стать, но и талант, о губернаторше с кошачьей накидкою на плечах. Так что, рассказ я, пожалуй, начну с первого воспоминания (не знаю, надо ли оговаривать, что воспоминания мои по большей части книжные, почерпнутые из чужих писем и мемуаров, ибо самому мне пока не исполнилось ни 90, ни даже 80, и ни с Осипом Бразом, ни с Антоном Павловичем Чеховым, ни даже с Горьким и Бенуа я лично не был знаком. Однако, места эти, в которых я бываю нередко и о которых берусь поговорить, они целы, и русский след там вполне различим… Итак, первое из упомянутых мной в связи с художником Осипом Бразом мест находится на Лазурном Берегу Франции, в курортной Ницце. Там, на улице Гуно, в пяти минутах ходьбы от городской железнодорожной станции и в десяти минутах ходьбы от моря и английского променада стоит до сих пор в поредевшем садике былой русский пансион. Нынче там, как и в старину, гостиничка «Оазис», довольно дорогая, но все же не слишком – всего три звезды. Для нынешних русских она слишком скромна, так что селятся в ней среднего достатка нынешние американцы, хотя, по моему непросвещенному мнению, селиться-то в ней пристало бы в первую очередь русским. Впрочем, и русские, и местные власти недавно проявили к этой гостиничке редкостное внимание – наляпали на стену огромный и довольно безвкусный «чеховский» барельеф, а замусоренный тупичок на другой стороне улицы Гуно переименовали в улицу Антона Чехова, отметив тем самым столетие со дня смерти писателя. Чехов в этом русском пансионе провел однажды много счастливых месяцев 1897 и 1898 гг., а потом даже приехал сюда вторично, только уже ненадолго, потому что был к тому времени женат и, понятное дело, озабочен. Ну, а в первый-то приезд, несмотря на чахотку, Антон Павлович был беспечен и весел, грелся на зимнем ривьерском солнышке, читал французские газеты, рассказов почти не писал, а писал смешные письма влюбленным в него молодым женщинам, которых в его кругу прозвали «антоновками». Одну из них, молодую художницу Александру Хотяинцеву, Антон Павлович даже заманил в гости, сообщив в письме к ней, что пансион его недалеко от станции – спустишься по лесенке и пройдешь чуток по улице Гуно. Еще он сообщил, что кормят в пансионе на убой, русская повариха, прижившая черную доченьку от какого-то матроса, готовит отлично, а стоит здесь все – и комнаты, и питание – просто смехотворно дешево. И молодая художница приехала, развлекала как могла Антона Павловича, а соседки по пансиону, жены отставных губернаторов и предводителей дворянства, передавали друг другу шепотом за завтраком, что вот, дескать, незамужняя 259 дама выходит очень поздно из комнаты холостого неодетого мужчины, какой конфуз… но в конце концов, Антон Павлович подружился и с этими уездными дамами, охотно обсудил с ними наилучшие способы игры в Монте-Карло, а также успешные эскапады поварихиной черномазой доченьки, которая подрабатывала чем-то таким заполночь на панели близ Английской Набережной. К Чехову часто заходили в пансион приезжие русские литераторы, а также заезжал умнейший человек, профессор-социолог Максим Ковалевский, у которого возле Ниццы, в Болье, была небольшая вилла. А однажды пришел к Чехову – сюда же, на улицу Гуно – известный художник Осип Браз, Чехов сообщил в письме молодой и любезной художнице Александре Хотяинцевой: «Меня пишет Браз. Мастерская. Сижу в кресле с зеленой бархатной спинкой. En face. Белый галстук. Говорят, что и я, и галстук очень похожи, но выражение, как в прошлом году, такое, точно я нанюхался хрену… Кроме меня, он пишет также губернаторшу (это я сосватал) и Ковалевского. Губернаторша сидит эффектно, с лорнеткой, точно в губернаторской ложе, на плечи наброшен ее кошачий мех – и это мне кажется излишеством, несколько изысканным…». По-моему, восемь строчек кратенького письма, окрашенного печальной чеховской улыбкой, стоят иного рассказа, и я невольно вспоминаю их каждую зиму, спускаясь по ступенькам от городского вокзала и проходя по улице Гуно мимо былого русского пансиона к английской набережной, Променад дез Англэ. Да и чеховский портрет Браза вспоминаю, как раз в Ницце Осип Эммануилович Браз и написал окончательный его вариант. А заказан был портрет Третьяковым, для его галереи – это была для молодого художника немалая честь. Хотя Бразу было в ту пору всего 25 лет, П. М. Третьяков еще и до того купил у него портрет Е. Мартыновой, который был отмечен премией Московского общества любителей художеств. Так что, прежде чем проделать несложный пятиминутный (к тому же под гору) путь от вокзала к русскому пансиону в Ницце, молодой художник Осип Браз уже успел завершить нелегкий путь ученья и созревания, о котором расскажу вкратце. Родился он в Одессе, учился в Одесской художественной школе, окончил ее с медалью, а потом три года проучился в Мюнхене у знаменитого Холлоши (у которого учились и Добужинский, и многие другие русские художники) Посещал он также в Мюнхене класс рисунка в местной Академии художеств. С 1894 г. Браз учился живописи в Париже, жил в Амстердаме и в Гааге, дотошно изучал старых голландских мастеров. А в 1895 г. Браз вернулся в Россию и поступил в Академию художеств к Репину. Как справедливо отмечают биографы, от Академии ему больше всего нужен был диплом, потому что без диплома ему, иудею, в русской столице жить воспрещалось. Если помните, даже прославленного Бакста, кавалера ордена Почетного легиона и без пяти минут русского академика, в два счета выгнали из 260 Петербурга, как только он после развода с женой вернулся из лютеранства в иудейство. Трудолюбивый искусник Браз написал автопортрет, а также портреты Кардовского, Рушица и Мартыновой, после чего, в 1896 г. получил звание классного художника I степени и гарантию того, что его из столицы не выгонят. В девяностые годы Браз создает цикл портретов своих коллегхудожников, а в 1987 г. начинает, по заказу Третьякова, работу над чеховским портретом, который и поныне считается лучшим портретом писателя. Так что, в курортной Ницце на скромной рю Гуно , которая кишит нынче африканскими лавками, найдешь не только следы русских писателей Салтыкова-Щедрина и Чехова или следы политических деятелей Ковалевского и Ульянова-Ленина, но и следы художника Осипа Браза, которому судьба сулила еще не раз возвращаться во Францию, но кто мог это все предсказать в том мирном 1897-м… Завершив работу над портретом Чехова, молодой, но уже маститый живописец Браз, возвращается в Петербург и, начиная с 1900 г., дает в своем ателье на набережной Мойки частные уроки живописи. Одна из его учениц, родственница Бенуа (рожденная Лансере) Зинаида Евгеньевна Серебрякова стала с годами воистину прекрасной портретисткой. Другая, Ангелина Белова, встретила на свою беду в Бельгии мексиканского художника Диегу Ривера, вышла за него замуж, потом была им брошена, но на шестом десятке лет уехала в Мексику и прожила там в трудах до девяностолетнего возраста, став вполне знаменитой за океаном… У Браза было много учеников также в Рисовальной школе Общества поощрения художеств, да он и сам долго не переставал учиться. С 1907 по 1911 г. он жил во Франции и там испытал влияние французского авангарда, что заметно в его тогдашних крымских, бретонских и финляндских пейзажах. Еще в 1900 г. Браз сближается с Александром Бенуа, входит в объединение «Мир искусства» и даже исполняет в нем функции казначея. Как и другие мирискусники, он состоял одно время в Союзе русских художников, но в 1910 г. вместе с Бенуа, Добужинским и другими вышел из Союза, а с 1911 г. регулярно участвовал в выставках «Мира искусства». В 1914 г. Осип Браз становится академиком. Как и сам Бенуа, как и большинство петербургских художников, Браз вполне оптимистически встретил не только революцию, но и октябрьский большевистский путч. Он продолжал писать натюрморты и портреты, правда, пока не большевистских вождей, а коллег-художников: написал, в частности, портреты Константина Сомова и Мстислава Добужинского. С былым главой мирискусников Александром Бенуа Браза сближала (и разделяла) страсть (и соперничество) коллекционеров, всепоглощающий интерес к искусству и политике, сложности, связанные с войной (у Браза и Бенуа жены были немки). В интереснейшем дневнике А. Н. Бенуа за 1916 1918 гг. имя Браза попадается то и дело. Вот некоторые из тогдашних дневниковых записей, сохраненные и преданные гласности Александром 261 Бенуа, как свидетельство о психологии маститых столичных художников, застигнутых российской катастрофой, но пока еще даже не подозревающих о ее размерах: «Среда, 5 октября (1916 г.) … К четырем с Акицей (жена Бенуа Анна Карловна – Б. Н.) у брата (художника Осипа Э. Браза). Показывал свои летние этюды. Они свежее прежних, много новых приобретений среди его старинных картин. Почти исключительно голландцы. …Четверг, 2 февраля (1917 г.) … Заходил к Бразу. Ну как он может верить, что приобретенная им недавно «Голова воина» - Рембрандта?! Это явная подделка, и даже плохая. На всякого мудреца довольно простоты…» Примечание автора дневника: «Вскоре тогда же обнаружилось, что и эта голова, и другой еще, тоже приобретенный («по случаю») Рембрандт – работы известного антиквара и изготовителя фальшивок Вечтомова». «Среда, 1 марта (1917 г.) … В 11 ч. пришли Браз и Аллегри – оба почти сияющие и даже на радостях принявшие какую-то прокламацию, подписанную Родзянко, за объявление «Республики». Спрашивается, чему они радуются? Им-то какая польза будет от того, что у нас вместо упадочной монархии водворяется хаотичная республика? … Браз рвет и мечет по адресу полиции, с которой у него как у еврея, вероятно были какие-то свои счеты. С другой стороны, каждый из них рассказывает по анекдоту (едва ли вполне достоверному), рисующему добродушие и здравый смысл солдата (пойдет теперь эта идеализация «народа»). Браз, кроме того, рассказал со слов одного гардемарина, в больших подробностях про взятие штурмом морского корпуса…» «Четверг, 2 марта (1917 г.) … Стены Литовской тюрьмы («замка» представляют самое печальное зрелище… Браз видел пожар тюрьмы вблизи…» «Среда. 5 апреля (1917 г.) … К обеду финны: Риссанен.. Еренфельдт… Энкель, а из русских Нарбут, Добужинский, Шмаков. Позже подошли Браз с женой, Саша Яша (А. Яковлев – Б. Н.), Анна Петровна, в полночь – Галлен с сыном, генерал Лоде и Каянус… Мне душу вывернул Браз, тоже теперь вдруг забеспокоившийся, чтобы немцы нас не заселили… Общее возмущение против Ленина. Напротив, в сердцах наших большевичек – тот же Ленин сменил Керенского. Сколько еще предстоит пакости, пошлости и крови! И все это построено на таком безмозглом и бессовестном брюзжании буржуазных салонов…» «Среда, 26 апреля. … Анна Петровна распространяет теперь слухи, что Ленин привез от Вильгельма 70 000 000 руб. и прямо швыряет их на митингах в народ. Браз … тоже не прочь этому верить. Забавно, что хотя он теперь «вояка до конца», 262 хотя он читает все газеты и даже «Правду», однако ровно ничего не знает из того, что творится…» (Бенуа был в ту пору яростным защитником Ленина и клеймил «агитаторов буржуазии», вроде милой Анны Петровны ОстроумовойЛебедевой – Б. Н. ). «Суббота, 29 апреля. Вечером были у Нотгафтов. Сам Федор Федорович и его свояк вполне пацифисты… Зато Анну Петровну и Браза пришлось обрабатывать, причем я заметил, что больше всего их пугает обвинение в буржуазности и милитаризме». «Вторник, 13 июня (1917 г.) … Бразу, а также Коле Лансере придется до срока вернуться с дачи, ибо их запасы финских денег подходят к концу, а русские – не принимаются вовсе. В связи с этим у недавнего вояки Браза появились и нотки: «Надо кончать войну». «Воскресенье, 26 ноября (1917 г.) … в 3 ч. я должен был отправиться в Зимний, но помешал Браз. Изредка приятно видеть человека, с такой страстью увлекающегося, но все же он может ох как надоесть, когда заведет часа на два какой-либо рассказ о том, как ловко от обделал какое-либо дельце и задаром купил настоящий «мировой» шедевр. Принес он с собой похвастать прелестный овальный портретик – нечто среднее между Леписье и Давидом, а также два скульптурных распятия (одно деревянное, другое бронзовое). На днях он продал шведам за хорошие деньги целую партии своих старинных картин, в которых он разочаровался, но вот с этими перлами он не расстанется…» «Пятница. 1 декабря (1917 года) … политическое положение остается, судя по газетам Смольного, далеко не выясненным… А как понять, что когда мы в 7 ч. возвращались от Браза, то позади нас шел, в продолжение всего перехода через Николаевский мост, военный оркестр, игравший «Марсельезу»… Жена Браза еще более патриотичная, чем когда бы то ни было. Эта дочь (правда, приемная) немцев считает своим долгом ненавидеть и ужасаться их победам… У Браза опять новости: довольно грубый по технике, но очень поэтичный пейзаж (рыбацкая деревня под бурным небом) Ван Бреста (1652 или 1654), бронзовое распятие, в котором он не прочь увидать самого Бенвенуто Челлини, и другое, деревянное распятие…» «Среда, 27 декабря. К завтраку Браз, пришедший по поручению своего друга Аничкова, которого аграрные беспорядки разорили и который теперь готов выставлять свои пейзажи на наших выставках… я… оценил в этих скромных … этюдах их искренность… Браз заодно похвастал своими новыми приобретениями… 263 За завтраком Браз рассказывал о своем тесте Ландегофе, который снова здесь, но на сей раз в делегации Мирбаха…» «Пятница, 12 января (1918 года) … Утром с Фокиным у шведского посланника. По дороге… на мосту встретил Браза, направлявшегося в Академию для нашей выставки…» И еще записи, и еще… описаны аукционы, где были вместе с Бразом, распродажи, совместные обеды и завтраки, споры и экспертизы, но на дворе уже 1918 год, и очень скоро долгожданные миротворцы-большевики посадят всех на диету, а потом и на голодную казенную пайку, при помощи которой (не без попутных угроз всесильной ЧК) научатся управлять душами хлипкой столичной интеллигенции… В 1918 г. академик Осип Браз был назначен ученым хранителем и заведующим отделом голландской живописи Эрмитажа. Это не удивительно: он был великий знаток голландской живописи и сам давно уже собирал голландцев. В Эрмитаже он успешно реставрировал старые картины, в частности, «Натюрморт с атрибутами искусства» Шардена. С 1920 г. Осип Браз руководил живописной мастерской в преобразованной Академии художеств – в так называемом Высшем государственном художественнотехническом институте и в Свободных художественных мастерских, которые на тогдашнем новоязе называли труднопроизносимо-сокращенно – ВХУТЕИН и Ге-Се-Ха-Ме. Все эти разнообразные, неустанные труды (а может, и коллекционерство тоже) помогли Бразу кое-как выжить с семьей даже в бесчеловечные годы голода, разора и насилия. Однако, не имея опыта жизни при тоталитарном режиме, Браз не учел, что коллекционерство является при этом режиме опасным, ибо связано во-первых, с обладанием частной собственностью, что уже само по себе является преступлением, вовторых, сопряжено с операциями по покупке и обмену ценностями искусства и связано, естественно, со знанием цен и ценности произведений искусства, которым обычно обладает знаток живописи. Все это стало отныне преступлением, ибо и собирать, и менять, и продавать (или как говорили, «разбазаривать за границей») произведения искусства и даже знать подлинную им цену – все это теперь могла только власть, прочие же знатоки этих тайн наверняка могли рассчитывать лишь на скамью подсудимых. Именно так и гласило постановление Коллегии ОГПУ от 16 марта 1925 г. по поводу преступных действий академика Браза, который к тому времени успел просидеть уже около года в застенке: его обвиняли «в скупке картин и художественных ценностей, неофициальной экспертизе по закупке картин для вывоза их за границу и в передаче секретных сведений об экономическом положении СССР английскому представителю». Все эти страшные слова – «скупка», «передача секретных сведений», «экономическое и политическое положение СССР» нужны были, конечно, для устрашения собирателя, наглого собственника и знатока цен (это знание, наверно, и было знанием «секретных сведений об экономическом положении СССР». В общем, перед ОГПУ предстал типичный «враг народа», которому впаяли довольно скромный по сравнению со сроками более позднего и более развитого 264 социализма трехлетний срок заключения в Соловецком концлагере. Впрочем, и предварительное заключение и три года на Соловках – это все еще надо было пережить, чтоб потом честно получить добавку срока «по рогам». Надо было выжить… Браз не оставил нам рассказа о своей отсидке или хотя бы о прибытии везущего зеков корабля «Глеб Бокий» с материка на Соловки, но бывший в ту пору юным (а потом проживший долгую-долгую жизнь) академик Дмитрий Лихачев в своем очерке о Соловках, где он между прочим упоминает о прибытии в новом конвое знаменитого Браза, такое описание оставил, и я из него процитирую небольшой отрывок, хотя бы несколько строк, чтоб стало ясно, о чем шла речь: «На ночь погнали нас на Попов остров, запихнули в сараи, чтобы наутро переправить на (Большой) Остров. В сарае мы всю ночь стояли. Нары были заняты «урками», полуголыми «вшивками», «обстреливавшими» нас вшами, в результате чего мы через час уже были покрыты ими с ног до головы. Клопы ползали темной стеной на лежавших… Снова погрузка днем, на этот раз на пароход «Глеб Бокий»… Вор Овчинников развел нас под лестницу, и нам удалось избежать переполненного трюма, куда отстающих уже прямо спихивали на головы остальных. Затем прибытие на остров, снова пересчеты, дезинфекционная баня N2, где мы сидели в ожидании возвращения нам одежды голыми. Приемка в 13 (Карантинной) роте…, вмещавшей в свои недра более двух тысяч человек… после тяжелых дней сыпного тифа, удивительных встреч и кошмарных снов, от которых психологически спасал меня только «научный интерес» к виденому и стремление все как-то осмыслить в духе моего «школьного мировоззрения»… Вот так спасался от безумия юный Лихачев. Не знаю, как спасался 52летний Браз, который был все же на 30 лет старше Лихачева. За академика Браза долго хлопотали художественные организации Петрограда, и в начале 1926 г., то есть, всего через два года после ареста, он был освобожден досрочно без права проживания в центральных городах. Он был отправлен в ссылку в Новгородскую область, где писал пейзажи, так что от страха спасался Браз живописью. В 1926 г. ему разрешили вернуться в Ленинград, а в 1928 г. разрешили выехать к семье в Германию, откуда он сразу перебрался в Париж. Конечно, перед отъездом всю его коллекцию живописи у него отобрали, или, как элегантно выражается биографический словарь, он «сдал коллекцию в Эрмитаж» (не «продал», а «сдал», но все же можно сказать, что и обменял – обменял на какую ни то жизнь и свободу)… Во Франции Браз занимался живописью и антиквариатом, писал портреты. Через два года после приезда в Париж он провел в галерее Владимира Гиршмана выставку своих работ, посвященных Новгороду. В Берлине и Париже у него прошло еще несколько выставок, так что, можно было бы жить, но беда не отступилась. Жена художника и оба его сына страдали от тяжелой формы туберкулеза, и вылечить их не удалось. Похоронив и жену, и сыновей, художник перебрался в живописный лес, что 265 лежит к северу от Парижа, на пути в Шантийи – в заповедный Ле Лис. Там в лесной чаще, чуть севернее знаменитого аббатства Руайомон вырос в те годы на скрещенье лесных дорог хутор Ле Лис, который оброс мало-помалу «лесной станцией» Лис-Шантийи. Особенно охотно селились там художники, умевшие ценить красоту и покой. Место райское. В этом райском уголке Франции и провел последний горестный год своей жизни русский художник Осип Браз. Там он и умер, совсем еще не старым… Об этом прочитали в эмигрантской газете его друзья по обществу «Мир искусства» и по выставкам «Мира искусства». Их было тогда уже немало во Франции и о них мы расскажем в новой книге… 266