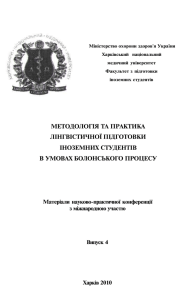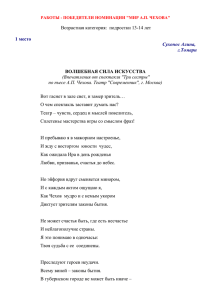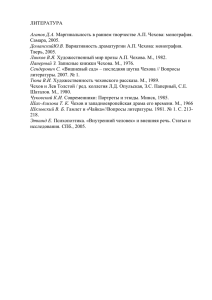1 РАЗМЫШЛЕНИЯ ВОКРУГ МЕДАЛЬОНА:
advertisement
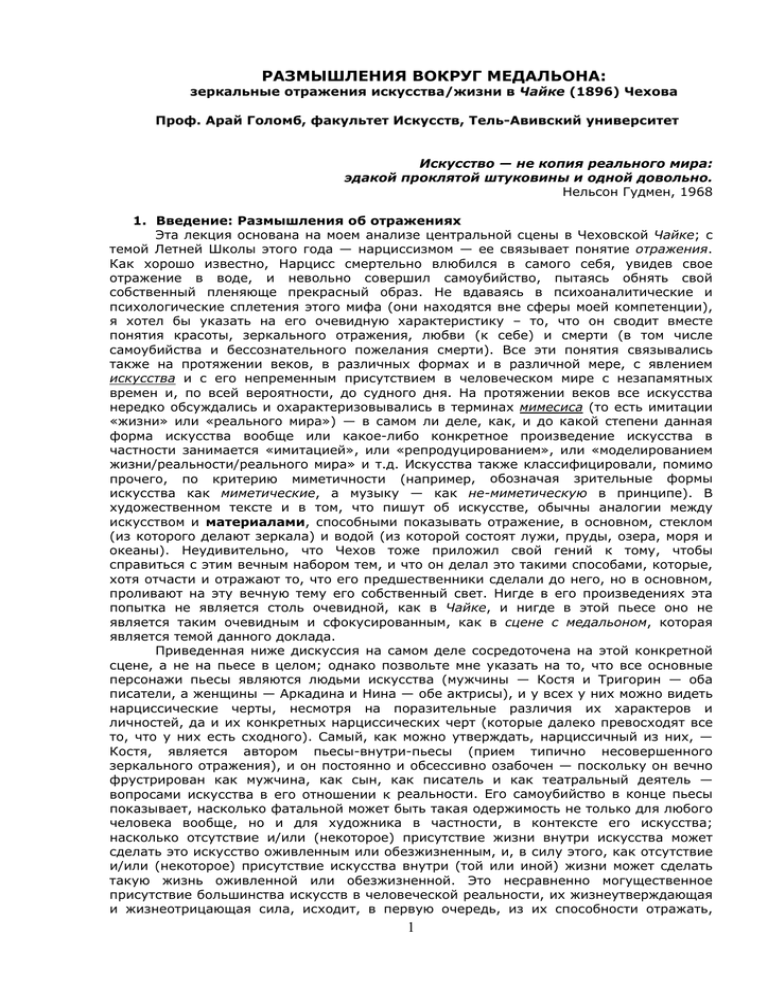
РАЗМЫШЛЕНИЯ ВОКРУГ МЕДАЛЬОНА: зеркальные отражения искусства/жизни в Чайке (1896) Чехова Проф. Арай Голомб, факультет Искусств, Тель-Авивский университет Искусство — не копия реального мира: эдакой проклятой штуковины и одной довольно. Нельсон Гудмен, 1968 1. Введение: Размышления об отражениях Эта лекция основана на моем анализе центральной сцены в Чеховской Чайке; с темой Летней Школы этого года — нарциссизмом — ее связывает понятие отражения. Как хорошо известно, Нарцисс смертельно влюбился в самого себя, увидев свое отражение в воде, и невольно совершил самоубийство, пытаясь обнять свой собственный пленяюще прекрасный образ. Не вдаваясь в психоаналитические и психологические сплетения этого мифа (они находятся вне сферы моей компетенции), я хотел бы указать на его очевидную характеристику – то, что он сводит вместе понятия красоты, зеркального отражения, любви (к себе) и смерти (в том числе самоубийства и бессознательного пожелания смерти). Все эти понятия связывались также на протяжении веков, в различных формах и в различной мере, с явлением искусства и с его непременным присутствием в человеческом мире с незапамятных времен и, по всей вероятности, до судного дня. На протяжении веков все искусства нередко обсуждались и охарактеризовывались в терминах мимесиса (то есть имитации «жизни» или «реального мира») — в самом ли деле, как, и до какой степени данная форма искусства вообще или какое-либо конкретное произведение искусства в частности занимается «имитацией», или «репродуцированием», или «моделированием жизни/реальности/реального мира» и т.д. Искусства также классифицировали, помимо прочего, по критерию миметичности (например, обозначая зрительные формы искусства как миметические, а музыку — как не-миметическую в принципе). В художественном тексте и в том, что пишут об искусстве, обычны аналогии между искусством и материалами, способными показывать отражение, в основном, стеклом (из которого делают зеркала) и водой (из которой состоят лужи, пруды, озера, моря и океаны). Неудивительно, что Чехов тоже приложил свой гений к тому, чтобы справиться с этим вечным набором тем, и что он делал это такими способами, которые, хотя отчасти и отражают то, что его предшественники сделали до него, но в основном, проливают на эту вечную тему его собственный свет. Нигде в его произведениях эта попытка не является столь очевидной, как в Чайке, и нигде в этой пьесе оно не является таким очевидным и сфокусированным, как в сцене с медальоном, которая является темой данного доклада. Приведенная ниже дискуссия на самом деле сосредоточена на этой конкретной сцене, а не на пьесе в целом; однако позвольте мне указать на то, что все основные персонажи пьесы являются людьми искусства (мужчины — Костя и Тригорин — оба писатели, а женщины — Аркадина и Нина — обе актрисы), и у всех у них можно видеть нарциссические черты, несмотря на поразительные различия их характеров и личностей, да и их конкретных нарциссических черт (которые далеко превосходят все то, что у них есть сходного). Самый, как можно утверждать, нарциссичный из них, — Костя, является автором пьесы-внутри-пьесы (прием типично несовершенного зеркального отражения), и он постоянно и обсессивно озабочен — поскольку он вечно фрустрирован как мужчина, как сын, как писатель и как театральный деятель — вопросами искусства в его отношении к реальности. Его самоубийство в конце пьесы показывает, насколько фатальной может быть такая одержимость не только для любого человека вообще, но и для художника в частности, в контексте его искусства; насколько отсутствие и/или (некоторое) присутствие жизни внутри искусства может сделать это искусство оживленным или обезжизненным, и, в силу этого, как отсутствие и/или (некоторое) присутствие искусства внутри (той или иной) жизни может сделать такую жизнь оживленной или обезжизненной. Это несравненно могущественное присутствие большинства искусств в человеческой реальности, их жизнеутверждающая и жизнеотрицающая сила, исходит, в первую очередь, из их способности отражать, 1 служить зеркалом, и от их неотрывной связи с понятием красоты и поисков ее; от постоянной потребности сравнивать, сопоставлять и противопоставлять два мира: «сотворенный Господом» мир реальности и сотворенный человеком мир искусства. «Свет мой, зеркальце, скажи, кто на свете всех милее?» — вопрос, который задает не только завистливая мачеха Спящей Красавицы (Белоснежки), но и, что значительно более важно, человечество в целом, глядясь в неизбежно субъективное и неточное зеркало искусства. Стремление следовать за тайной красоты и узнать, в какой мере она отражает или искажает реальность — один из способов постичь глубочайшую истину и сущность этой жизни и этого мира. Тогда сильнейшие проявления характерной для всего человечества потребности переживать искусство могут быть описаны как аналог нарциссического зеркального отражения и не поддающейся контейнированию, и оттого фатальной, любви к себе. Попытка встретиться с такого рода тайной может быть опасным предприятием, возможно, наказуемым (причиненной самому себе) смертью. Тогда Господнему запрету – «человек не может увидеть Меня и остаться в живых» (Исход 33:20) – можно придать иное толкование, наделив его дополнительными значениями во многих измерениях, в свете некоторых вызывающих благоговейный страх сочетаний, раскрывающихся здесь. Подумайте о таких понятиях как зеркальное отражение; любовь к себе; стремление стать единым с объектом любви; приписываемые искусству свойства подражания жизни и порождения жизни; тройственный союз искусства, любви и красоты; и другие близкие к этим свойства). Теперь подумайте о том, как тесно все они привязаны к понятию тождественности Бога и человека («И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его» (Бытие 1:27), и о смертной каре, грозящей человеку, как только он пытается познать образ Божий, который есть его собственный образ. Древний монотеистический запрет Библии и языческие запреты греческой мифологии, таким образом, взаимно отражают друг друга, внушая верующим в них ужас перед заглядыванием в зеркало. Конечно, можно провести различия между сходством и тождеством, между различными видами любви, красоты и отражения, а также между человеческим и божественным, между любовью себялюбивой и любовью беззаветной, и т.д., и т.п., но мне не хватит места, чтобы углубляться в эти тонкости; важно здесь то, что роковая связь между всеми этими понятиями глубоко укоренена в нашем сознании и никогда не может быть распутана до конца. Теперь, держа в памяти все эти необъятные дали, вернемся к Чайке Чехова. В Чайке ее бесконечные возможности отражения находятся в центре сцены с медальоном, тогда как ее возможная фатальность в конце концов воплощается в самоубийстве Кости (более определенные и обыденные причины которого, такие как фрустрация в сфере романтической любви и собственного художественного призвания, лучше заметны на поверхности пьесы). Цель этих вводных замечаний, таким образом, — поразмыслить над более глубоким и более всеобъемлющим фоном связей между Чайкой и нарциссическим/фатальным отражением, тогда как сама лекция сосредоточена на взаимоотношениях между искусством и жизнью, оставляя тему смерти для дальнейшего исследования. 2. Очертим границы «Сцены с медальоном» Данное исследование случая организовано по модели концентрических кругов, начиная с самой его сердцевины, — нескольких строк, взятых из третьего акта Чеховской Чайки, — через все расходящиеся «круги» значимых внутритекстовых отношений, и завершая самым внешним, вне-текстовым и вне-литературным «кругом» лиц и событий в реальной жизни автора, с одной стороны, и в реальной аудитории (т.е. «в нас»), с другой стороны. В письмах к Суворину в пору написания этой пьесы Чехов говорит: «я… страшно вру против условий сцены», «вопреки всем правилам драматического искусства». Хотя, если взглянуть на более поздние чеховские пьесы (в особенности Вишневый сад и Три сестры), Чайка является сравнительно традиционнореалистической работой, невозможно не видеть, как «страшно» Чехов «врет против» всех мыслимых жанров и «измов», — реализма, натурализма, трагедии, комедии, и т.д. По крайнее мере, тот текст, который будет проанализирован здесь, является одним из самых поразительных и типичных примеров «чеховизма» в драме — того совершенно особенного смешения мудрости, тонкости, сложности, чувствительности, 2 недосказанности, точности, «теплого» сочувствия и «холодной» отстраненности, и других потенциально противоречивых черт и характеристик, о которых так много пишут в литературе о Чехове, пытаясь справиться с колоссальной ответственностью – адекватно описать его неистощимое искусство. Обсуждаемая сцена ограничена «входом» и «выходом» предмета реквизита: медальона с гравировкой. Объединяющая сцену сила медальона в большей мере исходит от значения, которое помещено в нем (то есть его «семантизации»), чем от его чисто физического присутствия. Пока происходящее на сцене напрямую связано с медальоном и надписью на нем, эта сила продолжает действовать. Эта сцена начинается вскоре после начала третьего акта. Молодая Нина Заречная собирается принять два критических решения по поводу своей жизни, которые становятся все более взаимосвязанными: (а) покинуть ли ей тайком поместье своего отца и мачехи и поехать в Москву, чтобы стать актрисой, и (b) следовать ли ей своему сердцу и углубить свою эмоциональную связь с успешным писателем Тригориным. В конечном итоге она решает оба вопроса положительно. На самом деле эта связь находится в самом сердце роли Нины в этой сцене: в начале ее она встречает Тригорина и просит его совета, «идти ли ей в актрисы или нет». После того как он отказывается дать какой-либо совет, она передает ему маленький медальон, говоря: «Я приказала вырезать ваши инициалы... а с этой стороны название вашей книжки: "Дни и ночи."». Тригорин берет медальон и целует его, говоря: «Прелестный подарок»; а когда Нина уходит со сцены, он обнаруживает, что в надписи есть нечто большее, чем Нина пожелала произнести вслух: текст надписи после «Дни и ночи» продолжается: ТРИГОРИН [про себя]: «Страница 121, строки 11 и 12». Что же в этих строках? [Аркадиной] Тут в доме есть мои книжки? АРКАДИНА: У брата в кабинете, в угловом шкапу. ТРИГОРИН: Страница 121... [Уходит.] Здесь Тригорин уносит медальон с подмостков, и сцена временно приостановлена. Сценическое пространство освобождается, чтобы принять других персонажей, другие темы, и даже новый объединяющий сцену предмет реквизита — повязку. После «Сцены с повязкой» Тригорин вновь выходит на время продолжения «Сцены с медальоном»: ТРИГОРИН: [ищет в книжке]1 Страница 121..., строки 11 и 12... вот... [Читает] «Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее». Затем Тригорин повторяет эту фразу еще дважды, читая ее из своей собственной книги; каждый раз самому себе, но всегда на расстоянии слышимости от Аркадиной, однако так, что она не замечает, и всегда в контрапункте колеблется между этими отдающимися эхом, направленными на себя репликами «в сторону» и требованиями Аркадиной вступить в диалогическую коммуникацию, которые становятся все более раздражающими и бессмысленными для него:2 АРКАДИНА [поглядев на часы]: Скоро лошадей подадут. ТРИГОРИН [про себя]: Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее. АРКАДИНА: У тебя, надеюсь, все уже уложено? ТРИГОРИН [нетерпеливо]: Да, да... [В раздумье] Отчего в этом призыве чистой души послышалась мне печаль, и мое сердце так болезненно 1 Здесь сам медальон более не присутствует как объект, но его заменяет книга, на которую он ссылается 2 Сложность человеческой коммуникации, как ее изображает Чехов, видна в кажущемся парадоксе, что «двойной монолог» Тригорина – чтение своих собственных строк самому себе – по своему эффекту более коммуникативен, чем формальный диалог с Аркадиной. Это, конечно, результат центральности его отношений с Ниной в этот момент, относительно которых Аркадина является чем-то внешним. 3 сжалось?.. Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее. [Аркадиной] Останемся еще на один день! Здесь заканчивается «Сцена с медальоном» как отрезок текста, и до конца пьесы она больше нигде явно не упоминается. Я ограничусь различными паттернами, которые пересекаются в этой сцене, тем самым рассматривая ее (метафорически) как «полустанок», где сходятся различные «пути». Анализ будет разделен на две основные части: внутритекстовый (заключенный внутри воображаемого мира пьесы) и вне-, или экстра-текстовый (опирающийся на соответствующий материал из жизни Чехова, интегрируя и противопоставляя его с предыдущей частью). 3. Медальон в вымышленном мире Чайки 3.1. Сложность медальона Даже не принимая в расчет сцену в целом, сам по себе медальон — то есть физический предмет, — содержит достаточно сложный референтный механизм. В качестве предмета реквизита он явно является референтом сценических ремарок. Однако он является также референтом дискурса Нины и Тригорина. Передавая его как подарок со словами, цитированными выше, Нина наделяет его определенным значением. Принимая его так, как он принял, с явной отсылкой к предшествующему полному намеков диалогу между ними, Тригорин значительно добавляет к его сложности. Однако функция медальона значительно сложнее, чем до сих пор было предположено, поскольку он является предметом, в котором Нина, выгравировав словесную надпись, напрямую ссылается на конкретную сцену и фразу в некоторой книге. Ее акт ссылки еще более сложен, поскольку источником цитирования является книга, автором которой является ее адресат. Роли адресующегося и адресата, таким образом, здесь постоянно колеблются или меняются местами: он, когда писал эту фразу, адресовал ее ей (хотя и не лично) как читателю; а она как даритель дара и дизайнер медальона, как бумеранг, адресует ее обратно ему. В этом контексте она напрямую выражает свои эмоции как женщина, но также косвенно как читатель и будущая актриса, которую затронул писатель, которым она восхищалась задолго до того, как когда-либо мечтала его встретить (этот аспект их отношений в достаточной мере подчеркнут в пьесе). Как если бы она сказала ему нечто вроде: «Это не я говорю эти слова, а ты; даже если бы я очень постаралась, я не могла бы найти лучших слов, чтобы выразить свои чувства» (так можно, признаваясь в любви, использовать вместо своих собственных слов считающееся каноном любовное стихотворение). Более того, она высказывает мысль (в неявной форме, но отчетливо), что он должен принять на себя ответственность за власть своих собственных слов. И наконец, можно реконструировать сторону Тригорина, получателя этой коммуникации-по-ссылке, осознающего, как его слова только что обрели иные референтные связи в новом контексте, столь отличающиеся от того, что он мог бы воображать себе, когда писал их. 3.2. Прагматические и художественные аспекты Сцены с медальоном Наиболее увлекательная сторона в референтном функционировании медальона заключена, возможно, в том, как он интегрируется в сеть имеющихся в пьесе взаимоотношений между искусством (и/или драмой, литературой, художественным вымыслом, театром и т.д.), с одной стороны, и жизнью (и/или фактом, реальностью, реальным миром, и т.д.), с другой стороны. Давайте забудем на минуту, что реальный текст Чайки изначально является вымыслом. Внутри «реальности» мира пьесы цитата взята из вымышленного текста, а именно, из воображаемой книги Тригорина Дни и ночи. Сами слова были исходно произнесены, предположительно, воображаемым персонажем в воображаемом контексте или ситуации. Однако мы можем совершенно безопасно предполагать, используя технику аналогии и заполнения пропусков, что эти слова были исходно сказаны «в реальной жизни», являясь эхом чего-то, что Тригорин слышал ранее того (или в то время), как он писал свои предполагаемые Дни и ночи. Это, несомненно, спекулятивное рассуждение; но в той мере, в которой это возможно для спекулятивного рассуждения, оно надежно: modus operandi Тригорина как писателя — 4 ходить повсюду с записной книжкой, в которой он обсессивно записывает все, что он слышит и видит — слова, пейзажи, сценки, события, идеи и т.д. — которые могут когда-нибудь пригодиться в качестве сырьевого материала для его произведений. 3.3. Цепочки фактических, воображаемых и референтных событий Здесь, таким образом, мы имеем цепочку фактических и литературных событий, «звено за звеном». Стадия 1 (спекулятивная). Тригорин слышит, как кто-то (вероятно, молодая женщина) произносит в реальной жизни нечто вроде: «Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее». Стадия 2. Он находит момент в повествовании своего рассказа, где эта фраза представляется уместной, и вписывает ее в свой текст (вероятно, произносимый воображаемым персонажем, наиболее вероятный «кандидат» – женщина). Стадия 3. Нина читает рассказ Тригорина и глубоко тронута им в целом, и в особенности этой фразой, которая застревает у нее в памяти. Стадия 4. Ее увлечение Тригориным, которое вскоре превращается в мощную романтическую страсть, приводит эту фразу ей на ум как выражающую ее чувства к нему (использование его собственных слов указывает на подлинное родство душ). Стадия 5. Она заказывает медальон с надписью-ссылкой на нем, для того чтобы передать свои чувства к нему. Стадия 6. Прочитав свои собственные слова, помещенные внутрь ее акта дарения медальона, он откликается на прагматику ссылки и начинает роман с ней. Стадия 7. Меньше чем через два года он бросает ее, потому что ему так удобно, после того как она носила и потеряла его ребенка. Таким способом Тригорин (бессознательно) полностью воспользовался свободой, предполагаемой в надписи («возьми мою жизнь, ЕСЛИ она тебе когда-нибудь понадобится» предполагает также «ты можешь оставить меня, если, и когда, она станет тебе больше не нужна»). Нина явно менее буквальна, более литературна, чем Тригорин: для нее условная фраза из Дней и ночей была не столь условной… Так или иначе, бумеранг ведь может ударить в цель, а не в того, кто послал его. Стадия 8. Поведение Тригорина на более поздних стадиях предполагает, что он рассматривает (местами) эту цепь событий как подходящую тему для нового рассказа, который он планирует написать, используя изначальное место реальных событий в качестве места действия для воображаемого сюжета. Иными словами, подлинная история их жизней еще раз будет помещена в художественное произведение, которое, в свою очередь, в конечном итоге может быть «помещено» в будущие жизненные истории будущих читателей нового написанного Тригориным художественного повествования. Такие читатели, конечно, могут поразному откликаться на повествование, которое они прочтут в своих собственных жизнях, не в последнюю очередь – написанием художественных рассказов, и так далее, ad infinitum. По большей части в тех из предложенных здесь «стадий», которые имеют нечетные номера, доминирует «реальное»/«фактическое», а в четных – «вымышленное»/«художественное». Кстати, все то, что я описал до сих пор, за исключением последней фразы, основано на ложной предпосылке, что все происходит в реальности. В реальности, однако, все помещено в одном воображаемом дискурсе, в который помещен, в свою очередь, другой, и иногда есть ссылки на еще другие — т.е. на те рассказы, которые Тригорин планирует написать, используя материал (воображаемый для Чехова, реальный для Тригорина), который он собирает. Фактически «референционный маятник» — качающийся туда и обратно между фактами и художественным вымыслом, отделяя одно от другого, объединяя их, и т.д., — очерчивает то более широкие, то более узкие круги вокруг медальона. Только что описанная цепочка, таким образом, демонстрирует сложность, тонкость и умолчания взаимодействий художественного вымысла/реальности и реципрокных отражений в пьесе. 3.4. Дополнительные функции Сцены с медальоном 3.4.1._Характеризовать Тригорина как писателя. Костя и Тригорин — двое из главных действующих лиц в Чайке — являются писателями, и их искусство крайне важно для них и для пьесы. Открытые оценки литературного качества работы этих писателей изредка даются другими персонажами пьесы; в каких-то других случаях сами писатели (а также обе актрисы в пьесе) занимаются оценкой самих себя. Однако нам едва ли предоставляется возможность судить о художественных достоинствах их 5 сочинений самостоятельно, на основе впечатления из первых рук, поскольку цитируется очень мало предполагаемых текстов. В этом контексте процитированная фраза из Тригоринских Дней и ночей дает нам редкий, не часто достающийся нам, как конечной аудитории, случай заглянуть в «стиль Тригорина». Таким образом, благодаря самому факту ее редкости, эта цитата становится репрезентативной для всего текста Дней и ночей, и даже для поэтики их автора вообще. Давайте посмотрим на сложность этого явления: фраза в реальном художественном произведении (Чайке Чехова) отсылает нас к несуществующему художественному произведению, к вымыслу внутри вымысла (Дни и ночи Тригорина), из которых это единственная «реально» существующая фраза… Точнее: если бы события Чайки были реальными, то Дни и ночи были бы реальным художественным произведением (вымыслом), и цитата была бы всего лишь одной фразой из этого произведения, а остальной текст был бы доступен всем в этом мире. Именно исходная вымышленность Чайки делает Дни и ночи произведением несуществующим; таким образом, все оно, за исключением процитированной фразы, недоступно ни для кого в этом мире. Цитата же существует как фраза внутри Чайки как таковой, тем самым представляя существование Дней и ночей в том же самом статусе как и все другие предметы и лица в пьесе. На сцене Тригорин держит в своих руках реально ощутимую книжку, которая, как предполагается, и есть его Дни и ночи; однако как произведение художественного словесного искусства — или, иными словами, как роман, — эта книга не существует; хотя она становится отчасти существующей через цитату, которая служит свидетельством, что она состоит из реального словесного материала, который можно цитировать. В этом смысле цитата способствует ее существованию значительно больше, чем реквизитный томик на сцене. Более того, можно противопоставить эту цитату пьесе Кости, да и самой Чайке, тем самым, сравнивая трех писателей: Чехова3, Костю и Тригорина. Среди них из Тригорина цитируется только одна фраза. Однако именно Чехов, творец мира Чайки, принял решение дать нам эту одну фразу — ничего более и ничего менее — чтобы она служила репрезентацией написанного Тригориным. Это авторское решение подкрепляет наши попытки узнать из этой фразы что-нибудь о «поэтике» Тригорина, т.е. о его художественных, моральных, психологических, эмоциональных и других качествах как писателя. Что поражает читателя в этой фразе, особенно если рассматривать ее изолированно, — это полная преданность адресующего своему адресату — преданность вплоть до полного подчинения и абсолютной готовности к отрицающей самоё себя жертвенности. Невозможно представить себе более мощный окончательный акт даяния, чем этот. Разумные спекулятивные размышления, таким образом, говорят нам, что «мир» рассказа Тригорина, по крайней мере, отчасти, населен людьми, возможно, в основном, женщинами, которые произносят речи, делают жесты и совершают действия, полные любви и преданности. В качестве словесного заявления эта фраза является величественным театральным жестом, но «реально» представляет собой наилучший пример воплощения пассивности: произносящий подобную фразу принимает активное решение навязать свою тотальную пассивность и безволие своему адресату. По крайней мере, из этой фразы можно извлечь, как минимум, то, что в произведениях Тригорина встречается сентиментальное отображение таких качеств как театральность, полная преданность и пассивность. 3.4.2._Охарактеризовать Тригорина как мужчину. Я ограничусь одной чертой характера Тригорина — а именно, пассивностью, — которую Чехов убедительно связывает с тем, что тот пишет, и с единственным образчиком его работы, который мы получаем. «У меня нет своей воли... У меня никогда не было своей воли... Вялый, рыхлый, всегда покорный» — такова его характеристика самого себя. Однако «Сцена с медальоном» решительно способствует проведению аналогии между его пассивностью 3 Сам Чехов занимает-таки определенную позицию, не явно, но мощно, в спорных вопросах идеологии искусства, упомянутых в пьесе: он сделал это, уже просто написав пьесу Чайка. Так, например, если Нина говорит, что в пьесе должна быть любовь, а Костя говорит, что пьесы должны описывать скорее наши мечты, чем нашу реальность и желания, можно предположить из этого позицию Чехова по данным вопросам, рассмотрев, которые из взглядов более совместимы с тем, что он реально сделал как автор, когда написал саму Чайку. 6 как мужчины и как писателя. Вначале он появляется как динамичный, беспокойный, с одержимым упорством работающий писатель. Но при более близком рассмотрении его закамуфлированная пассивность очевидна также и в его поведении как писателя. Тригорин не отправляется на поиски своего материала, а терпеливо ждет в своей писательской засаде, приготовив ручку и блокнот; и когда появляется «что-то, что можно описать», — он «бросается», захватывая это «что-то» и помещая его в свою записную книжку. Неудивительно, что он так страстно любит рыбалку, обманывая себя, что это его хобби диаметрально противоположно его профессии. На самом деле он практикует одну и ту же технику пассивной засады, когда функционирует как рыбак, как писатель и как любовник: в его любовных романах доминируют женщины, тогда как он ждет, пока они «придут к нему», чтобы их подобрать (контрастная аналогия между пассивными засадами и рыбалками Тригорина и активным преследованием и охотой Кости характеризуют позицию того и другого из них по нескольким аспектам жизни, в особенности в их поведении как писателей и как любовников. Столь же характерно желание Тригорина сделать чучело из чайки, на которую Костя охотился и которую убил). Именно в этом последнем контексте входит медальон. Фраза, выгравированная на нем, является тонко репрезентативной для природы Тригорина: мышление рыболова совместимо с таким пассивным и покорным предложением любви. Как я указал, это крайне убедительный парадокс, что Нина — намного более активная, чем прочие главные действующие лица в пьесе, — решает предложить себя как пассивную рыбку, ожидающую неподвижно, чтобы ее подсек рыболовный крючок любви, или, собственно говоря, «погубил ее», по словам самого Тригорина, в другом месте в пьесе. Приблизительно похожим образом в начале III акта Маша прямо предлагает себя Тригорину как сюжет для рассказа, после того, как он написал о ней в своей записной книжке. Здесь тоже Тригорин ждет пассивно, чтобы рыба зашла в его сети; однако природа предложения Маши радикально иная. Аналогия между надписью на медальоне и планируемым Тригориным «Рассказом о чайке», однако, поразительна и показательна: жизнь воображаемой счастливой девочки, предполагаемой героини будущей книги Тригорина, оказывается погублена воображаемым мужчиной, который от нечего делать губит ее просто так; рыбаком. Для того чтобы вступить в коммуникацию с Тригориным на его собственных психологических условиях, она принимает его позицию через эту его фразу. Параллельно и по контрасту Тригорин вступает в коммуникацию с Ниной через свой «сюжет для небольшого рассказа», в котором (как мы только что видели) некий бездельник уничтожает прекрасную юную девушку, точно так же, как Костя убил чайку, без какой-либо причины («от нечего делать», согласно Тригорину); однако он не понимает, что тот, кто попусту уничтожает прекрасные вещи, может быть не кто иной, как он, рыбак-Тригорин, который в конечном итоге губит жизнь Нины, приняв предложенное ею как бы не по злобе, а «от нечего делать». Надпись на медальоне, таким образом, относится к семантическому полю пассивности, рыболовства и бессмысленного уничтожения красоты (человеческой или нет) — всё вместе. 4. Биографический генезис «сцены с медальоном» Одна из целей данной лекции — перебросить мостик через разрыв между текстологическим и биографическим изучением Чайки, и в особенности «Сцены с медальоном». Критики, аналитики текста и биографы накопили впечатляющие данные относительно изобилия автобиографического материала в Чайке. Я разделяю ту точку зрения, что следует с чрезвычайной осторожностью относиться к тому, чтобы переносить события и утверждения из жизни писателей в анализ их художественных произведений. Чехов в данном случае — яркий пример.4 Однако, как мы увидим, «Сцена с медальоном» является исключением, и исключением увлекательным. Здесь интеграция художественного вымысла и биографического материала может пойти на пользу анализу. 4.1. Биографический источник Сцены с медальоном 4 В одном из своих писем (Россолимо, 1899) Чехов пишет: «у меня есть болезнь: автобиографофобия». 7 Из различных биографических источников я синтезировал фактическое повествование, которое течет следующим образом: За несколько лет до того, как писать Чайку, Чехов встретил молодую писательницу, госпожу Лидию Авилову. Она влюбилась в него и, после многих сомнений, почувствовала, что готова связать с ним свою жизнь. Чтобы поведать Чехову о своих чувствах, она заказала медальон в форме книги, на котором она велела выгравировать надпись: «А. П. Чехов: Сборник рассказов, стр. 267, строки 6 и 7». Эти строки относятся именно к фразе Чехова «Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее» в рассказе «Соседи» (1892). Чехов ничего не ответил, однако за несколько месяцев до премьеры Чайки он встретил Авилову в маскарадном костюме на костюмированном балу. Он узнал ее и пригласил придти в театр на премьеру Чайки, сказав, что он ответит ей со сцены. Она пришла. Когда началась сцена с медальоном, ее сердце дрогнуло: она узнала эту сцену как повторение своего подарка — медальона — Чехову; однако она заметила, что страница и строка в ссылке изменены.5 Вернувшись домой, она посмотрела новую ссылку в книге Чехова, и результат — «Но что ты смотришь на меня с таким восторгом? Я тебе нравлюсь?» — не показался ей достаточно значимым. Однако в ее собственной книге рассказов, которую она ранее послала Чехову, на той же самой странице и строке ссылка указывает на слова: «Молодым девицам бывать в маскарадах не полагается». Эти две возможности совершенно противоречивы, каждая «обращена на» своего соответствующего автора; однако они обе потенциально уместны. Исследование такого странного совпадения не входит в компетенцию ни одной известной мне академической дисциплины. По крайней мере, собирался ли Чехов сослаться «со сцены» на свой собственный текст (что я, в отличие от Авиловой, нахожу более правдоподобным, хотя эти два контекста – контекст собственной фразы Чехова, взятой из его рассказа «Черный монах», и контекст отношений между Чеховым и Авиловой – различаются коренным образом) или на текст Авиловой, одно ясно: его текст, произведение художественного вымысла, пробудил систему ссылок в реальной жизни, известную только ему и ей, в качестве частной коммуникации между ними, поверх голов ничего не подозревающей публики. В то же самое время официальный текст, сообщенный публике, имеет свои собственные сложные сети механизмов искусства/жизни, как показано выше. Возможно, никто, кроме Чехова и Авиловой, не знал в то время об этих ссылках на реальную жизнь. Вероятнее всего, Чехов умер, думая, что никто никогда не узнает: он не мог предвидеть, что Авилова станет писать свои мемуары долгое время спустя после его смерти, и что они будут изданы как книга после ее смерти. Между прочим, большинство биографов Чехова подвергают сомнению надежность мемуаров Авиловой как источника информации о его жизни, но та часть, которая касается сцены с медальоном, по общему согласию принимается как фундаментально истинная, поскольку подтверждается другими свидетельствами. Но, как бы то ни было, история Авиловой в целом не имеет никакого отношения к дискурсу между текстом Чайки и ее аудиторией, независимо от того, где и когда эта аудитория проживает. В этом контексте мы оказываемся в сомнительной роли посмертно подслушивающих, или зрителей на призрачном пип-шоу. Данные, полученные таким образом, хотя они и «могут быть приняты» на «суде биографии», не могут быть приняты на «суде анализа текста» — так как, опять же, не имеют к нему никакого не отношения. Или в конечном итоге они тоже «могут быть приняты» на этом последнем «суде»? 5 Она, вероятно, сидела слишком далеко и/или была слишком возбуждена, чтобы заметить, что на сцене в качестве реквизитного медальона используется та самая подвеска, которую она послала Чехову: Чехов одолжил ее Вере Комиссаржевской, актрисе Нине, на премьере в СанктПетербурге, а та вернула ее ему долгое время спустя, после того как пьеса перестала идти на петербургской сцене. Он много раз забывал ответить ей, когда она спрашивала, куда переслать эту вещь, явно не будучи заинтересован получить ее обратно. В статье, опубликованной в 1994 году, Алла Ханило подробно описывает «биографию» самого медальона как физического предмета. После смерти Чехова он был положен в банковский сейф вместе с другими ценностями Чехова, и «национализирован» (т.е. украден из банковского сейфа после революции). С тех пор от него не было и следа. Ни публика, ни ученые не знают, сохранился ли он у кого-нибудь, и если да, то где. 8 По крайней мере, «цепочку» связей между искусством и жизнью, как она описана выше (в 3.3.), можно теперь удлинить, подставив к ней впереди такие «стадии» как спекулятивное «Чехов слышит/читает такую фразу как «если когданибудь» и т.д.», затем «Чехов пишет “Соседи”, затем Авилова читает “Соседи”», Авилова дарит медальон Чехову, Чехов изобретает Тригорина и сцену с медальоном, и вслед за тем могут продолжаться стадии, предложенные выше в 3.3. 4.2. Взаимозависимость между перспективой с точки зрения биографии и текста Собственно говоря, здесь есть два отдельных вопроса: 1. Изменяет ли эта фоновая история непременно анализ и интерпретацию Чайки, и Сцены с медальоном внутри нее? 2. Добавляет ли она что-то к анализу текста этой Сцены? Ответ на вопрос 1 будет «Нет», по «негативным» в той же мере, как и по «позитивным» причинам. «Негативно» нет никаких причин, почему смысл пьесы, которая является автономным текстом и произведением искусства, должен в какой-то мере оказываться под влиянием дополнительных биографических знаний, которые полностью и фундаментально являются для нее сторонними. «Позитивно» сцена с медальоном прочно помещена в пьесе: я надеюсь, что показал выше, что это одна из наиболее интегрированных и наиболее убедительно мотивированных кратких сцен в мировой драме. Ответ на вопрос 2, однако, будет «Да». Добавляя биографический аспект к текстовому, мы сталкиваемся с уникально сложным и трудным предметом изучения. Наш интерес не обязательно должен быть ограничен только анализом и толкованием текста. Он может распространяться также на коммуникационно-семиотические процессы, то есть на цепочку адресующихся и адресатов в человеческой коммуникации, и в особенности в художественной, литературной и театральной коммуникации. Внутри этих направлений интереса, биографическая история может интегрироваться в нашем уме с многозначным литературным текстом. После чего они вместе составят семиотическую сеть, характеризуемую сложностью самого высокого порядка. Кроме того, после того, как какая-то информация становится нам известна, по какому бы то ни было каналу, помешать ей играть обогащающую роль в нашем когнитивном и психическом процессах есть само по себе «незаконная» цензура. 4.3. Ссылки Чехова на самого себя (само-референтность) Ниже я попытаюсь высказать некоторые мысли о том, где и как биографическое и текстуальное могут интегрироваться плодотворным образом. Во-первых, взгляните на тот факт, что выгравированная фраза происходит из ранее опубликованного рассказа самого Чехова. Таким образом, один из элементов художественного вымысла (рассказа Чехова) трансплантирован в другой (пьесу) через один из элементов его жизни (это срабатывает для тех, кто знаком с историей Авиловой) или без вмешательства реальной жизни (для тех, кто знаком с обоими текстами, но не знает об элементе, взятом из реальной жизни). Знание этой информации могло бы значительно осложнить дело. Рассказ был опубликован ранее пьесы, и был тем самым доступен для публики на день премьеры; следовательно, этот аспект «аллюзии на себя» — в отличие от аспекта приватной коммуникации между Чеховым и Авиловой, — нельзя полностью игнорировать, обдумывая возможные реакции изначальной аудитории. Таким образом, когда Чехов писал сцену с медальоном, он мог представлять себе зрителя, который, узнав цитату, проинтерпретирует ее как приглашение провести аналогию между Чеховым и Тригориным, по крайней мере, как писателями, а возможно также, и как мужчинами, любовниками, идеологами искусства, и т.д. Чехов пошел на риск того, что текст, возможно, будет означать совершенно разные вещи для людей, знакомых с его рассказом «Соседи», и для тех, кто не знаком (или, по крайней мере, недостаточно знаком, чтобы опознать цитату). Собственно говоря, и моя риторическая стратегия, как она принята в большей части данного исследования, является примером того же: как мои терпеливые читатели уже осознали, я придержал указание на чеховский источник этой цитаты до более поздней стадии своей дискуссии. Эта стратегия основана на 9 убеждении, что Чайка является автономным, самодостаточным произведением, пьесой для театральных аудиторий, которые не обязательно должны состоять из специалистов по Чехову. По крайней мере, Чехов вряд ли мог ожидать, что большинство его будущих зрителей будут в достаточной мере знакомы с рассказом «Соседи», чтобы определенно узнать одну фразу из этого рассказа, услышав, как ее мимоходом произносят на сцене. Можно было бы утверждать, что для Чехова такое отождествление было не столько ценой, которую он с неохотой был готов заплатить, сколько дополнительным благом, которое он рассчитывал обрести; скорее обязательство, чем нечто ценное, поскольку он явно стремится отделить себя от Тригорина и как писатель, и как человек. С другой стороны, было также отмечено, что Чехов предлагает еще одно ощутимое основание отождествлять его с Тригориным: ближе к концу пьесы Костя кратко излагает описание лунной ночи в рассказе Тригорина, не цитируя его при этом на самом деле. Словесно-визуальное краткое изложение, несомненно, относится к конкретному описанию в ранее опубликованном рассказе Чехова «Волк» (1886). Каковы бы ни были сознательные или подсознательные соображения Чехова, эффект, возникающий из таких аллюзий на самого себя, является смешанным: несмотря на поразительные различия между ним и Тригориным, он вынуждает знакомого с произведениями Чехова читателя находить в Тригорине определенные чеховские качества, по крайней мере, как литератора. Более поразительным примером бесполезности неразборчивого упорного поиска биографических истоков для художественных событий оказался любовный роман между близкой знакомой Чехова Ликой Мизиновой и женатым писателем Игнатием Потапенко. У Потапенко и Лики осенью 1894 года родилась внебрачная дочь. Он оставался женат на своей жене и бросил Лику. Их дочь умерла в возрасте двух лет, в ноябре 1896 года, примерно месяц спустя после премьеры Чайки; таким образом, воображаемая смерть ребенка Нины и Тригорина может выглядеть грозным предчувствием. Однако сходную последовательность событий Чехов излагает в своем знаменитом рассказе «Скучная история» (1889), который был опубликован за пять лет до того, как в реальной жизни произошел роман Потапенко и Мизиновой. Между этими двумя чеховскими художественными произведениями больше сходства, чем между любым из них и событиями реальной жизни. Несомненная хронологическая последовательность «вымышленный рассказ реальный любовный роман в жизни вымышленная пьеса смерть реального младенца», таким образом, является еще одним доказательством поливалентности взаимодействия искусства/жизни: они порождают, вдохновляют, ферментируют и оплодотворяют друг друга бессчетным множеством непредсказуемых способов. Таким образом, они могут повторять друг друга с бесконечной сложностью двух зеркал, стоящих лицом к лицу и бесконечно отражающих все, что находится между ними, до головокружения, ставящего разум в тупик. Отражение, видимое таким образом, более не является простым повторением; это динамически откликающийся механизм, который придает движение совмещенным «восходящим» силам любви, красоты и искусства, и «нисходящим» силам манящей бездны отчаяния и смерти; через искусство, этот как бы посмертный колокол по Нарциссу, призывающий нас к раю или аду (см. «Макбет» акт II сцена 1 строка 63). 4.4. Происхождение фразы-надписи: Преступление и наказание Достоевского Я приношу благодарность Майклу Финке, профессору русского языка Вашингтонского Университета, Сент-Луис, штат Миссури, за то, что он указал мне на следующую ссылку. В части V главе 5 Преступления и наказания Достоевского Дуня, сестра Раскольникова, приходит в гости к своему брату, и то, что она говорит ему, поразительно похоже на ту фразу, которую Чехов написал в «Соседях» и процитировал в Чайке. Соответствующая цитата из романа Достоевского такова: «если, на случай, я тебе в чем понадоблюсь или понадобится тебе... вся моя жизнь, или что... то кликни меня, я приду». Сходство между этими двумя текстами, Достоевского и Чехова, поразительно; оно настолько велико, что совпадение приходится исключить. Преступление и наказание есть продукт второй половины 1860-х годов; его первое издание отдельной 10 книгой датируется 1867 годом (когда Чехову было 7 лет). Чехов, конечно, знал этот роман очень хорошо, как знал (и все еще знает) его любой человек с литературным образованием, по крайней мере, в России. По крайней мере, на Чехова, весьма вероятно, произвели впечатление слова Дуни, когда он читал этот роман. На самом деле здесь есть две возможности: Чехов мог ссылаться на слова Дуни сознательно или бессознательно (его дословное самоцитирование из «Соседей» в Чайку не могло не быть сознательным). Для наших же целей очень мало разницы в том, которое из двух по факту верно. В некотором роде бессознательный вариант, хотя и маловероятен, делает взаимодействие искусства/жизни еще более впечатляющим: в этом гипотетическом случае Чехов продемонстрировал бы в своей собственной жизни, как слова художественного произведения могут воздействовать на читателя в реальности, и воздействовать на то, что этот читатель пишет (если он/она является писателем). По крайней мере, Чехов мог представлять себе зрителей, которые узнают его «Соседей», но не узнают Преступление и наказание, или наоборот, или и то, и другое, или ни то, ни другое, когда услышат фразу «Тригорина», произносимую на сцене. Это значительно добавляет к огромной сложности данного случая, сверх и помимо перспектив, очерченных и анализированных выше. Можно конструировать, таким образом, более длинную и более сложную цепочку помещений одного в другое и зеркальных отражений, начинающуюся с цитаты из Преступления и наказания, и затем входящую в цепочку, предложенную выше (сначала в 3.3, затем в 4.1). Она может идти примерно следующим образом: Стадия 1 (сомнительная и спекулятивная): Достоевский слышит или читает где-то что-то типа «Если когда-нибудь» и т.д. Стадия 2: он вписывает эту фразу в Преступление и наказание. Стадия 3: Чехов читает Преступление и наказание, и на него оказывает воздействие эта фраза. Стадия 4: Чехов заставляет персонажа из рассказа «Соседи» использовать похожую фразу. Стадия 5: Он удивлен подарком и надписью от Лидии Авиловой. Стадия 6: Он создает сцену с медальоном в Чайке. С этого момента и далее можно добавлять стадии, предложенные выше, с некоторыми изменениями. Точная цепочка потенциальных звеньев между искусством и жизнью будет еще полнее и сложнее, но нет никакой необходимости перечислять ее здесь подробно: основной принцип совершенно ясен. 4.5. Взаимодействия искусства/реальности как вопрос жизни и смерти: бесплодности vs. плодотворности Давайте вернемся к реальному содержанию выгравированной фразы «Если тебе когда-нибудь», и т.д. Помимо интерпретации этой надписи, предложенной выше, можно видеть растянувшуюся цепочку действий, адресующихся и адресатов с точки зрения темы бесплодности vs. плодотворности. Текст Тригорина здесь действительно является наилучшим примером стереотипной женской пассивности; однако, как ни парадоксально, его мощный эффект является эффектом гиперактивности, благодаря полноте той покорности, которую он выражает. Более того, метафорически, как текст, Дни и ночи (и в особенности эта цитата) проникают в разум Нины, тем самым «оплодотворяя» ее психические процессы; в результате она рождает этой фразе метафорического «ребенка» – мысли и чувства любви. Аналогично этому, то же самое происходит позднее (внутри художественного мира Чайки) буквально и биологически, когда она рожает «реальному мужчине» Тригорину «реального ребенка». Смерть ребенка, и то, что Тригорин вслед за этим бросает Нину, являются мощными событиями по стандартам реальной жизни, и в сравнении с их воздействием в человеческих масштабах оплодотворяющая метафорически сила искусства может также выглядеть бесплодной. Однако такая ожидаемая реакция аудитории игнорирует самую сущность уникальности этой конкретной пьесы. И в самом деле, это человеческое воздействие не делает менее действенной потенциальную плодотворность искусства. Скорее оно дополняет наивную точку зрения на оплодотворяющую силу искусства, которая косвенно слышится у молодой Нины в начале пьесы, и которую модифицировала более зрелая, разочарованная, но все еще верящая Нина в конце ее. Таким образом, медальон является центральной поворотной точкой во всеобъемлющем взгляде на бесконечное реципрокное взаимодействие искусства и жизни: оба они способны оплодотворять и выхолащивать, зачинать и лишать мужественности, наделять жизненной силой и душить друг друга, возможно, со 11 сравнимой интенсивностью. В каждом конкретном случае бесконечное разнообразие обстоятельств может ослабить или усилить любую из этих «позитивных» и «негативных» сил. Наше только что обретенное знание, что события сходной природы произошли в жизни Чехова и членов ближайшего круга его друзей, заставляет нас остро осознавать как метафорические, так и буквальные случаи жизни и смерти (например, маленькая дочь Лики Мизиновой и Потапенко), и то, как искусство порождает жизнь, и наоборот. Это знание представляет собой наиболее важный вклад биографической информации в понимание текста Чайки. Оно сводит на нет наивную непосредственную человеческую реакцию, описанную в предыдущем абзаце, и придает всей цепочке ссылок ауру почти ощутимого благоговения. Рассматривая выгравированную фразу в ее двойной перспективе, биографической и текстовой, мы, таким образом, получаем новое прозрение во множество постоянно уравновешивающих друг друга противоречий. Прозрение такого рода даже Чехов не мог бы дать нам через какое-либо из своих произведений. Это потому, что общая перспектива, обсуждаемая здесь, охватывает (вероятнее всего, против воли самого Чехова) как его неистощимо сложный текст, так и части его приватной жизненной истории. Эти последние включают действия других реальных людей, таких как Лидия Авилова, которые он не мог контролировать, и, по аналогии, также истории наших жизней, по крайней мере, пока мы функционируем как читатели/зрители Чайки и ее производных (например, данного исследования). Чтобы это произошло, он поневоле вынужден был активно «пустить в переработку» идею тотальной пассивности из своего старого рассказа (происходящую, в свою очередь, из его собственной ранней реакции как читателя на слова Дуни в Преступлении и наказании). Действительно, фраза из рассказа функционирует в своем новом окружении в Чайке значительно более мощно, чем она когда-либо функционировала «на исходной Чеховской территории» в рассказе «Соседи» (или, если на то пошло, в Преступлении и наказании, хотя оценить ее функцию там совершенно выходит за пределы моих возможностей в данном исследовании). Неудивительно, таким образом, что, для того чтобы суметь сыграть свою роль в прозрении таких масштабов, Чехов был готов (сознательно или нет) рисковать, что отдельные его фанаты в публике станут ошибочно отождествлять его с Тригориным. Зрители, которые узнали бы цитату из Достоевского, однако, — не важно, узнали бы они при этом рассказ Чехова или нет, — имели бы более острое чувство того переживания, которое он, вполне вероятно, предполагал. Хотя он мог бы получить удовольствие от сознания, что даже наиболее осведомленные и самые любопытные представители публики никогда не угадают полностью все то, что составляло генезис этой сцены и этой надписи (ирония в том, что в их число входит и сама Авилова, которая, вероятно, не заметила ссылки на Достоевского). Как бы то ни было, к счастью для Чехова, его тщательно охраняемая драгоценная приватность была в данном случае нарушена только много лет спустя после его смерти. И к счастью для нас, нам позволено было узнать о медальоне Авиловой. Это приобретенное знание, как мы видели, дает нам некоторую защиту против поспешных аналогий искусство/жизнь, которой у изначальной публики не было. Более того, это обостряет для нас осознание критических вопросов человеческой, текстовой и отсылочной значимости, и дает нам более адекватные инструменты, чтобы размышлять над ними теоретически. 5. Последние замечания Случай «сцены с медальном» есть случай, не имеющий параллели и, можно сказать, непревзойденный по сложности; он, возможно, уникален в мировой литературе. Однако в то же самое время есть также нечто типичное в этом случае, поскольку он демонстрирует некий базовый механизм функционирования художественного вымысла в литературе и драме, а когда ему придается та или иная тематическая роль, также и в реальной жизни (и наоборот). Этот механизм, если активировать его полностью, способен воспроизводить себя бесконечно и является столь сложным, что становится тяжелой нагрузкой на интегрирующую когнитивную функцию мозга адресата; и, как мы видели, для того чтобы произвести его действительно понадобился мозг гения. Это может быть одной из причин, почему 12 примеры такого механизма, активированного до его полной мощности, встречаются столь редко. Более того, сцена с медальоном получает значительную часть своей силы из того факта, что Чайка в целом является самореферентным, т.е. отсылающим к самому себе, произведением ars poetica. Это пьеса о пьесах, и театральное представление о театре; произведение искусства об искусстве и произведение вымысла о вымышленности. Это одна из первопроходческих работ в том течении, которое развивалось в первой половине ХХ века, — театра, рассматривающего самоё себя (которую продолжали в корне различными способами, но сравнимо по сложности, Пиранделло и, возможно, с меньшей сложностью самореферентности, Брехт и другие мастера). Таким образом, основные конкретные характеристики Чайки в целом отражаются, в уменьшенном масштабе, в конкретных характеристиках «сцены с медальоном». Специфичность вклада Чехова в эту самореферентную традицию драмы ХХ века была представлена в предшествующих частях данного исследования; его основная характеристика видна, вероятно, в неподражаемом сочетании значимых человеческих и психологических сетей отношений и событий, со столь же значимыми структурными квази-техническими сетями, при помощи которых он строит текст (например, аналогии плодотворности/бесплодности, или пассивности/активности, как в человеческом, так и в художественном плане). Однако, помимо всего, Чехов, похоже, знал, что в истинной иерархии ценностей, которые управляют литературным и драматическим искусством, валидность и эффективность сложных художественных механизмов подвергается суду и проверке по тому, каков их вклад в пронизывающие прозрения человечества и в трогательные эмоциональные переживания публики. Уникальность великих произведений литературного (включая драматическое) искусства кроется не только в их композиционной сложности и многоуровневой организации, но также и в глубине, интенсивности и тонкости человеческого опыта, который они передают и генерируют. Такие человеческие переживания, однако, не могут быть достигнуты или воспроизведены без такой интенсивности и сложности художественной организации. Чехов — один из величайших творцов композиционного совершенства на службе человеческого несовершенства. Не в последнюю очередь по этой причине его поэтика является одной из основных вех в бесконечном поиске реципрокного отражения искусства и человечества. * Постскриптум/Дополнение. В качестве эпилога позвольте мне замкнуть круг и вернуться к эпиграфу и введению к этой статье. Я предлагаю провести различие между понятиями отражение (mirroring6) и отражание (reflection), хотя в тексте статьи они использовались взаимозаменяемым образом, тем самым «зеркально отражая» друг друга… Я предлагаю приписать первому – т.е. отражение – значение предмета, то есть точной копии или дупликации другого (то, что называется «как вылитый»); такая дупликация означает, что два совершенно идентичных предмета суть на самом деле одно. Тогда как отражание, согласно этому разграничению, есть процесс, при помощи которого предмет оказывается повторенным в, через или при посредстве отражающей субстанции, такой как стекло или вода (или чего-то, что функционирует аналогичным образом, например, механизмы миметического искусства). Такая «отражающая субстанция» динамична и обладает своими особыми свойствами, что в свою очередь оказывает воздействие на получаемый (отраженный) объект. Этот последний, конечно, сходен с «оригиналом», иногда весьма трудно отличим от него, но в конечном итоге не тождественен ему. Конечно, в той сомнительной мере, в какой миметическое искусство «имитирует» реальную жизнь, оно ее не копирует, и одно легко отличимо от другого. Так, различные аспекты взаимопроникновения искусства и жизни, в «Сцене с медальоном» и вокруг нее в частности, и в Чайке вообще, сравнивались выше как со статическими бесконечными отражениями двух зеркал, обращенных друг к другу, так и 6 Это никак не связано с психоаналитическим термином «mirroring» - «отзеркаливание». Примеч. переводчика. 13 с динамической, темпоральной цепочкой причин и следствий. Разрыв между этими двумя способами видения несколько смыкается за счет образа маятника, качающегося туда и обратно как бы между двумя неподвижными полюсами. Эти описания скорее взаимно дополняют друг друга, чем друг другу противоречат; если «отражение» выдает бинарность взгляда, искусство vs. жизнь, извлекая из каждого конкретного примера его «искусствоподобное» или «жизнеподобное» качество и рассматривая это качество как доминирующее, игнорируя прочие, конкретные и отличительные, компоненты обсуждаемого примера, то последний внимателен именно к этим компонентам (например, к различиям внутри каждой группы «Стадий», как они описаны выше в 3.3, помимо общих для них черт «фактического» и «вымышленного»). Более полный анализ этих сложных моментов потребовал бы значительно больше времени и места, чем можно сейчас предоставить. Позвольте мне закончить эту дискуссию ссылкой на остроумный эпиграф к ней, сказав, что искусство не «копирует» и не «отражает» реальный мир, не только потому, что реальный мир такая «проклятая штуковина», но и в основном потому, что искусство порождается активным человеческим разумом, который не может просто выдавать в точности то же, что вобрал в себя, он не может просто копировать и воспроизводить; он поневоле вынужден быть творческим и добавлять что-то свое. Так что аналогии противостоящих зеркал и качающегося маятника предназначены прояснить зрелище неистощимой сложности вовлеченных сюда явлений, сделать их хоть самую чуточку менее непостижимыми, но они не могут в полной мере воздать должное бесконечному, вечному процессу, в котором искусство и жизнь скорее порождают и заново создают, чем просто отражают, как в зеркале, друг друга. Таким образом, а-темпоральная картина двух обращенных друг к другу зеркал не может существовать одна, без дополнения ее темпоральной цепочкой, в которой никакие две «стадии» – и неважно, преобладает ли в них «факт» или «вымысел» – не могут быть полностью тождественны. Чайка Чехова, несомненно, одно из самых поразительных достижений в погоне человечества за возмоностью взглянуть на себя, на факты своей жизни и на вымыслы своего творческого ума, на свой собственный человеко-божеский или богочеловеческий образ, не разбив зеркала или не утонув в воде. В искусстве, и через искусство, человек может увидеть себя и остаться в живых. Перевод М.А.Якушиной 14