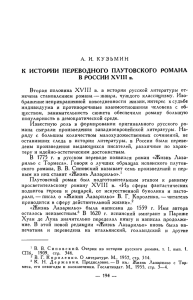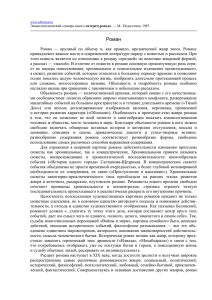ФГБОУ ВПО «Санкт–Петербургский государственный университет» На правах рукописи Бреслер Дмитрий Михайлович
advertisement
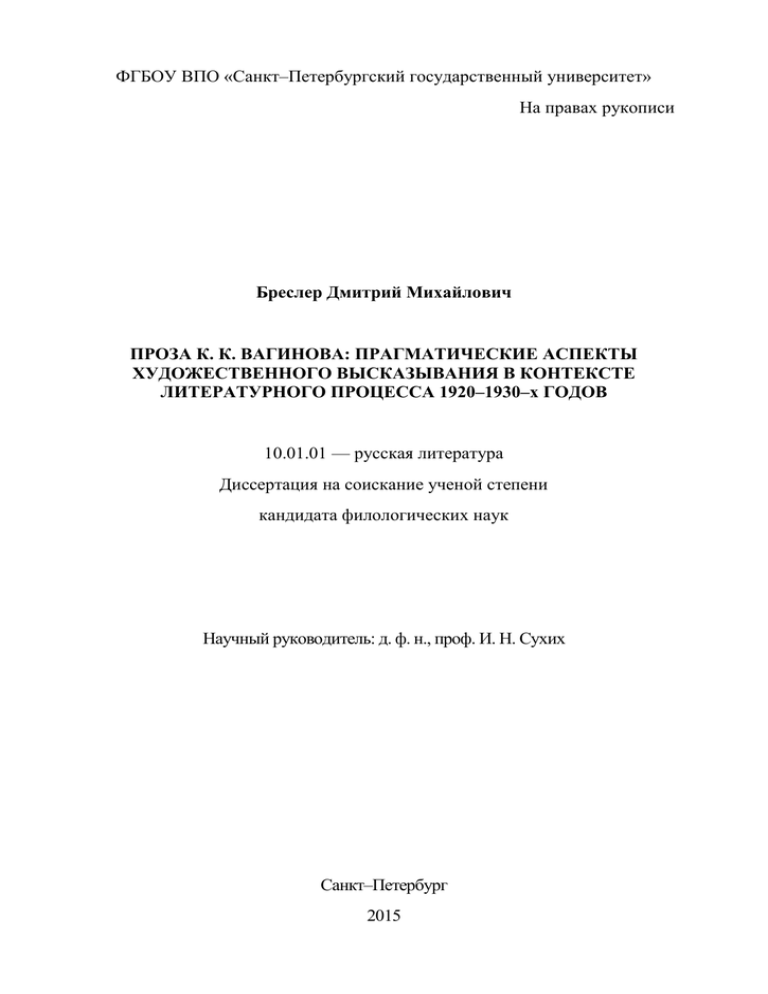
ФГБОУ ВПО «Санкт–Петербургский государственный университет» На правах рукописи Бреслер Дмитрий Михайлович ПРОЗА К. К. ВАГИНОВА: ПРАГМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА 1920–1930–х ГОДОВ 10.01.01 — русская литература Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук Научный руководитель: д. ф. н., проф. И. Н. Сухих Санкт–Петербург 2015 2 Содержание Содержание ........................................................................................................................................... 2 Введение ................................................................................................................................................ 3 Глава I. Прагматика прозы Вагинова 1920–х: от публичного заявления до внутренней речи.... 24 1. Повесть и роман «Труды и дни Свистонова»: эстетизация процесса публикации художественного текста ................................................................................................................. 27 2. Прагматика генетического досье романов Вагинова 1929 года ......................................... 50 3. Поэтика дефинитивного текста: нежелание или неспособность поставить точку в конце романа .............................................................................................................................................. 80 4. Интердискурсивный характер прозы (Бамбочада) .............................................................. 98 Глава II. Проза К. К. Вагинова 1930–х годов: поэтика и литературный быт .............................. 104 1. Константин Вагинов в диалоге с пролетариатом (литкружок завода "Светлана" и работа над историей Нарвской заставы) ................................................................................................. 104 2. 1.1. Литкружок на заводе «Светлана» ................................................................................ 109 1.2. «Первое путешествие» и «Светлановская повесть» .................................................. 117 1.3. «Светлана» и литература: без Вагинова ..................................................................... 120 1.4. «Четыре поколения» (Нарвская застава) .................................................................... 122 «Семечки» Константина Вагинова ...................................................................................... 128 2.1. Творческая лаборатория писателя начала 1930–х годов ................................................ 128 2.2. Прагматика ведения записной книжки ....................................................................... 138 3. «Гарпагониана» К. К. Вагинова: «скупость» авторского высказывания в романе начале 1930–х годов .................................................................................................................................. 156 Заключение ........................................................................................................................................ 187 Библиография .................................................................................................................................... 191 Приложение I. Поэтика заглавия романа «Труды и дни Свистонова» ........................................ 219 Приложение II. «Вот и палец можно истолковать по Фрейду»: прагматика интертекста в романе К. К. Вагинова «Козлиная песнь» ...................................................................................... 233 3 Введение Несмотря на то, что количество исследовательских работ, посвященных творчеству К. К. Вагинова, сравнительно невелико, стоит признать, что сегодня существует раздел истории литературы XX века, в котором специально разрабатываются проблемы поэзии и прозы данного автора. Предваряя основное содержание диссертации, необходимо осветить принципиальные проблемы, интересовавшие исследователей в связи с творчеством Вагинова, и описать подходы, применяемые в поисках адекватного описания его оригинальных произведений — тем самым определяя степень разработанности заявленной темы диссертационного исследования. Почти половину века ученые неустанно и с интересом пишут о прозе и поэзии Вагинова, однако, по нашему мнению, концептуальное видение вагиновских произведений, определившее и последующие исследовательские тенденции, формируется в период с 1967 по 1989 год. История изучения творчества Вагинова — одна из редких литературоведческих традиций, начало которой имеет точную датировку. Доклад студентки Т. Л. Никольской, прочитанный на конференции в Тарту (с последующей публикацией материалов доклада в сборнике статей молодых исследователей1), является первой научной работой, посвященной непосредственно фигуре писателя. Однако нельзя сказать, что Никольская заново открыла для любителей словесности уже, должно быть, забытое имя. Согласно условиям бытования литературы брежневского периода, процессы культурного восприятия происходили параллельно двумя способами. К концу 1960–х годов еще живы многие друзья и коллеги 1 Никольская Т. Л. О творчестве К. Вагинова // Материалы XXII науч. студ. конф. Ч. 1. Тарту, 1967. С. 94–100. 4 Вагинова, он упоминается в мемуарах2 и даже в некоторых исследованиях о литературе 1920–х годов.3 Наибольшую популярность его творчество имело в узком кругу интеллектуального андеграунда, среди представителей неофициальной культуры — условно, второго поколения той интеллигенции, что запечатлена в образах его прозы. Никольская была вхожа в закрытое литературное сообщество Ленинграда и, безусловно, значительная часть материала тартуской статьи была подчерпнута из личного общения с представителями культуры «самиздата».4 Однако появление студенческой работы с такой оригинальной темой начинает процесс преобразования литературно–бытовой легенды о незамеченном гении в историко–литературный факт, выявленный и описанный по общим методологическим и дискурсивным правилам. Почти десять лет спустя после сообщения в Тарту статья о Вагинове войдет в девятый (дополнительный) том «Краткой литературой энциклопедии», где Никольская будет писать: «<в> романах В<агинова> — сочетание трагич<еского> психологизма с резко сатирич<еским> изображением воинствующего мещанства»5. Признание Вагинова «значительным литературным явлением»6 было возможно только с помощью штампов социалогической критики. Либеральный жест по отношению к писателю, «не сумевш<ему> найти место в новой 2 См. немногочисленные упоминания: Берберова Н. Из петербургских воспоминаний. Три дружбы // Опыты. 1953. № 1. С. 167.; Борисов Л. И. Родители, наставники, поэты… Книга в моей жизни. М., 1967. С.85. 3 См., к примеру: Завалишин В. Николай Заболоцкий // Новый журнал. 1959. №58. С.122.; Вулис А. З. Советский сатирический роман. Эволюция жанра в 20–30–е годы. Ташкент, 1965. 268 с.; Гор Г. О лирике // День поэзии. Л., 1964. С. 51–52. 4 В период с 1964 по 1972 годы Т. Л. Никольская (вместе с Л. Чертковым) активно занималась сбором материала по истории «второй литературы» 1920–х годов (помимо Вагинова, ее интересовал, в частности, Л. Добычин). В ОР РНБ передана переписка литературоведов со многими потенциальными информантами: Л. И. Борисовым (ф. 1278, оп. 2, ед. хр. 13), Н. Н. Берберовой (ф. 1278, оп. 2, ед. хр. 9), Н. К. Чуковским (ф. 1278 оп. 2, ед. хр. 61), П. Н. Лукницким (ф. 1278, оп. 2, ед. хр. 32), Л. А. Мессом (ф. 1278, оп. 2, ед. хр. 34), Н. Л. Степановым (ф. 1278, оп. 2, ед. хр. 49) и др. 5 Никольская Т. Л. Вагинов // Краткая литературная энциклопедия. В 9 т. Т. 9. А — Я. [дополнительный]. М., 1978. Ст. 169. 6 Именно так во введении к девятому (дополнительному) тому КЛЭ названы те литераторы, которых не включили в основное издание энциклопедии. 5 действительности»7, не подразумевал серьезного издательского и научного интереса. Кроме скромной публикации стихов8, до конца 1980–х годов переизданий творчества Вагинова не осуществлялось. Официальной инертности сопутствовала работа зарубежных русистов (часто эмигрантов) по изучению советской ветви эволюции русского модернизма и авангарда. В 1970–е годы появились первые монографии о наиболее известных фигурах литературы 1910–1920–х годов, в которых (часто «на полях») упоминается и Вагинов.9 В последующие за сообщением Никольской двадцать лет основные исследовательские события, связанные с творчеством писателя, происходили на территории «тамиздата».10 Первое издание поэтического наследия Вагинова, в сопровождении обширной статьи, вместившей в себя наиболее полные на тот момент сведения о биографии автора и о историко–литературном значении его текстов, было осуществлено Л. Н. Чертковым в Мюнхене в 1982 году.11 Еще в 1972 году вышел итальянский перевод «Бамбочады», третьего романа Вагинова.12 В нью–йоркском издательстве «Silver Age» выходят репринты (фототипические копии) КП и ТДС соответственно в 1978 и в 1984 годах.13 В известном издательстве «Ardis» был впервые опубликован последний, не изданный при жизни автора роман «Гарпагониана».14 7 Никольская Т. Л. Вагинов // Краткая литературная энциклопедия. … Ст. 169. Константин Вагинов / Т. Л. Никольская, Л. Чертков // День поэзии. Л., 1967. С. 77–78. 9 Александров А. Обэриу. Предварительные заметки // Ceskoslovenska rusistika. 1968. №5. С.296– 303.; Марков В. Поэзия Михаила Кузмина // М. Кузмин. Собр. стихотворений. Munchen, 1977. Т. 3. С. 385.; Millner–Gulland R. Left art in Leningrad // Oxford Slavonic Papers. New Series. Vol. III. Oxford, 1970. P. 66, 68, 71, 74, 75. и др. Одной из первых аналитических работ о метаповествовательной структуре романов Вагинова стала статья: Угрешич Д. Метатекстуалне разине у романиму Константина Вагинова // Кньижевна реч. 1978, 10 jiна. №102. 10 Тем не менее, по крайней мере одна публикация вышла в советской периодике. Мы имеем в виду статью А. Блюма и И. Мартынова о библиофильской страсти Вагинова и героев его произведений. Несмотря на многочисленные подступы к теме коллекционирования в более поздних исследованиях, реальный комментарий текстов и исторические сведения об участии Вагинова в обществе библиофилов до последнего времени остаются актуальными. См.: Блюм А., Мартынов И. Петроградские библиофилы: По страницам сатирических романов К. Вагинова // Альманах библиофила. М., 1977. Вып.4. С. 217–235. 11 Вагинов К. К. Собрание стихотворений. Munchen, 1982. 236 c. 12 Vaginov K. Bambocciata. Torino, 1972. 13 Вагинов К. К. Козлиная песнь. Нью–Йорк: Silver Age, 1978.; Вагинов К. К. Труды и дни Свистонова. Нью–Йорк, 1984. 152 c. 14 Вагинов К. К. Гарпагониада. Ann Arbor, 1983. 128 c. 8 6 Первая диссертация о творчестве Вагинова была защищена 17 мая 1985 года в Беркли Энтони Энимоном (под руководством Л. Флейшмана).15 Главным сюжетом работы стала творческая биография литератора, раскрывающая его поэтический опыт. Энимон сосредотачивает внимание на первой половине 1920–х годов: собрана подробная история создания стихотворных сборников, приведены критические отзывы современников о поэзии Вагинова, представлена канва жизни и творчества поэта до 1926 года. Последующие годы литературной работы освещены не так подробно — с меньшей опорой на эмпирические данные, которые заменяются типичными выводами о тоталитарном контроле над культурой в сталинском государстве. Исследовательская деятельность обозначенного периода в наибольшей степени подвержена влиянию социолитературных реалий (идеологии литературных агентов). Образ Вагинова, созданный авторами работ данного периода, можно назвать ангажированным, призванным отстаивать символические позиции неофициальной культуры в противостоянии литературному официозу. Верхняя граница начального периода научного изучения творчества Вагинова выбрана не случайно. Во–первых, это год первого переиздания его прозы: в серии «Забытая книга» были напечатаны все романы, издававшиеся при жизни.16 Во–вторых, в журнале «Вопросы литературы» вышла обзорная статья А. Г. Герасимовой о творчестве Вагинова.17 Факт издания прозы Вагинова на территории СССР символизирует переход к единой публикаторской традиции — распространяются тексты, до тех пор носящие гриф «андеграунда» или «литературы в изгнании». Как представляется, тот же эффект вызвала публикация Герасимовой, по 15 Anemone A. Konstantin Vaginov and the Leningrad Avant–garde:1921–1934: [Ph. D. diss.]. — UC Berkley, Michigan, 1986. — 256 P. 16 Вагинов К. К. Козлиная песнь; Труды и дни Свистонова; Бамбочада. М.,1989. 473 с. 17 Герасимова А. Г. Труды и дни Константина Вагинова // Вопросы литературы. 1989. № 12. С. 131–166. 7 своей структуре повторяющая и первые работы Никольской,18 и вступительную статью Л. Н. Черткова к упомянутому нами сборнику стихотворений Вагинова, и диссертацию Энимона. Герасимова не вводит в оборот новых данных, она лишь независимо от других исследователей, повторно производит инициацию «забытого имени», но уже на платформе московского журнала. Как это видно даже из нашего краткого обзора становления науки о Вагинове, исследователей мало интересовало разделение его творчества на поэтическое и прозаическое. Последнее часто представлялось факультативным. Скажем, Энимон объясняет факт написания романов издательской заинтересованностью в полумемуарной, полусатирической прозе о творческой интеллигенции, не принадлежавшей к рабочему классу.19 Любопытен тот факт, что и в конце 1920–х годов в литературных кругах едва ли нашелся бы человек, который считал бы Вагинова — прозаиком. Автор двух крупных прозаических произведений, обдумывающий следующий свой роман, все же воспринимался в качестве поэта, наследника традиций Н. С. Гумилева, О. Э. Мандельштама,20 18 К списку уже обозначенных публикаций следует добавить: Никольская Т. Л. К. К. Вагинов: (Канва биографии и творчества) // Четвертые Тыняновский чтения: тез. докл. и материалы для обсуждения. Рига, 1988. С. 67–88. 19 Anemone A. Konstantin Vaginov and the Leningrad Avant–garde:1921–1934. P. 218–223. Впрочем, исследователь отмечает также и литературные факторы, повлиявшие на становление Вагинова–прозаика (участие в семинаре Бахтина, членство в ОБЭРИУ). 20 Наследственность, в данном случае, фиксируется без учета поэтической близости произведений Вагинова и его старших коллег (тем более что поэтика Мандельштама, как известно, в 1920–е годы сложна и изменчива). Здесь нам важно подчеркнуть близкое расположение авторов на условной литературной карте, в восприятии современников. Так, вхождение Вагинова в литературное сообщество связано с его участием на семинаре Гумилева в ДИСКе и в организованной участниками семинара литературной группе «Звучащая раковина» (см., к примеру, последний реферативный обзор Кибальник С. А. В поэтической студии Н. С. Гумилева // Труды и дни Константина Вагинова. Документальная биография писателя. http://www.rfh.ru/downloads/Books/124493014.pdf [электронная публикация].) Ассоциации поэзии Вагинова с творчеством Мандельштама заданы самим акмеистом. См.: «А.А<хматова> <...>: "Оська задыхается!" Сравнил стихи Вагинова с итальянской оперой, назвал Вагинова гипнотизером. Восхищался безмерно» (Лукницкий П. Н. Acumiana: встречи с Анной Ахматовой. Париж, М., 1997. С. 82); «...<Эйхенбауму> в час ночи позвонил Мандельштам, с тем чтобы сообщить ему, что: - Появился Поэт! -? - Константин Вагинов! 8 старшего товарища поэтов группы ОБЭРИУ (Хармс, Введенский, Олейников и проч.). Накануне 1929 года журнал «Звезда» выпускает проспект, в котором анонсируется основная программа публикаций для годовых подписчиков.21 Вагинов представлен как поэт, несмотря на то что в 1929 году он так и не опубликует ни одного стихотворения, зато в майском номере выйдет журнальная версия его второго романа ТДС, а на недавно опубликованную отдельным томом КП (которая так же препринтом вышла в «Звезде»22) в центральной периодике в течение 1928 года публикуется три критических отзыва.23 Названные архивные данные, кажется, в большей степени раскрывают редакторскую политику (по крайней мере, внутреннюю классификацию авторов), нежели анализ политической рефлексии редакции «Звезды» при разном руководстве (Энимон); с помощью эмпирического стратегии материала Вагинова в по–иному обуславливаются писательские литературно–бытовом контексте: возможно стереотипное редакторское восприятие специализации автора, а не (только) авторское корыстное желание увеличить гонорары и соответствовать журнальным трендам. Тем не менее, особая, навязанная извне (часто постфактум) «специализация» Вагинова — это один из главных пунктов программы восприятия его творчества, сложившейся на начальном этапе изучения. Переход от лирики к прозе происходит условно в поздний период творчества писателя, в тот момент, когда возникает необходимость в литературной социализации на новом основании, согласно требованиям Б.М. спросил робко: "Неужели же вы в самом деле считаете, что он выше Тихонова?" Мандельштам рассмеялся демоническим смехом и ответил презрительно: "Хорошо, что вас не слышит телефонная барышня!"» (Гинзбург Л. Я. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. СПб., 2002. С. 16). 21 РО ИРЛИ ф. 109, ед. хр. 835, л. 1. 22 Вагинов К. К. Козлиная песнь. Роман // Звезда. 1927. № 10. С. 53–97. 23 См.: Гоффеншефер В. К. Вагинов. Козлиная песнь // Молодая гвардия. 1928. №12. С. 203– 204.; Дерман А. К. Вагинов. Козлиная песнь // Книга и профсоюзы. 1928. № 10. С. 43.; Розенталь С. К. Вагинов. Козлиная песнь // Красная новь. 1928. № 10. С. 245–246. Рец. на журнальную публикацию: Сергиевский И. Вагинов. Козлиная песнь // Новый мир. 1928. № 1. С. 284–285. Помимо печатной реакции на публикацию, роман вызвал ряд дискуссий в около литературных кругах, где был известен Вагинов и прототипы героев КП. 9 советской культурной парадигмы 1920—1930–х годов. На момент выхода КП отдельным изданием в 1928 году произошли коренные изменения литературного быта писателей.24 В дальнейшем условия быть писателем только усложнялись за счет обязательного требования социальной (нелитературной) активности.25 Однако Вагинов, вопреки ожиданию потомков, не замолчал, а наоборот, продолжал писать прозу, оригинальность поэтики которой как раз и обусловлена художественной рефлексией над современностью. Если отвлечься от периодизации историографической традиции вагиноведения и представить весь комплекс исследовательских работ в целом, то несложно выделить наиболее частотную аналитическую стратегию. Комплексное описание творчества Вагинова, как и любого другого автора, не снискавшего при жизни особенной славы и популярности, ожидаемо сводится к сравнительным характеристикам. Культурные и художественные контакты Вагинова в 1920–1930–е годы были многочисленны и разнообразны,26 круг чтения весьма нетривиален, что обуславливает необходимость исследования литературных связей. Проводят параллели между творчеством Вагинова и Н. С. Гумилева,27 А. А. Ахматовой,28 О. Э. Мандельштама,29 А. А. Блока,30 А. Белого,31 24 Гуськов Н. А. Материалы для составления хроники культурной жизни Ленинграда на рубеже 1920–х и 1930–х гг. // Институты культуры Ленинграда на переломе от 1920–х к 1930–м годам: Материалы проекта. http://www.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=LcbyDIUEeWk%3d&tabid=10460. [Электронная публикация]. 25 См. Глава II, параграф 1 настоящего диссертационного исследования. 26 Подробнее о группах и объединениях, к которым Вагинов имел отношение, см.: Никольская Т. Л. К. К. Вагинов: (Канва биографии и творчества) // Четвертые Тыняновский чтения: тез. докл. и материалы для обсуждения. Рига, 1988. С. 67–88.; Никольская Т. Л. Дополнения к библиографии Константина Вагинова // Шестые Тыняновские чтения. Рига; М., 1992. С. 301–306. 27 Никольская Т. Л. Н. Гумилев и П. Лукницкий в романе К. Вагинова «Козлиная песнь» // Николай Гумилев: Исследования и материалы. СПб., 1994. С. 620–625.; Шиндина О. В. Несколько замечаний к проблеме «Вагинов и Гумилев» // Н. Гумилев и русский Парнас: Материалы научной конференции. СПб., 1992. С. 84–91; Anemone A. Konstantin Vaginov and the Death of Nicolai Gumilev // Slavic Review. 1989. Vol. 48. №4. P. 631–636. 28 Васильев И. Е. Лики Петербургской музы: Ахматова и Вагинов // Ахматовские чтения: А. Ахматова, Н. Гумилев и русская поэзия нач. ХХ в. Тверь, 1995. С.59–68.; Кибальник С. А. Ахматова о Вагинове и у Вагинова (К постановке проблемы) // Некалендарный XX век. М.: Издательский центр «Азбуковник», 2011. С. 315–327. 29 Козюра Е. О. Вокруг себя: Мандельштам и Вагинов // Вестн. Удмурт. ун–та. 2008. №3. С. 81– 92.; Шиндина О. В. К отзвукам статьи «Слово и культура» Мандельштама в художественном мире 10 А. А. Введенского,32 Д. Хармса,33 В. А. Каверина,34 Б. Л. Пастернака,35 Б. Ю. Поплавского,36 В. В. Набокова,37 С. Д. Кржижановского,38 Ш. Бодлера39 и др. Однако среди объектов сравнения, характеризующих прозу, находятся не только произведения художественной словесности, но и критические исследования, металитературные тексты. Так, прозу Вагинова соотносят с теоретическими построениями В. Беньямина,40 Вяч. И. Иванова,41 Ю. Н. Тынянова,42 и (чаще всего) М. М. Бахтина (и исследователей его круга).43 Вагинова // Осип Мандельштам: Поэтика и текстология: Материалы научной конференции. М., 1991. С. 68–72. 30 Кибальник С. А. Путешествие в блоковский хаос (Конст. Вагинов) // Александр Блок. Материалы и исследования. СПб., 2011. С. 102–112.; Подшивалова Е. А. Блок в зеркале Вагинова // Александр Блок и мировая культура. Великий Новгород, 2000. С. 308–316. 31 Козюра Е. О. Поэтика и эстетика Константина Вагинова в русском литературном контексте: учебное пособие. Воронеж, 2011. С. 28–43. 32 Лощилов И. Е. «Вагиновский след» в «Елке у Ивановых» // Текст и интерпретация. Новосибирск, 2006. С. 218–228.; Эрль В. И. Константин Вагинов и А. Введенский в Союзе поэтов // Wiener Slawistischer Almanach. 1991. Bd. 27. P. 219–222. 33 Кобринский А. А. Даниил Хармс и Константин Вагинов // О Хармсе и не только: статьи о русской литературе XX века. СПб., 2013. С. 39–46. 34 Ермолаева Ж. Е. Санкт–Петербург — Ленинград в романах «Скандалист, или Вечера на Васильевском острове» В. Каверина и «Труды и дни Свистонова» К. Вагинова // Литература одного дома. СПб., 2008. С. 26–30. 35 Жиличева Г.А. Способы риторической индексации нарративной стратегии (на материале романов К. Вагинова и Б. Пастернака) // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2014. № 2 (26). С. 134-140 36 Арлаускайте Н. Следы «покушения с негодными средствами», или О пользе чтения уголовного кодекса: Борис Поплавский, Владимир Набоков, Константин Вагинов и многие другие // Новое литературное обозрение. 2003. №64. С. 303–304.; Янушкевич А. С. «Козлиная песнь» К. Вагинова и «Аполлон Безобразов» Б. Поплавского: судьба русского гедонизма // Русская литература в XX веке: имена, проблемы, культурный диалог. Томск, 2003. Вып. 5: Гедонистическое мироощущение и гедонистическая этика в интерпретации русской литературы XX века. С. 94–122. 37 Бологова М. А. Текст и смысл. Стратегии чтения: К. К. Вагинов «Козлиная песнь», В. В. Набоков «Дар», М. А. Булгаков «Мастер и Маргарита». Новосибирск, 2004. 190 с.; Буренина О. «Трагедия» творчества или литература как «остров мертвых»: Набоков и Вагинов // Rev. des etudes slaves. 2000. T.72. № 3\4. p. 431–442. 38 Синицкая А. В. Пространственность и метафорический сюжет: на материале произведений С. Кржижановского и К. Вагинова: дисс. на соиск. … канд. филол. наук: 10.01.08. Самара, 2004. 202 с. 39 Pavlov E. Writing as Mortification: Allegories of History in Konstantin Vaginovʼs Trudy i Dni Svistonova // Russian Literature. 2011. V. 69, № 2–4. pp. 359–381. 40 Pavlov E. Указ. соч. pp. 359–381. 41 Козюра Е. О. Поэтика и эстетика Константина Вагинова в русском литературном контексте: учебное пособие. С. 6–28. 42 Шиндина О. В. Художественный и научный дискурсы 1920 х годов. Тыняновский подтекст образа литератора в художественном мире Константина Вагинова // Логос. 2014. № 3 (99). С. 145-164. 43 Среди множества работ выделим: Николаев Н. И. М. М.Бахтин, Невельская школа философии и культурная история 1920-х годов // Бахтинский сборник. Вып. 5. 2004. С. 210-280. Разумова А., Свердлов М. Пафос диахронии в филологических текстах круга М.М. Бахтина и в романе К. Вагинова «Козлиная песнь» // В. Я. Брюсов и русский модернизм. М., 2004. С.223-239; Сандомирская И. Блокада в слове. Очерки критической теории и биополитики языка. М., 2013. С. 111-173. 11 Подводя предварительные итоги двум историографическим обзорам, можно утверждать следующее: ориентация романов Вагинова не только на литературный дискурс,44 эксплицитная метахудожественная рефлексия и рефлексивное отображение литературно–бытовой ситуации 1920–х — 1930–х годов являются их определяющими чертами, «ключами» к интерпретации авторского высказывания.45 Данную специфику прозы Вагинова одним из первых определил Д. М. Сегал в работах 1979–1981 годов.46 «Козлиная песнь» <далее КП — Д. Б.> и «Труды и дни Свистонова» <далее ТДС — Д. Б.>47 рассматриваются в ряду других метафикциональных текстов48 (среди которых стихотворный сборник М. А. Кузмина «Форель разбивает лед», «Поэма без героя» А. А. Ахматовой, повесть О. Э. Мандельштама «Египетская марка», роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» и др.), в которых посредством специфической темы (текст о тексте) или же усложненной 44 См. подробнее об этом: Приложение II настоящего диссертационного исследования. Тезис может быть подтвержден и биографическими фактами из жизни Вагинова. Во–первых, социально–литературный статус автора диктует интерпретацию принадлежащих ему текстов — при описании романов Вагинова следует учитывать, что они подходят под жанровое определение «проза поэта». Т. В. Цивьян называет такую прозу «я–текстом», коммуникация в котором осуществляется «центростремительно»: «субъективность поэзии, обращенн<ой> на себя» замещает первоначальные прозаические интенции к экстраполяции «объективности, обращенной на другого» (Цивьян Т. В. Проза поэтов о прозе поэта // Цивьян Т. В. Семиотические путешествия. СПб. С. 208). «Почти обязательны: автобиография, мемуары в широком смысле (в герое в разной степени присутствует автор) <…>. Гораздо более значим интерес к технике творчества. <…> В конце концов, основной составляющей прозы поэта становится автометаописание» (Там же, 210). Во–вторых, интерес к прозе у Вагинова возникает в период пристального внимания к теоретическим исследованиям в области литературоведения. См. воспоминания современников о нахождении Вагинова на Словесном факультете ВГКИ при РИИИ, где он числился членом Комитета современной литературы: Бахтерев И. В. Встречи // Российский институт истории искусств в мемуарах. СПб, 2003. С. 160.; Голицына В. Г. Наш институт, наши учителя… // Российский институт истории искусств в мемуарах. СПб, 2003. С. 71.; Кибальник С. А. Ненаписанные воспоминания. Интервью с Александрой Ивановной Вагиновой // Волга. 1991. №7–8. С. 148–149. 46 Сегал Д. М. Литература как вторичная моделирующая система // Slavica Hierosolymitana. 1979. Vol. IV. Pp.1–35.; Сегал Д. М. Литература как охранная грамота // Slavica Hierosolymitana. 1981. Vol. V – VI. Pp. 151–244. В нашей работе мы ссылаемся на переиздание этих статей, которые, впрочем, перепечатываются без изменений: Сегал Д. М. Литература как охранная грамота. М., 2006. 976 с. См. также другие работы по теме: Shepherd D. Beyond metafiction: self–consciousness in Soviet literature. Oxford, 1992. 260 p.; Bohnet Ch. Der Metafiktionale Roman. Untersuchungen zur Prosa Konstantin Vaginovs. Muenchen, 1998. 293 p.; Шиндина О. В. Творчество К. Вагинова как метатекст. дисс. на соиск. … канд. филол. наук: 10.01.01 Саратов, 2010. 235 с. 47 Полный список сокращений, принятых в данной работе см. в специальном разделе. 48 Термин был введен в научный оборот Патрисией Во: «Метафикциональность - это термин, определяющий такую художественную литературу, которая осознано (self–consciously) и систематично привлекает внимание к своему статусу искусственно сделанной вещи (artefact), проблематизируя тем самым отношения между реальностью и фикциональностью». (Waugh P. Metafiction: the theory and practice of self–conscious fiction. London, New–York, 1984. P. 5). 45 12 структуры (текст в тексте) рефлексируется изменение семиотического статуса художественности, способной на «литературное моделирование» реальности.49 Насаждаемая идеология может замещать собой позицию первичной знаковой системы,50 вынуждать литературу стать на метапозицию, заявить о собственной специфике в ряду прочих дискурсов, отказавшись от изображения объектов вне дискурсивных конвенций. Важно уточнить некоторые методологические установки, с которыми Сегал подходит к исследованию материала. Он расширяет традиционный имманентный анализ текста, его интересует «некотор<ый> комплекс<>, включающ<ий>, по крайней мере, следующ<ие> компонент<ы>: сам текст в его семантике и композиции, ситуация текста (в частности, его функция в творчестве писателя, его соотношение с внетекстовой «реальностью» — жизнью, его судьба — печатание– непечатание и проч.), ситуация автора (в частности, роль написания и самого процесса писания в биографии автора, в формировании его творческой позиции, наконец, в его жизненной судьбе) и ситуации читателя (ориентация или неориентация текста на определенный тип читателя, тип связи читателя с текстом, «построение» читателя по ходу текста и т. п.)».51 Иными словами, Сегал рассматривает внутреннее устройство текста (по модели герменевтического треугольника Фреге) в прагматическом его аспекте — он отмечает значимость ситуации культурной коммуникации для выбранных художественных произведений. Как это видно из исследований Сегала, триада автор–текст–читатель может иметь разные исторические и жанровые наполнения — изначальная обращенность текста к читателю может быть эксплицирована. В прагматике художественного произведения заложено отношение его 49 Сегал Д. М. Указ. соч. С. 12. О креативной потенции советского (революционного) дискурса см.: Платт К. История в гротескном ключе. Русская литература и идея революции. СПб., 2006. С. 151–161. 51 Сегал Д. М. Литература как охранная грамота. С. 12. 50 13 структуры, поэтики к особенностям ее технической реализации — практического выражения заложенной авторской интенции. Прагматическое значение художественного высказывания может быть выражено и регистрацией дискурсивных следов внутри текста, и наложением на проблематику текста (семантическое значение) условий его создания и существования в литературно–бытовом пространстве — то, к изучению чего к середине 1920–х годов подошла и формальная школа — ср. «<в>опрос о том, “как писать”, сменился или, по крайней мере, осложнился другим — “как быть писателем”».52 Таким образом, прагматические аспекты прозы Вагинова должны быть тщательно изучены, так как выявленная Сегалом «ситуация» текста, видимо, рефлексировалась самим автором. Однако, заканчивая разбор КП и ТДС, Сегал формулирует следующий тезис: «Вагинов не оставляет себе возможности очистительной исповеди или монолога. Он вскрывает нежеланную правду о своих героях и о самом авторе, но одновременно он подвергает сомнению и сам процесс этого раскрытия. Он как бы говорит читателю: вот каковы мои герои, вот каков я, но не думайте, что в этом поиске последней правды я вам ее показал… <…> Только так и может быть представлена гибель культуры, когда в перспективе не видно никакого будущего развития».53 В попытках восстановить прагматическую ситуацию Сегал исходит из принципиальной невозможности плодотворного сотрудничества советской «реальности» и художественного мира авторов. Данный тезис, на наш взгляд, проблематичен и, по крайней мере, в случае Вагинова требует внимательного и всестороннего изучения, в том числе описания биографии писателя и творческой истории его произведений. Несмотря на 52 53 Эйхенбаум Б. М. О литературе: Работы разных лет. М., 1987. С. 430. Сегал Д. М. Литература как охранная грамота. С.150. 14 то, что в целом жизнь Вагинова известна, основной период прозаического творчества представляется наименее изученным. Невнимание к определенным фактам из жизни и творчества Вагинова объясняется историческими обстоятельствами начального периода изучения, определенными выше. Научная новизна нашего диссертационного исследования заключается в использовании источников, по–новому раскрывающих писательскую деятельность Вагинова с 1927 по 1934 годы. В первую очередь, это авторский экземпляр ТДС и записная книжка «Семечки».54 Изучение данных источников, проясняющих темные места вагиновской биографии обозначенного периода, позволяет поставить цель: следуя за репрезентациями определенного выше основного дифференцирующего признака романов — художественной экспликации прагматических свойств авторского высказывания — дать целостное описание всех романов Вагинова с точки зрения эволюции авторских поэтических принципов. По мнению многих исследователей,55 творчество Вагинова целостно: присутствуют сквозные темы и мотивы, «блуждают» из романа в роман одноименные персонажи, используется типичный хронотоп. И если в плане содержания крупные произведения могут рассматриваться как близкие друг к другу, то наиболее важной для характеристики особенностей каждого текста в отдельности становится прагматическая авторская установка по отношению к каждому тексту, а также прагматика соположения текстов между собой в рамках одного писательского портфолио. Предлагаемое в данной работе описание прагматических свойств крупной прозы Вагинова не только позволяет переосмыслить поэтические особенности конкретных текстов, но иначе представить 54 Оба источника находятся в частном собрании А. Л. Дмитренко. См. об этом: Шукуров Д. Л. Автор и герой в метаповествовательном дискурсе К.К. Вагинова. С. 105; Шиндина О. В. О метатекстуальной образности романа Вагинова «Труды и дни Свистонова» // Вторая проза: Русская проза 20 — 30–х годов XX века. Тренто, 1995. С. 154. 55 15 проблему изучения советского литературного процесса 1920–х — 1930–х годов, чем и обуславливается актуальность исследования. Для осуществления поставленной цели нам потребовалось решить следующие задачи: — ввести в научный оборот новонайденный источник текста ТДС — авторский экземпляр первого издания романа — осуществить текстологический анализ всех имеющихся источников текста крупной прозы Вагинова с учетом тех, которые до настоящего времени не были специально изучены — сформулировать особенности и основные этапы творческой истории прозаических произведений Вагинова — описать записную книжку «Семечки» в контекстах творческой биографии Вагинова и литературного процесса начала 1930–х годов — соотнести литературную и общественную деятельность Вагинова в начале 1930–х годов — определить специфику дискурсивного влияния на коммуникативную структуру романов Вагинова в конце 1920–х и в начале 1930–х годов — определить функцию прагматических элементов в структуре метафикциональных текстов Вагинова Поставленные задачи не могут быть осуществлены в рамках одной существующей теоретико–литературной концепции — методология данного исследования вынуждено представляет собой некоторый комплекс подходов. Так, во многом прикладные источниковедческие исследования используются нами в качестве эмпирического основания для описания поэтики художественного текста. Среди исследователей, занимающихся историей текстов XX века, в последнее время принято связывать построение архива писателя с его собственным отношением к черновым 16 материалам. Вопреки классической мемориально–архиваторской внешней интенции (нужно сохранить для потомства материалы, демонстрирующие творческую лабораторию известного автора), существует и функциональное значение авантекта как потенциального источника творческих идей, как череды эстетических экспериментов, сопутствующих созданию творческой нового произведения.56 истории57 герметичности заключается художественного Суть в модернистского скептическом текста. прочтения отношении Граница к реальность/ фикциональность прочерчивается художником не в тот момент, когда он ставит точку в конце романа, а тогда, когда определяется прагматический выбор в пользу художественного высказывания. Принципиальное для текстологии понятие — дефинитивный (основной) текст — обычно определяемое как тот вариант произведения, «в котором наиболее полно выражена последняя творческая воля автора»,58 осложняется двойственной позицией творческого субъекта: «воля» автора обуславливает конечный вариант текста не в меньшей степени, чем включается во внутреннюю структуру самого романного высказывания. Таким образом, результаты текстологической работы, выполненной с учетом методологических установок школы Н. К. Пиксанова и Французской генетической школы, описываются в рамках структурного анализа текста (Ю. М. Лотман, Ж. Женетт). Биографические разыскания рассматриваются нами в качестве фактов литературного быта (Б. М. Эйхенбаум, Л. Я. Гинзбург, П. Бурдье) и прагматически обуславливают поэтику выбранного материала. 56 Именно так понимает генетическое досье Л. Андреева М. Козьменко. «Гипертекстуальность <…> столь же наглядно явлена в целом известной, но до конца не осмысленной жанровой тенденции Андреева перелицовывать рассказы в пьесы. Важно подчеркнуть, что большинство созданных таким образом пьес родилось из забракованных самим автором ранних рассказов (подавляющая их часть при жизни не публиковалась)». (Козьменко М. Проблема «гипер–авантекста» (на материале творческого наследия Л. Андреева) // Текстологический временник. Русская литература XX века: Вопросы текстологии и источниковедения. М., 2009. С. 220.). 57 В данном случае мы избегаем противопоставления двух известных подходов к истории текста: методология «творческой истории» Н. К. Пиксанова и Французской генетической критики, при том, что полярно различаются философской основой, на практике во многом схожи. 58 Рейсер С. А. Палеография и текстология нового времени. М., 1970. С. 128. 17 Важнейшим теоретическим основанием исследования стали теоретико–литературные, лингвистические и литературно–философские работы М. М. Бахтина и группы ученых, входивших в состав его домашнего семинара в Ленинграде. В публикациях участников семинара (в первую очередь, В. Н. Волошинова и П. Н. Медведева), равно как и в текстах самого Бахтина,59 манифестируется высказывания и социальная специфика обусловленность художественного слова повседневного в контексте общественных отношений. По сути дела, еще в 1920–е годы в кругу Бахтина зарождаются идеи металингвистики, окончательно сформулированные самим Бахтиным уже только в 1960–е годы (теория речевых жанров). Так, в статье 1926 года «Слово в жизни и слово в поэзии»60 В. Н. Волошинов исходит из того, что слово изначально социально. Сам язык, использующийся в общении, не соотносится напрямую с лингвистической системой, он является продуктом социального действия. Исследователь приводит красноречивый (нарочито гипертрофированный) пример речевой ситуации: есть два человека, один из них говорит слово «так», другой кивает. Значение дейктического высказывания не может быть обнаружено без интонации и знания о контексте. Исследователь восполняет недостающие пробелы: действующие лица смотрят в окно и видят, что в начале мая выпал снег. Реакция «так» может читаться с интонацией досады. Эмоции должны быть общими для обоих участников. 59 Атрибуция авторства конкретных текстов до сих пор вызывает дискуссии. В рамках нашей работы вступать в бахтиноведческую полемику, к счастью, нет нужды. Тем более, что какое–либо разрешение данной проблемы возможно только при обнаружении новых документальных сведений. См. справедливый отрицательный отзыв на недавнюю зарубежную монографию, авторы которой решились отдать «copyright» «маскам» (Волошинову и Медведеву): Зенкин С. Некомпетентные разоблачители (рец. на Bronckart J.–P., Bota C. Bakhtine demasqe: histoire d’un menteur, d’un escroquerie et d’undelire collectif. Geneve: Droz, 2011. 629 p.) // Новое литературное обозрение. № 119 (1/2013). http://www.nlobooks.ru/node/3267. 60 Волошинов В. Н. Слово в жизни и слово в поэзии. К вопросам социологической поэтики // Бахтин М. М. Фрейдизм. Формальный метод в литературоведении. Марксизм и философия языка. Статьи. М., 2000. С. 72–95. 18 Однако тот агент речи, к которому обращена реакция говорящего, — это снег, который якобы находится вне процесса коммуникации, но является необходимым ее участником. Этот некто третий, тот, к кому обращено высказывание, и есть читатель (говорящий — автор, участник действия — герой). Здесь, в лабораторных условиях, слово имеет только интонацию, в действительной речи фраза будет иметь определенные стилистические оттенки, синтагматические особенности построения высказывания, то есть поле для регистрации прагматики высказывания в перспективе только расширяется.61 В той же статье (равно как и в серии публикаций 1930–х годов62) высказывается предположение о схожей ситуации в случае толкования художественного произведения, однако гипотеза остается на начальной стадии разработки и лишь в обозначенной перспективе выходит из детерминистских схем марксистского литературоведения. Тем не менее, Волошиновым (и кругом Бахтина в целом) манифестируется прагматическая обусловленность всякой (в том числе и романной) коммуникации. Той же аналитической оптикой пользуется П. Н. Медведев, предлагающий расширительное формалистское понимание имманентного подхода к тексту: «На самом деле прием <…> движется не в нейтральной лингвистической стихии, а врезывается в систему социальных оценок и через это сам становится социальным деянием».63 Взаимоотношения автор–герой (которые рассматриваются Бахтиным в работе «Автор и герой в эстетической деятельности»64) усложняются 61 Волошинов В. Н. Слово в поэзии и слово в жизни. К вопросам социологической поэтики. С. 77–80. 62 Например, в статье «Конструкция высказывания» (Волошинов В. Н. Конструкция высказывания // Бахтин М. М. Фрейдизм. Формальный метод в литературоведении. Марксизм и философия языка. С. 535–556) разбирается пример из Мертвых душ: разная стратегия диалогов Чичикова (с Плюшкиным и Бетрищевым) объясняется различной социальной стратификацией его собеседников. 63 Медведев П. Н. Формальный метод в литературоведении. Критическое введение в социологическую поэтику // Фрейдизм. Формальный метод в литературоведении. Марксизм и философия языка. Статьи . М., 2000. С. 302. 64 Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин М. М. Собрание сочинений в 7 тт. Т. 1. Философская эстетика 1920–х годов. М., 2003. С. 69–265. 19 активным участием воспринимающего субъекта — читателя. Кругом Бахтина мыслится такое внутреннее построение текста, его «ядра» (или «эстетического объекта»), в котором сходятся «интонации» всех участников коммуникации (то есть создается читатель, к которому обращен художественный текст). Так как в основе данного исследования — изучение прагматических свойств коммуникативной терминологического структуры аппарата прозаического заимствуется текста, из часть отрасли прагмалингвистики, а именно, теории речевых актов (Дж. Остин, Дж. Серль). Однако общеупотребительные в современной науке термины каждый раз обуславливаются исторически, как называющие те процессы коммуникации, которые были концептуализированы еще в 1920–1930–х годах, но не получили специального описания в работах М. М. Бахтина и ученых его круга, Г. О. Винокура, Е. Д. Поливанова и др. Сам термин прагматика (в некотором роде лингвистическая метафора) уже применялся по отношению к литературным произведениям. М. И. Шапир определяет принципиальное прагматическое свойство футуристских текстов — скандальность. По мнению исследователя, поэтические тексты «Гилеи» имеют определенное перформативное качество, провоцирующее читателя (или очевидца декламации), деструктурировать конвенциональный код восприятия поэзии.65 Ю. С. Степанов предполагает возможность типологии художественных систем относительно лингвистической триады: условно, им постулируется наличие семантических, синтагматических и прагматических поэтик. Последние — по мнению исследователя, характерны для литературы, которая экспериментирует над формой высказывания, и, следовательно, сама риторика текста которой имеет особое художественное значение. Ю. С. Степанов дает красноречивую 65 Шапир М. И. Что такое авангард? // Даугава. 1990. № 10. С. 3–6. 20 характеристику таким литературным произведениям, выявляя в них черты поэтики «эгоцентричных слов».66 Классификация речевых актов (в бахтинском варианте — речевых жанров) в некоторых исследованиях призвана соединить мотивный и нарратологический анализы.67 В настоящем исследовании мы в большей степени ориентировались на современную Вагинову литературную теорию, по нашему мнению, эксплицированную в его романах в качестве метатекста. Необходимость ограничиться историко–литературными рамками в описании фактов, не принадлежащих литературному процессу, обусловила выбранный комплекс методов и остановила наше стремление к теоретическим обобщениям. Концептуальный взгляд на литературный процесс 1920–х — 1930–х был сформирован под влиянием работ И. П. Смирнова, В. В. Фещенко, С. А. Савицкого, Д. Шеперда, Д. М. Сегала, Е. Добренко, М. О. Чудаковой и др. Материалом данной работы является все крупное прозаическое творчество Вагинова (КП, ТДС, «Бамбочада», «Гарпагониана»), а также иные тексты, прагматическая функция которых распространяется и на художественные произведения («Семечки», «Четыре поколения: Нарвская застава»). Основные положения, выносимые на защиту, можно сформулировать следующим образом: 1. Характер метафикциональной прозы Вагинова во многом обусловлен литературными и общекультурными процессами в период становления и закрепления советского общества в конце 1920–х — начале 1930–х годов. 66 Степанов Ю. С. В трехмерном пространстве языка (семиотические проблемы лингвистики, философии, искусства). М., 1985. С. 257–278. 67 Степанов А. Д. Проблемы коммуникации у Чехова. М., 2005. 400 с.; Hillis Miller J. Literature as a conduct: Speech acts in Henry James. New-York, 2005. 368 p. 21 2. Дискурсивная опосредованность художественного текста и литературно–бытовая ситуация вокруг писателя находят в романах Вагинова рефлексивное эстетическое воспроизведение, обуславливают прагматику художественного высказывания. 3. В поисках адекватного отображения реальности Вагинов экспериментирует с романной формой, изменяя степень авторского вмешательства в рецептивные стратегии потенциального читателя. Наиболее оригинальным экспериментом стоит признать одновременную публикацию ТДС в двух вариантах. Тавтологичное повторение нарративных структур, организующих одно и то же событие в плане содержания, позволяет акцентировать читательское внимание на самой ситуации выбора того или иного варианта публикации. 4. В середине 1929 года КП и ТДС подвергаются значительной правке, в процессе чего оба текста наделяются дополнительным к содержанию прагматическим значением. Фигура редактора становится частью коммуникативной структуры текста, замещая одновременно авторскую и читательскую позиции. 5. Сюжетная и повествовательная фрагментарность прозы Вагинова во многом обусловлена характером творческой редактуры произведений. 6. Коллажная композиция и интердискурсивная повествовательная риторика повести «Бамбочада» являются следствиями творческих экспериментов с КП и ТДС. 7. Участие писателя в литературных и педагогических официальных проектах 1930–х годов обусловлено не только экономическими и социальными причинами. Новые формы литературно–бытового поведения определяют развитие метафикционального романа Вагинова. 8. В 1932 году Вагинов осваивает жанр записной книжки писателя (теоретически осмысленный Л. Я. Гинзбург). Непрепарированная уличная речь, которая заполняет листы тетрадки «Семечки» становится 22 материалом для новой реалистической романной риторики, что продолжает традицию языковых экспериментов русского авангарда 1910– х годов. 9. Помещенные во вторую редакцию «Гарпагонианы» фрагменты из записной книжки встраиваются в повествовательную модель романа как «чужая» речь, неопосредованная диалогической авторской репликой. Дискурсивное творчество любого носителя языка рассматривается Вагиновым в качестве новой реалистической конвенции. Результаты данного исследования можно использовать в основном курсе «Истории русской литературы XX века», а также в специальных курсах, посвященных проблемам развития русской прозы XX века и творчеству К. К. Вагинова. Кроме того, текстологические и источниковедческие данные диссертации могут послужить основой для переиздания прозы Вагинова и первого издания записной книжки «Семечки». В этом состоит научно–практическая значимость настоящего диссертационного исследования. Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации излагались в докладах на научных конференциях: Международная конференция молодых исследователей «Современные методы исследования в гуманитарных науках» (Санкт–Петербург, ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом), 2011, 2012), Международная летняя школа по русской литературе (Санкт–Петербург, 2011, 2012, 2013, 2014), XLI и XLII Международная филологическая конференция (Санкт–Петербург, СПбГУ, 2012, 2013), Международная конференция молодых филологов в Тарту (Тарту, Эстония исследователей 2013), Международная «Текстология и конференция молодых историко–литературный процесс» (Москва, МГУ, 2013), Отчетная конференция Студенческого научного общества кафедры истории русской литературы и семинара «Прагматика 23 художественного дискурса» (Санкт–Петербург, СПбГУ, 2014). По теме работы опубликовано 11 статей. 24 Глава I. Прагматика прозы Вагинова 1920–х: от публичного заявления до внутренней речи К сожалению, никаких следов предварительной черновой работы К. К. Вагинова в 1920–е годы не сохранилось. Генетическое досье68 его крупной прозы, за исключением вариантов последнего так и не оконченного романа «Гарпагониана» (1934), не содержит машинописей или рукописей. Тот архивный материал, которым мы можем оперировать, относится к послепечатной редактуре текста— неустанной редактуре КП и ТДС на полях уже изданных книг, внутри, казалось бы, цельных (по меньшей мере, однажды оконченных) художественных текстов. Работа над КП ведется с 1926 года69 и, видимо, завершается уже к октябрю 1927, когда выходит десятый номер журнала «Звезда» с некоторыми главами из романа. Отдельным изданием роман выходит в августе 1928 года в издательстве «Прибой». Сохранились тома с лаконичными инскриптами; некоторые книги содержат в себе специально вклеенное «третье» предисловие, о специфике которого нам еще предстоит говорить.70 В фондах РО ИРЛИ хранится отдельный печатный экземпляр КП с многочисленными исправлениями, вклейками, вкраплениями нового текста.71 Т. Л. Никольская и В. И. Эрль, составители «Полного собрания сочинений в прозе», наиболее авторитетного на сегодняшний день издания сочинений Вагинова, берут за основу именно этот, так называемый авторский экземпляр КП. Они предполагают, что данный текст правился с целью подготовить роман для его повторной 68 Подборка последовательных вариантов, «выписок» цитат, сокращений, дополнений и вообще любой правки «исходного» текста. 69 Здесь мы руководствуемся мнением Т. Л. Никольской и В. И. Эрля, составителей ПССП. В собственных разысканиях нам не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть данное утверждение. 70 См. ниже (1.2.) 71 РО ИРЛИ. р. I, оп. 4, ед. хр. 269. (Далее АЭ КП, с соблюдением пагинации отдельного издания 1928 года). 25 публикации. В одном из следующих разделов диссертации72 мы критически оцениваем данное предположение, сомневаясь в издательской перспективе второй редакции КП, однако сейчас необходимо зафиксировать опорную дату для временной атрибуции принятого дефинитивного текста романа — июнь 1929 года, когда и предполагалось начать работу над переизданием романа. Дошедшие до нас факты, относящиеся к истории текста ТДС, позволяют заключить, что наиболее вероятная датировка источников романа также приходится на май–июнь 1929 года. Исследователи творчества Вагинова обычно упоминают о трех вариантах ТДС. В пятом номере журнала «Звезда» за 1929 год публикуется сильно сокращенная журнальная версия романа, и фактически одновременно с ней, в начале мая в «Издательстве писателей в Ленинграде» выходит отдельная книжка ТДС.73 Вагинов не перестает править и дополнять текст романа сразу после выхода отдельного издания. 22 мая 1929 года он подписывает Григорию Эммануиловичу Сорокину экземпляр книги, в котором уже содержится ряд значительных изменений по сравнению с только что вышедшим текстом.74 Любопытно, что Сорокин принимал непосредственное участие в публикации романа, выступив в роли ответственного редактора. Возможно, именно поэтому Вагинов сопровождает сорокинский экземпляр вклейками, дополнительными вставками текста, не стесняется зачеркивать лишние фразы. Существует еще один, так называемый авторский экземпляр отдельного издания, который Вагинов использует для дальнейшей сверки 72 См. ниже (1.3.) Наиболее ранний из известных на настоящий момент инскрипт датируется 9.05.1929 (адресован Ю. С. Берзину (1904 — 1942), также сохранился авантитул с дарственной надписью Павлу Николаевичу Медведеву (1892 — 1938) с датой 12.05.1929. (ОР РНБ. ф. 474. ед. хр. 11.). 74 Экземпляр находится в собрании М. С. Лесмана (ныне Музей Анны Ахматовой (Фонтанный дом))(.) 73 26 своего произведения, аналогичный уже упомянутому тому КП.75 Едва высыхает типографская краска, Вагинов начинает править текст ТДС без всякой издательской перспективы — новый вариант текста, зафиксированный в авторском экземпляре, следует датировать периодом около 22 мая 1929 года. Здесь присутствуют все правки из книги Сорокина, но есть и некоторое количество последующих изменений. Редакции авторских экземпляров обоих романов носят черновой характер разной степени завершенности. В настоящей главе мы будем говорить более подробно о процессе видоизменения поэтики романов, рассуждать о проблеме соотношения редакций, включая новонайденную редакцию ТДС, которая в нашей диссертации вводится в научный оборот. Однако начать описание генезиса художественного высказывания Вагинова 1920– х годов необходимо c сюжета о публикациях ТДС в журнальном варианте и отдельной книгой. 75 Экземпляр находится в частном собрании А. Л. Дмитренко (СПб.). Владелец любезно согласился предоставить нам копию правок, за что, пользуясь случаем, мы выражаем ему глубокую признательность. 27 1. Повесть и роман «Труды и дни Свистонова»: эстетизация процесса публикации художественного текста Повесть (таково авторское определение жанра) ТДС была напечатана в майском номере журнала «Звезда» в 1929 году.76 В аукториальном повествовании разворачивается неразветвленный сюжет — экспликация процесса создания художественного произведения — «говорят со времени символистов не появлялось подобного романа. А написан он стилем исключительным и охватывает целую эпоху» (ТДСп, 83). Авторская характеристика труда Свистонова как наследующего символизму чрезвычайно показательна — в конце данного раздела мы к ней вернемся. С начала повествования («Свистонов лежал в постели и читал, т. е. писал» (ТДСп, 72)) и до последнего слова на журнальной странице мы видим, как Свистонов зачинает, развивает историю, дополняет ее второстепенными персонажами и пейзажными зарисовками и отдает в набор уже готовый роман. Повествовательный модус будущего произведения не раскрывается в продолжение работы над ним, он инверсивно задан с самого начала, а значит, основная коллизия повести Вагинова лишена кульминационного нагнетания. Особенности нарратива определяются цитатой из исторического описания грузинского края: 76 Вагинов К. К. Труды и дни Свистонова. Повесть // Звезда, № 5, 1929. С. 71–92. Повесть (ТДСп) цитируется по прижизненной журнальной публикации, а не по изданию Т. Л. Никольской и В. И. Эрля, так как в ПССП дан вариант ТДС по экземпляру Сорокина. В большинстве случаев цитаты из «Звезды» и из ПССП будут совпадать, в отдельных случаях различия будут касаться только орфографических и пунктуационных изменений. Однако мы хотим исключить даже такую минимальную текстологическую вариативность. 28 «В виноградной долине реки Алазани среди множества садов, ее охвативших, стоит город Телав, некогда бывший столицей Кахетинского царства» (ТДСп, 72). Прочитав отрывок, Свистонов тут же разрушает сентиментальный пейзаж кавказской экзотики, вписывая в него утрированно романтического героя, князя Чавчавадзе, имеющего реальный прототип. Чавчавадзе выходит из–под пера Свистонова неким графом Калиостро, образная константа которого способна подорвать традиционную поэтическую систему. В воображении сочинителя вырисовывается однозначный образ персонажа: «Свистонов отложил листок. “Чавчавадзе”, повторил он, — князь Чавчавадзе”. Что думает инженер Чавчавадзе о Москве?» <…> «Великолепно, подумал Свистонов. — Чавчавадзе — грузинский посол при Павле I, граф Экеспар, потомок тевтонского рыцарства». <…> «Поляка, подумал он. — Надо бы еще поляка. Да еще бы изобрести незаконного сына, одного из Бонапартов, командовавшего в 80–х годах русским полком» (ТДСп, 72, 73). Дальнейшая контаминация возникающих по мере развертывания сюжета образов движется вверх по спирали, отягощаясь всё большим количеством штампов. Появление новых персонажей также усиливает травестию изначально квази–исторического бытописательного романа Свистонова. Красавица из рыцарских романов с «пышным», «диким» прошлым запечатлена в образе фантасмагорические элементов глухонемой воспоминания просторечия, что прачки Трины выражены с представляется презентации массовой литературности: еще Рублис. Ее использованием одной формой 29 «Неизвестно, о чем думало в тот вечер существо, жившее в мире, лишенном звучаний. Может быть(,) в ее воображении восставал красавец офицер Дикой дивизии, обвенчавшийся с ней наспех в Детском селе во время наступления Юденича на Петроград, по паспорту своего убитого товарища, затем бесследно, может быть не по своей вине, исчезнувший (ТДСп, 75)». И затем: «Глухонемая вспомнила Ригу, — красивый город Рига, — и свою прогулку, с приехавшим на каникулы студентом Тороповым, в лесок» (ТДСп, 77). Образ Психачева, доктора философии, «довольно грузн<ого>, пожил<ого> человек<а>, желтолиц<его>, со слегка вьющимися седыми волосами, одет<ого> в высшей степени неряшливо» (ТДСп, 78), наделен мистической, фаустианской потенцией, упрощен до образа «собирателя гадостей» (по модели Кости Ротикова из КП), нигилиста, художественно построившего свою жизнь и страдающего от невозможности выйти за рамки литературного шаблона. «— Все это романтика — сказал Свистонов, пряча карандаш. — Поинтереснее расскажите. — Какого же тут чорта романтика, стал брызгаться слюной Психачев, приблизив свое лицо к лицу Свистонова. — Человек всю свою жизнь прожил с желанием все охаить и не может, ненавидит всех людей и опозорить их не может. Видит, что все его презирают, а их на чистую воду вывести не может. Если бы я имел ваш талант, да я бы их всех под ноготь, под ноготь! Поймите — это трагедия. — Это происшествие, уважаемый Владимир Евгеньевич, а не трагедия» (ТДСп, 79–80). Не способен «вывести людей на чистую воду», подтвердить собственный демиургический статус и имплицитный автор Свистонов. Единственный образ, показанный в (мнимом) развитии, — Иван Иванович Куку — «несомненно похожий на великого человека», завсегдатай литературных салонов и вечеров, существующий в рамках 30 клишированного литературного поведения. Свистонов сближается с ним, они вместе выезжают в Токсово с тем, чтобы «как Гонкуры» работать над будущим романом. Однако во вставном повествовании Куку — лишь персонаж. Свистонов закрепляет на бумаге и без того слишком литературное поведение Ивана Ивановича, а тот, когда ему удается прочитать почти оконченный роман, теряет «чувство себя», заслоняемое клише. «Иван Иванович спустился в настоящий ад. Образ Кукуреку <его имя в романе Свистонова — Д. Б.> стоял перед ним во всей своей нелепости и глупости. Правда, он, Иван Иванович, больше не ездил по пригородам. Правда, он сбрил баки и переменил костюм и переехал в другую часть города, но там Иван Иванович почувствовал самое ужасное, что собственно он стал другим человеком, что все, что было в нем, у него похищено. Что остались в нем и при нем только грязь, озлобленность, подозрение и недоверие к себе». (ТДСп, 86). Куку как будто бы только теперь проходит «стадию зеркала»77 — из–за полного отсутствия и воображения, и способности к манипуляции символическими объектами. Но развитым художественным самосознанием не может похвастаться и герой–сочинитель, обладающий только одним преимуществом по сравнению с Куку — умением транскрибировать уже готовые формулы. Текст Вагинова, будучи обратной проекцией романа, создаваемого Свистоновым, намеренно лишен семантического многообразия. Скрупулезная детализация на поверку оказывается квази–реалистической, каждая следующая деталь включается во множество тождественных означающих, оторванных от реальной (верифицируемой) значимости. Экспликация творческого процесса, работа с шаблонами происходит исключительно на уровне 77 Что означает трансформацию, происходящую с субъектом, осознавшим себя в символической реальности. См.: Лакан Ж. Стадия зеркала и ее роль в формировании функции я в том виде, в каком она предстает нам в психоаналитическом опыте // Лакан Ж. «Я» в теории Фрейда и в технике психоанализа (Семинар. Книга 2 (1954/55)). М., 2009. С. 508–516. 31 готового литературного образа. Свистонов работает с уже готовыми художественными клише, избегая собственно эстетической деятельности, ограничиваясь лишь их парадигматическим нанизыванием. Из журнальной версии текста полностью изъяты фрагменты, касающиеся технологии риторики и стиля: здесь Свистонов не работает со словом. Клише на условно риторическом уровне не становится объектом метаописания, который бы взаимодействовал с дискурсом романа, но, наоборот, демонстрирует беспомощность героя–творца в его попытках утверждения собственной дискурсивности: «Искусство — это помещение людей из одного мира и вовлечение их в другую сферу» (ТДСп, 75). Канцелярская скрупулезность в подборе синонимов, свойственная официальной публицистике, в художественном тексте — нарочито неуклюжий штамп, подрывающий афористичность следующего рассуждения Свистонова о том, что «<л>итература более реальна, чем этот распадающийся ежеминутно мир» (ТДСп, 75). Данный силлогизм пропитан иронией и опровергается на протяжении всего повествования. Несмотря на заявленное (сюжетное) замещение мира реального миром художественным, журнальная текст редакция демонстрирующим ТДС остается оказывается эстетическое бессобытийным, немым бессилие а высказыванием, автора «переписать» современность. Необходимо отметить, что журнальная редакция создавалась путем сокращения текста, подготовленного для отдельного издания. В рукописном отделе Пушкинского дома сохранились гранки ТДС, из которых вырезаны места, не предназначенные для журнала, с минимальной корректировкой оставшегося текста (только в нескольких случаях Вагинов восстанавливает согласование слов). Но что же Вагинов принципиально не включил в повесть? 32 Помимо «грузинского» исторического нарратива, конструктивной функцией наделены вставки «сырого» материала, которые задают семантику и синтаксис повествования. Свистонов и его жена перебирают собранные им газетные вырезки (это, например, реклама папирос «Осман», короткий репортаж с Бала американских миллионеров, заметка о нашествии блох) и «новеллы» — так называемые, «другие газетные вырезки», заслуживающие особого внимания. Новелла тридцать третья «Романист–экспериментатор» является, по сути, пародийным метаописанием творческого метода Свистонова, отсылающим к литературным тенденциям 1920–х годов: герой новеллы, портной и кустарный литератор Дмитрий Щелин считает, что «прежде чем написать что–либо, нужно самому пережить описываемое явление» (ПССП, 153). Далее подробно рассказывается о том, как Щелину, потребовалось описать персонажа, покушающегося на самоубийство путем отравления ядом. Он сам выпивает яд и около двух месяцев проводит в больнице. Затем — уже с целью понять ощущения самоубийцы–утопленника — он бросается с Тучкова моста в Малую Неву, откуда его вытаскивают речной городовой и сторожи моста. В финале сообщается, что «положение романиста–портного — тяжелое» (ПССП, 153), так как теперь ему необходимо испытать, что значит броситься под поезд. «Метод» портного действительно схож с принципами, которые Свистонов исповедует в своем творчестве: он так же, как и портной, моделирует ситуации, провоцирует поведенческие реакции. Как уже было отмечено, принцип Свистонова — ничего не выдумывать, но означивать действительность, дискредитируя привилегированный статус «высокой» литературы, осуществляя перевод языка бытовой реальности на язык художественного произведения. 33 Газетные вырезки моделируют повествовательную структуру романа, что, возможно, является репликой по отношению к ближайшему литературному контексту. Именно репортажная «фиксация действительности» мыслится современной Вагинову «литературой факта» не только и (аскетического, не столько как документального новая письма), стилистическая сколько как конвенция некоторая принципиально новая форма утилитарного (литературного) искусства. По мысли «фактовиков», художественная практика должна конституировать себя не вопреки, а благодаря производственной и общественной эффективности прозрачной коммуникации (ср. определение поэзии В. Б. Шкловского как «речи заторможенной, кривой»78), при которой искусство должно обогатить трудовую повседневность, растворившись в ней, перестав существовать в качестве привилегированной области. Но выйдя за пределы внутрилитературной проблематики к фундаментальной проблеме функционирования языка, можно реконструировать критическое отношение Вагинова к такой фактографической ставке, к самой способности языка описывать «реальные факты» в обход клише, обнаруживаемых или вырабатываемых даже в самом аскетическом, «телеграфном» стиле. Включением «новелл» в роман Вагинов обращает внимание уже не на литературно–образные шаблоны, а стилистические клише другого порядка. «Романист–экспериментатор», попадая в качестве вставной новеллы в текст Вагинова, выступает в роли литературного клише. Однако основная интрига заключается в том, что «реальность» новеллы о портном не подвергается сомнению. Эту заметку действительно можно прочитать в вечернем выпуске «Биржевых новостей» от 21 июня 1913 года на странице 3.79 78 Шкловской В. Б. Искусство как прием // О теории прозы. М., 1983. С. 25. Кобринский А. А. «Читал Свистонов — писал Свистонов»: еще раз об источниках романа К. Вагинова // Vademecum: К 65–летию Лазаря Флейшмана. М., 2010. С. 374. 79 34 В следующей прочитанной Свистонову «новелле» «Странная история» также раскрывается абсурдное соотношение фактического внетекстового события и его клишированного литературного описания. Так, дело «какого–то парня», изнасиловавшего корову, не находит прецедентов в судебной практике, для него нет нужного наказания в Уголовном кодексе. Зато в юридическом тексте преступник находит оправдательный пункт: дело прекращено «ввиду отсутствия заявления потерпевшей об изнасиловании». Наконец, новелла «Татуированный» — часть документального описания преступника — коррелирует с почтенной риторической фигурой экфрасиса. Известный со времени Гомера описательный прием применен здесь в жанре объявления «их разыскивает милиция». На «теле» преступника, обвиняемого в нарушении законодательства сразу по нескольким (правда, как отмечалось исследователями, предъявленным нарочно ошибочно80) статьям, описаны около 20 татуировок. «…На брюшной части выше пупка и немного правее изображен лев с гривой и с поднятым хвостом. Лев этот стоит на стреле, которая острием своим обращена тоже вправо; 4) по правую сторону льва и на одной высоте с ним изображен св. Георгий Победоносец на коне, побеждающий дракона; 5) по левую сторону льва и на одной высоте с ним изображена женщина (амазонка), сидящая на лошади. Голова лошади обращена в сторону льва; 6) на левой руке с передней ее стороны повыше локтя, изображена женщина, поднявшая подол…» (ТДСр, 20).81 На примере последней «новеллы» отчетливо ясна скептическая позиция Вагинова по отношению к дополнительной художественной 80 А. А. Кобринским выяснено: «в «новелле» о татуированном говорится, что он разыскивается на основании ст. 846, 847, 848 и 851–й Устава уголовного судопроизводства, тогда как эти статьи говорят о выдаче обвиняемых по требованию иностранных государств». См.: Кобринский А. А. «Читал Свистонов — писал Свистонов»: еще раз об источниках романа К. Вагинова. С. 374. 81 Сопоставление журнальной публикации и отдельного издания не может быть осуществлено с помощью текста ПССП, в котором воспроизводится более поздняя редакция романа. Цитаты приводятся по: Вагинов К. К. Труды и дни Свистонова. Роман. Л., 1929. (ТДСр). 35 потенции факта. Экфрасис, выполняющий функцию фоторобота, становится внутри художественного текста фактографическим клише. Однако ироничный скепсис Вагинова заметен и в отношении креативности собственно литературного дискурса. У всех трех газетных вырезок может быть найден интертекстуальный прототип. У популярного в СССР датского писателя Гаральда Бергстедта (1877–1965) в 1923 году выходит русский перевод романа «Александерсен» (1918) о портном– путешественнике. Знакомство с историей создания этого текста позволяет обнаружить необязательную на первый взгляд его связь со средневековой карнавальной культурой. Как заявляет сам Бергстедт,82 замысел романа сложился после прочтения «Странствия пилигрима» (1678, 1684) Джона Беньяна, английского писателя и баптистского проповедника — барочной аллегории о пренебрежении обязанностями перед земным (в том числе и земными семьей) ради достижения иного, небесного существования. Бергстедт претендовал на современную трактовку сочинения Беньяна. Нет сомнений в том, что здесь осуществляется попытка символически означит современность с тем же универсалистским эффектом, что был возможен в XVII веке. Несмотря на всю серьезность авторского замысла, роман наполнен яркими сатирическими образами современного западного мира. Амбивалентность авторской задачи и ее реализации формирует карнавальное художественное пространство, оттеняя философские максимы главного героя иронией. Роман Бергстедта крайне аллегоричен, референции всегда явны. Путь героя лежит через такие пункты, как город Духа, город Плоти и город Смерти — здесь героев ждут ожидаемые испытания, которые для Александерсена в итоге обернутся разочарованием, развенчанием мечты о счастливом, культурном обществе. Контрапунктом истории становится фраза героя «Я гость на 82 152. Pedersen V. Harald Bergstedt: Liv, livsanskuelse, digtning, skaebne. Kobenhovn, 1967. S. 149; 150; 36 земле», «Я — гость в персти».83 Неразрешимые экзистенциальные вопросы, невозможность взаимопонимания, одиночество среди толпы — красноречивые характеристики образа Александерсена. Главный афоризм персонажа, процитированный выше, является атрибутом авторского карнавального мышления. «Я — гость в персти» — фраза, выведенная на кофейнике, стоящем в его доме. В финале романа душа портного весьма курьезным образом переселяется в тело сапожника, его старого соперника (сместившего его с поста председателя собрания в родном городке) и начинает новую жизнь в новом теле. Сапожник–портной возвращается домой на ковре–самолете, для того чтобы вести размеренную, идиллическую жизнь. Но за внешним happy end’ом кроется неспособность души упокоиться, обреченность ее на вечное скитание: душа сапожника, очнувшись в теле Александерсена, в то же утро совершает самоубийство. Позиция главного героя относительно устройства общества, иерархии и этики институтов власти выражена довольно определенно: «Торина настаивала было, что мальчиков с их умом следует учить кое–чему побольше — пусть выбьются наверх. — Наверх! — говорил Александерсен, — Пусть мухи да мыльные пузыри летят кверху! Будь между сапожниками да портными побольше умных голов, "мир" стоял бы немного потверже».84 Внимание Вагинова к творчеству датского писателя мог привлечь его давний друг и коллега Н. С. Тихонов, который упоминает роман «Александерсен» в автокомментариях к поэме 1924 года «Лицом к лицу».85 В начале романа Бергстедта есть глава «Интермеццо. О 83 Бергстедт Г. Александерсен. М., 1923. С. 97, 25. Там же. С. 380. 85 В поэме есть строка: «Не так, как датский мой собрат» (Тихонов Н. С. Лицом к лицу // Тихонов Н. С. Собрание сочинений: в 7 т. Т 1. М., 1985. С. 632.), автокомментарий к которой свидетельствует об однозначности адресата — Гаральд Бергстедт. Подробнее о поэме, Бергстедте и автокомментариях Тихонова речь пойдет в следующем разделе настоящей диссертации. 84 37 провидении и прочая болтовня» (вспомним «интермедии» из КП), где автор напрямую сообщает о демиургической позиции, принятой по отношению к своему герою, в ироническом ключе сетует на легкомыслие «большого» провидения, которое затеяло в Европе нечто «сложное и запутанное», очень похожее на «кавардак» (речь, конечно, о событиях Первой мировой войны) и отправляется в ночное путешествие по городу, в ходе которого заглядывает в чужие окна, подглядывает сквозь прозрачные стены. Здесь без труда обнаруживается связь со сном Свистонова (в самом начале романа Вагинова), предваряющим чтение «новелл». Во время ночного полета в интермедии Бергстедта перед читателем возникают образы: портного (который вскоре опробует многое в поисках достоверной, истинной жизни); его горничной Торбины (которая «тычется мордой, упрямой, как у старой, переставшей доиться коровы, чуть не в самую свечку, стараясь развязать затянувшийся на тесемке узелок»: в дальнейшем будет неоднократно подчеркнута, несмотря на ее неуклюжее и грузное телосложение, сексуальность Торбины; и сапожника («на ладони у него виден синий дракон. У него все тело татуировано (предмет разговора между городскими девицами и дамами)».86 Как мы видим, все «новеллы» ТДС объединяются общим источником, отнюдь не очевидным, но чрезвычайно значимым для характеристики поэтического мира Вагинова. Цитатная основа (и статья в «Биржевых ведомостях», и аллюзии на вскоре забытый роман «датского Беранже») с трудом верифицируется — гетерогенная природа художественного текста с одной стороны неразличима, с другой — проблематизирует художественный статус романа Вагинова. Отрицательная оценка вымысла не дает хода документальному повествованию (как в случае «литературы факта» и 86 Бергстедт Г. Александерсен. С. 23. 38 иных тенденциозных фактографов), но лишь только констатирует выработанный ресурс художественного слова. Свистонов «наделяется языком», у него появляется возможность манипулировать не только образной таксономией, принадлежащей истории литературы: риторика собственного текста становится доступна ему в виде стилистических клише. Одновременно с появлением у героя– сочинителя узнаваемой техники письма возникает возможность введения метаповествовательной структуры, в рамках которой голос первичной инстанции также всецело зависим от необходимости быть стилизованным. Показательным в этом отношении представляется эпизод сна Свистонова. «За окном все уже давно скрылось, в квартире было тихо, только часы, пережившие всевозможные переезды, но лишившиеся боя, в столовой тикали. Свистонову снился сон: Человек спешит по улице. Свистонов в нем узнает себя. Стены домов полупрозрачны, некоторых домов нет, другие — в развалинах, за прозрачными стенами тихие люди. Вот там еще пьют, за столом, накрытым клеенкой, и глава семьи — кустарь, отодвинув стул от стола, смотря на собственное лицо, удлиненное самоваром, щиплет гитару, а дети, встав коленками на стул и подперев кулачками голову, часами глядят то на лампу, то на печку, то на уголок пола. Это отдых после трудового дня. А за другой прозрачной стеной сидит конторщик, курит трубку, придает лицу американское выражение и часами смотрит, <…>, человек газету гложет и ищет, нет ли еще какого–нибудь занимательного убийства. А там, через улицу, все вдовы собрались и судачат об интимных подробностях своей прерванной брачной жизни. Видит Свистонов, что он, Свистонов, уже днем за всеми, как за диковинной дичью, гонится <…>. Утром, посмотрев на часы, Свистонов все позабыл. Стараясь не будить жены, полуодевшись, сел за редактуру» (ТДСр, 6–7). Сон априори не может быть доступен инстанции вторичного нарратора (т. е. спящего Свистонова) — сфера снов, внутренних 39 переживаний и т. д. подвластна лишь демиургическому сознанию автора. Однако появление данного нарратива маркировано текстуально (и подчеркнуто доступно для сознания героя), эпизод вводится деталью — начинается «под бой часов», взгляд же Свистонова на часы его обрывает; кроме того, речь первичного нарратора обозначается выделенными нами стилистическими штампами (газетной или разговорной речи), а значит, она гомологична свистоновской и доступна Свистонову на основании метонимической связи. Несмотря на очевидное осложнение коммуникативной структуры, повествование ТДСр остается столь же бессобытийным(,) как и ТДСп — клиширование образности и стилизация риторических конструкций становятся главными событиями романа, событиями рассказывания. В конце повествования Свистонов не просто чувствует опустошенность, он констатирует собственную текстуализированность. «Наконец он <Свистонов — Д. Б.> почувствовал, что он окончательно заперт в своем романе. Где бы Свистонов ни появлялся, всюду он видел своих героев. У них были другие фамилии, другие тела, другие волосы, другие манеры, но он сейчас же узнавал их. Таким образом Свистонов целиком перешел в свое произведение» (ТДСр, 151). В условиях парадигматической структуры ТДС87 интердискурсивные образные следы наслаиваются один на другой, в результате чего конструкция романного высказывания противопоставляется «высокой» литературности, но при этом обладает эстетической привилегией. Негативно–прекрасная эстетика Вагинова не может быть описана только концепцией карнавала (Бахтин), так как она еще связана с контекстом тенденциозной массовой культуры. Сегодня 87 В соответствии с которой каждое следующее нарративное высказывание выступает в качестве вариативной возможности одной и той же идеи. 40 данное явление теоретизируется через понятие китча,88 освобождающееся от патронажа традиционных форм мышления. По словам И. П. Смирнова, «в эпоху авангарда его <китча — Д. Б.> правомочия расширяются настолько, что он судит о себе сам, тесня элитарную культуру как инстанцию, где вырабатываются критерии прекрасного и безобразного <…>. Китч возводится авангардом на метауровень».89 Романы Вагинова, следуя логике исследователя, стоит рассматривать именно как метакитч: «Принижая художественную словесность или же лишая ее большого будущего, “Козлиная песнь” попадает на грань между фикцией и фактографией — креативное воображение оказывается тем самым неполноценным без поддержки со стороны референциально укорененной, достоверной прозы. Этой ущербности искусства как такового (как свободного воображения) соответствует тематизация китча <…> и близкородственных ему явлений доксы <…>. Становясь невозможным, роман о философии, нисходит в роман о китче».90 Структурные особенности литературы позднего авангарда (к которой Вагинов, без сомнения, автореференциальными предшествующей относится) свойствами конвенции в Смирнов наделяет противоположность линейно–развертываемой повествовательности. Эта оппозиция описывается Смирновым как противостояние эстетического сознания авангардиста (которое он называет катахретическим) эпистемологической позиции, направленной на повествовательную репрезентативность (называемую метонимической).91 Перед писателями, чувствительными к творческим 88 См.: Гринберг К. Авангард и китч // Художественный журнал (Moscow art magazine). 2005. № 60. http://xz.gif.ru/numbers/60/avangard–i–kitch/ [интернет ресурс]. 89 Смирнов И. П. Грядущий хлам. Десять тезисов к проблеме «Китч и киноискусство 1920–1940– х гг.» // Последние–первые и другие работы о русской культуре. СПб., 2013. С. 231. 90 Смирнов И. П. Философский роман как метакитч: «Козлиная песнь» Константина Вагинова // Смирнов И. П. Текстомахия: как литература отказывается на философию. СПб., 2010. С. 114. Отношение понятий авангарда и китча также было описано в программной работе Клемента Гринберга «Авангард и китч». 91 См. об этом: Деринг–Смирнова И. Р., Смирнов И. П. Исторический авангард с точки зрения эволюции художественных систем // Russian Literature VIII., 1980. С 403–468. 41 экспериментам, стояла задача конвертировать событие линеарного повествования в парадигматической структуре текста. Как мы могли видеть, проблема заключается в том, что китчевое восприятие литературных мотивов, восприятие художественных образов в качестве поведенческих клише лишает произведение событийности (в лотмановском понимании термина92) — семантические поля не должны иметь смыслоразличительных границ, но поддерживать тавтологию смыслоразличения. Главная проблема парадигматической модели письма проявляется на уровне референции — соответствие фикционального образа и реального объекта стремится к замещению культурной парадигмой. Современная Вагинову литература находилась в поиске воспроизводимой референции. Данная тенденция имеет также генетическое обоснование: продолжая модернистскую традицию рубежа веков, литература 1920–х наследует интерес к изображению истинной («высшей» или «настоящей») реальности. По замечанию Н. Ю. Грякаловой, такая задача могла осуществляться двумя взаимообусловленными типами письма — натуралистическим и символистским. «Художник <…> выступает раз–облачителем — “патологоанатомом” психоаналитиком, вскрывающим изнанку жизни, ее деструктивное начало (“злую природу”, подсознание, инстинкт) и показывающим ее содержание или в формах самой жизни (натурализм) или в фигурах воображения (“…творю сладостную легенду”), которые манифестируются как прикровенные символы “тайны” (символизм)».93 92 93 Лотман Ю. М. Структура художественного текста // Об искусстве. СПб., 2005. С. 224. Грякалова Н. Ю. Человек модерна: Биография — рефлексия — письмо. СПб., 2008. С. 24. 42 Особенность прозы, наследующей «экспериментальному» роману, заключается в стремлении к документализму образов при сохранении их зависимости от символистского художественного дискурса. Итак, литературный процесс раннего советского периода ознаменован поисками новой формы реалистического письма, такого метода, с помощью изменившейся (и которого изменяющейся) возможно адекватное описание реальной действительности. По формулировкам различных представителей властных и творческих структур (Плеханов, Троцкий, Луначарский, «Новый ЛЕФ») магистральная задача литературы состоит в отражении исторической реальности, что должно гарантировать достоверность и целесообразность изложения. Установка на документальность как на одну из форм реалистичности означала не только максимальное соответствие текста реальности, но и соответствие авторского жизненного опыта описываемому в тексте. Редакции посылали литературные экспедиции для написания документальной прозы этнографического содержания, формировались организации рабкоров, рабочих с фабрик, которые писали о своей работе «не трансформировались отходя традиционно от станка». сюжетные Также жанры во многом военной или приключенческой прозы: Гражданская война должна была быть описана «нюхавшими порох» солдатами (Д. А. Фурманов «Чапаев» (1923), Н. А. Островский «Как закалялась сталь» (1932)), а описание морских походов становилось под силу исключительно познавшим морскую болезнь (А. С. Новиков–Прибой «Цусима» (1932), С. А. Колбасьев «Поворот все вдруг» (1932)). С точки зрения расширения инструментария реалистической поэтики в 1920–е годы не меньший интерес представляет метафикциональный опыт так называемый орнаментальной прозы (Б. А. Пильняк, Серапионовы братья и др.). Так, кульминацией основной 43 сюжетной линии о симфонии Никиты Карева в романе К. А. Федина «Братья», принадлежащего к жанру семейной хроники, становится искусствоведческая статья, написанная реальным композитором Ю. А. Шапориным. «Как человеку, внутренне мне очень близкому, и своему большому другу, — рассказывал Федин в 1962 г., — я давал ему прочитать каждую из написанных мною глав романа, в котором шла речь о музыканте, композиторе. Я хотел дать этот образ в сложном психологическом разрезе. Герой романа — композитор Никита Карев в годы гражданской войны должен был определить свою судьбу в целом — человеческую, музыкальную, и шире — художественную. Мне, разумеется, было очень интересно узнать мнение настоящего композитора: убеждает ли его анализ психологического склада такого человека, как мой герой? Прочитав роман, Юрий Александрович пришел в душевно расположенное состояние. Тогда я спросил его — если такой художник, как мой Никита Карев, действительно существует, не смог бы он, Шапорин, музыкант, которому хорошо знаком внутренний композиторский процесс, написать о нем статью? Шапорина захватила мысль — критическим словом передать свое отношение к такого типа художнику — и он, приняв предложение, очень быстро его осуществил».94 Композиционно роман выстроен как противопоставление стилизаций романтического и реалистического дискурсов95, в рамках которого вставка публицистического текста призвана указать на победу «реализма». Но вместе с тем исключительность документальной детали нейтрализуется бесконфликтным включением ее в фикциональный мир. Так в условиях парадигматической структуры текста легитимным событием признается смена дискурса при формальном отсутствии пересечения границы «семантического поля». Существовал еще один подход к литературной практике, в условиях которого, при всем стремлении к созданию искусства, адекватного новой советской 94 реальности, специальное творческое преобразование Левит С. Юрий Александрович Шапорин. Очерк жизни и творчества. М., 1964. С. 124. В романе чередуются соответствующие повествовательные техники, переключение между которыми совпадает с делением на главы. 95 44 социальной и политической действительности в тексте не возводилось в ранг необходимой составляющей процесса создания произведений. Данная практика представляет воспроизводство реалистического, документального дискурса для передачи действительности, подобно любой технике для коммуникации, не обязательно обладающей эстетической потенцией (ср. письмо, отправленное по почте, сообщение, переданное телеграфисткой). Создание художественно необработанных текстов, свободных от изживших себя жанровых установок и вырывающихся из контекста предшествующей художественной практики становится основной задачей новой творческой единицы. Данная программа декларируется наследниками футуристической традиции, редакцией журнала «Новый ЛЕФ» и имеет серьезную теоретическую платформу, которая должна быть поддержана не художественной, а скорее публицистической практикой. С. М. Третьяков — автор по сути единственного крупного памятника так называемой «литературы факта» — био–интервью «Дэн Ши–Хуа» — в предисловии определяет его задачи: «Наше прежнее знание о Китае похоже на изуродованную руку. Ее надо сперва сломать, а потом снова срастить правильно. Время литературной алхимии, по которой Китай в коллекции народов есть камень загадочный и неопределенный, — миновало. Мы требуем точных знаний».96 Из процитированного натуралистское обращение фрагмента к жизни хорошо Китая — видно, не что почти реинкарнация предромантического документализма «путешествия» после разочарования в просвещенных культурах97, не аллегорическая форма описания советской 96 действительности, но борьба против дискурсивной Третьяков С. М. Дэн Ши–Хуа. Био–интерьвю. М. 1930. С. 3. Редким примером чего в русской литературе может служить, к примеру, «Путешествия в полуденную Россию» (1805) В. В. Измайлова. 97 45 закрепленности знаний о Китае, что коррелирует с основными предпосылками борьбы с фукольдианским «ориентализмом» в рамках постколониальной теории. Это крайне подозрительное отношение к инерции знака на первый взгляд противоположно письму Вагинова, однако, несмотря на такое полярное расхождение в отношении к литературности (революционный отказ от нее vs. ее массированное распыление до клишированности), у автора ТДС используется также довольно радикальный прием, основанный на имплицитной мотивировке включения «китчевого» материала (будь то документальный факт или же литературный шаблон) в текст произведения. Если в своем первом романе КП Вагинов в пределах полноценной повествовательной ткани лишь передоверяет одному из персонажей (Косте Ротикову) функцию собирания осколков профанной культурной реальности, то в повести и романе ТДС уже сам имплицитный автор становится коллекционером профанных примеров литературности как таковой, обрекая романное повествование на двусмысленный статус. Чувствительность Вагинова к современным литературным стратегиям заставляла его раз за разом править текст, резать гранки, вклеивать в уже готовые экземпляры дополнительные предисловия, пояснения — согласовывать горизонт рецептивных ожиданий с желанной мерой деформации литературных конвенций. И, следовательно, мы должны предполагать, что за переработкой текста (роман vs повесть) стоит проблематизация референциального статуса художественного повествования. По нашему мнению, Вагиновым предполагалось двойное прочтение текста о Свистонове: и как повести, и как романа, как журнальной, так и отдельной версии. Диалогическое прочтение журнальной и отдельной версии обеспечивалось их фактически одновременным появлением на книжных прилавках. Различие в редакциях бросается в глаза даже самому 46 невнимательному читателю: в журнале — менее 30 % текста книги — 20 против 150 страниц (разница в объемах несколько нивелируется благодаря кеглю и ширине строки). Такая вариативность текста должна быть интерпретирована, если только мы не подразумеваем авторскую небрежность и полное безразличие к собственному тексту со стороны Вагинова. Наш главный тезис может быть сформулирован следующим образом: прочтение текста романа и повести единовременно позволяет акцентировать внимание не столько на нарочитой не–художественности повествования, сколько на почти непреодолимых трудностях определения границы между фикциональным и документальным. Клишированная художественность отходит на второй план перед клише моделей текстопорождения в контексте литературных экспериментов 1910 — 1930–х годов. Среди коллекционируемых с любовным отвращением литературных клише претензия на строгую документальность, с одной стороны, и указание на совершенно произвольный вымысел, с другой, являются самыми примечательными для вагиновской поэтической техники. Основной конфликт редакций — ограничение смысловой нагруженности повести внутрихудожественными клише и расширение художественной работы до клише референциальной составляющей документальности. Но сам этот конфликт никак не маркирован ни в одной из версий текстов (полная версия могла бы содержать метакомментарий касательно экспериментальной функции сокращенной публикации), он выносится за рамки отдельного произведения, начинает быть виден на внешнем относительно текстов, если угодно, литературно–бытовом уровне. На деле дискурсивная заданность, глубоко запрятываемая зависимость всякого текста от литературных конвенций выражения не подвергается Вагиновым сомнению. Если, скажем, Третьяков 47 развенчивает «сочинителя» как искажающего, затемняющего собственное значение факта, то Вагинов на тех же основаниях отказывает «открывател<ю> нового материала», его «формовщику» в праве на чистую трансляцию реальности.98 Документалистская литературная практика признается Вагиновым самовырождающейся, неспособной к смыслопорождению как таковому. Одновременное появление двух вариантов романа, возможно — попытка выйти за пределы литературы готовых форм (как литературных, так и нелитературных клише «реальной действительности»), включение в поле зрения художника истинно «реального» (сырого, документального) материала самого литературного производства, коннотирующего сделанность текста, его погруженность в литературный быт. Таким, почти интермедиальным, способом решалась проблема парадигматического повествования, поставленная авангардом в конце 1920–х годов. Освоенное только металитературным письмом (Эйхенбаум, Тынянов), пространство литературного быта стало у Вагинова ареной художественного действия. Формалисты объективируют текст с помощью социологических констант.99 Вагинов демонстрирует трансгрессивность эстетического эффекта за пределы художественного целого в сферу бытования литературы. Авангардный прием Вагинова наследует стратегии жизнетворчества, в рамках которой литературный быт писателя и собственно его художественные тексты должны быть тождественно интерпретированы. В 1920–х годах наиболее влиятельной была концепция А. М. Ремизова, чей автотипический образ царя обезьяньего Асыки из пьесы «Трагедия об 98 Третьяков С. Дэн Ши–Хуа. С. 3 Здесь мы в первую очередь имеем в виду исследовательский опыт Л. Я. Гинзбург, которая, описывая поэзию Бенедиктова и Веневитинова 1830–х годов, приходит к обоснованию «фактичности» (производное от термина Ю. Н. Тынянова) некоторых социолитературных реалий и при этом, наоборот, автоматизированности (клишированности) художественных приемов. Подробнее см.: Бреслер Д. М. Рец.: С. Савицкий Частный человек. Л. Я. Гинзбург в конце 1920–х — начале 1930–х годов. СПб., 2013 // Die Welt der Slaven. LIX. 2014 p. 388–392. 99 48 Иуде(,) принце Искариотском» (1908)100 впоследствии реализуется самим автором в процессе литературно–бытовой игры — Ремизов собрал вокруг себя литературное общество Обезвелволпал, где сам выступал в роли приближенного к царю Асыке «канцеляриуса».101 И если Ремизов зеркально переносит принципы построения фикциональности на реальный мир (автор Ремизов становится подвластным герою Асыке), то Вагинов провоцирует агентов реальности на завершение художественного замысла — что становится возможным только при «правильной» реакции читателя (недоумение, что такое ТДС, — роман или повесть). Однако авторскому замыслу не суждено было реализоваться. Выпущенный тираж отдельной книги почти целиком был уничтожен в рамках так называемого «замятинского дела». Как отмечают Т. Л. Никольская и В. И. Эрль, «та же участь постигла и «Временник» Б. М. Эйхенбаума» (ПССП, 535). Читатель просто не смог добраться до текста и не имел возможности двойного прочтения. Вагинов решается на очередную серию правок, на этот раз параллельно редактируя уже два текста (КП и ТДС), с одной стороны, подстраиваясь под линейный синтаксис прозы, реализуя первоначальный метаповествовательный замысел более привычными для романного жанра средствами, с другой — обнаруживая дополнительные прагматические источники означивания в самом процессе редактуры. В этой связи достаточно упомянуть неоднозначно принятый самой Гинзбург второй роман К. К. Вагинова ТДС, адекватное прочтение которого (в связи с отсутствием явно выраженного манифеста письма) невозможно без учета уже упоминавшейся исторической «фактичности» (Тынянов). Рассмотренный в первой главе нашей работы конфликт журнальной и книжной версии романа — возможность трансгрессии 100 А. М. Грачева. Жизнь и творчество А. М. Ремизова // Ремизов А. М. Собрание сочинений. Т. 1. Пруд: Роман. М., 2000. С. 23. 101 Подробно история литературной игры Ремизова описана: Обатнина Е. Р. Царь Асыка и его подданные. Обезьянья Великая и Вольная Палата А. М. Ремизова в лицах и документах. СПб., 2001. 384 с., ил. 49 эстетического эффекта за пределы художественного целого в сферу бытования литературы художественного — шаблона, пример работы обозначающий «прагматического» неучтенный возможный положительный функционал автоматизации. мэтрами 50 2. Прагматика генетического досье романов Вагинова 1929 года В середине 1929 года, фактически единовременно оформляются последние прижизненные варианты двух первых романов Вагинова — нельзя достоверно определить очередность их создания. Так, если буквально воспринимать содержание служебной записки Федину,102 работа над «второй» редакцией КП следует за новой версией ТДС. С другой стороны, учитывая рвение, с которым Вагинов начинает править второй роман сразу после его выхода из печати, сложно предположить, что текст КП был отложен и оставался без изменений вплоть до появления мифического предложения републикации. Синхронизация двух произведений, таким образом, обусловлена характером текстологических источников. Редактура на полях уже готовой книги — не столько этап совершенствования текста, сколько механика его субъективации внутри литературного дискурса. Вагинов не пересоздает романы, он правит уже формально существующие художественные тексты, работает с целостной его структурой, управляя прагматическим означиванием произведения. Авторский экземпляр изданного романа становится для Вагинова благодатной почвой металитературной рефлексии, а собственный текст — необходимым контекстом для более сложного художественного высказывания. И КП, и ТДС выполнены тождественной техникой (посредством «авторских экземпляров»). Именно эта прагматическая специфика романов кажется нам определяющей для Вагинова в конце 1920–х годов. 102 «На предложение Константина Александровича Федина издать роман “Козлиная песнь” отвечаю полным согласием. К. Вагинов» (ОР РНБ, ф. 709, ед. хр. 3.). 51 Первые два романа Вагинова часто анализируют в комплексе. Обусловливается причинно–следственная связь между рецепцией КП и замыслом ТДС. Читательская (скандальная) репутация КП или же несколько более абстрактное «осмысление основных закономерностей творчества и собственной манеры письма»,103 по мнению ряда исследователей, вынудили Вагинова написать метатекст к своему первому роману, содержащий эпистемологическое оправдание художника, который свободно пользуется документальным материалом. У нас нет эмпирических данных, фиксирующих стадии творческого замысла, поэтому нам сложно подтвердить или опровергнуть данную гипотезу, однако в процессе редактуры после публикации текстов прослеживается тенденция к уменьшению апелляций к читательскому горизонту, к стратификации рецептивных стратегий, а, следовательно, к нивелированию логической связи между художественными текстами. Значение рецептивной истории первого романа Вагинова очевидно преувеличено в исследованиях литературы и литературного быта раннего советского периода. КП может быть отнесена к жанру «романа с ключом», герои которого будто списаны с натуры, наделены прототипическими чертами близких Вагинову представителей художественной богемы Петрограда–Ленинграда. Однако, значение, привносимое в барочный жанр «roman à clef» при русскоязычном калькировании, принципиально иное, нежели салонная игра на манер эпохи XVII века. Привлечение посвященного читателя, компетенция которого позволяет прочитать роман, производя необходимые замены вымышленных имен и, в качестве противоположного следствия, возможность прочтения романа, ограничиваясь восприятием художественного повествования, по мнению исследователей,104 позволяет автору контрабандой вписать некоторое 103 Шукуров Д. Л. Автор и герой в метаповествовательном дискурсе К. К. Вагинова. С. 30. См., к примеру: Иванов Вяч. Вс. Жанры исторического повествования и место романа с ключом в русской советской прозе 1920–1930–х годов // Избранные труды по семиотике и истории культуры. Том II. Статьи о русской литературе. М., 2000. С. 596–613. 104 52 количество неподцензурной информации, оставаясь, при этом, под «охранной грамотой» фикциональности. Жанровое определение «роман с ключем», возникает в эпоху параллельного существования официальной литературы и самиздатского андеграунда, что, безусловно, накладывало определенные рамки на восприятие советского литературного процесса в целом. Новонайденным литераторам, тем более, приверженцам «нереалистической» поэтики (к коим, без сомнения, принадлежит Вагинов), приписывалась стратегия нонконформизма, а их текстам — наличие «двойного дна» интерпретации. Темы гибели культуры, разложения культурных сообществ, антиэстетизма современной эпохи, без труда находимые в романах Вагинова, встраивают его творчество в узнаваемую культурную парадигму представителей модернистского письма, чей творческий потенциал оказался невостребован советской культурной системой. Сегодня, упоминая о нонконформизме писателей раннего советского периода, мы должны, в первую очередь, отказаться от модуса оценки и рассматривать социальное взаимодействие писателя с литературной властью (в качестве априорной бинарной модели литературного поля) и пересечение авторской поэтики с конъюнктурой литературного дискурса.105 Включаясь в традицию салонной игры, Вагинов не самым тривиальным образом проблематизировал соотношение фактического и вымышленного в художественном тексте — поднял вопрос о функционально–прагматической значимости различных типов дискурса в деле производства фикциональной реальности. Внимательное чтение экземпляра КП, в котором Вагинов вносил правки, дает основание полагать, что нарочитое выстраивание конвенции 105 Именно с такой исследовательской позиции, выявляя «социальную жизнь идеи», С. А. Савицкий в своем недавнем исследовании описывает ранний этап научного и художественного творчества Л. Я. Гинзбург. Его, в первую очередь, интересует «соотнесенность личных убеждений с идеологическими установками, степень и форма зависимости научных интересов от интеллектуального контекста, разные типы вовлеченности мыслителей в общественную деятельность». (Савицкий С. А. Частный человек: Л. Я. Гинзбург в конце 1920–х — начале 1930–х годов. СПб., 2013. С. 7.). 53 читательского восприятия сменяется таксономией художественного жеста, авторской интенции.106 Авторский экземпляр КП, выражаясь метафорически, напоминает заготовку скульптуры, камень, от которого мастер постепенно отсекает все лишнее. За некоторым исключением, Вагинов включает в книгу все имеющиеся у него варианты текста, удаляя затем те, которые кажутся ему неподходящими. Из известных нам фрагментов, имеющих установленное отношение к КП, но не учитываемых Вагиновым при редактуре авторского экземпляра, можно назвать только финал романа в журнальной его версии, а также дополнительное, третье «Предисловие, написанное реальным автором на берегу Невы». Журнальная публикация и отдельный том с рукописной вставкой, безусловно, предназначались для разного читателя. В журнале КП не только лишена значительной части сюжетных перипетий, в ней заложена редукционистская трактовка проблематики романа. В редакторской сноске, выполняющей роль некоторого предуведомления к чтению, четко заявлена траектория предполагаемой рецепции: «Роман Конст. Вагинова “Козлиная песнь” показывает людей, которые, будучи по летам современниками революции, стараются удержаться в пределах отжившей культуры и, конечно, скатываются к полнейшей обывательщине».107 Комментарий такого рода безусловно учитывает особенности вариативность его содержания восприятия. В романа, качестве однако исключает элемента паратекста (Ж. Женетт) данное высказывание приобретает черты императива. Неизвестные пока читателю герои уже встроены в символическую иерархию допущенных образов идеологической системы. Сам же текст 106 Ср.: «Ведь именно в авангарде выходит на первый взгляд все–таки не эффект, производимый художественным актом (хотя в некоторых случаях и его нельзя не учитывать), а сам жест творческого поведения автора, безотносительно к воздействию на адресата, публику и т. д. Жест предполагает направленность на сам художественный акт, на его порождение, тогда как эффект — направленность художественного акта на восприятие». (Фещенко В. В. Лаборатория логоса: Языковой эксперимент в авангардном творчестве. М., 2009. С. 114.). 107 Вагинов К. К. Козлиная песнь. 1927. «Звезда». № 10. С. 53. 54 скорее предвещает будущий отдельный вариант 1928 года. Принципиально отличен только финал — блеклый, с индифферентной авторской оценкой происходящего — вероятно, специально написанный для сокращенной журнальной версии. Здесь живой и все еще Неизвестный поэт (фамилия Агафонов не упоминается в 1927 году) встречает в редакции всех своих друзей за общей работой на благо массовому читателю. Герои КП — ничем не примечательные сотрудники писательского цеха, им совершенно стало «неинтересно» друг с другом. «И, молча погуляв по солнечной стороне, они разошлись в разные стороны» (ПССП, 466). Такое разрешение проблемы маргинального положения «классической» культуры в новых общественных условиях уже не учитывается в авторском экземпляре КП — Вагинов избегает неизбежного соответствия текста горизонту тенденциозного, массового читателя.108 Следующий не включенный в авторский экземпляр фрагмент, ориентирован на принципиально иной круг читателей. Отдельные тома КП содержат вклеенный сразу после шмуцтитула лист с дополнительным предуведомлением: «Предисловие, написанное реальным автором на берегу Невы». Данное предисловие, судя по всему, предназначалось не для печати, а для близкого Вагинову круга друзей и знакомых. Ранее было известно как минимум о двух случаях вставки фрагмента. Как отмечают Т. Л. Никольская и В. И. Эрль, «один из таких экземпляров с вклеенным 108 В подтверждении мысли о нежелании Вагинова эксплицитно оформлять рецептивные стратегии заметим, что в целом журнальная версия КП не оставлена без внимания. В частности, в главе «Ночное блуждание Ковалева» в 1928–1929 году вновь появляется рассуждения о специфике порнографии: — «Но вы ведь пишете о свободной любви, — задумчиво вращая кольцом с бриллиантиком, сказала Наташа. Молодой поэт стал играть носком желтого ботинка. — Свобода любви, — возмутился молодой поэт, — это не порнография. Женщина должна быть свободна, как и мужчина. Порнография — это описание грудей и движений, рассчитанное на возбуждение скверных инстинктов». (Вагинов К. К. Козлиная песнь. 1927. Звезда. №10. С. 84.) В отдельном издании 1928 года абзац, начинающийся со слов «Свобода любви…», был опущен. Неодназначный, с точки зрения цензуры, пассаж прошел, выдержав редакторскую правку, в «Звезде», но был забракован в «Прибое». Не находя личных причин исключить данный фрагмент текста, Вагинов решает оставить его в пределах авторского экземпляра. 55 рукописным предисловием был подарен, в частности, Л. А. Мессу» (ПССП, 578), однако в настоящее время эта копия романа считается утраченной. В частном собрании А. Л. Дмитренко хранится том КП с таким предисловием, но выяснить личность первоначального владельца не представляется возможным, экземпляр лишен дарственной надписи. В процессе собственных разысканий нам удалось обнаружить следы еще одного варианта данного предисловия. Некоторые вклейки в экземпляр ТДС, принадлежащий Г. Э. Сорокину, сделаны на оборотной стороне порезанного на части «предисловия, данного реальным автором…». Так, рукописные сноски от с. 81 (сноска начинается словами: «Свистонов писал в прошедшем времени…) и с. 86 («Свистонов знал, что не все его герои окажутся грамотными…») на обороте содержат, соответственно, заглавие предисловия и первые несколько строк из основного текста. К сожалению, оставшиеся части рукописной вставки нами обнаружены не были, однако, судя по найденным фрагментам, данный текст никогда повторно не редактировался. В имеющихся вариантах нет ни одного исправления, слова в заглавии предисловия на обороте «петитов» из ТДС повторяют композиционное расположение заглавия данного фрагмента из архива Дмитренко. Тот факт, что лист с отступлением «реального автора на берегу Невы» был использован как черновик, еще раз подтверждает гипотезу о том, что Вагинов полностью отказывается от использования данного фрагмента в тексте романа. Предположим, что адресатам предисловия должны были быть известны тезисы работ круга Бахтина, касающихся проблемы прагматики романной коммуникации, несмотря на то, что с помощью имеющихся у нас документальных свидетельств доказать прямое обращение Вагинова к участникам «Невельского» семинара не представляется возможным. Данное предположение может быть развито только при внимательном чтении текста. 56 «Художественное произведение раскрывается, как шатер, — куда входит творец и зритель. Все в этом шатре связано с творцом и зрителем. Невозможно понять ничего без знания обоих: если знаешь зрителя, то поймешь только часть шатра, если знаешь только творца, то, наверное, ничего не поймешь. А кроме того, читатель, помни, что люди, изображенные в этой книге, представлены не сами по себе, т. е. во всей своей полноте, что и невозможно, а с точки зрения современника» (ПССП, 461). Метафорически описанная «встреча» автора и читателя воспроизводит ситуацию, данную в статье «Слово в жизни и слово в поэзии» (1926), подписанную В. Н. Волошиновым. Вагиновым подчеркивается прагматическая направленность авторского слова («если знаешь только творца, то, наверное, ничего не поймешь») и пассивная функция героя, изображение которого возможно только при взаимодействии с социальным контекстом и, в конечном счете, с помощью включенного в этот контекст читательского восприятия.109 «Автор в следующих предисловиях и книге является таким же действующим лицом, как и остальные, и поэтому, если можешь, не соотноси его с реально существующим автором, ограничься тем, что дано в книге, и не выходи за ее пределы. Если же ум твой так устроен, что каждое литературное произведение ты соотносишь с жизнью, как большинство людей, а не с литературными произведениями, то соотнеси с эпохой, с классом, с чем угодно, только не с реальным автором, будь человеком воспитанным» (ПССП, 461). С другой стороны, Вагинов, согласно все той же статье Волошинова, представляет взаимодействие автора и читателя имманентным собственно тексту романа. В условиях романной коммуникации позиции автора и читателя предстают взаимообусловленными. Так же как абстрактный автор создает своего читателя, условный читатель должен воспроизводить 109 Кроме того, в данном фрагменте можно рассмотреть цитату из работы П. Н. Медведева «Формальный метод в литературоведении» (1928). Об этом см.: Шукуров Д. Л. Автор и герой в метаповествовательном дискурсе К. К. Вагинов. С. 109. 57 автора как часть образного мира произведения («ограничься тем, что дано в книге и не выходи за ее пределы»). Вагинов не довольствуется имплицитными цитатами одной статьи и маркирует аллюзии на другие параллельные тексты участников семинара. В предисловии констатируется зависимость восприятия мира от дискурсивного фона эпохи, необязательно литературного («соотнеси с эпохой, с классом, с чем угодно»), но непременно заданного посредством языка (здесь, впрочем, обязательно художественного). Пуант «будь человеком воспитанным» отсылает к проблеме обусловленности этических категорий эстетическим восприятием, которая поставлена в частности, в работе Бахтина «К вопросам методологии эстетики словесного творчества» (1924).110 Адекватно распознать «код» предисловия, а, следовательно, правильно воспринять программу чтения «посторонний» читатель не имел никакой возможности. Наиболее очевидная причина появления вводного текста определена комментаторами ПССП — КП вызвала совсем неоднозначную реакцию у близких к автору читателей, которые узнали себя в нелицеприятных образах романа. Особенно был раздосадован один из участников семинара, историк культуры, литературовед Л. В. Пумпянский, навсегда разорвавший отношения с Вагиновым после того, как узнал себя в образе Тептелкина. Н. И. Николаев указывает на то, что ученый употреблял характеристики «теоретической» имя субъекта.111 персонажа Следовательно, (метатекстуальной) только для включение преамбулы, негативной в роман обосновывающей необходимость взаимодействия реальности и вымысла для существования художественного мира понятным, в том числе и Пумпянскому, языком, 110 Бахтин М. М. К вопросам методологии эстетики словесного творчества. I. Проблемы формы, содержания и материала в словесном художественном творчестве // Бахтин М. М. Собрание сочинений в 7 т. Т. 1. Философская эстетика 1920–х годов. М., 2003. С. 265–326. 111 Ср.: из автобиографической заметки Пумпянского «Нечто о 9 веснах»: «Негодяи Теп<телкины> уже появились в моей жизни». (цит. по: Николаев Н. И. Энциклопедия гипотез // Пумпянский Л. Классическая традиция. М., 2000. С. 23–24). 58 возможно расценить как саркастический жест в адрес теоретиков, отказывающихся проверять на практике референциальность художественного текста. Отсутствие в авторском экземпляре рецептивных маркеров КП также отдаляет текст от собственного референта, сбивает фокус реальности. «Надстроечный», металитературный — по своей природе и по композиционному расположению — фрагмент, ставит под сомнение и герметичность фикциональной реальности.112 Выбирая такую редакторскую стратегию, Вагинов настаивает на самообращенности художественного мира. Первоначальная интенция, определившая эстетическое высказывание, выражается в прототипизации героев. Несмотря на то, что каждый конкретный персонаж не имеет однозначного соотнесения с реально существующим человеком, некоторые черты героев «романа с ключом» нарочито просвечивают. Так, часто имена второстепенных героев аллегоричны и, безусловно, отсылают к известным прототипам: поэт Сентябрь — Венедикт Март; Троицын — Вс. Рождественский, Свечин — С. А. Колбасьев и т. д. Однако практически во всех персонажах, включая второстепенных, можно найти черты реального автора текста. 112 К слову сказать, в последующей редактуре текста Вагинов не станет избегать прямых намеков на литературно–бытовую ситуацию вокруг КП, однако распространит их контрапунктом по тексту романа, мотивируя их сюжетной ситуацией, оттеняющей отсылки к реальной рецепции — снабдит извинительной интонацией авторские отступления. Отдельное издание 1928: «И видел Тептелкин эту странную птицу с лихорадочными женскими ориентальными глазами, стоящую на костре и улыбающуюся». Авторский экземпляр: «И видел Тептелкин эту странную птицу с лихорадочными женскими ориентальными глазами, стоящую на костре и улыбающуюся. Пусть читатель не думает, что Тептелкина автор не уважает и над Тептелкиным смеется, может быть, Тептелкин сам выдумал свою несносную фамилию, чтобы изгнать в нее реальность своего существа, чтобы никто, смеясь над Тептелкиным, не мог бы и дотронуться до Филострата. Как известно, существует раздвоенность сознания, может быть такой раздвоенностью сознания и страдал Тептелкин, и кто разберет, кто кому пригрёзится <–> Филострат ли Тептелкину или Тептелкин Филострату». (Вагинов К. К. Козлиная песнь. Л., 1928. С. 12.) Здесь и далее, для удобства чтения мы выделяем все текстуальные изменения выделяем жирным шрифтом. Цитаты приводятся по отдельному изданию 1928 года (КП), так как при этом есть возможность сохранить пагинацию АЭ КП. 59 Биографические факты, атрибуты быта Вагинова растворены в характеристиках героев его романа. Иногда герои получают свойства, лишенные достоверных атрибутов автора романа. В этом случае процесс соотнесения реальных фактов и вымышленного образного ряда переносится в сам текст; механика перестановки частей текста в авторском экземпляре КП приобретает дополнительный метафорический смысл. Так, фрагмент из сильно сокращенного относительно печатного варианта романа четвертого «междусловия», посвященного описанию образа жизни анонимной авторской фигуры, однажды переносится в пизод с участием поэта Троицына. Ср.: «Люблю я походить, посетить театры и зрелища, клубы, послушать музыку на концертах, поездить по окрестностям, профокстротировать, усадить девушку на диван, почитать ей свои отрывки, не потому, что считаю, что мои отрывки прекрасны, а потому, что считаю, что лучших произведений в городе не существует, и потому что мне кажется, что девушка в них ничего не поймет, потому что мне приятно быть непонятым, а затем отправиться с ней куда–нибудь, присоединиться вместе с ней к другой девушке, почитать им вместе мои отрывки» (КП, 178). «<…> подходя к зеркалу и гарцуя, он самодовольно улыбается, но, незаметно для всех и для него, в нем умерла Сирин Птица. Шел Троицын с Екатериной Ивановной и думал, вот я какая забубенная натура, и жалко мне ее, а жениться не могу, не пристало поэту жениться. Посидеть с девушкой у печки, почитать ей свои стихи, а потом, утром, в путь–дорогу собраться, а вечером на концерте–бале встретиться, пофокстротировать, почитать ей на диване свои стихи. Заполонить. И, вернувшись домой, весь день высыпаться. Вот это жизнь поэта. И, подходя в аптекарскому зеркалу и гарцуя, Троицын самодовольно улыбался» (КП, 172). Образ автора не создается в книге, а скорее последовательно внедряется в нее. «Предисловие, произнесенное появляющимся на пороге книги автором», «Предисловие, произнесенное появившимся посредине 60 книги автором», а затем четыре главы с одинаковым заглавием «междусловие» образуют некоторое подобие побочного сюжета, обрамляющее основное повествование. Это легкие зарисовки из жизни потенциального автора КП, разной степени правдоподобия. Во вставных конструкциях могут появляться герои, принадлежащие к основному повествованию, однако здесь они лишаются непосредственных сюжетных мотивировок, предстают членами некоторого сообщества вне времени и пространства повествовательной реальности. Эпизоды наполнены авторской интроспекцией, погружениями в мир героев, рефлексией демиурга, осознавшего собственные возможности (образ кукловода или театрального режиссера). Собирая все имеющиеся варианты текста, Вагинов вписывает в авторский экземпляр «первое» и «второе послесловие» — также поэтапно выводящие автора «на свободу» из мира книги. Однако в процессе редактуры оба послесловия (последнее из которых датировано 1927 годом) были заклеены. Среди прочего, из текста был удален фрагмент, где прямо говорится о характере взаимообусловленности образов автора и героев внутри литературного текста. «А солнце все склоняется, и уже ложатся вечерние тени, и уже зелень кажется более темной, чем утром и я вспоминаю другой день, когда в полдень стало темно, как сейчас и, добежав до Бельведера, по пути срывая цветы, мы увидели, как блеснул солнечный луч, как осветил он подножие дерева, а затем озарил всю поляну и, поднимаясь, озолотил листву. И по блестящей траве следя за появляющимися бабочками, мы направились к башне. Тогда я не был Тептелкиным, неизвестным поэтом, философом, Костей Ротиковым, Мишей Котиковым, тогда я был одним лицом, цельным и неделимым. Тогда я еще не распался на <отдельные листы> отдельных людей и тогда страшный свет я чувствовал в себе и, собственно не мы, один шел по всем этим дорогам, но затем произошло неожиданное дробление. И снова белая ночь, как в прекраснейшие дни моей жизни, и снова мне хочется видеть только <прекраснейшие> тихие здания столицы, только бесподобную голубую Неву, чувствовать окрестности, наполненные кентаврами и стоять на мостах в окружении звезд. 61 Но вышел ли я окончательно из книги, освободился ли я от своих героев, изгнал ли я их в мир, по ту сторону по отношению ко мне, что станет со мной, если я действительно изгоню, может быть появится <наступит> пустота, огромное ничто, и в эту пустоту бросятся другие существа, не менее печальные, и в ней поселятся? 1927»113 Также был удален фрагмент из четвертого «междусловия», в котором уже автор реверсивно характеризуется посредством своих героев. «"Я добр, — размышляю я, — я по–тептелкински прекраснодушен. Я обладаю тончайшим вкусом Кости Ротикова, концепцией неизвестного поэта, простоватостью Троицына". Я сделан из теста моих героев, и я тут же на столе принимаюсь варить шоколад на примусе — я сладкоежка» (КП, 177–178). В процессе правки можно усмотреть тенденцию к минимизации метаповествовательной характеристики персонажей, что, безусловно, не означает полное освобождение мира героев от эксплицированной авторской воли, но означает снижение степени ее экспликации. Вагинов стирает следы расщепления образа автора внутри образного ряда основного повествования романа, тогда как структура образа наиболее близкого к автору персонажа, поэтического двойника, усложняется за счет четкой градации трансформируется его во именования. множество «он» Множество героя. «я» автора Согласно сюжету, Неизвестный поэт в течение романа переживает творческий кризис, который приводит к самоубийству. Мучительное ощущение изменившейся реальности, самосознание собственной временности (в противоположность вечности жрецов искусства), потеря модернистской иллюзии о спасительной функции художника — постепенно Неизвестный поэт становится безработным Агафоновым, который стреляет себе в висок. Благодаря точечным исправлениям, проделанным в авторском экземпляре КП, мы можем проследить этапы превращения Неизвестного 113 Без исправлений данный отрывок в ПССП, 468. 62 поэта, внимание к которому, кажется, было обращено после отказа от паратекстуальных элементов композиции, в которых демонстрировалось «развоплощение» образа автора. Стратификация образа Неизвестного поэта в кризисный для него момент также обуславливается противостоянием реальности и вымысла, однако лишено при этом формально выраженных метаповествовательных признаков, заложенных в использовании рамочной конструкции. Глава, в которой сосредоточены стремительные события духовного падения героя, меняет свое заглавие. Отдельное издание 1928: «Глава XXIX Агафонов» Авторский экземпляр: «Глава XXIX Неизвестный поэт» (КП, 148) Условно, сохранена интрига, трагическая метаморфоза героя заранее не раскрывается. С новым титлом глава встраивается в типологический ряд соседних разделов книги, посвященных другим героям («Тептелкин и Марья Петровна», «Костя Ротиков», «Миша Котиков», «Троицын») и повествующих о судьбе распавшейся компании «последних представителей Ренессанса». Сюжет превращения обрастает деталями, в судьбе Неизвестного поэта принимают участие до того момента отсутствующие в романе действующие лица. За счет детализации и замены имени героя происходит эффект ретардации и усложнения действия. Отдельное издание 1928: «Бывший неизвестный поэт ходил по комнате». Авторский экземпляр: «Теперь неизвестного поэта приводили в неистовство его прежние стихи. Они казались ему беспомощным паясничаньем. Музыка, которую он слышал, когда 63 писал их, давно смолкла для него. Он отвернулся от публики, его страшно любившей и прощавшей ему бесчисленные его недостатки. Лысый, одолеваемый хандрой, он вернулся к матери, некогда брошенной им ради великого искусства. Она гладила его по голове лысой птичьей голове, взяв за подбородок, считала морщинки вокруг глаз, спрашивала, все так же ли он много пьет, все также ли он проводит бессонные ночи среди друзей своих. Неизвестный поэт ходил по комнате». (КП, 148) Позднейшее по времени исправление, уточняющее портрет героя («лысая птичья голова»), дополняет его образ символическими атрибутами. Одна из любимых новелл Вагинова, «Аполлон в Пикардии» Уолтера Патера обладающего живописует чертами образ дикого ницшеанского язычника, сверхчеловека, Аполлона, вакхической генетикой, — некоего бога солнца и искусств, достойного современной цивилизации. Черты лица героя Патера напоминали птичьи. С появлением данной аллюзии существования в романе архетипических еще раз образов подчеркивается в условиях проблема конкретного (неблагополучного) исторического времени. Вскоре за героем фиксируется его «мирское» имя. Отдельное издание 1928: «Третий год жил бывший неизвестный поэт в семье винтящего старичка, наблюдал по средам и воскресеньям за игрою. Венгерский граф играл с достоинством, иногда он мягким движением расправлял свои бакенбарды». Авторский экземпляр: «Неизвестный поэт в семье винтящего старичка наблюдал по средам и воскресеньям за игрою. <нрзб> Поэт чувствовал себя теперь только Агафоновым.114 Венгерский граф играл с достоинством, иногда он мягким движением расправлял свои бакенбарды». (КП, 149) 114 Предложение вписано карандашом. Одна буква написана неразборчиво. Кроме того, очевидно, что предложению отведен отдельный абзац: оно вписано ниже пустого места на бумаге в предыдущем абзаце. 64 Дихотомия поэтического и бытового имени героя осложняет коммуникацию персонажей между собой. Так, в сцене в игорном доме появляется авторское определение «бывший поэт», что объясняется присутствием другого персонажа, Асфоделиева, неспособного заметить внутренние перемены в своем собеседнике. Отдельное издание 1928: — «Прекрасна жизнь, — начал философствовать Асфоделиев. — Надо брать от жизни все то, что она дает. Посмотрите на эти прекрасные пальмы, — и плавным движением Асфоделиев указал на чахлые растения: — слышите, музыка! Он подошел с Агафоновым к стеклянным дверям. Оттуда неслась шансонетка». Авторский экземпляр: — «Прекрасна жизнь, — начал философствовать Асфоделиев. — Надо брать от жизни все то, что она дает. Посмотрите на эти прекрасные пальмы, — и плавным движением Асфоделиев указал на чахлые растения: — слышите, музыка! Он подошел с бывшим поэтом к стеклянным дверям. Оттуда неслась шансонетка». (КП, 151) Только в одном случае вновь возникает характеристика «поэт», отменяющая на время объявленный приговор — «Агафонов». Однако шаг «назад» обусловлен тем, что в главе появились описания прошлой жизни героя, его актуальное состояние соотносится с самосознанием давно минувшего времени. Отдельное издание 1928: «Тщетно напивался Агафонов. И в опьянении он чувствовал свое ничтожество, никакая великая идея не осеняла его, никакие бледные розовые лепестки не складывались в венок, никакой пьедестал не появлялся под его ногами. <…> Пешком возвращался Агафонов. Он выбирал самые узкие темные улицы, самые бедные. Он хотел снова почувствовать себя в 1917, 1920 годах. <…> Он не выдержал, сел на трамвай и доехал до Пушкинской улицы. Но она изменилась за эти годы. Стаи бродяг уже не бродили по мостовой. Условный свист не раздался при его появлении». Авторский экземпляр: 65 «Тщетно напивался бывший поэт. И в опьянении он чувствовал свое ничтожество, никакая великая идея не осеняла его, никакие бледные розовые лепестки не складывались в венок, никакой пьедестал не появлялся под его ногами. <…> Пешком возвращался бывший поэт. Он выбирал самые узкие темные улицы, самые бедные. Он хотел снова почувствовать себя в 1917, 1920 годах. <…> Он не выдержал, сел на трамвай и доехал до Пушкинской улицы. Но она изменилась за эти годы. Стаи бродяг уже не шатались по мостовой. Условный свист не раздался при его появлении». (КП, 157) В сцене, предваряющей самоубийство, в небольшом фрагменте текста одновременно присутствуют все возможные «страты» героя, проявляется «шизофрения образостроения» — с тем, чтобы констатировать единственно возможное наименование (Агафонов) и мотивировать единственно возможный сюжетный исход. Отдельное издание 1928: «В эту ночь смотрел Агафонов из окна гостиницы на просторный проспект, на белую петербургскую ночь». Авторский экземпляр: «В эту ночь долго смотрел бывший неизвестный поэт, ныне чувствующий себя только Агафоновым из окна гостиницы на просторный проспект, на белую петербургскую ночь». (КП, 173) Исправления, внесенные в авторский экземпляр КП, призваны не только уточнить и, может быть, классифицировать художественное бытование героя, сообщить конкретному состоянию конкретное имя/ образ конкретного персонажа. Само по себе наличие динамического преобразования, которому в ходе работы над текстом уделяется все большее внимание, обратно пропорционально ситуации «проживания» книги анонимным автором, повествовательная роль которого, как мы уже отмечали, ослабевает. Здесь художественный вымысел с помощью только внутренних креативных возможностей способен генерировать дополнительные миры. Несмотря на то, что все сюжетные события 66 связаны с угасанием культа искусства, развенчанием образа художника, механика изменения текста свидетельствует об обратном: вера в защитную способность творчества не подвергается сомнению. Прагматическое значение, привносимое в КП при прочтении авторского экземпляра, обусловлено центростремительными свойствами художественного мира, тогда как в механике редактуры текста ТДС заложено нечто обратное — Вагинов описывает процесс осуществления романного действия в реальности. Экземпляр романа, подаренный Сорокину, кажется, не является сообщением, которое должен уметь прочесть только один конкретный адресат. Как мы уже объясняли, для Сорокина Вагинов подготавливает беловую копию всех имеющихся на тот момент утвержденных им исправлений. Это роман в своей целостности, который, пусть и на короткое время, представлялся автору законченным (достойным беловой копии). Именно поэтому, вместе с авторским экземпляром КП, мы будем разбирать именно этот вариант ТДС — книги с авторскими «ремарками», как бы запаздывающим авторским вторжением в текст — метафикциональная проза, не стесняющаяся предстать перед читателем в «неготовом» виде. Прагматика авторского высказывания в данном случае реконструируется из процедуры смешения печатного и рукописного текстов. Оставляя за скобками скрупулезные описания конкретных исправлений, обозначим принципиальные изменения, которым подвергся текст ТДС. Во–первых, Вагинов размыкает кольцевую композицию романа, последняя глава которого формально своим заглавием повторяла первую. Глава «Тишина», находящаяся в самом конце книги, была разбита Вагиновым на несколько отдельных главок: «Звездочка и Свистонов» и «Приведение рукописи в порядок». Этим достигается формальное 67 выражение произошедшего романного события: Свистонов задумал, начал и написал свой роман, который, появившись, как черная дыра поглотил весь реальный мир: из «реальности» романа Вагинова о писателе Свистонове, все герои, включая и главного, переходят в роман «о современности». В первоначальном варианте текста благодаря композиционному членению такое событие отсутствовало: возникший из «тишины» замысел произведения лишен своей кульминации — текст возвращается в «тишину». В пределах первого издания ТДС создавалась иллюзия непрерывности писательской деятельности, незримо присутствующей и самовозобновляющейся. Композиционная линеарность коррелирует с формальным увеличением времени действия романа, что выражается в новом обрамлении некоторых перфектных глагольных форм, осложненных теперь значением плюсквамперфекта: Отдельное издание 1929: «Свистонов зевнул и отложил самопишущее перо. Слои пыли уже успели улечься на книгах после недавней перестановки, и рассыпчатые жучки и мокренькие букашки грызли, точили, просверливали книги. Экземпляр Сорокина: Свистонов зевнул, отложил самопишущее перо. Слои пыли давно уже успели улечься на книгах после перестановки, и рассыпчатые жучки и мокренькие букашки грызли, точили, просверливали книги» (ТДСр, 148).115 Перестановка книг, произошедшая в шестой главе, разнесена во времени с финалом романа. Здесь нет конкретики, но дважды подчеркивается давно прошедшее время события, последствия которого отражаются в настоящем. В последней главе «Тишина» присутствовал также один эпизод, который принципиально не мог остаться в сорокинском экземпляре. В 115 Причина смены основного источника цитирования та же, что и в предыдущем разделе. Цит. по: Вагинов К. К. Труды и дни Свистонова Л., 1929. (ТДСр). 68 конце очередной главы свистоновского текста появляется новый персонаж, некий писатель Вистонов, также как Свистонов пишущий роман. «”Пейзаж, пейзаж скорее!” — подумал Свистонов. Дорога постепенно озарялась солнцем. Пустой Летний сад шелестел. В отдалении видна была Нева. Навстречу Экеспару и Психачеву шел фининспектор. В это время писатель Вистонов, одержимый мыслью, что литература загробное существование, высматривал утренние пейзажи, чтобы перенести их в свой роман. Уже были описаны отдельные части города, когда он встретился у мечети с Психачевым и Экеспаром. — Э, дорогой друг, доброго утра, — протянул руку Вистонов, — живем? — Живем!» (ТДСр, 148) Заклеив данный эпизод, Вагинов отказывается от приема mise en abyme, прогрессивного увеличения сюжетных событий внутри художественного целого. Вистонов не только находится на параллельной стадии работы над текстом Свистонова, но и проповедует ту же творческую идеологию пусть и в редуцированной форме (ср.: «литература — загробное существование»). Несмотря на то, что в содержательном плане роман представляет собой суждение о перемещении реального мира в художественный текст посредством беспрерывного письма, прагматика вносимых изменений нивелирует эффект бесконечности вымышленных миров, их вариативности внутри заданной целостности. Вагиновым предполагается обратный процесс — экстраполяция внутренней романной коммуникации в условиях актуального бытового мира, что придает роману дополнительные повествовательные возможности — включить в текст реально обусловленное авторское высказывание. В кульминационный момент сюжета о текстуализации персонажей, в главе, в которой Свистонов «покушается» на Ивана Ивановича Куку, превращая его в картонный литературно предсказуемый образ Кукуреку, 69 Вагинов вклеивает «петиты», формально выделенные сноски к основному тексту, в которых помещает авторскую характеристику деятельности своего героя, суждения о персонаже, содержательно выходящие за границу художественного целого романа.116 Это — оценка персонажа одновременно с актуальной точки зрения (читательское представление) и с точки зрения абстрактного автора, демиурга, которому доступны самые потаенные мысли и переживания своего героя. Всего в экземпляр Сорокина было вклеено семь «петитов», мы разберем некоторые из них подробнее. После слов основного текста главы «<у>шел Свистонов, и понеслась по городу сплетня: Кукуреку никто иной как Куку», — добавлен «петит»: «Так посягнул Свистонов на то, что можно назвать называется Intimität des Mensches, публично выставил Куку голым, да еще изобразил его в такой обстановке, которая косвенно могла Куку деклассировать. Между тем Свистонов давно уже забыл о своем разговоре с глухонемой, вызванным минутным раздражением» (ТДСр, 78). Поступок заглавного персонажа охарактеризован с помощью иноязычной терминологической формулы, которая не может быть производной романного кругозора — вмещает в себя металитературные смыслы, не поддержанные предыдущим и последующим повествованием. Тот же эффект вызывает употребление слова из социологического дискурса («деклассировать»), проблематичное в контексте события, произошедшего в романе. С другой стороны, внешние оценки происходящего подкреплены знанием о невысказанном отношении героя к сюжетным событиям («Свистонов давно забыл о своем разговоре»). В 116 Ср.: «Поля позволяют различать два связанных между собой текстовых режима, — и в том случае, когда “маргиналии” являются простой системой ориентиров (например, когда на полях всего лишь проставлены страницы книги), и тогда, когда они предлагают собой глоссарий или комментарий в собственном смысле слова. Важно только понять, как один текст воздействует на другой. При этом мы уже заранее можем утверждать, что сама рамочная конструкция подчинена тексту, делая его читаемым и выдвигая на первый план. Иерархия повествования, тем самым организуется визуально, на странице возникает своеобразный рельеф, отражающий движение мысли». (Неф Ж. Поля рукописи // Генетическая критика во Франции. М., 1999. С. 93.) 70 данном «петите» слово абстрактного автора переплетено с внешними читательскими замечаниями, оставленными на полях книги. В последующих «петитах» пропорция «авторского» и «читательского» слова может варьироваться, от максимально абстрактной фокализации до волюнтаристского вмешательства в текст внешнего реципиента. После фразы: «Боясь встретиться с знакомыми, он <Куку — Д. Б.> решил скрыться в другой город», — следует «петит», как бы продолжающий нарративное течение текста, однако несобственно–прямая речь героя вынесена за границы основного повествования. «Совершив духовное убийство, Свистонов был спокоен: — Это произошло согласно определенным законам, — думал он. — Куку был ненастоящий человек. Я поступил безнравственно, воспользовавшись им для моего романа. Во всяком случае, не следовало ему читать до окончательной отделки, до возведения его в тип. Он верил в меня, в мою дружбу. Поступок мой не этичен, но Куку неожиданно явился ко мне на квартиру, у меня не было выхода. Это было все же невольное убийство» (ТДСр, 87). В другом случае, наоборот, главенствует профанирующая авторскую позицию читательская интонация, содержащая чересчур личностные, повествовательно немотивированные оценки действия героя. Данный «петит» расположен уже в следующей главе — «Советский Калиостро», в которой, однако, Свистонов продолжает заниматься любимым делом, собиранием «человеческих» душ. После слов: «Сердце Свистонова сжалось», — читаем в авторской сноске: «Собственно, не следует умалять труды и дни Свистонова. Его жизнь состояла не только в подслушивании разговоров, в охоте за людьми, но и в чрезвычайной зараженности ими, в известном духовном соучастии в их жизни. Поэтому, когда умирали его герои, нечто умирало и в Свистонове, когда отрекались они, известную 71 долю отречения переживал и Свистонов. Кроме того, как ни странно на первый взгляд, Свистонов верил в магическую глубину слова» (ТДСр, 93). Вводное слово «собственно» предает сказанному в «петите» разговорную модальность. Здесь совершается попытка соучастия в судьбе героя, проявляется полное доверие к художественному миру романа от лица наивного читателя. Авторские комментарии к художественному тексту — не изобретение эпохи, но вполне обыденное явление современной Вагинову литературы. Однако за очевидной функцией такого паратекста — раскрыть энциклопедическую информацию, знание которой предполагается автором для понимания художественного замысла — можно рассмотреть иное прагматическое функционирование данного элемента. В предыдущем разделе мы упоминали об одном таком случае, когда Н. С. Тихонов эксплицирует цитатную основу поэмы «Лицом к лицу» (упоминая на полях о романе Бергстедта как негативном опыте исторического описания). Сейчас на примере того же текста необходимо подробнее рассмотреть механизм взаимодействия авторского метаописания и художественного произведения. В начале 1924 года Н. С. Тихонов пишет поэму «Лицом к лицу», главной темой которой столкновение двух эпох — выступает болезненное, но неизбежное буржуазной и пролетарской, поданное сквозь призму «хромой жизни» мелкого ремесленника, лудильщика, греющего паяльник на окраине города. Позднее, в начале 1930–х годов, в популярной тогда писательской рубрике «Как я работаю», регулярно помещавшейся в журнале «Литературная учеба», поэт раскрывает первоначальный замысел поэмы, подробно написания, характеризует главных героев: вспоминает процесс 72 «Поэма "Лицом к лицу" написана в январе–феврале–марте 1924 года. В ней 395 строк. Для поэмы это не так много. Я всегда был врагом распространительных стихов. Я всегда сокращал строки, как мог, и вот по каким причинам. Чем короче стихотворение или поэма, тем полнее сразу читатель воспринимает смысл вещи. Берясь за работу над поэмой "Лицом к лицу", я имел за спиной обязательства, возникавшие из моей предыдущей поэтической позиции. Новое задание собственно было такое: как писать большую вещь (с революционным содержанием) на новом материале, новым для меня методом, чем держать рассказ, куда направлять судьбу героя, чтобы он правильно выразил мою основную мысль».117 Серьезная временная дистанция между собственно реализацией творческой задачи и авторскими комментариями к целям и задачам не должны нас смущать. Тихонов, говоря о «Лицом к лицу», пытается преодолеть зазор между своими произведениями образца 1930–х годов и ранними «романтическими» текстами, которые он интерпретирует с оглядкой на изменившиеся требования к литературе. Будучи признанным мэтром, он формирует дискурсивные условия (заглавие рубрики легко трансформируется из «Как я работаю» в «Как дóлжно работать», тем более что статья является сокращенной и исправленной стенограммой беседы Тихонова с начинающими писателями в Ленинградском Доме печати). Главный герой поэмы — лудильщик — очередной фирменный тихоновский психологически проработанный персонаж, ровесник нового века. Выход сборника «Поиски героя» в 1927 году был воспринят как аргумент в дискуссии об актуальном литературном герое. В духе времени Тихонов спешил отождествиться с «хотя бы героем сбоку» — сапожником, вернувшимся к мирному труду после всех войн и революций. Однако в приведенном отрывке Тихонов говорит не только о поиске нового образа, но и о подходящей для его отображения технике письма. В упомянутой статье 1931 года поэт пояснил, что, «отказавшись от сюжетного рассказа в стихах и аллегорической картины изображения Советского союза», он 117 Тихонов Н. С. Как я работаю // Литературная учеба. 1931. № 5. С. 92. 73 предпочел свой новый принцип повествования, «чем держать большую вещь».118 «Я взял самый низ жизни, человека с улицы, связанного со своей кустарной, собачьей, дворовой профессией, оторванного от больших событий, от массового действия, раненого к тому же на войне и вырванного, казалось бы, из политического водоворота. Тем соблазнительней было сделать его солдатом революции и показать все его пути от индивидуальной тропы, по которой он бродил бесцельно, до глубокого раздумья человека, прошедшего через мучительный путь к осознанию коммунистической идеи».119 В соответствии с культурной конвенцией, автор помещает в разрывающийся надвое мир простого труженика. Первоначальный конфликт героя и старого мира социально обусловлен: будучи не востребован в условиях буржуазного миропорядка, лудильщик решает бороться за новую жизнь: «Он дверью хлопает в сердцах. // Беглец — с ног до головы, // Сам, как медь, в изъяне — // Он окунулся в ночь с Невы, // Его ночное тянет, // Карманами руки зацепив — // А! Пропадай вся гниль с конца, // Глаза, — что кольца на цепи // Звенят по Кронверкским торцам. <...> // Дворцы, вокзалы — в ночь одну // Седых особняков обновы — // Все было пущено ко дну // И выловлено снова. // Лудильщик, даже твой подвал // Воды соленой похлебал».120 Мотив наводнения в контексте «петербургского текста» (в поэме, что видно даже по приведенным отрывкам, высокая степень упоминания городской топики), образ «маленького человека» оказавшегося «лицом к лицу» со стихией имеет богатые литературные корни. Вопреки декларативным высказываниям Тихонова, сюжет неминуемо встраивается в литературную модель, опирающуюся на поэму «Медный всадник» 118 Там же. С. 93. Тихонов Н. С. Как я работаю. С. 94. 120 Тихонов Н. С. Лицом к лицу. С. 633, 635. 119 74 А. С. Пушкина. Образ лудильщика, очевидно, относится к той же персонажной парадигме, что и Евгений, бросивший вызов стихии в момент собственной жизненной трагедии. Хотя новый исторический контекст диктует свои условия существования героя, образ «маленького человека» не трансформируется у Тихонова — происходит прагматическая подмена литературного подтекста. Тихонов решает вывести актуального героя новой литературы, заявляет о технике «памяти» (которая номинально ограничивает участие литературных подтекстов), но в результате получает вариацию классического в условиях русской литературы образа. Сопротивление традиции подчас выглядит даже несколько курьезным. Так же как и в «Медном всаднике», разрушительная властвующая персонифицирована Петром I, революционное движение — сила в образе вершителя судеб, правителя нового мира: «Лудильщик слышит, как приказ: // — На повороте // И Пусть будет буря ремеслом, // И все, что против, — // Все на слом. // Над ним, над яростью, над гулом, // Над всем, что тонет иль плывет, // Иль катится под колесо, // Соединив усмешкой скулы, // Смотрел в упор в водоворот // Простой, как буря, человек, // И вихрь слетел с его усов».121 В последней строке можно рассмотреть даже портретное сходство главного градостроителя Петербурга и «простого, как буря, человека». Но Тихонов «работает» по–другому: «С другой стороны для противопоставления я взял Ленина и взял его, нигде не упомянув его имя».122 Мы никак не преследуем цели уличить Тихонова — он не загромождает текст аллюзиями и реминисценциями с целью запутать читателя; нельзя вместе с тем трактовать его сочинения и как 121 122 Там же. С. 636. Тихонов Н. С. Как я работаю. С. 94. Далее Тихонов цитирует те же строки, что и мы. 75 высказывания «под личиною усердия к царю». Явное несоответствие литературного содержания и прагматического назначения поэмы кажется нам специфическим явлением описываемого периода и характерной реализацией дискурса нового искусства. Пушкинский подтекст так явно присутствует в сюжете, в образном ряду поэмы Тихонов переписывает интертекстуальное влияние «Медного источника. — в какой–то степени всадника», Напротив, преодолевая экспликация совершенно неочевидного для русской литературы датского следа (писать «не так как датский мой собрат») — тем более заявления о негативном опыте предшествующего текста — преподносятся как основания для новой поэтики. Посредством автокомментария (который как и петит у Вагинова следует за написанием основного текста) Тихонов вмешивается в интертекстуальный ансамбль своей поэмы, производит дифференциацию аллюзий и прямых цитат, преследуя цель манифестировать метод реалистического описания. Используя петиты, Вагинов усложняет повествовательную структуру произведения. Подобный прецедент также может быть найден среди близкой автору ТДС литературы. М. А. Кузмин в 1924 году издает книгу стихотворений «Новый Гуль» с посвящением историку Л. Л. Ракову. Восторженное описание главного персонажа сборника, разлитый на страницах эротизм, любовные признания по–кузмински сопряжены с эстетическим переживанием. Главный образ вдохновлен кинофильмом, название которого раскрывается в авторской сноске. «Американец юный Гуль* // Убит был доктором Мабузо: // Он так похож... Не потому ль // О нем заговорила муза? // Ведь я совсем и позабыл, // Каким он на экране был!»123 123 Кузмин М. А. Стихотворения. СПб., 2000. С. 519. 76 Имя главного героя — Гуль (Hull) — восходит к персонажу фильма «Доктор Мабузе. Игрок» (1922) Фрица Ланга. Об этом мы узнаем на первой странице вступления и из стихотворного текста, и из помещенного тут же примечания: «Гуль и гипнотизер Мабузо — действующие лица в известной кинематографической картине "Доктор Мабузо". Взаимоотношения их отчасти выясняются из данного стихотворения».124 Однако главная функция сноски отнюдь не информационная. Ее последовательное чтение вслед за первой строкой вступления разрывает стихотворный текст, производится ретардация поэтического сюжета: за счет резкой смены модальности текста (возвышенный стихотворный слог сменяется бесстрастной констатацией последующего содержания сборника) спустя необходимую паузу для того, чтобы взглядом спуститься вниз страницы и вернуться обратно к кузминским строфам. Вместо предполагаемых длительных описаний «взаимоотношений», перипетии которых могут быть отражены лишь «отчасти» (к чему читатель может быть расположен примечанием) — во второй строке сразу дан финал истории — «кино–Гуль» убит, «новый» поэтический образ Гуля только начинает зарождаться. Кинематографический подтекст был выбран не случайно. Прототип главного героя, тот, кому был посвящен цикл, был, по мнению Кузмина, как две капли воды похож на актера Пауля Рихтера, исполнившего роль Эдгара Гулла. По мере развития стихотворного цикла, «юный Гуль» терял однозначность и приобретал черты некоторых других возлюбленных Кузмина, однако мотивы просмотра кино, магии кино, сновидения как кино неотложно следуют за образными метаморфозами.125 Принцип развертывания текста «как в кино», заданный во вступлении, следует признать структурообразующим. Включение сноски в данном 124 125 52–58. Там же. См. об этом: Ратгауз М. Г. Кузмин — кинозритель // Киноведческие записки. 1992. № 13. С. 77 случае — необходимое структурное выражение непоэтического дискурса, возможно, единственное условие проникновения монтажной техники повествования в стихотворный текст. Петиты в ТДС несут типологически сходную прагматическую функцию — посредством сносок в романе Вагинова происходит включение в художественный текст изначально нехудожественного материала. Проделанная Вагиновым работа над текстом ТДС, зафиксированная уже в экземпляре Сорокина, становится неотъемлемым атрибутом романной коммуникации, в том виде, в котором она представлена в мысли круга Бахтина. Линеарная модель авторского высказывания осложняется самой техникой ее экстраполяции: важно, что «петиты», параллельные основному тексту, следуют за ним. Метаповествовательная конструкция встраивается в текст уже после оформления целого романа. Только учитывая прагматическое значение рукописной вставки, мы способны объяснить появление читательских комментариев внутри текста (кто еще, если не читатель, оставляет пометы на полях по ходу чтения?). Автор (Вагинов) пишет текст, затем садится за его переработку и оставляет, по ходу чтения собственного романа, своего рода, читательские пометы, в которых одновременно, проявляется и его креативная воля. Структурно необходимая нарратологическая позиция имплицитного читателя замещается прагматически выраженной реальной личностью. Таким образом, права над текстом принадлежат одновременно и «автору», и «читателю», которые предстают в данном случае одним субъектом — по траектории параболы фланирующим по контуру цельного вымышленного мира, представляя собой данный мир одновременно во всей его фикциональности и фактуальности. Вслед за амбивалентным свойством авторской креативности (писатель–читатель), пространство, создаваемое художественным текстом, осложняется прагматическим соответствием технике его создания. В 78 романный хронотоп на полных правах вступает пространственное размещение текста и время его исполнения. Петит не только паратекстуально выделяет вынесенный в сноску фрагмент, но и позволяет прогнозировать время диегезиса в его соответствии с реальным временным периодом, который протекает с момента публикации текста, до момента его дополнения. В условиях препарированного печатного текста поэтические свойства претерпевают эффект социализации, что, в случае ТДС, подчеркивает автореференциальность творчества Вагинова, структура которого имеет референциальный статус в той мере, в какой гласна внутренняя речь.126 Таким образом, публичный эффект одновременного поступления на прилавки магазинов и повести, и романа ТДС получает своеобразное развитие, связанное с интимным общением автора с книгой. Попытка включения в роман внешнего мира сменяется приобщением к фикциональности личного пространства авторского кабинета. Стремление авангардистски ошарашить публику, заявить во всеуслышание наивным и праздным читателям о прагматическом осложнении художественного высказывания — кустарно распространить действие фикционального мира на мир собственный. Экспансия (и наоборот изоляция) художественности — одна из принципиальных проблем прозы Вагинова, которая не может быть адекватно описана без учета прагматических аспектов произведения. 126 Ср. анализ авторских сносок («петитов») из недавней статьи Г. А. Жиличивой: «многократное повторение в нарративе одной и той же модели «гибели культуры» и на уровне кругозора героев, и на уровне точки зрения нарратора символизирует тотальность литературного «ада». Однако в дискурсе, гипнотизирующем мертвый мир, оставляется потенциальная возможность лазейки — выхода, маркированного с помощью сносок». (Жиличева Г. А. Функции сносок в нарративной организации романов К. К. Вагинова // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2014. № 8 (38): в 2–х ч. Ч. I. С. 80). С помощью паратектсуального элемента исследователь интерпретирует традиционный модернистский мотив, присущий и роману Вагинова. Однако при этом совершенно не учитывается тот факт, что сноски впервые появляются в процессе редактуры ТДС, и, если учитывать это их прагматическое свойство, могут рассматриваться не только как часть повествовательной структуры романа, но и как элемент художественного дискурса Вагинова. 79 Другое, и менее ожиданное, следствие обозначенных прагматических условий связано с характеристикой перманентной редактуры уже изданных текстов. Так, в случае с романами Вагинова, текстологическая задача установления дефинитивного текста обретает смысл уже в описании поэтики. 80 3. Поэтика дефинитивного текста: нежелание или неспособность поставить точку в конце романа Напомним, что сохранилось свидетельство о возможности переиздания КП в 1929 году в «Издательстве писателей в Ленинграде». Служебная записка Федина, единственное документальное свидетельство данного проекта, датирована 5 июня 1929 года. Следует предположить, что тот вариант КП, который представлен в самом авторитетном на сегодняшний день издании, был создан в период с конца 1928 до середины 1929 года. Несмотря на то, что мы далеки от принципиальной критики дефинитивного текста, следует выразить сомнение относительно реальной возможности второго издания КП, а, следовательно, нам не кажется до конца убедительным мотив продолжения редактуры романа. После того, как был открыт доступ к архивам Главлита, исследователям творчества Вагинова стали известны некоторые подробности публикации КП в издательстве «Прибой». В частности, Арлен Блюм в небольшой, но содержательной статье «Вагинов под советской цензурой» приводит следующий фрагмент внутриведомственной секретной переписки ОГПУ: «По имеющимся сведениям, Ленотгизом предпринято издание романа Конст. Вагинова "Козлиная песнь", идеологическая неприемлемость которого находится вне сомнения. Нами установлено, что в осуществлении плана издания этой книги ГИЗом уже израсходовано ок. 600 р., а посему просьба принять меры».127 Цензурная машина дала сбой, и роман, как известно, вышел в свет. Однако ОГПУ «посчитало это серьезным проступком контролеров печати. 127 Блюм А. «Зеленый стол и мертвые кресты…»: Константин Вагинов под советской цензурой // Рус. мысль = La pensee russe. Париж, 2000, 13 января. № 4300. С. 13. 81 Леноблгорлит был оповещен, что роман конфискован. Требовались также объяснения от цензоров, напрасно пропустивших этот роман. Последние начали оправдываться тем, что, "несмотря на то, что к изданию этой книги у нас было отрицательное отношение, по настоянию Москвы и самого Отдела печати Обкома (тов. Верхотурский) книга была все–таки выпущена"».128 Не далее, чем за месяц до «предложения» Федина основной тираж ТДС, второго романа Вагинова, изданного именно в «Издательстве писателей…», был уничтожен, так и не покинув типографии, о чем сообщается и в комментарии к ПССП. «<П>о сообщению Вс. Н. Петрова <…> сохранились экземпляры только авторские и разосланные по библиотекам. Эти репрессии были вызваны, видимо, начавшейся кампанией против Замятина, состоявшего членом Правления «Издательства писателей в Ленинграде» (откуда он, разумеется, был изгнан)» (ПССП, 535). Во время собственных разысканий нам не удалось как–либо подтвердить или опровергнуть данное устное (?) свидетельство,129 поэтому оставим его без критики, предположив лишь, что частная инициатива сотрудника издательства (даже такого известного и влиятельного в литературных кругах Ленинграда как Федин) вряд ли могла быть поддержана на уровне дирекции в сложившихся политических условиях. В авантюрном характере данной затеи не стоит сомневаться. Кроме того, был и экономический резон не переиздавать КП. В инвентаризованном каталоге изданий Государственного издательства «Прибой» и «Военного вестника» сообщается, что книга поступила на склад 2 августа 1928 года в количестве 2850 экземпляров (за исключением авторских и коллекторских), и на 1 января 1929 года осталось 2409 книг. 128 129 Там же. В комментарии источник не указан. 82 Разошлась только 441 книга!130 Для сравнения, из 5853 копий романа «Скандалист или Вечера на Васильевском острове» Вениамина Каверина, с которым критика часто соотносила КП,131 за 11 дней продаж (20.12.1928 — 1.01.1929) на складе осталось только 3768 (продано 2085 экземпляров).132 Стоило ли устраивать переиздание книги, которая наглухо забила склады соседнего издательства? Желание не оставлять роман, продолжать шлифовать стиль и дробить новые главки, возможно, возникало независимо от гипотетических издательский предложений. Против уверенного мнения о подготовке второго издания как о главном мотиве появления авторского экземпляра свидетельствует и сам редактируемый текст. Достаточно большая и плодотворная работа, проведенная Вагиновым, включала в себя несколько уровней редакции. Так, Вагинов подчищает явные корректорские оплошности: Отдельное издание 1928: «Ежегодно, в первый день Пасхи, он <Ковалев — Д. Б.> натягивал краповые чарчны с золотыми галунами, сапоги с гусарскими розетками, вытаскивал из глубины шкафа френч». Авторский экземпляр: «Ежегодно, в первый день Пасхи, он натягивал краповые чакчиры с золотыми галунами, сапоги с гусарскими розетками, вытаскивал из глубины шкафа френч». (КП, 34)133 Не оставляет без внимания стилистически неудачно построенные фразы: 130 Инвентаризационный каталог изданий Государственного издательства «Прибоя» и «Военного вестника». М.–Л., 1929. С. 558. 131 См., в частности: «Писатели, начавшие безматериально, люди типа Каверина и Вагинова, перешли к памфлетным мемуарным романам. Они делают ошибку, потому что нельзя пририсовывать птичьи ноги к лошади, — птичьи ноги можно пририсовывать только к дракону, потому что дракона не существует» (Шкловский В. Тогда и сейчас // Литература факта. М., 2000. С. 130). См. также: Гоффеншефер В. Конст. Вагинов. Козлиная песнь [рец.] // Молодая гвардия. 1928. № 12. 132 Инвентаризационный каталог. С. 562. 133 Здесь и далее текстологические разночтения будут выделяться жирным шрифтом — Д. Б. 83 Отдельное издание 1928: «Когда–то женщина мне казалась особым существом, которое нельзя обижать, для которого надо всем жертвовать». Авторский экземпляр: «Когда–то женщина мне казалась особым существом, для которого надо всем жертвовать». (КП, 52) Построение предложения с однородными придаточными о «существе» женщины неудачно стилистически. Однако даже такая, самая простая, механическая редактура не была доведена Вагиновым до конца. Отдельное издание 1928: «Нельзя сказать, что oн <Тептелкин — Д. Б.> не замечал недостатков Марьи Петровны, но oн любил ее, как старая вдовушка любит портрет своего мужа, изображающий то время, когда исчезнувший был еще женихом». Авторский экземпляр: «Нельзя сказать, что oн не замечал недостатков Марьи Петровны, но oн любил ее, как старая вдовушка любит портрет своего мужа, то время, когда исчезнувший был еще женихом». (КП, 130) Попытка разгрузить предложение, придать ему легкости, избежав «ступенчатого» подчинения придаточных, привела к некоторой его несогласованности, которая так и не была преодолена. Судя по характеру правки, Вагинов осуществлял редактуру в несколько подходов, сомневаясь в уместности того или иного исправления. Отдельное издание 1928: «Должно быть, подсознательно я ненавидел Свечина, иначе как могла возникнуть эта галлюцинация? Окно было забито досками, за досками была укреплена решетка; наверху виднелась узенькая полоска облачного неба; на одной койке сидел неизвестный поэт, на другой — лежал пожилой заключенный». Авторский экземпляр: 84 «Должно быть, подсознательно я ненавидел Свечина, иначе как могла возникнуть эта галлюцинация?» (КП, 51) Описание изолятора, куда был помещен Неизвестный поэт после драки со Свечиным, старательно заштриховано и ручкой, и карандашом. Решив избавиться от данного фрагмента, единственного упоминания того, что герой был осужден за свой поступок, Вагинов впоследствии полностью развеивает собственные сомнения относительно правильности принятого решения. В другом случае, Вагинов, кажется, наоборот отменяет первоначально задуманную правку. Отдельное издание 1928: «<…> и не ужасна ли жизнь этих бывших подростков теперь, когда прежний быт, для которого они были созданы, кончился? Не обступает ли их теперь ужаснейшее отчаяние?» Авторский экземпляр: «<…> и не ужасна ли жизнь этих бывших подростков теперь, когда прежний быт, для которого они были созданы, кончился? Не обступает ли их теперь ужаснейшее отчаяние? <Следы вклейки — Д. Б.>» (КП, 78) Вклейки нами обнаружено не было. Отсутствуют также какие–либо указания в паспорте документа — следовательно, в таком виде авторский экземпляр был принят на хранение в РО ИРЛИ. Возможно, маленький клочок бумаги был утерян уже во время хранения авторского экземпляра (высохший клей, условия военного быта и быта эвакуации и т. д.), однако, причина требующейся точечной замены (Вагинову не понравилось только последнее слово предложения, вариативность которого крайне ограничена) и ее смысл (какая лексема здесь более уместна?) вызывают недоумение. Примеры исправленных и только намеченных к исправлению фрагментов текста можно множить, однако, перейдем к характеристике следующего типа правки, который касается уже не столько слога и стиля, 85 сколько общего строения композиции и также представляется незавершенным. На отдельных листах Вагинов пишет две маленькие главки, которые потом вклеивает в авторский экземпляр. Это главка «Опытная мобилизация» и неозаглавленный текст «Можно было видеть, как в халате по саду ходил неизвестный поэт и бормотал…» вставленные перед главами XXIV «Под тополями» и XXV «Междусловие» соответственно. Показательно, что, переименовывая главу XXVI, Вагинов меняет собственно заглавие, но не порядковый номер главы. Отдельное издание 1928: «Глава XXVI Марья Петровна и Тептелкин Прошло два года» Авторский экземпляр: «Глава XXVI Тептелкин и Марья Петровна» (КП, 130) На только что процитированной вклейке порядковый номер главы остался прежним. Следовательно, вклеенные главки — правка неокончательного характера, которую Вагинов, возможно, планировал, но не осуществил полностью. Кроме того, бумага и ручка существенно отличаются друг от друга в первом и во втором случае вклейки, что свидетельствует о хаотичности вносимой в авторском экземпляре редакции. Отсюда следуют предполагаемые нами сомнения автора относительно принципиальной необходимости присутствия вклеек в конечном тексте романа. И если в случае с главкой без названия сомнения носят исключительно текстологический характер (для включения ее в текст нет абсолютной доказательной базы) — в содержательном плане вставка посвящена описанию психического расстройства Неизвестного поэта, которым заканчивается предыдущая «печатная» глава — то «Опытная мобилизация» включается в сюжет только ассоциативно, в качестве еще одной характеристики эпохи, которая отражается на героях романа. 86 Главка передает гнетущую атмосферу милитаризации общества. Она о том, как тяжело после пережитого в период Первой мировой и Гражданской войны «отправляться вторично в могилу, хотя бы и психологическую» (ПССП, 95), и о том, как счастливы инвалиды, свободные от всеобщей мобилизации. Лирическое отступление имеет определенные исторические коннотации. Разговоры о военной угрозе начались вскоре после разрыва внешнеэкономических отношений между СССР и англосаксонскими странами в начале весны 1927 года.134 Реальный исторический фон не соотносится с временем повествования данного фрагмента романа (начало 1920–х) и может рассматриваться как аддитивное высказывание. При такой интерпретации главка встраивается в ряд эпизодов, связанных с появлением фигуры автора. Милитаризация общества читается как метаописательная характеристика авторских переживаний (Вагинов в «ответ Чемберлену»),135 в данном случае, однако, повествовательно никак не выраженных и фиксируемых только при непосредственном чтении авторского экземпляра, то есть «рукописного» текста. К значимости чтения романа «с листа» мы еще вернемся в заключение данного раздела диссертации. Итак, наше позиция заключается в том, что возможность переиздать роман, образовавшийся в «Издательстве писателей…» не спровоцировала появление авторского экземпляра КП, равно как она не может свидетельствовать в пользу окончательного характера произведенной работы над текстом. Статус «второй редакции» данного источника должен 134 Историческая оценка событий в связи с проблемой срочной мобилизации советской армии дана: Кен О. Н. «Военная тревога» 1927 г. и ее воздействие на оборонное планирование // Мобилизационное планирование и политические решения (конец 1920–х — середина 1930–х гг.). М., 2008. С. 42–52. 135 Косвенно в нашу интерпретацию главки «Опытная мобилизация» включается эпизод «Междусловие установившегося автора», в котором также появляются современные внешнеполитические мотивы: «Я полагаю, что по всей Европе немало найдется таких чудаков. В общем, я доволен новой жизнью, я живу в героической стране, в героическое время, я с любопытством слежу за событиями в Китае. Если Китай соединится с Индией и СССР, несдобровать старому миру, несдобровать» (КП, 178). Данное «междусловие» фактически полностью удалено в авторском экземпляре. 87 быть подвержен сомнению и восприниматься как условное обозначение этапа переработки текста. Корпус прозы Вагинова содержит еще один пример работы над текстом с использованием экземпляра уже вышедшей книги — это авторский экземпляр ТДС, требующий в данном случае отдельного описания.136 Экземпляр регистрируется уже в ПССП (1999), тогда же комментаторами выносится суровый вердикт о малом значении этого варианта для творческой истории ТДС: «Авторский (рабочий) экземпляр книги до последнего времени считался утраченным, в собрании А. И. Вагиновой <…> имелись только его последние четыре страницы <…>. Авторский экземпляр романа осенью 1996 года был обнаружен в частном собрании, дополнений в нем больше, чем в экземпляре МАА [Сорокина], однако эти дополнения имеют (судя по описанию владельца, а также заключительным четырем страницам) характер черновой и неокончательный. С другой стороны (поскольку второго издания “Трудов…”, как в случае с Козлиной песнью не предполагалось), “переработанным изданием” (окончательным текстом) следует, очевидно, считать именно экземпляр, подаренный автором Г. Сорокину» (ПССП, 534–535). Несмотря на обилие правок, сорокинский экземпляр следует признать последней беловой редакцией романа. Поэтому мы отнюдь не собираемся оспаривать принятое публикаторами ПССП решение использовать именно этот вариант текста. Однако мы осмелимся предложить принципиально иное основание к данному решению: сорокинский экземпляр — «составленный» вариант повторной редактуры ТДС, проведенной, также как и в случае КП, с помощью авторского экземпляра. Отсюда следует и другой не менее важный для нас тезис: «вторая редакция» КП и новонайденный экземпляр ТДС типологически 136 Экземпляр находится в частном собрании А. Л. Дмитренко (СПб). Владелец любезно согласился предоставить нам копию правок для работы над данным разделом диссертации, за что, пользуясь случаем, мы выражаем ему глубокую признательность. 88 сходны и различаются только степенью незавершенности. Описывая особенности редактуры ТДС в авторском экземпляре, мы постараемся доказать высказанное предположение. Датировать начало правки в предложенном экземпляре можно в достаточной степени точно. Если еще 9 мая 1929 года Берзину была подарена книга без каких–либо исправлений, то уже к 22 мая был проведен большой объем работы. Авторский экземпляр свидетельствует о хрупкости творческой мысли, здесь мы найдем множество на ходу перечеркнутых и заново написанных пассажей. В главах «Куку и Кукуреку» и «Советский калиостро» появляются «петиты», авторские отступления, вынесенные в сноски за пределы основного течения текста. После фразы «Сердце Свистонова сжалось» следуют звездочка, отсылающая нас вниз страницы: «Собственно не следует умалять труды и дни Свистонова. Его жизнь состояла не только в подслушивании разговоров, в охоте за людьми, но и вполне сознательном соучастии в их жизни чрезвычайной зараженности ими, в известном духовном соучастии в их жизни. Поэтому, когда умирали его герои, нечто умирало и в Свистонове, когда отрекались они, известную долю отречения переживал и Свистонов. Кроме того, как ни странно на первый взгляд, Свистонов верил в магическую глубину слова». (ТДСр, 93)137 «Петиты» есть и в сорокинском экземпляре, представленные там уже без исправлений, переписанные начисто. С другой стороны, от внимательного читателя авторского экземпляра вряд ли укроются расхождения в дополнительных редакциях, возникшие уже после того, как роман был подарен Сорокину. Отдельное издание 1929: 137 Жирным шрифтом выделены несоответствия АЭ ТДС и экземпляра Сорокина с опубликованным текстом, жирным шрифтом и курсивом — разночтения двух экземпляров с рукописными правками — Д. Б. 89 «Черный фон почти не пропускал света, и розовый человек выступал из коридора. Так забавлялся Свистонов. Затем, отложив рисунок, стал бриться и думать о том, куда пойти и с кем познакомиться». Авторский экземпляр: «Черный фон почти не пропускал света, и розовый человек выступал из коридора. Свистонов надел на входящего унтер–офицерский мундир. Государственные гербы, женщины, звери скрылись, стали духовными и душевными свойствами и стремлениями еще одного, появляющегося из хаоса героя. Затем, отложив рисунок, стал бриться и думать о том, куда пойти и с кем познакомиться». (ТДСр, 23) «<И>з хаоса» отсутствует в экземпляре Сорокина, мелким сбивчивым почерком словоформа вписана над рукописной строкой уже после 22 мая. Подобные примеры с легкостью можно множить до тех пор, пока не будет установлена экземпляра. В относительная целом, в книге, датировка подаренной правок авторского редактору романа, зафиксированы все изменения, присутствующие на тот момент в авторском экземпляре. Это правило соблюдается последовательно, за одним исключением. Финал ТДС вызвал наибольшие нарекания со стороны его автора, последние страницы отдельного издания пестрят множеством рукописных исправлений, целые страницы текста заклеены, на них вторым слоем закреплены фрагменты бумаги с новыми записями. После слов в новообразованной главе «Приведение рукописи в порядок: «<…> где мелькает то плечо, то рука, то спина», в сорокинском экземпляре дополнительно заклеен следующий, не присутствующий в печатном издании фрагмент. «И все сокращать, сокращать до того, пока произведение не станет пружинить. Наконец, роман стал как бы дрожать от напряжения. Свистонов почувствовал, то работа окончена, зевнул. Свистонов зевнул и отложил самопишущее перо». (ТДСр, 148) 90 Повтор «зевнул» свидетельствует о неудовлетворительном качестве редактуры данного фрагмента — неудивительно, что Вагинов специально заклеивает «недоведенный» текст в дарственном экземпляре для Сорокина. По нашему мнению, к 22 мая Вагинов оформляет некоторый вариант текста, который дает представление о новой редакции, но, безусловно, не является итогом авторской переработки, усовершенствования печатного текста. Судя по цитированным примерам редактуры, мы смеем утверждать, что эта работа не была завершена. Отдельное издание 1929: «Закрепите, прошу вас, закрепите это! — и Куку снова принялся смотреть. Белокурая головка Наденьки была близка от него, и он представил свою свадьбу. Гордость изобразилась на лице Куку». Авторский экземпляр: «Закрепите, прошу вас, закрепите это! — и Куку снова принялся смотреть. Белокурая <так! — Д. Б.> затылок Наденьки волновал Куку, и он представил свою свадьбу. Гордость изобразилась на лице Куку». (ТДСр, 45) Эта неудавшаяся правка стиля показательна. Вагинов хотел избежать повтора местоимений в первом предложении абзаца. Однако употребление имени собственного не убавило проблем. Теперь в трех предложениях подряд (если учесть не вошедшее в цитату последнее предложение предыдущего абзаца) герой назван по фамилии. Итог — Вагинов так и не определился, даже не стал унифицировать грамматику. Учитывая количество вынужденных правок в авторском экземпляре, касающихся корректуры текста, можно подтвердить предположение, высказанное в комментариях к ПССП: роман был сдан печать в срочном порядке (ПССП, 534). Так, в авторском экземпляре Вагиновым уточняется, к примеру, «грузинская» цитата в начале романа, видимо, напечатанная в спешке без дополнительной сверки: 91 Отдельное издание 1929: «На низких диванах сидели жены сановников, закутанные с ног до головы <…> Против женщин, с правой стороны трона, разместились государственные чиновники, по старшинству, в безмолвии и с печальными лицами». Авторский экземпляр: «На низких диванах (тахтах) сидели жены сановников, закутанные с ног до головы <…> Против женщин, с правой стороны трона, разместились государственные чиновники, по старшинству, “в безмолвии и с печальным лицом”». (ТДСр, 11) Вагинов выправляет цитату согласно оригиналу, что нами доподлинно установлено.138 Следующий пример ошибки редактора выглядит курьезно, однако самому автору обнаружить столь нелепую оплошность удалось уже только после 22 мая. Отдельное издание 1929: «Свистонов, глухая прачка Трина Рублис, Куку и городская девушка Наденька сидели среди дачников». Авторский экземпляр: «Свистонов, глухонемая прачка Трина Рублис, Куку и городская девушка Наденька сидели среди дачников». (ТДСр, 34) На одном развороте отдельного издания была допущена корректорская ошибка. Трина Рублис везде далее по тексту романа — «глухонемая» прачка, и только в данном эпизоде неизвестный типографский «эскулап» вернул героине дар речи. К сожалению, составители ПССП повторили эту досадную ошибку, однако, простительную для здорового (и видящего, и слышащего) человека. 138 1897. С. 2. Дубровин Н. Ф. «Георгий XII, последний царь Грузии, и присоединение ее к России». СПб., 92 В процессе редактуры Вагинов работает над фактуальным содержанием, детализацией описаний и усложнением образной структуры романа. Отдельное издание 1929: «Леночка сидела при свечах. Она скучала над этим романом. Все же он был куда менее интересен, чем Уолтер Патер». Авторский экземпляр: «Леночка сидела при свечах. Она скучала над этим романом. Все же он был куда менее интересен, чем ”Дэнис Оксерра” и “Аполлон в Пикардии”». (ТДСр, 14) Вагинов уточняет конкретные главы из книги Уолтера Патера «Воображаемые портреты».139 Комментаторами ПССП установлено, что Леночка читает из романа Матвея Комарова (ПССП, 536). Уточняющая правка — упоминание Аполлона — позволяет эксплицировать некоторые аллюзии на новеллу Патера «Аполлон из Пикардии», в котором игра на флейте и вакхическая пляска главного героя вызывает сильнейшую реакцию у повествователя, куда большую, нежели изображенную в только что прочтенной Леночкой книге. В процессе редактуры Вагинов работает над образом Психачева, мистика–шарлатана (как часто бывает у Вагинова, амбивалентный оксюморонный образ), которого Свистонов выводит в своем романе. Если в первоначальной редакции специальное развитие получает только история «записи» образа Куку, то теперь образ Психачева видится в достаточной Свистонова степени выписанным. персонаж, Типичный картонный, для пронизанный «творчества» нарочито художественными, прогнозируемыми предшествующей литературной традицией качествами. Если Куку — литературная кукла в руках Свистонова, который только эксплицирует в нем вторичность, отсутствие 139 Сохранился экземпляр русского перевода книги из личной библиотеки Вагинова с его некоторыми пометами: Патер, Уолтер Воображаемые портреты. М., 1916. Ныне хранится в Отделе редкой книги библиотеки им. Горького (СПб). 93 самобытности Ивана Ивановича, с черной иронией выводя персонажа в своем романе — то образ Психачева воспринимается, как филистерская интерпретация образа Фауста. Герой сознательно помещает себя в вымышленный мир, что дает ему безграничные возможности, но лишает его реалистичности изображения. Стоит отметить, что следы изменений в образе Психачева проявляются еще в сорокинском экземпляре, в главу о котором, также как и в главу о «превращении» Куку, помещены «петиты». В авторском экземпляре Вагинов подчеркивает значимость образа Психачева композиционно — дробит и дописывает главу «Советский Калиостро».140 На одной такой вклейке стоит остановиться подробнее. «Психачев — набрасывал в свою записную книжку Свистонов, <от времени ко времени всматриваясь в свою> быстро поглядывая на натуру, никак не может решить, кто он — Мефистофель, или злополучный Фауст, ставший насмешником». (ТДСр, 104) Несвязное изложение свидетельствует о черновом характере вклейки — возможно, эта короткая фраза способна вырасти в целый эпизод, требующий специальной сюжетной мотивации. Однако неотделанный характер литературной рефлексии в равной степени может принадлежать как к речи героя (если предполагать согласование синтаксической конструкции с помощью несобственно–прямой речи), так и к речи автора. В данном случае, типичные нарратологические функции авторской речи осложняются техникой ее исполнения. Под абстрактной повествовательной инстанцией просвечивает субъект, производящий правку текста в конкретный момент времени. Риторику романа дополняют актуальные, но побочные, проходящие по касательной текста, мысли субъекта. На полях книги, кажется, поднят непростой для самого Вагинова 140 Предложим список главок о Психачеве в авторском экземпляре: 1. Советский Калиостро; 2. Общество Психачева; 3. Плата за гостеприимство; 4. Вечернее представление; 5. Золотая полночь; 6. О чем мечтала Машенька; 7. Ужин; 8. Повседневная работа. 94 вопрос: какое место автор может занимать по отношению к герою в этой мифологической бинарной оппозиции Фауста и Мефистофеля. Онтологическая проблема выбора между гетеанскими ахетипами не будет обсуждаться в дальнейшем — в процессе развертывания образных характеристик героев, за Свистоновым четко закрепляется квази– мефистофелеподобный статус. Он прельщает литературой неосмотрительные души. Так, во вклеенной главе «Заработок» (ее предполагаемое нами расположение — после главы «Собирание фамилий») Вагинов с юридической щепетильностью описывает договоры между Свистоновым и неким «нуждающимся» молодым человеком, — «в дальнейшем именуемым “Героем”» — которого, после того, как будут поставлены подписи, «”<а>втор” волен перенести “Героя” куда ему “Автору” заблагораcсудится, поселить в Москве, в Ташкенте, на Кавказе и т.д. или оставить в Ленинграде, поместив в любую социальную среду, столкнуть, как с людьми воображаемыми, так и с историческими личностями, изменить и дописать его — ваше имя, отчество, фамилия — биографию».141 Внехудожественная вставка (договор заполняется с соблюдением всех бюрократических стилистика), внутри обуславливающие формальностей, которой деятельность выдержана отменены канцелярская эстетические вненаходимого автора законы, (Бахтин), вынуждает интерпретатора легитимизировать актуальные конвенции обыденной логики. Границы эстетической деятельности сокращаются до территории авторского (субъективного) воображения, которому приданы поистине инфернальные, «мефистофилевские» способности. Включение обоих эпизодов, связанных общим мотивным фоном по– разному разрывает целостность фикционального мира романа. Однако 141 АЭ ТДС. Рукописная вклейка между 116–117 страницей отдельного издания. 95 если в главе «Заработок» появление аллюзий на поэму Гете связано с остранением авторской инстанции (на примере вторичного нарратора, Свистонова), функциальный арсенал которой осложняется некоторыми актуальными, «человеческими» свойствами (воображение), то рассуждения о Психачеве и Свистонове, как о Фаусте и Мефистофеле, на полях книги видятся не только гетерогенными, но и гетерономными для художественного текста. Так, на страницах книги мы видим следы реального автора (редактора и корректора) Вагинова. Как и в случае публикации главки «Опытная мобилизация» в КП, помещение такого фрагмента в текст может быть обусловлено ассоциативной связью с основной проблематикой романа. Данное сравнение возможно, очевидная разница в степени готовности правок (выбеленный текст, вклеенный на отдельном листе и несогласованная фраза) не должна смущать — она во многом нивелируется разницей проблематики романов. В ТДС Вагинова интересует сам процесс написания текста, практика взаимоотношения автора и его героя, которая и становится основной темой и главным сюжетным двигателем романа. Равно как опасения за сохранность культурных ценностей во враждебной высокой эстетике ситуации контрапунктом следуют за повествованием КП, что также поддерживается содержанием вклеенной главки. Еще один пример, на этот раз максимально приближенный к описанному фрагменту, включенному в КП — два небольших листка, вложенных в авторский экземпляр ТДС (в разворот между 88 и 89 страницей отдельного издания), появление которых никак сюжетно не обусловлено. Однако содержание вложенных листков — описание сложностей современного Вагинову литературного быта, унизительного положения писателя в конце 1920–х годов — коррелирует с тематикой основного повествования ТДС. 96 «и, в зависимости от его денежного состояния, достать у него рубль или меньше, или больше в долг. Но бывали страшные дни, когда ни у кого не было денег. Тогда становилось темно на душе. Писатели ходили печальные и не знали куда толкнуться, чтобы достать хоть пятьдесят копеек. Кассе взаимопомощи были почти все должны, и до отдачи на получение денег на нее нельзя было рассчитывать. Были среди писателей и по–богаче. Они редко сидели часами. Им реже приходилось доставать бумажку и бежать в кассу взаимопомощи. Им уже не надо было высиживать приятеля, чтобы попросить рубль, меньше или больше в долг». «Сюда они приходили собственно на минутку справиться — принята или не принята рукопись, можно ли получить аванс? Настоять на том, чтоб выдали аванс, потребовать деньги уже за напечатанную <вещь> произведение, справиться — нет ли корректуры, или когда они будут, но почти всегда оказывалась так, что попав в это витиеватой архитектуры здание, они уже не могли его покинуть почти до часа закрытия парадных дверей. Встречи на лестницах, здесь можно было и <закус> пообедать, как во всяком благоустроенном учреждении — имелась столовая. Здесь можно было поговорить <о своих>, встретив приятеля, о своих художественных замыслах, здесь можно было навести справку и достать книгу в библиотеке. И, наконец, в трудную минуту найти рубль». К включению данных фрагментов в основной текст романа, кажется, есть не больше оснований, нежели в случае с главкой «Опытная мобилизация». Однако такого рода текстологическое решение не может быть произведено в обычном печатном формате издания. Только печатно воссозданная генетическая транскрипция авторских экземпляров способна передать те оттенки романного высказывания Вагинова, которое предполагает его содержание и проблематика. С другой стороны, генетическая транскрипция позволит сохранить прагматические особенности публикуемых текстов: очевидные литературно–бытовые сложности Вагинова в донесении текстов до читателя отражаются в непрекращающейся работе как в своеобразной (модернистской) форме эскапизма. 97 «Если при публикации писатель теряет всякое право на то, что он пишет (и благодаря чему о нем составляют представление другие), то отсюда неизбежно следует и обратное: пока его произведение не стало достоянием общественности, оно принадлежит исключительно его персоне. Это составляет привилегию писателя; но вместе с тем, тайный характер произведения становится в некоторой степени признаком его незначительности, а «интимность» произведения становится препятствием на пути к значимости, делая текст важным только для самого автора».142 Кроме того, вкрапление в текст небольших, часто несвязных между собой описательных картин, сюжетных зарисовок в КП и ТДС следует считать предвестником фрагментарной («коллажной») структуры повествования в прозе Вагинова 1930–х годов. Однако если в «Бамбочаде» (1931) «лоскуты» разрозненных историй являются примером нового реалистического миметичности письма, связанного художественного с образа, преодолением то в КП прямой и ТДС фрагментированный текст предстает в качестве автореференциального объекта искусства — не подражающего, но отсылающего к некоторой закрепленной за ним реальности. Таким образом, фрагментарность нарративной структуры, характерное свойство прозы 1920–х годов, в творчестве Вагинова 1929 года прагматически обусловлена. Затем, уже при работе над следующим романом, «Бамбочадой» (1931), Вагинов будет стремиться воссоздать фрагментарный, дифференцированный романный дискурс, который раннее возникал в условиях хаотичного процесса редактирования. 142 Бельмен–Ноэль Ж. Воссоздать рукопись, описать черновики, составить авантекст // Генетическая критика во Франции. М., 1999. С. 107–108. 98 4. Интердискурсивный характер прозы (Бамбочада) В «Бамбочаде» с помощью своеобразного каталога словесных зарисовок, прерывных бесед, рассказанных без повода комичных случаев, формируется драматическая история жизни главного героя, Евгения Фелинфлеина, его психологический портрет «разорванной» образной личности. Текст романа нарочито не разделен на главы. Главный образ раскрывается с помощью многослойных, дискурсивных и стилистических интерференций. Это — отрывки из дореволюционных дневников; сноски с биографией одного из героев романа, с обширным рекламным текстом, написанным тем же персонажем; цитаты из кулинарных книг; прейскуранты цен в столовой; надписи на стене («здесь был В. С. Чханов» (ПССП, 324)) и проч. Медленно умирая от туберкулеза, Евгений рассматривает больничный плакат, аллегорическое изображение, сравнимое со «средневековыми гравюрами». На стене рядом с курортом на дому висел цветной плакат человек–машина. В просторных помещениях человека–машины работали люди: одни лазали по лестницам, складывали крахмал и сахар; другие подавали; третьи служили привратниками; четвертые мыслили по поводу прочитанного; пятые сидели на деревянных кобылах; шестые снимали аппаратом (глаз); седьмые слушали у телефона (ухо); девушки в голубых и сероватых платьях сидели у аппаратов (нервы); в человеке машине были проведены голубые и красные трубы, двигались колеса, вагонетки, работали приводные ремни (ПССП, 320). Собранный по частям из лоскутов–органов, аппаратов и других людей — биологических и механических объектов — человек на плакате, кажется, олицетворяет в том числе и характер построения образа самого Фелинфлеина и характер повествования в романе в целом. Также как человек–машина воссоздается из различного и не всегда ожидаемого для 99 такой цели материала, события в романе описываются не прямо, а посредством скрещения дискурсивных полей. Разберем один характерный эпизод. Идет очередное собрание клуба коллекционеров под председательством Торопуло. Обычно на подобных встречах участники рассказывают друг за другом истории, анекдоты из жизни (вымышленные и подлинные), делятся планами и успехами в деле собирательства. Согласно прямому значению заглавия («Бамбочада»), события в романе распределены по жанровым бытовым зарисовкам, картинам «с комическими сюжетами, изображающими обычно ярмарки и крестьянские праздники». (ПССП, 546) Однако разбираемый нами эпизод начинается цитатами из дореволюционного девического дневника, который листает соседка Торопуло, Нунехия Усфазановна: «Взяла Нунехия Усфазановна последнюю тетрадку: "Мой дневник с 9 марта 1915 года". "Был днем Песик, оделся в военную форму и весь облепился крестами; я его упрашивала прийти вечером, а он сказал, что не придет. Песик какой–то странный — точно мне его подменили. Может, устал, а может быть, что–нибудь другое". За стеной раздавался хохот Торопуло» (ПССП, 264). Дневниковый текст выделен автором курсивом, записи обязательно сопровождаются указанием дат, дней недели, атрибутивными признаками дневника. Содержание же записей — утрированные мысли юной Нунехии, пародийно воспроизводящий исповедальный дневниковый дискурс. Параллельное действие за стеной в комнате Торопуло, несмотря на периодическое упоминания шума, смеха, доносящегося до старой девы, никак не смешивается с чтением дневника. К непосредственному 100 описанию вечера у инженера текст переходит последовательно. Смена «картин» отмечена четкой границей: «Но вот в дверь, ей показалось, постучал Торопуло. "Выпросит, выпросит..." — подумала она и побледнела. Быстро бегая глазами, убрала коробки в сундук и сказала как можно спокойней: — Войдите. Но никто не вошел. — А вы не пробовали собирать табачные этикетки?— спросил Пуншевич…» (ПССП, 265). Сразу после упоминания Пуншевича следует авторская сноска. Однако здесь, в отличие от петитов из ТДС, нет и намека на смену нарративной фокализации, на актуализацию автореференциальных авторских реплик, нет даже сюжетной связи с отмеченной фразой из основного текста (Пуншевич, совет собирать табачные этикетки) сноске представлены очередные «картины», отмеченные — в разной дискурсивной природой. Это короткий рассказ о студенчестве Пуншевича, когда он получал небольшой заработок от составления газетных объявлений, и текст одной такой рекламы — про пудру товарищества ГИГИЕНА. «Профессор Пуншевич, когда был студентом, голодал, но и тогда был весел и остроумен, не терял присутствия духа и зарабатывал гроши составлением увлекательных реклам, которые были в своем роде шедеврами. Невозможно было, прочитав их, не рассмеяться. К сожалению, он не сохранил ни одной из них. Автору совершенно случайно попалась одна из реклам его героя под названием "Королева": Королева Эта робкая девушка, с глазами небесного цвета, сначала служила в кордебалете летнего театра, а потом поступила в драматический театр на маленькие роли... Она долго голодала, как голодают вообще все юные актрисы. Жалованье приходилось тратить на костюмы, без которых не обойтись даже "маленькой актрисе". 101 У робкой девушки в душе горела тихим пламенем искорка настоящего таланта. Она могла бы исполнить хорошую захватывающую роль. Но ей поручали только самые ничтожные роли, потому что режиссер был злой человек, а подруги–актрисы — завистливы...» (ПССП, 265). Как и в случае с текстом дневника, содержание сноски соотносится с описываемым событием (вечер у Торопуло) как факультативная дополнительная зарисовка, еще один лоскут в коллажном повествовании. Важно подчеркнуть, что текст рекламы приведен нами далеко не полностью, не полностью он дан и в тексте романа. Развязка история юной актрисы и ее пудры остается за пределами авторского внимания, так как сноска нужна не сама по себе, а только как пример еще одного нехудожественного дискурса, косвенно участвующего в описании событий. Так же коллажно, с помощью фрагментарной повествовательной техники, в романе выписан образ уходящего времени, потерянной надежды (типичный мотив прозы Вагинова). В Пушкине (где находится лечебница главного героя) в парке у Екатерининского двора на полуколоннах увеселительного павильона Евгений читает оставленные посетителями надписи: «Внимай, мой друг, как здесь прелестно. 30.VIII.27. Будет осень, ты придешь и вспомнишь то милое время, когда мы были с тобой так счастливы. 14.V.27. Евгений, заинтересовавшись, встал и принялся читать надписи. С книжкой под мышкой юноша то поднимался на цыпочки, то приседал, читал: Тут я тоже побывал и остался очень доволен после виденного мною прекрасного парка. 20.VIII.29. Серг. С. 102 Зачем вы под серой шинелью красноармейца подозреваете царского солдата и грязное мнение Ваше несправедливое. Нет! Отец с сыном во время своего отдыха посетили этот чудесный уголок. Здесь были мама и Ляля, скучали о няне. Папа в Ташкенте. 19.VI.27». (ПССП, 322) Клишированная формула «здесь был…» приобретает несколько сентиментальный оттенок. Чтение «подзаборных» надписей (прагматика которых, как мы могли видеть, не соотносится с их стилем и содержанием) предвещает скорую кончину главного героя. О смерти Евгения мы узнаем также не прямо, она дана не посредством традиционных повествовательных реалистических приемов. В конце романа мы читаем неотправленное письмо исповедального характера, которое встраивается в дифференцированный дискурсивный ансамбль. «Я часто хожу здесь с гитарой по саду. Говорят, приближение смерти опрощает человека. Сейчас я вижу, как удаляются цветные парочки. Здесь, как и в миру, принято подносить цветы. Но здесь не говорят о будущем. Здесь любовь носит характер свободный и воздушный, без излишних надстроек. Все более и более убеждаюсь, что я попал в заколдованное царство. Я худею с каждым днем и убавляюсь в весе. У меня пропадает аппетит, я слабею, и скоро я исчезну. Иногда во сне я плачу и мне кажется, что я мог бы быть совсем другим. Сейчас я не понимаю, как я мог так жить. Мне кажется, что если бы мне дали новую жизнь, я иначе прожил бы ее. А то я как мотылек, попорхал, попорхал и умер». (ПССП, 334) Выраженное различными коммуникативными способами повествование о Фелинфлеине — интердискурсивное перемещение истории о ночных заседаниях «Общества собирания мелочей» — в рамках творчества Вагинова восходит к освоению художественным текстом бытовых пространств (о чем шла речь в предыдущих разделах настоящей работы). Коллажное полотно «Бамбочады» — условная реализация 103 культурного проекта эстетизации быта, воспринятая Вагиновым и умещенная им в роман посредством уже только нагромождения стилей (но не техник) письма. В последнем романе Вагинова фрагментарная наррация во многом сохранится, однако в стремлении соответствовать современным писательским стратегиям, Вагинов в «Гарпагониане» решится на включение «живого», социального дискурса. 104 Глава II. Проза К. К. Вагинова 1930–х годов: поэтика и литературный быт 1. Константин Вагинов в диалоге с пролетариатом (литкружок завода "Светлана" и работа над историей Нарвской заставы) В начале 1930–х годов за литературным творчеством окончательно закрепляется новый институциональный статус, соответствующий установкам советской действительности. В общественном сознании писатель всё менее соотносится с представителем творческой элиты, сформированной общностью эстетических взглядов и художественной идеологии, не зависимых от политической модели управления культурным процессом. Писательский труд, как и любая другая в широком понимании культурная деятельность, постепенно становится одним из структурных элементов централизованно регулируемой общественной жизни и служит художественному отражению целей, задач и достижений власти. На деле данная социальная трансформация означала снижение «сакрального» авторитета писательского слова.143 Заниматься литературой мог научиться любой гражданин: например, в качестве полной реализации общественно значимого действия, совершаемого на производстве, инженеру было недостаточно ввести в эксплуатацию новое оборудование или апробировать уникальную технологию — необходимо было символически закрепить данное событие на бумаге, дать статью в соответствующие издание, где частный факт будет возведен в систему атрибутов нового 143 Обусловленность художественных текстов реальной повседневной практикой автора дискредитирует его позицию «вненаходимости» (М. Бахтин) по отношению к собственному тексту. Однако сама абстрактная и, в некотором смысле, теологическая категория «вненаходимого» автора сохраняет свою функцию в замещающем ее дискурсе власти. 105 успешного общества.144 Ударники производства были призваны в литературу. В 1931 году в программной статье М. Горький писал по этому поводу: «Ударник — это не только человек, который научился хорошо, быстро, дисциплинированно работать, а еще человек, который пытается и умеет рассказать о своем опыте рабочему миру».145 На предприятиях появились представители новой профессии, рабкоры — литкадры заводских газет. Тогда же был выдвинут лозунг масштабной работы над созданием истории фабрик и заводов. Главный литературный «профорг», М. Горький, 7 сентября 1931 года публикует в «Правде» и в «Известиях» статью, в которой намечены магистральные линии символического фронта, на который должны быть брошены не только рабкоры и ударники, но и все лучшие силы от литературы. Он констатировал, что почти нет «общедоступной литературы, которая последовательно и широко знакомила бы с грандиозным процессом строительства», но «для того, чтобы понять огромное значение своих завоеваний, своих хозяйственных успехов, рабочий класс должен знать и прошлое, ту глубоко засоренную почву, на которой начал он строить свое новое государство». И тут же давал подробное руководство к действию: «Как, каким приемом познакомить рабочую массу со всем этим? Пролетариат уже сам нащупал эти методы и приемы. Красная книга о «Каменке», созданная самими рабочими, и ряд других, менее удачных книжек говорят нам, что в таких книжках назрела потребность и что они должны создаваться путем коллективной работы. Рабочие создали завод, они же и должны написать историю его создания, — историю 144 Тенденция к привлечению рабочих в литературу — не изобретение начала 1930–х: еще с начала XX века деятели Пролеткульта занимались просвещением трудящихся, организовали первые рабкоровские издания. Ко времени, подходящему под наш обзор, стремительно возрастает степень дискурсивной обусловленности действий гражданина СССР, тогда как, скажем, в начале 1920–х годов задачи воздействия на массы, управления ими путем просвещения предполагалось решать с помощью поэзии Пролеткульта. Ср.: «в 1920–е годы текст в соответствии с общим техническо–утопическом идеалом был сконструирован как машина для производства желаемого эффекта на читателя» (Гюнтер Х. Соцреализм и утопическое мышление… С. 46). 145 Горький М. Ударники в литературе // Горький М. Собр. соч.: В 30 т. М., 1953. Т. 26: Статьи, речи, приветствия: 1931–1933. С. 19. Впервые напечатано в газете «Ленинградская правда» (1931. 21 мая. № 138. С. 2) и под заглавием «Ударники — в литературу» — в журнале «Наши достижения» (1931. № 5. Май. С. 1–3.). 106 своей работы. Организационными центрами по работе над историей заводов должны быть ячейки РАПП. К работе следует привлечь ударников, литкружки, инженерно– технический персонал, проф– и парторганизации. В работе по “Истории гражданской войны” принимают участие наши высококвалифицированные литераторы — им следует вступить и в работу по истории развития промышленности и рабочего класса в их стране. В основу истории заводов должны быть положены заводские архивы, технические, исторические и другие материалы, опросы старых рабочих — мужчин и женщин, — они дадут богатый бытовой материал. Нужно показать техническую изобретательность рабочих в прошлом и настоящем. Рассказать о влиянии данного типичного завода на всю область производства, в которой он работал. Отвести заметное место бытовым условиям жизни рабочих: казарма, грамотность, церковь, ее влияние, организации культурного характера и воскресные школы, просветительная деятельность народнической интеллигенции, возникновение партийных кружков, отражение борьбы политических партий — народников, меньшевиков, эсеров, анархистов — в жизни заводов, забастовки, аресты, деятельность шпионов и провокаторов, битвы с полицией, казаками. Связь завода с деревней и влияние рабочих на крестьян. Отношения с техническим персоналом прежде и теперь. Нужно показать фигуры бывших “хозяев”. Современное состояние завода, его культурные организации, его роль в строительстве партии и значение в той области промышленности, на которую он работает. Работу нужно поставить таким образом, чтоб в результате получилось нечто подобное энциклопедии нашего строительства в его постепенном развитии от возникновения завода до наших дней».146 Создание «больших нарративов» о фабриках и заводах (опирающееся на опыт описания Гражданской войны и истории партии) не могло обойтись без участия профессиональных литераторов. Кроме непосредственной творческой работы в этом направлении, литераторы старой школы должны были передать опыт новому поколению — рабкорам и молодым пролетарским писателям. Для этих целей при заводах организовывались литобъединения, где велись тематические занятия «как писать книги». 146 Горький М. История фабрик и заводов // Горький М. Собр. соч. Т. 26. С. 144. Впервые напечатано одновременно в газетах «Правда» (1931. 7 сент. № 247 (5052). С. 2) и «Известия ЦИК СССР и ВЦИК» (1931. 7 сент. № 247 (4454). С. 2). 107 Статья Горького об ударниках в литературе постулирует уже наметившуюся к тому времени организационную практику. Так, «Издательство писателей в Ленинграде» уже с 1930 года направляло писателей на различные участки социалистического строительства, результатом чего стали книги очерков о жизни рабочих и сборники произведений участников литературных кружков на заводах.147 Появились коллективные книги: примером тому является книга очерков «Сквозь ветер» (1931), выпущенная «северной бригадой» «Издательства писателей» (Г. Куклин, С. Спасский, Е. Тагер, Н. Чуковский) по материалам поездок по северо–западной части СССР. В конце 1930 года Вагинов, к тому времени постоянный автор «Издательства писателей…»,148 начинает вести литературные занятия с ленинградскими рабочими на заводе «Светлана». А затем принимает участие в создании книги об истории рабочего движения за Нарвской заставой «Четыре поколения: (Нарвская застава)», выпущенной тем же издательством в 1933 году149. Новые «обязанности» профессионального писателя разделялись многими известными авторами: некоторые из них, безусловно, внутренне сопротивлялись обременительной просвещенческой деятельности, другие — радовалась только возможности заработка. У нас есть достаточные основания полагать, что для Вагинова походы на завод и полевая работа историка заводского быта, помимо 147 Лаврухин Д. По следам героя: Записки рабкора. Л., 1930 (5–е изд.: 1933); Будовниц И. Весна 1930: <Очерки колхозного строительства Ленинградской области>. Л., 1930; Лаганский Е. Завоеватели машин: [Очерк завода им. Карла Маркса и др. очерки]. Л., [1931]; Борисоглебский М. Бумажный вуз: [Очерк Красногорского бумажной фабрики]. Л., 1931; Володарка: [Очерки прошлого и настоящего Ленинградской писчебумажной фабрики им. Володарского] / Организатор книги А. Ульянский. Л., 1932; Новый набор: [Произведение литкружковцев типографии им. Е. Соколовой в Ленинграде] / Организаторы книги Г. Сорокин и С. Спасский. Л., 1932; Авдеев Е. Две ударных: [Ленинградский металлический завод им. т. Сталина]: Бригада токарей Авдеев, Аптекман, Глухов, Кириллов, Маневич, Перцович, Рейн, Тихоненко, Шерер / Организатор книги Д. Лаврухин. Л., 1932; Бойцы и корабли: [Сборник рассказов Литгруппы газеты «Красный Балтийский флот»]. Л., 1932; Эпрон. 1923–1933: Очерки бригады писателей. Л., [1934] и др. 148 Помимо ТДС (1929) в издательстве вышли еще две книги Вагинова: роман «Бамбочада» (1931) и сборник стихотворений «Опыты соединения слов посредством ритма» (1931). 149 Четыре поколения: (Нарвская застава) / Организатор книги С. Д. Спасский; Сбор материала, ред., композиция С. Д. Спасский, А. Г. Ульянский. В сборе материала принимали участие: К. К. Вагинов, Н. К. Чуковский. Л., 1933. 108 очевидной практической пользы, была действительной формой творческой реализации. В последнем романе «Гарпагониана» (1934) «трудовая повинность» Вагинова найдет свое поэтическое (как структурное, так и образное) отражение.150 Рассмотрение оппозиции общественной «человек–власть» нагрузки в приводит обход к обязательной проблематизации прагматических свойств каждодневных бытовых действий, осуществление которых всякий раз связано с индивидуальным несогласием быть только пассивным потребителем властных распоряжений. Прагматика художественной деятельности связана с реализацией личной тактической схемы «как быть писателем» в условиях литературного поля, с проявлением дискурсивных (идеологических) особенностей в художественных текстах — продуктах деятельности писателя.151 В случае с последним романом Вагинова, как нам кажется, имеет место сознательное привлечение, препарирование и освоение внешних дискурсивных критериев начала 1930–х годов. Романный дискурс наполняется тенденциозной (литературно–документальной) риторикой, появление которой и есть поэтическое выражение прагматики художественного текста. Наслаждение от «зрелища» фикционального мира, проникающего в авторскую реальность (во время работы над КП и ТДС) сменяется у Вагинова желанием вживить прагматический код в ткань художественного вымысла, наделить прагматическими свойствами сам литературный язык. Именно поэтому нам кажется необходимым в начале разговора о поэтике «Гарпагонианы» пунктирно обозначить 150 В 1931 году Вагинов написал рассказ «Конец первой любви», в котором предположительно могли присутствовать поэтические принципы, тождественные «Гарпагониане». Анализ этого текста был бы весьма полезен для концептуального описания творчества Вагинова 1930–х, однако в настоящее время этот текст считается утраченным, и наши попытки отыскать рукопись рассказа обернулись полной неудачей. 151 Что распространяется и на «непрофессиональных» авторов, к примеру, рабкоров, заполнявших наиболее явные идеологические медиаторы — стенгазеты. Об этом см.: Catriona Kelly 'A Laboratory for the Manufacture of Proletarian Writers': The Stengazeta (Wall Newspaper), Kul'turnost' and the Language of Politics in the Early Soviet Period // Europe–Asia Studies, Vol. 54, No. 4 (Jun., 2002), pp. 573– 576. 109 литературный быт ее автора, о котором, к сожалению, доселе практически ничего не было известно.152 1.1. Литкружок на заводе «Светлана» Роли наставника будущих литературных работников и составителя– летописца Вагинов разделяет со своим давним другом Николаем Корнеевичем Чуковским (1904–1965), знакомым ему еще по поэтическим штудиям в Доме искусств и гумилевской «Звучащей раковине» в начале 1920–х годов.153 Некролог в «Литературном Ленинграде», написанный Чуковским, и гораздо более поздние его мемуары были до настоящего времени единственными источниками, освещающими эту тенденциозную деятельность «маргинала» Вагинова. Приведем цитату из некролога: «Вагинов рос, интеллигентские темы стали для него слишком узки, и он пошел сначала на завод “Светлана”, потом за Нарвскую заставу — изучать жизнь и быт рабочих. Мне пришлось в течение многих месяцев вместе с ним работать над книгой “Четыре поколенья” (о Нарвской заставе). Вагинов был тогда уже очень болен и слаб. Но работал он увлеченно, изобретательно, неутомимо. Он созывал совещания старых рабочих, навещал на квартирах участников событиий 9–го января, рылся в архиве районного испарта, ходил по цехам Кр<асного> Путиловца, Кр<асного> Треугольника, завода им<ени> Молотова, зав<ода> им<ени> Кирова, по школам районов, по столовым, по яслям, собирал документы, записывал устные рассказы, чутьем и опытом тонкого стилиста отбирая все нужное и ценное. Книга “Четыре поколенья” очень многим обязана Вагинову, его пристальному взору художника».154 152 Источниковедческая и историческая часть данной главы написана с опорой на нашу публикацию, выполненную совместно с блестящим редактором, источниковедом, обладателем богатой коллекции книг, черновиков, личных вещей Вагинова А. Л. Дмитренко, которому диссертант, пользуясь случаем, выражает глубокую признательность за плодотворный совместный труд. 153 Этот факт представляется не случайным. И Чуковскому, и Вагинову была хорошо знакома семинарская творческая работа, такой вид занятия литературой не мог вызывать отторжения, а, наоборот, мог неосознанно представляться в качестве продолжения традиции «Цеха поэтов». 154 Чуковский Н. К. Тяжелая потеря // Литературный Ленинград. 1934. 30 апр. № 20. С. 3. 110 А вот что Николай Чуковский пишет в «Литературных воспоминаниях»: «В начале тридцатых годов, в жадных поисках нового материала, он, преодолевая слабость, принялся изучать тот Ленинград, с которым всегда жил рядом и который совсем не знал — ленинградские заводы. Помню, много раз ездили мы с ним вместе на завод электроламп “Светлану”. Мохнатая изморозь покрывала стекла трамвая, ползущего на Выборгскую сторону, а посреди вагона стоял Вагинов — все в той же шапке–ушанке, завязанной тесемочками под подбородком, все в том же бобриковом пальто, — держался за ремень и, глядя в книгу, читал Ариосто по–итальянски. “Светлана” был завод женский — в просторных, чистых цехах за длинными столами сидели работницы в белых халатах и складывали мельчайшие детали из стекла и металла. Все заводские организации — партком, завком — были в руках женщин, и дух мягкой женственности, девичества, царивший на заводе, чрезвычайно нравился Вагинову. Он тоже там полюбился — добротой, скромностью и столь необычной старинной учтивостью. — Славно, — сказал он мне как–то, когда мы возвращались с ним со “Светланы”. — Совсем как бывало в Смольном институте. Потом мы с ним встретились на другой совместной работе: мы оба приняли участие в составлении книги “Четыре поколения” — о рабочих Нарвской заставы. Книгу эту делали четыре ленинградских литератора: Сергей Спасский, Антон Ульянский, Вагинов и я, и то была интереснейшая, поучительнейшая работа. Мое участие в этой работе было весьма скромным, и это дает мне право сказать, то книга получилась замечательная — одна из лучших документальных книг о жизни петербургского рабочего класса с восьмидесятых годов до середины первой пятилетки».155 Апология автора КП — «несовременного романа о несовременных писателях»,156 предпринятая в некрологе, выполнена в духе времени и воспринимается сегодня исключительно как документ эпохи. Интерес Вагинова к полевой работе по сбору материала, к деятельности очеркистов–рабкоровцев вполне соотносится с типичными для него поэтическими принципами. Новый, «пролетарский» материал никак не 155 Чуковский Н. К. Константин Вагинов // Чуковский Н. Литературные воспоминания. М., 1989. 156 Б. п. [Рецензия на роман] «Козлиная песнь» // Октябрь. 1929. № 1. С. 218. С. 197. 111 разрушает представлений о характерной для Вагинова поэтике. Согласно писательской стратегии главного героя ТДС, который использует в романе «кипы мгновенных зарисовок, вырезок, выписок, услышанных в лавках фраз» (ПССП, 232), Вагинов, с исследовательским интересом героя «Гарпагонианы» Жулонбина — коллекционера всего, что имеет отношение к человеческой жизни — фиксирует черты современности, вступает в диалог с другим, малодоступным ему сознанием советского человека.157 Итак, в конце ноября 1930 года на заводе «Светлана» активизируется культурно–учебный досуг — с лозунгом «Ударники в литературу», в погоне за «действительно боевыми темпами перевода культработы лицом к производству».158 Для подготовки кадров культактива организуется семинарий при заводе. Культработу в цехах налаживают, как новое западное оборудование, организуются соцсоревнования («на лучшую постановку культработы в цеху, на большее количество участников в культработе»159), «вовлекают в ударничество» культактивы.160 На страницах заводской многотиражки публикуется следующий «наказ»: «Организовать в обеденный перерыв “литературные обеды” (рассказчики, чтение художественных произведений, беседы о литературе и прочее)».161 Здесь же объявление: 157 Ср.: «Иногда он бывал по–детски беспомощен. Однажды спросил меня умоляюще: «Скажи мне, какая разница между ЦК и ВЦИКом? Нет, мне этого никогда не понять!» — добавил он с отчаяньем» (Наппельбаум И. Памятка о поэте // Наппельбаум И. Угол отражения: Краткие встречи долгой жизни. 3–е изд. СПб., 2004. С. 47). 158 Б. п. От редакции // Светлана. 1930. 25 нояб. № 29 (125). С. 2. Заводская газета выходила с 1928 года и несколько раз меняла свое заглавие: с 1928 (№ 1. 6 нояб.) по 1929 (№ 13. 10 окт.) — «Стрела»; с 1929 (№ 14. 22 окт.) по 1951 (№ 15 (1275). 9 апр.) — «Светлана»; с 1951 (№ 1. 16 апр.) по 1955 (№ 62 (1531). 29 сент.) — «Новатор»; со следующего номера и по сей день — «Светлана». 159 Там же. 160 Там же. 161 Там же. 112 «Творческое собрание литературного отряда зав. “Светлана” cостоится 27 ноября в 3 ч. 30 мин. в редколлегии. Приглашаются т.т. Громов, Шатревка, Марголина, Моторный, Боровиков и все товарищи, желающие работать в отряде».162 27 ноября 1930 года следует считать датой начала работы литкружка под руководством Вагинова и Чуковского. Хотя фамилии руководителей кружка ни разу не упоминаются на страницах заводской газеты, деятельность самого литобъединения освещена довольно подробно. Занятия проходили регулярно, четыре раза в месяц, о чем свидетельствуют следующие объявления: «10 декабря в 3 ½ часа в редакции газеты “Светлана” состоится собрание ЛИТЕРАТУРНОГО КРУЖКА. Просьба к товарищам, записавшимся в кружок, явиться, а также редакция просит придти старых рабочих “Светланы” к тов. Серому или к тов. Лысенко по вопросу о книге истории “Светланы”. Редакция».163 «В декабре занятия литературной группы завода “Светлана” происходят 20, 25 и 30 числа. От 2 до 3 ½ для рабочих вечерней смены От 4 до 5 ½ для рабочих утренней смены. Запись в литгруппу продолжается».164 Спустя месяц после начала занятий литературная группа уже готова предоставить первый отчет о своей деятельности. В № 1 (129) за 8 января 1931 года газеты «Светлана» целый разворот отдан для «Литературной страницы № 1». Она начинается с вводной информации: «10 января открывается пленум правления Ленинградской ассоциации пролетарских писателей. Ударники, записавшиеся в литературную группу, участвуют на заседании пленума ЛАПП с правом совещательного голоса. Норма представительства: 1 от пяти. 162 Там же. Б. п. От Редакции // Светлана. 1930. 17 дек. № 30 (126). С. 4. 164 Б. п. От Редакции // Светлана. 1930. 18 дек. № 31 (127). С. 1. 163 113 Кроме того, получим некоторое количество гостевых пропусков. Пленум продлиться несколько дней. Билеты будут розданы 10–го на собрании литературной группы».165 От ЛАППа к «Светлане» был прикреплен тов. Серый. Его фамилия часто мелькает на страницах газеты, каждый раз в связи с этой организацией и с официальными постановлениями, касающимися литературной группы ударников. Стоит обратить внимание, как высока степень дискурсивной обусловленности целей и задач создания «литературной страницы». Статья «Хорошее начало» — своего рода «манифест» редакции — напечатан бок о бок с текстами рабкоров, априорен этому основному чтению, в котором (вне зависимости от конкретного содержания) явствует «дискурс власти». Приведем обширную цитату из этой статьи: «Сегодня мы печатаем первые произведения членов нашей литературной группы завода “Светлана”. Товарищи раньше никогда не писали, кроме небольших заметок в стенновки. После нескольких занятий в литгруппе, они написали то, что вы сейчас прочтете. Очень важно, чтобы каждый из вас подробно высказался о нашей первой литстранице вообще и о каждой из помещенных вещей в частности. Здесь нужно сказать вот еще о чем. Среди рабочих и работниц «Светланы» имеются такие, которые уже пишут или могут и хотят писать или когда–либо писали. Но они не знают, как идти вперед или сдвинуться с места; а заниматься в литгруппе не хотят или времени нет. Нужно будет поговорить, как наладить их писательскую работу, сообразуясь с их временем и другими всякими обстоятельствами. Для этого рекомендуется им зайти все же на одно из собраний литгруппы хотя бы 10– ого числа, где и побеседовать по этому поводу. Сегодня начинающие товарищи, только–только берущие перо в руку, вызывают на соревнование всех пишущих светлановцев. Они уверены, что и остальные ударники “Светланы” также примут участие в ликвидации прорыва на литературном фронте, в деле боевой перестройки пролетарской литературы. 165 Светлана. 1931. 8 янв. № 1 (129). С. 3. 114 Пролетарская литература должна быть активнейшей помощницей нашей партии в социалистическом наступлении, в борьбе со всеми проявлениями правого уклона, как главной опасности на сегодняшний день и примиренческого к нему отношения, со всеми проявлениями “левых” загибов и двурушничества как в теории, так и на практике».166 7 марта 1931 года публикуется детальный отчет о деятельности подопечных Вагинова и Чуковского. Приведем отчетную статью: Литературный смотр «Светланы» Чем располагает сейчас завод «Светлана» по части литературных достижений? Несмотря на то, что литературная группа «Светланы» существует около двух месяцев, у нас выявились неплохие литературные силы. Тов. Радкевич готовит книжку очерков о работе светлановской бригады по коллективизации Кингисеппского и Путиловского районов. Т.т. Красоткин, Капралов, Багреев и др. пишут очерки, освещающие производственный опыт лучших ударников «Светланы». Тов. Викторович написал пьесу об антисемитизме. Тов. Боровиков пишет воспоминания о Красной армии и о взятии ею г. Ульяновска. Тов. Иванова Л. и Суворова пишут о своей поездке на «Абхазии» вокруг Европы. Целый ряд ударных бригад по замечательному примеру передовой бригады Трясиной (из изготовительного отделения) вводят у себя дневники, в которые записываются всевозможные предложения, делятся опытом своей работы и т. д. Помимо большого интереса таких заметок для цеховой печати, через такие дневники воспитываются новые писательские кадры.167 О деятельности Вагинова и Чуковского на «Светлане» сохранились замечательные воспоминания А. А. Капралова, одного из литкружковцев. Так как целиком данный текст был опубликован совсем недавно,168 кажется, не лишним будет привести некоторые, особенно значимые его 166 Светлана. 1931. 8 янв. № 1 (129). С. 3. Светлана. 1931. 7 марта. № 7 (135). С. 4. 168 Бреслер Д. М., Дмитренко А. Л. Константин Вагинов в диалоге с пролетариатом (литкружок завода "Светлана" и работа над историей Нарвской заставы) // Русская литература. 2013. № 4. С. 222– 225. 167 115 отрывки. К примеру, достаточно показательно описание первой встречи рабочего с писателями Вагиновым и Чуковским, наполненное пиететом по отношению к владеющим и управляющим языком «наставникам» слова. «До этого писателей я видел только на картинках, обожествляя всех без разбору. Я стоял и смотрел на первых живых писателей как человек, впервые увидевший паровоз. И вот литературный кружок приступил к занятиям. Оказалось, писатели умеют говорить просто и очень понятно. Особенно полюбили кружковцы Константина Вагинова. Прекрасно зная литературу, он направлял и прозаиков, и поэтов. Учить искусству литературы нас, людей рабочих, было страшно трудно. Много труда вложил Константин Константинович в это дело. Под его присмотром мы читали и разбирали Достоевского, Пушкина, Вальтера Скотта, Гюго и друг их писателей. Наконец, мы «созрели». Написав по заданию Вагинова короткие рассказы, напечатали их в газете «Светлана». Результаты сказались немедленно по выходе газеты».169 Любопытно, что читательская судьба одного из рассказов литкружковца в некоторой степени была сходной с откликами на первый роман самого Вагинова. «Кружковец Вася Красоткин описал своего учителя — слесаря Антона Чунаса,170 любившего крепко ругнуть учеников, придав ему столько отрицательных черт, что их хватило бы на десяток отъявленных негодяев. Хотя фамилия героя была изменена, место и события могли относиться только к одному человеку. Отложив газету и сняв очки, Чунас, глядя в окно, спросил: — Осподи! За что? 169 Бреслер Д. М., Дмитренко А. Л. Константин Вагинов в диалоге с пролетариатом… С. 223. Рассказ Красоткина о Николае Чунасе «Летун» напечатан в первой же «Литературной странице», которая появилась в газете «Светлана» (1931. 8 янв. № 1 (129). С. 3). Кроме того, здесь есть статья Капралова «В заготовительном цехе: (Литературные зарисовки для книжки о “Светлане”)». Любопытно, что Капралов живописует типично «вагиновскую» коллизию читательского восприятия: так, Л. В. Пумпянский разорвал с Вагиновым все отношения после того, как узнал себя в главном герое романа КП, несмотря на то, что фамилия Пумпянского там заменена на «Тептелкин». Капралов словно проецирует эту ситуацию на случай со слесарем Чунасом, забывая за давностью лет, что фамилия Чунаса в рассказе не была изменена. 170 116 Жаловаться старик не стал. На другой день он не вышел на работу, а еще через несколько дней нам пришлось объясняться с начальником цеха. Вероятно, чувствуя себя косвенным виновником происшествия, Вагинов вместе с нами пошел домой к пострадавшему. Только благодаря ему дело было улажено». Капралов рассказывает о том, какими ожесточенными были дискуссии относительно права художника на «домысел», что есть «собирательный образ» — вранье или художественная истина. Увлекающиеся писательством рабочие неуклонно требовали «живой жизни» в литературе, и потому формальная литературная техника с трудом ими принималась. Однако именно владение навыком письма, как вспоминает Капралов, вызывало наибольшее уважение в Вагинове. «В начале 30–х годов заговорили об истории завода. Нас, кружковцев, приглашали на совещания известных писателей. История питерских заводов красочна и изобилует неиссякаемым материалом для литературы. Тут и революционное прошлое, и период восстановления, и первая пятилетка в два с половиной года. Надо было только писать. Но как писать? Это и обсуждали. Один оратор сменял другого. Отрицались старые каноны. Выдвигались новые формы. Отрицались новые формы. И так далее. Мы сидели и хлопали ушами. И снова Вагинов разъяснял нам что к чему. Новые формы становились на место, однако воспользоваться ими мы еще не могли. Мы приносили рассказы, и Вагинову приходилось раскладывать их на обе лопатки. Делал он это замечательно, без обидного превосходства, глядя прямо на тебя своими темными глазами, говорил мягко, но очень точно и остро, по–художнически. Я написал первое стихотворение, которое помню и сейчас: Товарищ мой! Судьба нас разметала, Как дворник пыль сметает с мостовой... и т. д. Опустив глаза и пряча улыбку, Константин Константинович меня похвалил и предложил писать рассказы, а также советовал почитать стихи Блока. Не ограничиваясь кружком, Вагинов приглашал нас к себе. Жил он на Театральной площади, против Консерватории. Пользуясь его добротой, я стал часто там бывать. 117 Первое посещение меня потрясло. Такое обилие книг я видел только в библиотеке. Они занимали все стены. Необычным было собрание папиросных коробок. Коробки собирал еще его отец, и Константин Константинович продолжал его дело».171 Капралов также упоминает две книги ударников завода «Светлана», литературной редакцией которых занимались преподаватели литкружка. Это дневник ударницы Лидии Ивановой, обогнувшей Европу на теплоходе «Абхазия», «Первое путешествие»172 и художественная проза Ал. Орлова – «Светлановская повесть»173. До настоящего времени сведений о Вагинове–редакторе фактически не было, поэтому нам кажется уместным совершить некоторое отступление и дать характеристику каждой из выпущенных при участии Вагинова книг рабкоров. 1.2. «Первое путешествие» и «Светлановская повесть» Как бригадир–ударница Лидия Иванова в 1930 году была премирована поездкой вокруг Европы на теплоходе «Абхазия». Именно этой поездке посвящена ее книга, которую имеет в виду Капралов. Согласно учетной карточке в отделе кадров, Лидия Андриановна Иванова проработала на заводе с 1923 по 1941 год. Ее портрет помещен в юбилейном (5 лет) номере газеты «Светлана».174 Два круиза вокруг Европы с ударниками производства на борту действительно были организованы на почтово–пассажирских теплоходах «Абхазия» (10 ноября — 7 декабря 1930 года) и «Украина» (лето 1931 года). Теплоходы одной серии, незадолго до этого отстроенные на Балтийских верфях, таким способом совершили переход в порт приписки — Одессу. Рабочие–ударники составляли значительную часть пассажиров 171 Бреслер Д. М., Дмитренко А. Л. Константин Вагинов в диалоге с пролетариатом… С. 223– 224. 172 Иванова Л. Первое путешествие. Л., 1932. 128 с. Орлов Ал. Светлановская повесть. Л., 1933. 120 с.; Стоит отметить, что по прошествии многих лет мемуарист спутал даты выхода книг из печати и точные формулировки заглавий. Ошибки, к сожалению, перекочевали в биографические статьи о Вагинове. 174 Светлана 1933. 6 нояб. № 46 (279). С. 3. 173 118 этих показательных поездок в лагерь капитализма, а информационную поддержку обеспечивали группы советских журналистов и публицистов. О рейсах было издано несколько книг, маршрут путешествия освещался в печати. В честь поездки теплохода «Украина» был выпущен специальный нагрудный знак. Через десять дней после того, как участники первого легендарного рейса вернулись в Ленинград, 18 декабря 1930 года на страницах газеты «Светлана» (№ 31 (127). С. 1) появляется статья Л. Ивановой «Наши в Европах», посвященная путешествию на теплоходе «Абхазия». Спустя три месяца сообщалось, что «тов. Иванова Л. и Суворова пишут о своей поездке на “Абхазии” вокруг Европы».175 В вышедшей вскоре книге была помещена следующая заметка «От издательства»: «Автор этой книги, Лидия Иванова, бригадир ударной бригады цеха мощных генераторных ламп завода “Светлана”, за успешную борьбу с прорывом была в 1930 году премирована заграничной поездкой на теплоходе “Абхазия”. Эта книга — дневник, ежедневная запись впечатлений. Это документ, показывающий нам современную Европу глазами одного из участников социалистической стройки».176 Дневник Ивановой о путешествии отличает добротная литературная обработка текста. Так, встречу ударников с Горьким в Неаполе предваряет экспозиция образа его «двойника» — ударника Шилина, который «очень похож на фотографию Максима Горького — такая же черная шляпа, такие же усы».177 Именно ему поручают в день отъезда из Ленинграда зачитать коллективное письмо – прощание с ленинградскими рабочими. Несмотря на прогнозируемую предвзятость описания жизни буржуазных стран, повествователь находит для каждого города яркие образы и детали, проявляет себя не только «ревизором», но и пытливым 175 <Б. п.> Литературный смотр «Светланы» // Светлана. 1931. 7 марта, № 7 (135). С. 4 Иванова Л. Первое путешествие. С. 4. 177 Там же. С. 9. 176 119 наблюдателем, впервые оказавшимся за границей. Например, в Гамбурге героиня отмечает факт безжалостной эксплуатации беременной, на сносях, женщины; описание Стамбула запоминается рассказом о посещении мечети, «муэдзин <…> так кричал, что хватало за сердце»;178 в Неаполе автор дневника встречает полицейских, фашистов, священников, поражающих «пестротой своих нарядов»: «Не на всяком маскараде можно увидеть столько странных одежд. У одних огромные шляпы со страусовыми перьями, свисающими до талии, у других — крохотные шляпки, украшенные куриным пером! На одних шаровары клетчатые, на других полосатые! Фашисты одеты еще причудливее».179 Кроме нищеты, проституции и детской преступности, Иванову поражают такие детали, как вывеска на русском языке «Петроград» в Стамбуле или автоматическое обслуживание в баре Гамбурга, где из «мраморных стен с никелированными кнопками» сами выезжают бокалы темного пива и бутерброды с сыром.180 Никаких биографических сведений об Ал. Орлове, включая расшифровку инициала, нам обнаружить не удалось. Его книга посвящена героическому процессу выполнения/перевыполнения плана, «закройке прорех и срывов», борьбе против вредительства — призыву к ударничеству и сознательности рабочего класса. В ней описана переломная эпоха в истории завода «Светлана»: в 1928 году было налажено производство продукции нового поколения — вакуумных и генераторных ламп. Старой продукции дана хлесткая образная характеристика: «Не будем больше маяться с микрушками, как мухи на липкой бумаге…».181 Производство кварцевых ламп мифологизируется: они даже могут заменить собой Солнце. Так, в книге приводится письмо 178 Иванова Л. Первое путешествие. С. 98. Там же. С. 51. 180 Там же. С. 32. 181 Орлов Ал. Светлановская повесть. С. 79. 179 120 из отдаленного аула Армении, где от «инджиниэра Зветланы» ждут «солнса, што можэт спасать нажым аул от болезней и тоже замэнайт всэх богов и наш муллу».182 Характерным жанровым признаком этого произведения являются ссылки автора на реальные события и личное в них участие. На «Литературной странице» газеты «Светлана» вскоре после выхода «Светлановской повести» печатались отрывки из нее. Редакция также планировала публичное обсуждение издания.183 1.3. «Светлана» и литература: без Вагинова Следует отметить, что активные занятия группы заканчиваются весной 1931 года. Никаких «отчетов», кроме представленных в данной статье, в газете «Светлана» напечатано не было. Отчасти это может быть связано с частой ротацией состава редакции газеты, на платформе которой и велись занятия. За весь 1932 год нет ни одного упоминания о существовании литгруппы. Очевидно, литературная работа была прервана, что и было поставлено в вину редколлегии газеты 3 февраля 1933 года в статье «Организация литгруппы — дело комсомола». Приведем ее текст полностью: Организация литгруппы — дело комсомола Наши светлановские рабочие ждут красочных описаний своих героических будней, читая которые можно было бы делать свои выводы. Они ждут от пролетарской поэзии живого поэтического слова, живых фактов, мастерски разрисованных и метко схваченных пером ударника–писателя, а «Светлана» имеет «начинающих», на которых же возложены надежды по литмастерству. 182 183 Там же. С. 81. см.: Светлана. 1933. 5 мая. № 19 (252). С. 3 121 Конференция по перевыборам редколлегии нашей заводской печатной газеты отметила это. Отсутствие литгруппы было одним из упущений старой редколлегии, теперь же она вынесла наказ новому составу. Встает вопрос, кто же будет инициатором организации литгруппы. На «Светлане» есть довольно сильные товарищи в смысле литературно–художественного мастерства. Несколько товарищей берутся организовать это дело. Что ж остается? Остается самое простое и самое главное, это учет желающих работать в группе. А отсюда, чем скорее товарищ, желающий работать, зайдет в редакцию и зарегистрируется, тем быстрее будет организована литгруппа, быстрее начнет она свою деятельность. Дело это хорошее, — комсомолия, не забывай, что организация литгруппы — одна из важнейших политических кампаний, помогай развиваться и окрепнуть этому делу, помогай укрепить ее постоянными кадрами. Поставим художественное слово на службу за овладение марксистско–ленинской теорией, будем помогать художественными произведениями, улучшать производство и перестраивать по– новому наш быт.184 Не вполне понятно, была ли в 1933 году организована литгруппа, но произведения светлановцев на страницах газеты продолжали печататься. В № 8 (295) от 21 февраля 1934 года появилось странное объявление: «Записывайтесь в литкружок. При редакции газеты “Светлана” организуется литературный кружок. Запись производится в редакции до 25 февраля». Известно, что занятия с рабочими проводил близкий друг Вагинова писатель Леонид Ильич Борисов (1897–1972). Сохранилась фотография, датированная июнем 1934 года, на которой он изображен в группе 22 кружковцев.185 В разное время кружком руководили В. М. Саянов, В. К. Кетлинская, Н. И. Грудинина. Более тридцати светлановских поэтов было представлено в сборнике стихов «Моя Светлана» (Л., 1965), составленном Грудининой и вышедшем с ее предисловием. Еще один 184 Светлана. 1933. 3 февр. № 5 (238). С. 3. Хранилась в архиве Л. И. Борисова, в настоящее время — в собрании А. Л. Дмитренко. См.: Бреслер Д., Дмитренко А. Когда на Светлану пришли писатели // Светлана: Газета акционерного общества «Светлана». 2013. 20 июня. № 5–6 (5210–5211). С. 10–11. 185 122 сборник стихотворений участников литобъединения вышел в 1989 году к столетию завода.186 1.4. «Четыре поколения» (Нарвская застава) В статье об ударниках М. Горький приводит список из двадцати шести фабрик и заводов, историю которых нужно, по его мнению, составить в первую очередь. Среди них назван и «Красный путиловец» — бывший Путиловский завод, одно из крупнейших промышленных предприятий России, находившееся за Нарвской заставой в Ленинграде.187 Однако задача, которая была поставлена авторами «Четырех поколений», гораздо шире исторического описания Путиловского завода. Почти двести информантов из числа рабочих Нарвской заставы более чем на пятистах страницах книги ведут рассказ об исходе из-под гнета и кабалы, который произошел благодаря Революции. Начиная с первой главы «Захолустье», где описан безрадостный быт рабочих, лишенных денег, здоровья, губящих себя алкоголем, стремящихся к легкой воровской наживе, читатель погружается во все перипетии жизни рабочей окраины начала XX века: сквозь Первую мировую, сквозь гапоновщину, сквозь подпольные коммунистические организации и организации Черной сотни — к Октябрьской революции, Гражданской войне и, наконец, к мирной жизни, к строительству нового общества, к просвещению. Символично название одной из последних глав: «От Ликбеза к Дворцу Культуры». Несмотря на то, что книга «Четыре поколения» не является в прямом смысле слова историей Путиловского завода,188 в ней реализованы все 186 Звонким голосом стиха. К 100–летию основания завода: Методическое пособие в помощь молодым самодеятельным литераторам объединения (из опыта работы литературного объединения «Светлана») / Предисл. В. Е. Петрова. <Л.,> 1989. В предисловии приведен ряд сведений об истории кружка, но фамилия Вагинова не упомянута. 187 «Красным путиловцем» завод назывался в 1922–1934 годах, затем — Кировский завод. 188 История Путиловского завода была написана позднее при участии одного из авторов книги «Четыре поколения» А. Г. Ульянского. Отдельные главы были напечатаны Ульянским в 1935 году на правах рукописи (Ульянский А. Г. Партийная работа в годы реакции (1907–1910): Главы из истории [Кировского] завода. [Л.,] 1935. Литогр. изд. Шифр Российской национальной библиотеки: 35–13/508), 123 основные принципы создания «историй фабрик и заводов», указанные Горьким: установка на высококвалифицированных коллективную литераторов, работу, опросы привлечение старых рабочих, отражение прошлого в свете настоящего, описание быта рабочих и рабочего движения до революции и т. д. Однако поэтические принципы «Четырех» поколений» имеют генезис в разработанном в конце 1920–х годов жанре монтажных биографий и шире — в монтажных социолого– литературных работах, ленинградским крылом поэтика которых формалистов.189 была Участники теоретизирована «литературно– бытового» семинара Б. М. Эйхенбаума, С. А. Рейсер и М. И. Аронсон сознательно выстраивают свою книгу «Литературные кружки и салоны» (1929) в жанре монтажа и во вступительной статье характеризуют выбранную ими форму. Тезисные характеристики жанра применимы и к «Четырем поколениям». Тематически оформленный интерес. «В основе монтажа большей частью лежит одно определенное лицо».190 Или, добавим от себя, в основе монтажа — один специфический объект (рабочее движение Нарвской заставы), рассмотренный в своем становлении. Отсутствие субъекта повествования. «Монтаж <…> лица не имеет: какой–нибудь исторический факт дается в нем в нескольких планах, показывается с разных сторон, в разных аспектах. Поэтому в монтаж легко входят материалы, которые не укладываются в мемуары, всякий документ — проект, протокол, устав, отзыв постороннего свидетеля–современника и т. д. Все это значительно расширяет вместительность монтажа как жанра, делает возможным самые основной же труд вышел в 1939 году (Мительман М. И., Глебов Б. Д., Ульянский А. Г. История Путиловского завода: 1789–1917. М.,; Л., 1939), а затем в сокращенном виде переиздан в 1941–м. 189 Жанр монтажных биографий был весьма популярен в 1920–е годы (см. также влияние жанра на второй роман Вагинова: Приложение I). Однако именно адепты формальной школы занимались разработкой проблемы тенденциозности данного жанра в конкретный исторический период. 190 Аронсон М. И., Рейсер С. А. Литературные кружки и салоны. СПб., 2000. С. 9. 124 разнообразные конструкции».191 В книге «Четыре поколения» присутствует серия воспоминаний «История портнихи», разделенная на несколько глав, характеризующая исторический момент после событий 1905 года сквозь призму личных переживаний девочки, вынужденной работать, чтобы прокормить себя и семью. Однако личный, интимный регистр этих глав — лишь голос в полифоническом повествовании, насыщенном и документами (к примеру, петиция рабочих к крестному ходу к царю, подготовленная Гапоном), и фольклорными вставками (частушки, городские романсы), и интервью, в котором реплики респондента перебиваются (или даже опровергаются) третьим лицом, случайно присутствующим при записи. Цитатная основа повествования. «Монтаж является только технически оригинальной формой, так как материал заранее задан».192 Составителям «Четырех поколений» принципиально важна целостность сказанного респондентом. Монтаж внутри реплики, дописывание, домысливание сказанного — исключено. Этот принцип, как видится, во многом определил выбор материала. Скажем, в рассказе, записанном Вагиновым (далее мы поговорим об этом подробно), содержится информация о революции 1905 года (детские воспоминания рабочего), однако этот эпизод не вошел в печатный текст, поскольку рассказ о принципиальном с идеологической точки зрения событии «доверен» в книге исключительно старым членам коммунистической партии. Функционирование на стыке разных жанров. «Монтаж является не только эквивалентом перестающей удовлетворять беллетристики, но и своеобразной научной формой».193 Появление «Четырех поколений» связано с популярной (в том числе и в авангардной среде: к примеру, в круге авторов Нового ЛЕФа) установкой на новую реалистичность, 191 Там же. Аронсон М. И., Рейсер С. А. Литературные кружки и салоны. С. 10. 193 Там же. 192 125 ресурсы для которой черпались, пожалуй, в большей степени в публицистике и в аналитике, нежели в художественном тексте, пусть и ориентированном на типичность и достоверность. Возникновение монтажной формы вследствие изменения рецептивной стратегии. «Пристрастие читателя к сухому тексту, четкому документу; все, что дает эту документальность или хоть ее иллюзию, является для читателя привлекательным».194 Монтажный жанр, осложненный сугубо идеологическими задачами, делает книгу «Четыре поколения» не только атрибутом новой культурной политики, но и заслуживающим внимания литературным фактом.195 Единственным достоверным источником, позволяющим оценить степень участия Вагинова в работе над книгой «Четыре поколения», являются конспекты бесед с информантами (одним или несколькими — неясно), сохранившиеся в его архиве в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки.196 Восемь страниц автографа написаны трудночитаемой скорописью: некоторые слова и даже предложения не дописаны, знаки препинания в основном отсутствуют. Бóльшая часть (с текстом, начинающимся пометой «Родился в 1899») написана на одинаковых листах формата А4, запись ведется вертикально; рассказ разделен прямыми линиями там, где разговор меняет свою тему. Начало интервью представлено на другой, более плотной бумаге; листы А4, также расположенные для пишущего вертикально, порваны (от времени?) пополам. Однако сделанная в самом начале черновика помета о «двух экземплярах» наводит на мысль, что мы имеем дело с интервью с одним и тем же информантом. Этот факт дает основания полагать, что Вагинов опрашивал одного человека, который рассказывал и о событиях 1905 года, и об отношении к черносотенцам, и путиловской школе, и в целом о 194 Там же. О некоторых маркерах данного окказионального жанра в творчестве Вагинова см. Приложение I. 196 РНБ ОР ф. 1325, ед. хр. 10. 195 126 жизни улиц заводского района. Сопоставление рукописного источника с опубликованным текстом «Четырех поколений» показывает, что только один фрагмент из интервью в литературно обработанном виде вошел в книгу. Это рассказ некого Быстрова. К нему, надо полагать, и относится помета «Родился в 1899». Некоторые детали и образные характеристики из материалов к «Четырем поколениям» Вагинов использует в черновике главы «Гроза» в романе «Гарпагониана». Действующими лицами здесь являются как «глуховатый помощник машиниста» (ПССП, 484),197 так и Трофим Павлович Клешняк, заведующий 86 школой, бывшей Путиловской — фактуальная основа соответственно из первой и второй части интервью. Однако согласиться с предположением Т. Л. Никольской и В. И. Эрля о том, что «Вагинов активно использует <…> записанные им рассказы рабочих Нарвской заставы» (ПССП, 580) для написания этой главы, кажется, невозможно. Второй источник к тексту главы — записная книжка «Семечки», указанный комментаторами, был использован Вагиновым в гораздо большей степени. Многие записи из «Семечек» дословно перенесены в текст «Грозы», тогда как из конспекта интервью взяты только некоторые детали. Однако важно отсутствие одного яркого маркера Нарвской заставы в источнике, которое наличествует в романном тексте. В конспекте бесед с Быстровым нет упоминания трактира «Стоп– сигнал», который действительно находился напротив Нарвских ворот, тогда как в главе «Гроза» читаем: «Вот здесь, где я стою, — подумал он, был раньше трактир «Стоп–сигнал», а там, где сейчас универмаг, стояли деревянные ларьки и возле них сидели торговки с горячей картошкой…» (ПССП, 474). Следы присутствия Вагинова среди авторов коллективного исторического труда едва различимы. Мемуаристы часто вспоминают о 197 В конспекте — «помощник начальника Паровозного депо Давыдов». 127 скромном поведении Вагинова в компании литераторов в 1920–е годы, на журфиксах: он был незаметен в кулуарах, хотя был частым посетителем салоном, членом многих литературных объединений. В новых литературно–бытовых условиях Вагинов не изменяет себе. Не выделяясь внешне, он вбирает специфику нового письма, перенимая незнакомую писательскую технику, связанную с этнографической, социологической (в прямом приближении — металитературной) практикой. Записная книжка «Семечки» — то техническое средство, с помощью которого модернизируется поэтика прозы Вагинова в 1930–е годы. Работа на «Светлане» и за Нарвской заставой повлияла на образность его новых прозаических текстов, однако главным следствием «общественной» нагрузки становится появление поэтического мира «Гарпагонианы». записной книжки — медиатора 128 2. «Семечки» Константина Вагинова 2.1. Творческая лаборатория писателя начала 1930–х годов Записная книжка Вагинова, тетрадь в матерчатом темно–коричневом переплете, давно доступна для литературоведов, интересующихся творчеством писателя и, казалось бы, могла быть задействована в их исследованиях. Одно из первых свидетельств о существовании «Семечек» принадлежит близкому другу Вагинова — Н. К. Чуковскому. В некрологе на смерть Вагинова им было написано следующее. «Он любил людей, любил людские сборища, любил город, любил книги. Он был по натуре коллекционер, собиратель, любил собирать все следы человеческой жизни, на чем бы они не запечатлелись, хоть на спичечных коробках, хоть на конфетных бумажках. У него была толстая тетрадь, которую он называл “Семечки”. В нее он записывал все характерное, смешное и странное, что узнавал о людях».198 С середины 1960–х годов тетрадь находилась у Л. Н. Черткова и Т. Л. Никольской, которым была подарена А. И. Вагиновой, в 2012 году перешла в другое частное собрание. В ПССП с некоторыми купюрами даны только первые десять листов, что составляет не более десяти процентов от общего объема тетради, а весь аналитический комментарий сводится к крохотной преамбуле. Главная причина пренебрежения полным текстом сформулирована комментаторами, Т. Л. Никольской и В. И. Эрлем: «В “Семечках” нет ни размышлений писателя о своем творчестве, ни впечатлений о событиях культурной жизни, ни характеристик известных общественных или 198 Чуковский Н. К. Тяжелая потеря. С. 3. 129 литературных деятелей. Крайне редко встречаются выписки из книг, анекдоты литературного быта». (ПССП, 583) Действительно, здесь не подразумевается интимный имплицитный читатель, доверительный человек, посвященный в самое сокровенное для поэта; нет ни разоблачительных, смелых суждений о литературном сегодня, которые невозможно высказать вслух; нет даже банального счета из прачечной. С другой стороны, лишенные сюжетной событийности, минимальной повествовательной связности «случаи» (анекдоты, описательные фрагменты, сюжетные наброски) едва ли образуют собой цельную, герметичную эстетическую единицу. «Семечки» в этом смысле нельзя легитимировать авангардных проектов даже (в в прозаической первую очередь, парадигме группы поздних ОБЭРИУ). Комментаторы так определяют объект своего описания: «”Семечки”, по– видимому, задумывались Вагиновым как свод раннее сделанных записей (некоторые записи датированы 1922 и 1924 годами)» (ПССП, 583). С этим утверждением мы не можем согласиться. Безусловно, перед нами не хроника жизни «внешнего человека» (ср. тетради Л. Я. Гинзбург, подробнее о которых речь пойдет позднее), но живая, актуальная для автора лаборатория художественного слова, или, рискнем предположить, поэтики письма, связанного с литературными запросами времени — эксперимент, инициированный и реализованный в начале 30–х годов. Первоначально тетрадь предназначалась для занятий греческим языком: на первых 37–ми листах рукой Вагинова выписаны фрагменты из произведений Лонга, Аристенета, Алкея и ряда других авторов; далее следуют выписанные из текста греческие слова и их словарные значения, а также литературные переводы текстов, Вагиновым, но и его учителем А. Н. Егуновым. выполненные не только 130 Греческая часть,199 судя по всему, заполнена задолго до начала записной книжки «Семечки». Есть признаки того, что переводчик (Вагинов) только начинает обучаться классическому языку (первые листы тетради похожи на «прописи» для отработки греческой графики), что указывает на последнюю четверть 1920–х годов, время близкого знакомства Вагинова с кругом АБДЕМа.200 Собственно, тот объем текста, что мы называем записной книжкой, следует после греческих штудий с отступом в страницу, и начинается заглавием «Семечки (Зерна)». Метонимическая соотнесенность с классическим контекстом, кажется, разрешает проблему тавтологичного употребления синонимичных слов в заглавии. К примеру, латинско– русский словарь Lingvo на слово granum даёт варианты: зерно, зёрнышко, семечко (tritĭci Pl; sināpis Eccl); крупинка (salis PM), но в латыни есть и слово semen — «семя». Отличие греческого в том, что в нём, по– видимому, слово σπέρμα (от глагола σπείρω «сею», буквально «посеянное», то же соотношение, что у русского се–ять/се–мя) является основным соответствием для русского семя/зерно (и для латинского granum/semen).201 Греческое слово имеет переносные значения. Одно из них отмечено именно для множественного числа — σπέρματα, которое у Анаксагора и Эпикура применяется в значении στοιχεîα — elements, стихии (в античном смысле), первоэлементы мира.202 Возможно, поэтому и у Вагинова лексемы стоят во множественном числе. При этом «мир», в создании которого участвуют данные «стихии» — это художественный мир прозы автора записных книжек. Стоит отметить стилистическое несоответствие двух лексем, составляющих заглавие. С одной стороны, 199 Автор диссертации благодарен Георгию Анатольевичу Молькову, которому принадлежат все приводимые в тексте лингвистические наблюдения, касающиеся классических языков. 200 Коллективный псевдоним группы переводчиков, существовавшей в 1920–е годы. Группа включала А. В. Болдырева, А. И. Доватура, А. Н. Егунова, А. М. Миханкова и Э. Э. Визеля. 201 Ср. перевод в англо–греческом словаре: grain «зерно» — σπέρμα, τό. См. : English–Greek dictionary: A vocabulary of the Attic lang /Comp. by S. C. Woodhouse. – [Repr.]. — London, New York: Routledge, 2002. P. 369. 202 A Greek–Englısh Lexıcon, by H. G. Liddell & R. Scott, augmented by sir H. S. Jones, Oxford, 1996. P. 1626. 131 уменьшительный суффикс первой («Семечки»), кажется, необходим для создания эффекта оксюморонной двойственности, сочленения «высокого» и «низкого» в одной формуле («лузгать семечки» vs. «живительное семя»), что вполне соотносится с традицией вагиновских заглавий.203 С другой — суффикс раскрывает содержательные особенности основной части записей (маргинальное речеупотребление, скабрезные истории и т.п.), что фактически овеществляет известную метафору Анны Ахматовой «Сердитый окрик, дегтя запах свежий, // Таинственная плесень на стене...». Таким образом, учитывая явные античные коннотации, «Семечки» следует читать как «каталог первоэлементов», выявленных и сознательно отобранных Вагиновым для создания художественного целого.204 «Семечки», по–видимому, начаты в конце осени 1932 года. На третьем листе с локальным маркером «Сухум» переписана театральная афиша — анонс премьеры, назначенной на 22–23 ноября. Нами установлена точная дата премьеры оперы «Нитуш», анонс которой заинтересовал Вагинова — 22–23 ноября 1932 года.205 Запись в «Семечках» воспроизводит афишное членение на строки. Пребывание Вагинова в Сухуме в конце ноября 1932 года подтверждается с помощью письма–открытки, которую он отправляет Н. К. Чуковскому, подписав дату 30.11.32.206 203 О заглавиях к романам Вагинова (КП и, в особенности, ТДС) см. приложение I. Отдельного внимания требует изучение фактов литературы, повлиявших на решение вести «Семечки». Один такой прецедент принадлежит к излюбленной Вагиновым эпохе второй софистики, что также подсказано «классическими штудиями». Это «Аттические ночи» Авла Геллия. О влиянии данного текста на творчество Вагинова 1920–х годов см.: Сегал Д. М. Константин Вагинов и античность // Античность и культура Серебряного века: К 85–летию А. А. Тахо–Годи. М.: Наука, 2010. С. 400. 205 «Гостеатр Абхазии / Гастроли музкомедии / 21 ноября Джонсон / ГЕЙША / Музкомедия в 3– х действиях / 22, 23 ноября Гэрве / НИТУШ / В 3–х действ. 4–х карт.» см.: СА: Советская Абхазия. 1932. № 268 (3413) (21 ноября, пон.). 206 В тексте письма Вагинов допустил описку — 30.11.31. Установить точную дату корреспонденции удалось по входящему штемпелю в Ленинграде. Письма Вагинова Н. К. Чуковскому готовятся к публикации (сохранились в частном архиве Д. Н. Чуковского). 204 132 Для того чтобы убедится в ложности утверждения об анахроничности или вторичности записей в «Семечках», достаточно бегло оглядеть содержание тетради. В записной книжке есть группа записей, которые условно можно озаглавить интересуется как «Словарь языком, на просторечной/блатной котором говорит речи». Вагинов городская окраина (Пушкинская, Лиговка, Холмуши, Рижский (пр. Огородникова) и т.д.), его увлекает речь псковской шпаны, которую он записывает с учетом фонетических особенностей. Этот тип записей можно считать наиболее подготовленным, однако и они часто дополняются карандашными вставками, сделанными позже. Есть также единичные повторы даже в пределах одного листа, свидетельствующие больше о спешной записи живой речи информанта, нежели о спокойной домашней выверке. Так, в пределах десяти первых листов, мы можем дважды читать следующие дефиниции лексики арго: «Бан — вокзал Медуза — вор городушник по кооперативам Пол–Литра — Пал Митрич Пойду газ держать — пойду пьянствовать. Бочата — часы».207 Один раз Вагинов делает запись вверх ногами. Это описание городского праздника, по–видимому, годовщины Октябрьской революции 1933 года.208 207 При публикации Т. Л. Никольской и В. И. Эрля все эти повторы были опущены. Здесь и далее «Семечки» цитируются по автографу. 208 Ср. с описанием городского праздника 1933 года, приведенном в Вечерней красной газете под заголовком «Огни над Невой»: «Высоко в небо уходит тонкий электрический столб с пятиугольной звездой наверху. Звезда приходится как раз на уровне низких облаков. Какой же это новый шпиль объявился в городе? Люди теряются в догадках… пока шаловливый луч неосторожного прожектора не вырывает из темноты поднебесья громоздкую тушу “колбасы”, поднявшую светящуюся большевистскую звезду так высоко, куда не забирался еще ни один чугунный ангел!» На черной полке крепостных стен внезапно загораются большие красные цифры “1917–16– 1933”». См.: Евгеньев Т. «Огни над Невой» // Вечерняя красная газета. 1933. № 258 (4038), (10 ноября, пятн.). С. 2. 133 «На ангеле была прикреплена гроздь цветных шариков, они закрывали ангела, нежно розовые, бледно зеленые, красные. С невидимого дирижабля была спущена до самой земли цепь лампочек — наверху она заканчивалась звездой, в ней серп и молот. Было впечатление огненной черты. Красноармейцы стреляли из револьверов разноцветными ракетами — шары, кометы с хвостом. Между колонн появилась маленькая, цвета пламени звезда. Она на глазах росла, разрасталась в огромную и сразу гасла. Прожекторы перекрещивали свои лучи, получилась дата годовщины». Динамика фиксации впечатления очевидна, даже если предположить, что автор только лишь наскоро переписывает или пересказывает газетную колонку. Таким образом, говорить о тотальном характере сделанности «Семечек» не приходится. «Семечки» заполнялись, видимо, в течение года. Нет ни одного темпорального маркера, нарушающего или же инверсирующего привычный циклический круговорот времени. Приведем некоторые примеры помет и впечатлений: «”Весна” “Перед 1–ым маем” — Расцветает черемуха — черемуховый ход Расцветает рябина — рябиновый ход. Чере’мушник — лещ белый, чистый Рябинник — чешуя вроде прыщиков, крапинок. Сам красный. — — В жаркую погоду налим вялый. <Приведенный нами отрывок о годовщине Октябрьской революции. — Д. Б.> Мороз по колено Дамский день [8 марта]» 134 Упоминания о реальном времени редки, не обязательны. Мы не можем утверждать, что период ведения «Семечек» равняется годовому циклу (или чуть превышает его), но в распределении темпоральных маркеров нет хронологических противоречий. В доказательство ретроспективного характера ведения «Семечек», Т. Л. Никольская и В. И. Эрль приводят записи, датированные 1922 и 1924 годом. Однако эти датировки сопровождают абсолютно вневременные, весьма возможно, вымышленные Вагиновым сюжетные и образные зарисовки. Так, 1922 годом помечена, к примеру, следующая запись: «Костя Ротиков зарабатывал деньги своими рисунками к биологическим книгам по биологии и физиологии. Он брал за сперматозоида по 75 коп., за совокупляющихся стрекоз по 4 р. 50 коп. Стрекозы задами совокуплялись, держали в лапках комарика и совместно ели». Упоминание Кости Ротикова, собирателя безвкусицы из романа КП, часть действия которого действительно происходит в 1921–1922 годах, может свидетельствовать о неувядающем интересе автора к своим героям, к отдельным чертам их образов, о помещении их в новую среду, в новую «книгу» — нежели о датировке данной записи 1922 годом. Записную книжку формируют компактные, часто не более чем на несколько строк, записи, отделенные друг от друга короткой прямой линией, выписки из прочитанной литературы, упоминания топонимов, отсылающих к родному для писателя Ленинграду, Ленинградской области, к южным курортам СССР (где Вагинов проходил лечение от туберкулеза) и т.д. Подписанные цитаты из литературных источников малоизвестны. Круг чтения, выявляемый с помощью «Семечек», случаен и кажется даже нарочито маргинальным — использование таких цитат 135 Вагиновым оправданно только в рамках некой внешней по отношению к ним поэтики (литература для творчества). По нашему мнению, ведение записной книжки связано с участием Вагинова в создании книги «Четыре поколения (Нарвская застава)» — истории рабочего движения в одном из пролетарских районов за Нарвской заставой. Текст «Четырех поколений» был сдан в набор 19 октября 1932 года. На титульном листе уже готовой книги уточняется роль каждого из соавторов. Вагинов, как отмечается, принимал участие в сборе материала. Что значит сбор материала? Мы постараемся подробнее остановится на анализе текста черновика интервью, взятого Вагиновым у Быстрова. Интервьюируемый свидетельствует о дореволюционном быте Нарвской заставы, о нелегкой жизни учеников трехклассной Путиловской школы: «1. Где ныне сад 9 января по улице Стачек, в 1904 году был штаб Григория Гапона. При этом доме устраивались част<о> Собр<ания> р<або>чих, которые разделяли точку зрения Гапона, в этом же здании было организовано Гапоном детск<ое> уч<или>ще. Андрей Александров, ярый гапонов<ец> с двумя точками зрения: «Если поп организует общество, то поп раскрывает рабочему глаза, значит это человек справедливый». Для детей школы устраивали вечера и концерты, пели песенки, рассказывали рассказики. 2. После произв<еденных> залпов шествие стало рассыпаться по прилег<ающим> улицам, здесь продолжили работу казаки и др. Из рабочих Нарвск<ой> заставы, оставш<ихся> живыми, удалось немногим проникнуть в центр города. У Нарв<ских> ворот исч<ислялось> убитым<и> и ранен<ыми> не одна тысяча. Дети от выстрелов прятались. Доставка газет отцу по праздникам. Насаливали пятки и бежали домой».209 В «Четырех поколениях» отсутствует эксплицитная речь создателей книги. Они выступают лишь как монтажеры свидетельств, суждений, 209 Бреслер Д. М., Дмитренко А. Л. Константин Вагинов в диалоге с пролетариатом (литкружок завода "Светлана" и работа над историей Нарвской заставы). С. 212–234. 136 воспоминаний более чем двухсот коммунистов, ударников, высших заводских чинов и чернорабочих, коренных жителей Петербурга– Ленинграда и недавно ассимилировавших крестьян. Установка на живое слово реальных свидетелей истории поддерживается комментарием «из первых уст» художников и архитекторов, внесших символический вклад для знаковых строительство преобразований фабрики–кухни или советского же Дома времени (например, культуры). Вагинов предполагал на некоторое время буквально поселиться на рабочей окраине, записывать, выявлять, разговаривать и записывать на бумагу весьма дробный, часто несвязный (как это видно даже из представленного примера) поток воспоминаний информанта. Как показывает сравнение конспекта Вагинова и опубликованного в книге интервью Быстрова, редакторская работа минимальна, она не затрагивает смысла текста. Об этом позволяет судить сохранившийся конспект интервью, который практически без изменений вошел в конечный текст. Таким образом, Вагинов отвечает за трансляцию чужого слова, но он не занимается конечной его эстетизацией, права на которую оставлены редакторам– составителям и «организатору книги». Последние не только заняты склеиванием реплик–слайдов, но и осуществляют селекцию информантов для освещения каждой конкретной темы. Так, воспоминания Быстрова об одном из узловых событий в книге (1905 год, ход к царю, организованный Гапоном) не задействованы не только по причине их фрагментарности и бессвязности, но во многом потому, что Быстров лишен идеологической компетенции. О «Кровавом воскресенье» дано право говорить только старым членам партии большевиков, проверенным коммунистам. Пользуясь бахтинской терминологией, Вагинов принимает вынужденную авторскую позицию, лишенную авторитарного признака вненаходимости.210 Поиски письма, освобожденного от власти демиурга– 210 Полемика с основными положениями работы М. М. Бахтина «Автор в эстетической деятельности» присутствует еще в романе «Труды и дни Свистонова» (1929), в котором Вагинов показал 137 создателя, могли увенчаться успехом в процессе работы над коллективным историческим трудом, а позже заострить внимание писателя–авангардиста на повествовательной фигуре «рабкора», чистого транслятора. В ведении записной книжки «Семечки» Вагинов, как нам кажется, ищет реализацию полученного опыта «фактографии» уже на привычном для собственного идиостиля материале. Дадим цитату из записной книжки: «У нас в цеху люди были, друг другу хвосты вешали из пакли или тряпья, как хлястик. Приходит инженер — повесили ему хвост из пакли. Он ходил, ходил по цеху, с моторами новыми возился, потом к директору в кабинет идет на техническое совещание. Все там как заметили. Заводуправление мастеру на вид поставило, за то, что непорядок в цехе». Помимо приведенного примера в «Семечках» присутствует большое количество записей, связанных с Нарвской заставой, Путиловским заводом, в том числе зафиксированных в форме прямой речи. Следует отнести эти записи к попутно полученным материалам в ходе составления «Четырех поколений». Жанр записной книжки, в условиях которого конечная эстетизация крайне проблематична, становится для Вагинова своего рода творческой лабораторией, действующей ареной поэтических штудий, на которой Вагинов изучает современный ему дискурс — занятие не менее важное и увлекательное, нежели переводы с древнегреческого. В начале 1930–х годов поэт Н. С. Тихонов, раскрывая технологию творческого процесса, называет необходимой такую стадию работы над текстом как фиксация творческих замыслов и идей в дежурной записной книжке, в «складе консервированных впечатлений».211 «Записная книжка обязательна для меня. Она совершенно не стареет. Я пользовался в 1928 г. последовательное разрушение художественного мира романа всевластным автором (см.: Сандомирская И. Блокада в слове: Очерки критической теории и биополитики языка. М., 2013. С. 111–172). 211 Тихонов Н. С. Как я работаю // Литературная учеба. 1931. № 5. С. 99. 138 записями, сделанными в 1918 г., и ничего — все в порядке».212 В случае с Тихоновым, который разбирает в приведенном отрывке свою раннюю поэму «Лицом к лицу» (1924), использование записных книжек — свидетельство единой линии развития его творческого метода. В ином случае, возникшая вдруг потребность вести записную книжку может сигнализировать о поиске новых поэтических принципов, новом повороте эволюции творчества писателя. Вагинов, повторим, начал вести «Семечки» с осени 1932 года, примерно за полтора года до смерти. Можно предположить, что подобная организация творческого процесса была для него уникальной. Появление «Семечек» совпадает с изменениями поэтики прозы Вагинова, которые будут выявлен в последнем его романе «Гарпагониана» в последующих разделах диссертации. Сейчас же необходимо охарактеризовать значимость записи «прямой речи» реальных информантов, освобожденной от тотального авторского контроля. 2.2. Прагматика ведения записной книжки Самоценность вовлечения рабочих материалов в эстетическое целое проблематизировалась литературной критикой начала 30–х годов XX века. Л. Я. Гинзбург концептуализирует такой «промежуточный» жанр, как записная книжка писателя. Выступая в роли теоретика жанра, исследователь публикует и интерпретирует «Старые записные книжки» П. А. Вяземского (Л., 1929). В этом же жанре Л. Я. Гинзбург выступает как практик — ее собственный писательский «ежедневник» ведется с начала 1920–х годов. Некоторые отрывки зачитываются на дружеских сходках, в литературных «салонах» Ленинграда. Записные книжки Гинзбург печатно оформятся только в конце ее творческой биографии, но и в истории 212 Там же. С. 100. 139 ранней советской литературы она навсегда — «человек за письменным столом».213 В рамках литературной ситуации конца 1920 — начала 1930–х годов выбранный Гинзбург жанр, с одной стороны, встраивается в контекст «монтажной» литературы (для которой характерно орнаментальное повествование, прерывность сюжета, стилевое разнообразие и т.д.). С другой же, актуализация литературного высказывания «внутреннего пользования» характерно в контексте экспансии художественности по отношению к литературной периферии — журнальной смеси, «салонным» roman á clef — вплоть художественности сосредоточившихся до полного представителями на публицистическом изживания этой «литературы письме. Обе самой факта», тенденции присутствуют и в исторических, биографических, репортажных текстах, написанием которых занимался Вагинов в 1930–е. Любопытно, что для Гинзбург характерное металитературное письмо являлось способом выражения и исследовательских, и творческих интенций. Собственную выборку из весьма объемных записей Вяземского Гинзбург характеризовала так: Внутри каждого из этих жанровых образований <имеются в виду отдельные фрагменты. — Д. Б.> Вяземский даже традиционен. Но это никак нельзя сказать о принципе чередования отдельных фрагментов. Этот принцип по существу отрицательный. Вяземский как бы уничтожает все возможные мотивировки сосуществования фрагментов. В “Старой записной книжке” отсутствует и свойственная дневнику централизация материала, который стягивается и управляется личностью пишущего, и свойственная мемуарам хронологическая связь. В ней нет ни жанрового единства сборников анекдотов и изречений, ни тематического единства философских фрагментов. Из всех возможных мотивировок остается мотивировка заглавием. Записная книжка и есть форма ничем не предопределенного совмещения материала. 213 Именно такое заглавие имеет том воспоминаний, эссе и повествовательных текстов Л Я Гинзбург. См.: Гинзбург Л. Я. Человек за письменным столом. М., 1989. 140 <…> Таким образом, этот гипотетический эксперимент выдает нам основной признак построения, который и оказывается отрицательным признаком немотивированного и умышленно непоследовательного подбора записей.214 Не обеспеченные никакой крупной повествовательной моделью, осколки разрозненных литературных и бытовых наблюдений собираются в целое только благодаря жанровой рамке записной книжки. Вбирая в себя монтажный «дух времени», автор может считаться «типичным» выразителем эпохи. Между этой замкнутой сферой душевной деятельности и писательской работой Вяземского было прервано сообщение. Впрочем, в “Записной книжке” Вяземский демонстрирует себя читателю, не только в качестве частного — а тем более внутреннего — человека, но в качестве деятеля. Свою внешнюю биографию, историю писателя и гражданина, имевшую, по его мнению, общезначимый интерес, он тщательно фиксировал и документировал. <…> “Старая записная книжка” и была выражением того внешнего человека, каким Вяземский являлся в обществе <…>.215 Эволюция литературных форм выражения человеческой психологии приходит к большей овнешненности и фрагментарности. В таком повествовании о повседневной жизни работают приемы остранения (психологизм «видится», а не «узнается» (Шкловский)) и парадокса (видимое несоответствие выражением). С между помощью этих реальным приемов переживанием и возможно только не его зафиксировать переживание, указать на него, но и вовлечь читателя в ситуацию сопереживания герою во время прочтения. Авторское сознание как объект описания выражен прагматически только в полном объеме текста. Описательные фрагменты, кусочки «разорванной литературной 214 Гинзбург Л. Я. Работы довоенного времени: Статьи. Рецензии. Монография. СПб., 2007. С. 215 Там же. С. 187. 185. 141 личности» Гинзбург, «внешние, не интроспективные наблюдения над социально–психологическим опытом обобщались в абстрагированных от конкретных биографий и ситуаций формулах».216 Приведем пример, характеризующий стратегию литературного письма самой Гинзбург: «Человек рассказывает о том, как в 20–ом году у него умер пятилетний сын от дизентерии; как он ушел из больницы, уверенный в том, что ребенку лучше, вернулся на другой день и застал агонию. “Так он при мне и умер,” — говорит отец, и эту последнюю фразу вдруг произносит, улыбаясь, как бы над странным случаем. Я подумала о нелепости этой улыбки и о ее логичности. Вероятно, улыбка была единственным способом произнести такую страшную фразу. Может быть, она была актом вежливости по отношению к собеседнику».217 Немотивированное с точки зрения обыденной логики действие героя (улыбка вместо слез) трактуется как залог удачной коммуникации между рассказчиком и слушателем. Так же, выходя на абстрактный уровень коммуникации «автор–читатель», специально немотивированное переключение повествования с одного на другой жизненный сюжет, по замыслу Гинзбург, должно было совпадать с миметической конвенцией «нового» реализма, адекватного современному историко–литературному процессу. Ведение записной книжки как творческий эксперимент над формой прозаического повествования и нарративной коммуникации — интенция, характерная и для Вагинова. Pendant к цитате из Записной книжки Гинзбург, предложим фрагмент из «Семечек». «— …Станция Уфа, от Уфы село Ломпало, Таш–Баш, татарская деревня. По взятии села Ломпало мы встретили картину такую: были три женщины привязаны к шести деревьям, то есть за ноги, и разорваны. За то, что они скрывали красноармейцев. … 216 Савицкий С. А. Частный человек: Л. Я. Гинзбург в конце 1920–х — начале 1930–х годов. СПб.. 2013. С. 45. 217 Гинзбург Л. Я. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. СПб., 2002. С. 59. 142 Мы в лесу нашли еще четырех. У двоих из спины вырезали четыре ремня и, один был, так сказать, изувечен, отрезаны уши, нос и пальцы — а у четвертого были, видите, изломаны кости и весь иссечен шомполами». <Подчеркнуто нами. — Д. Б.> Казалось бы, в этом фрагменте нет ничего, что связывало бы его с идеями Гинзбург «разорванной о (де)конструировании литературной личности». субъекта Ужас высказывания, войны передан натуралистскими экспрессивными образами и в чужом слове, однако в передаче изображения есть остраняющий элемент — речь говорящего, обилующая штампами официального стиля («по взятии», «встретили картину»), неоправданной разговорной парцелляцией («…и разорваны. За то, что…»), наивной и в какой–то степени «парадоксальной» вводной конструкцией («так сказать, изувечен», «видите, изломаны кости»). По нашему мнению, в «Семечках» Вагинов ставит эксперименты с риторическим уровнем повествования, находя дополнительные изобразительные возможности в зарождающемся коммуникативном каноне советского времени. Если Гинзбург выступает в роли социального антрополога от литературы, складывая образ современного ей человека, то Вагинова можно назвать социальным лингвистом, исследующим речь советского человека. Языковая природа творческого эксперимента Вагинова, по существу, развивает авангардное отношение к языку как тому, из чего творится реальность (creation ex lingua). Согласно В. В. Фещенко, семиологическое отношение языка и мира в творческих экспериментах русского авангарда претерпевает следующие изменения: «Если у А. Белого слово творит воображаемый “третий мир” символов, а у В. Хлебникова преобразование языка нацелено на преобразование реального мира, то в наиболее радикальном изводе авангардного языкотворчества — в поэзии и философии “чинарей” — язык уже осознается как препятствие в познании мира, а следовательно, ставятся под сомнения творческие потенции языка. Творческий акт теперь заключается 143 как бы в “рас–творени” языка, в сдерживании его энергийного механизма, в “борьбе со смыслом” и в “поэтической критике разума”».218 В «Семечках» зафиксирован готовый, но чуждый для Вагинова язык, который не подвергается семантическому или синтагматическому (пере– )структурированию. Однако Вагинов работает с прагматической стороной знака, высвечивая функциональный арсенал непрепарированной речи в ее письменной фиксации. При этом в записях имеются примеры, внешне похожие на предшествующие языковые эксперименты русского авангарда, однако каждый раз они осложнены различным прагматическим значением. Так, внимание к фонетическому устройству слов обусловлено жаргонно–диалектной лексикой псковщины: «Вместо ч — ц, вместо ц — ч Цай — чай Черковь — церковь» В другом случае Вагинова привлекает аллитерация в речи «информанта»: «Под Новгородом столько грибов — хоть косой коси». Ошибки наборщиков провинциальных издательств можно воспринимать как «словотворчество» на уровне морфологии: «Вместо — Белоусов — Белоусоб» Или: «Чем отличалась старина 218 Фещенко В. В. Лаборатория логоса: Языковой эксперимент в авангардном творчестве. М., 2009. С. 276. 144 Умом та блажь поражена Реальный взгляд на вещи стал Кузмир наш главный — капитал!»219 Окказиональное словоупотребление («щели кабинетов») порождает неожиданные семантические сдвиги на грани «бессмыслицы»: «Мы многое видали в щели кабинетов». Или же, «бессмыслица» при разрыве фразы советским дискурсивным клише «перескочить на сторону»: «В угаре он перескочил на другую сторону лошади». Подобных примеров множество. Дополнительные (возможные) смыслы, возникающие при тех или иных прагматических «сдвигах», осложняются самой ситуацией ведения записной книжки писателя, в которую помещается чужая «живая» речь. Этап «словесно–ритмического» (Белый), «языкотворческого» (Введенский)220 экспериментов (Хлебников), сменяет «семантического» прагматический языковой эксперимент, в которых фактура слова остается не тронутой, чтобы тем сильнее подчеркнуть изменения, происходящие с целым высказывания при его деконстекстуализации. В поисках адекватного языка описания современной ему действительности Вагинов пользуется не столько языковыми (в смысле langue), сколько дискурсивными средствами (в смысле parole). Материал записной книжки Вагинова можно разделить, по крайней мере, на три основных типа записей: 1) словник (часто маргинальной) 219 Приведенные примеры были выписаны Вагиновым из небольшого тома стихотворений «Каждый для себя и немногих», изданного на общие средства авторов (Самара, 1885). Опечатки были обнаружены соответственно на с. 6 и с. 77. 220 Фещенко В. В. Лаборатория логоса. С. 241. 145 лексики и спонтанная речь городских окраин, 2) цитаты из литературных текстов (всегда подписанные и, по нашему наблюдению, точные) и 3) сюжетные зарисовки, вымышленные Вагиновым ситуации. Первый тип является основным, превалирующим над другими записями. «Семечки» ориентированы на фиксацию живой речи, которая может быть подвергнута лексикологическому анализу (так Вагинов составляет некоторое подобие словаря «блатной музыки»), или же попросту транскрибирована — отдельное высказывание, диалог, невольная сюжетная ситуация целиком переносится в тетрадь. Цитатный тип записей и явно вымышленные сюжетные зарисовки либо коррелируют с советским (маргинальным) дискурсом в целом, либо являются прямыми вариациями на тему предшествующих «репортажных» записей. Обозначим некоторые особенности композиционного построения текста «Семечек». Так, в «Семечках» фиксируется характерное взаиморасположение записей в тетради: левую сторону листа Вагинов исписывает блатными, просторечными, диалектными словами, давая каждому определение, а в правой — короткие случаи, сценки, диалоги, характеристики, услышанные во время той или иной прогулки. В такой группировке материала заложена динамика его накопления. Иногда возможно проследить, как автор записей гуляет вдоль Обводного канала, по Петроградской стороне или же в южном городе (Ялта, Сухум), как он внимателен ко всему, что находится вокруг него и многое записывает в тетрадочку. Прослеживается генетическая зависимость правой части от левой — сюжетиков от словаря. Автор сперва усваивает чужую для себя лексику, а затем использует ее для своих заметок. Такая шаговая последовательность выявляется далеко не всегда, однако присутствует постоянное стремление остранить факты и впечатления при переносе их в тетрадь. 146 При этом фактографичность записей на листе может впоследствии не соблюдаться. Установка на полевой сбор материала обеспечивает эффект спонтанности, когда дефиниции уже не фиксируют разговорную речь, а в сюжетах принимают участие герои из романов Вагинова — любители кулинарных изысков Торопуло и Пуншевич. В пределах текста видна работа по структурированию записей. Вагинов отбирает и повторно записывает некоторые находки. Так, к примеру, заполняется лист, озаглавленный «Детское Село»: «Закричал вальцовщик: Жми гармонь! Девки близко! – Пошла она фраера ловить. – — Пойду газ держать! = пойду пьянствовать – — Ему нравится веселая опера Кармен – Маркер в русских сапогах — “сапожок”. – 147 — Я жду вот такую кукулку! — воскликнула некрасивая женщина в оранжевом колпаке, — увидев на руках у женщины очаровательного ребенка. – Говорят, что млечный путь и каракатицы какие–нибудь летают. — Может быть заблуждаются? — Может быть. – Ты, как Азеф, и царь батьке и центральному комитету социал демократов и большевикам. – Стал сатанить – — Я тебя, как Чемберлена, поставлю в тупик». Все эти фрагменты, кроме «Маркера» и «Я жду вот такую кукулку», ранее уже были помещены в записную книжку. В этом случае локальный маркер становится структурообразующей единицей. Вагинов отмечает, где именно были услышаны (или додуманы) случаи и зарисовки, и, видимо, при повторном посещении Детского Села он дополняет записи свежими впечатлениями и находками. В контексте вагиновского творчества показательна представленная в «Семечках» реакция на переименования топонимов. Если в его первом романе КП повествование предваряется рассуждением о двух номинациях центральной улицы Петербурга, в каждой из которых — Невский проспект и проспект 25–го Октября — заключен культурный миф, метафора сменяющих друг друга цивилизаций; то в «Семечках» отражено бытование окказиональных наименований. Выражается не противостояние двух семантических и культурных миров, закрепленных лексически, а новая прагматика речевого Петербурга–Ленинграда. «Переименование улиц: Трипперштрассе — Лиговка. оформления городского пространства 148 Памятник А<лександру> III — сват, тесть». или «На лиговском арго памятник А<лександру> III — тесть». Характерная для вагиновской мотивики антиномия миров прошлого и настоящего находит выражение в «Семечках», но опять же на противопоставлении контекстов спонтанных бытовых зарисовок и цитат из античной классики (т.е. реального и фикционального) — на структурном (записи следуют последовательно) и тематическом (в данном случае, тема достатка и устройства быта) уровнях. «Дети, ложась, улыбаются — говорят: завтра в два часа будем обедать. Детишки — кровь с молоком, родители еле ходят. – Девочка над другой издеваясь: Мы уже керосин получили, а вы еще стоите. Лицо у девочки противное, пожившей женщины. <…> Она чихнет, а он в самое ушко — будьте здоровы. Вид у него при этом амура. – Женщины любят изюм, шелковые подушки и байковые одеяла – <…> В. П. вывесил плакат в уборной: “Не сиди долго — думай об ожидающем в коридоре”. “Граждане, не засиживайтесь — думайте об ожидающем вашего выхода в коридоре”. За неимением бумаги, кто–то употребил этот плакат». Далее следуют цитаты из античной литературы, которые даны с пометами «Рим»: «На столе его (Карины) часто было до ста фунтов птиц, и также до ста фунтов рыбы, до тысячи фунтов мяса: … Залы и спальни устилал Медиоланскими розами. 149 Флавий Вописк “О Карине” <…> (Аврелиан)… позволил также знатным и благородным женщинам носить пурпурного цвета платья: а прежде сего употреблялись разноцветные, или по крайней мере цветом похожее на драгоценный камень, называемый опал. Фл. Вописк “О блаж. Аврелии” <…> … И сие позорище следующим образом происходило. Большие дерева, вырванные чрез войнов с корнем, привязаны были к бревнам (и на оные дерева накладено было земли, что составляло рощу). Потом в оное место пущено было тысяча строусов, тысяча оленей, тысяча кабанов, тысяча диких коз, также дикие овцы и другие животные, питающиеся травой, каких только можно было тут или кормить или найти. После сего впущен был туда народ, который в сей роще для себя ловил, что хотел. Фл. Вописк “О Пробе”» В «Семечках» не просто эстетизируется маргинальная действительность (что осуществлялось Вагиновым и в романах 1920–х годов). Вагинов обозначает авангардное отношение к языку маргиналии как к медиатору действительности. Происходит переключение регистра авангардного письма с китчевой культуры (условно мотивный и сюжетный уровень) на китчевое восприятие советской риторики. Метафора «чужой речи» становится осязаемой: в пределах «Семечек» создатель записной книжки сталкивается с непонятной, стилистически чуждой, но вместе с тем опознаваемой риторикой. Вагинов фактически сводит к абсурду бахтинское понимание диалога, формирующего романное высказывание: «<…> чужое слово не воспроизводится с новой интенцией, но воздействует, влияет и, так или иначе, определяет авторское слово, оставаясь само вне его».221 Появляется возможность сместить авторское решение из сферы повествовательных конвенций и основать творческий акт по аналогии с дискурсивным творчеством каждого носителя языка, в момент говорения. Результат «прагматического» 221 Бахтин М. М. Проблемы творчества Достоевского // Бахтин М. М. Собр. соч. в 7 т. Т 2. М., 2000. С. 92. 150 языкового эксперимента состоит в открытии дополнительных повествовательных возможностей, заключенных в контекстно–зависимом употреблении языка. Дискурс эпохи 1920–1930–х годов, с которым работает Вагинов, обладал функциональной прерогативой социальной идентификации его носителя. По замечанию Стивена Коткина, «говорить по–большевистски» — значит отождествлять себя с советским гражданином посредством использования определенных речевых формул и стиля, одевать на себя речевую маску «большевика». В определенном смысле ведение «Семечек» могло позволить Вагинову идентифицировать себя с участниками советского литературного процесса. «Я пытаюсь доказать то, <…> что без нее <без социальной идентичности — Д. Б.> невозможно было обойтись, и, более того, что она придавала смысл человеческой жизни. Даже если мы считаем эти черты социального облика абсурдными, мы должны отнестись серьезно к тому, был ли данный рабочий ударником или саботажником, победителем социалистического соревнования или “аварийщиком”».222 Однако «Семечки» не обрекают собственного создателя на одну из предложенных крайностей, они могут быть представлены как художественный жест, обращенный к социолингвистическим конвенциям эпохи. Но жест, так же строго регламентированный поэтологической стратегией прозаического творчества Вагинова, как и стремлением к литературной социализации. Итак, записи, цитаты, «словарные» дефиниции разговорной лексики, описательные и сюжетные наброски — материал «Семечек», почерпнутый во время живого общения, на прогулках по городу, представляет собой «дискурсивный фонд» советского общества. С. Коткин при описании роли 222 Коткин С. Говорить по–большевистски (из кн. Магнитная гора: Сталинизм как цивилизация) // Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Советский период: Антология. М., Самара, 2001. С. 281–282. 151 языка в процессе социалистического строительства выявляет определенную иерархию возможных «речевых масок». «Хотя процесс социальной идентификации, требовавший мастерского владения определенным лексическим запасом официального языка, и был столь мощным, он не был необратим. Начать с того, что отдушиной обычно служила брань или то, что называли «блатным языком». Кроме того, из устных и литературных рассказов известно, что человек в один момент своей жизни мог “говорить по–большевистски”, а в другой — “как простой крестьянин”, прося о снисхождении за свою явную неспособность овладеть новым языком и новыми нормами поведения».223 Описанная ситуация кажется не случайной. Привнесенной позднейшими исследованиями концептуальной категории «говорения по– большевистски» соответствовала полемика вокруг «чистоты языка», связанная с его диффузными прагматическими и стилистическими изменениями в процессе ковки идеологии. Современники–исследователи отмечали дихотомическую природу новых языковых явлений: с одной стороны, это влияние блатного языка («матросского языка») на речь, желание молодежи «играть» в хулиганов — «анархическая развращенность» речи; с другой, то, что Поливанов называет «славянским языком революции» — ее «уродливая дисциплинированность».224 Первая тенденция свидетельствует о прагматическом коде, который был обусловлен революционными, романтическими стратегиями, освобождающими от тирании языковых правил. «Дело в том, что у этих “хулиганских” слов более богатое (т.е. более обильное отдельными представлениями) смысловое содержание, чем у обыкновенных (а потому и пустых в известном отношении) эквивалентов из нормального языка (и этим более 223 Коткин С. Говорить по–большевистски (из кн. Магнитная гора: Сталинизм как цивилизация) С. 276. 224 Поливанов Е. Д. О блатном языке учащихся и о «славянском языке» революции // Поливанов Е. За марксистское языкознание: Сборник популярных лингвистических статей. М., 1931. С. 169. 152 богатом содержанием, разумеется, и объясняется то, что их предпочитают обыкновенным словам). Когда ученик говорит “нафик” или “напсик” вместо “зачем”, он ведь мыслит в качестве коммуницируемого комплекса не одно только переводное значение слова (т.е. значение “зачем” или “почему”), а еще кое–что. И если попробовать передать это “кое–что”, то это окажется следующего приблизительного содержания мыслью, — мыслью, содержащей характеристику обоих участников языкового обмена (диалога): “Оба мы с тобой, — дескать, — хулиганы, или, вернее, играем в хулиганов”».225 Вторая тенденция — это отмершие языковые шаблоны и речевые клише, лишенные потенциального употребления (вне иронической модальности). Поливанов приводит такие формулы, как «гидра контрреволюции», «хищные акулы империализма», «установить контакт» и т.д. «И вот в среде с таким нулевым или даже отрицательным отношением, т.е. минимумом заботливого отношения к формам речи, впервые появляется нечто вроде устоев, вроде вех для организации речевого материала публичных выступлений. Этим “нечто” были шаблоны прокламационного стиля, сперва разумеется, полные смысловой и эмоциональной жизненности, а в конце концов превратившиеся в “славянский язык”. А в том, что этот процесс неизбежен, что нельзя десять лет подряд играть одним и тем же смычком, — об этом нам конкретно расскажет история любого изживаемого образа или оборота».226 Подавляющее количество записей в «Семечках» обращается к дискурсу «анархической развращенности» — Вагинов записывает речь городских окраин (рабочих, воров, пьяниц, шулеров, проституток и т.д.). Такой выбор, кроме очевидных практических (параллельный сбор материала для написания истории рабочего движения Нарвской заставы) и поэтических (типичная для Вагинова техника апроприации китчевой культуры) критериев имеет отношение к реализации прагматического языкового эксперимента: это самое «еще кое–что» (Поливанов) становится 225 226 Поливанов Е. Д. О блатном языке учащихся и о «славянском языке» революции. С. 163. Там же. С. 171. 153 не только материалом, но и главным инструментом поэтики позднего Вагинова. Вагинова интересуют случаи словоупотребления, когда в самом использовании языка, сопротивляющемся структурности, возникает новый поэтический смысл. Поэтому в «Семечках» затронуты не все пункты дискуссии вокруг «новояза» (как принято называть язык «тоталитарной идеологии» после известной антиутопии Оруэлла) — скажем, Вагинова не интересует сам по себе «язык революции» (Селищев): лексический состав, словники в «Семечках» не содержат расшифровки многочисленных аббревиатур227 — но только стилистическая игра речетворчества. В связи с проблемной стилистикой «новояза», которая противоречит общеупотребительной, в советской лингвистике, по сути, проблематизируется определение речевого акта как языкового явления. Стилистически неудачная фраза признается, тем не менее, действенной. Из статьи в статью кочует пример высказывания типа «Извиняюсь!», сказанного в переполненном трамвае, как предупреждение неминуемых физических действий. Пуристы этим примером клеймили бессмысленность такого выражения, которое не значит «попросить прощение за содеянное» (своей словарной дефиниции). И если А. М. Селищев, автор монографии «Язык революционной эпохи» (1928), находит изменение лексического значения под влиянием родственного варианта польского происхождения (что, по его мнению, только подтверждает тенденцию массивного западного заимствования), то Г. О. Винокур проводит апологию перформативного высказывания: «”Глупым” в языке может быть очень многое. Не так же ли глупо, напр., слово “извините” или — “пардон”, “мерси”, простите, “так сказать”, “простите за выражение”, “собственно говоря”, “конечно” и все те бессмысленные слова, выхолощенные семантически реченьица, которыми мы сыплем кстати и некстати, и 227 Множество примеров аббревиаций см. в: Селищев А. М. Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским языком последних лет (1917–1926). М., 1928. С. 157–196. 154 вовсе не потому, чтобы мы были особенно вежливы или очень точны в своих выражениях, а потому просто, что так уж устроен наш язык. Есть в языке сколько угодно словечек, и даже настоящих, полноценных слов, которые в определенных синтаксико–мелодических контекстах радикально меняют, а то и вовсе теряют свое вещественное значение».228 В одной из записей Вагинов, кажется, предлагает пример языка, подрывающего собственное перформативное использование на месте «действий, совершаемых при помощи слов» находятся слова, которые ни в коем случае не должны опосредовать действия. «Странности любви. Инженер заставлял в известный момент свою любовь называть все своими именами и детально описывать еле им производимое. Узнали об этом от подруги. — Ты расстегиваешь штаны, вынимаешь свой … вставляешь… Она должна была производить точные описания церемонии». Как уже было сказано, начало работы над «Семечками» совпадает с тем временем, когда Вагинов вовлечен в литературные проекты, связанные с именем М. Горького — «История фабрик и заводов» и движение «Ударники в литературу». Согласно призывам, высказанным в центральной печати, профессиональные литераторы должны были поддержать процесс описания деятельности «титульного» класса и создания исторического рабочего дискурса по большей части в качестве наставников рабкоров — писателей новой социальной формации, способных к описанию действительности, основанному на собственном (не–писательском) предложенного опыте. материала, В процессе его дискурсивного идеологическом закрепления развертывании, художественное описание приобретает характер перформативных актов. 228 Винокур Г. О. Культура языка. М., 2006. С. 100. Данный случай фиксируется Вагиновым в таком варианте: «Вся Восточная Сибирь прибавляет ко всем словам: — Будьте любезны». 155 Главное преимущество рабкоров состояло в обязательной достоверности описываемых ими событий. Они, писатели от сохи, не могли домыслить и исказить новую советскую реальность, с помощью оптики без диоптрий должны были не только верно описать, но и — на основании этой безошибочной диагностики — исправить, усовершенствовать реальность, указать на недостатки, воззвать к их устранению. Однако перемещенные в литературу факты часто выглядели беспомощно сами по себе — потому что рабкоры не обладали необходимыми писательскими навыками, не владели специфическим художественным языком. Инерция литературной традиции, превратно понятый лозунг «учебы у классиков» обеспечивали неблагоприятные коннотации текстам, стремящимся по ту сторону художественности. Рабкорам нужно было создать свой, адекватный фактам и «самим вещам» язык описания. Осложненное перформативное традиционной высказывание литературной рабкоров — в риторикой какой–то степени актуальное требование времени. Вагинов же в «Семечках» не столько намечает показательный труд «ударника от литературы», сколько, исходя из собственной поэтики, ищет возможность адекватного поэтического высказывания в сложившейся литературной и лингвистической ситуации. В следующем разделе нашей работы мы, насколько возможно, подробно опишем романный дискурс «Гарпагонианы», вобравший в себя следы прагматического языкового страницах записной книжки. эксперимента, проведенного на 156 3. «Гарпагониана» К. К. Вагинова: «скупость» авторского высказывания в романе начале 1930–х годов В процессе редактуры первого варианта своего четвертого крупного прозаического текста, романа «Гарпагониана» (1933–1934), Вагинов ищет советов и критики, дает читать машинопись знакомым литераторам и издателям. М. Э. Козаков, судя по всему, отнесся к роману с осторожным сомнением,229 развеять которое Вагинов решил, раскрыв в ответной записке замысел романа, конспективно описав его основные проблемные узлы. Главная претензия Козакова (по крайней мере, так это видится из ответа Вагинова) заключается в «музейности» — неактуальности или же, с другой стороны, статичности, депсихологизированности — главных образов романа: собирателей сновидений, знатоков гастрономии — последних, кто населяет «остров ренессанса культуры» в социалистическом Ленинграде. Вагинов умеет объяснить своему коллеге, что выбранные объекты описания не могут быть выполнены красками русского классического «психологического» реализма («ты сам великолепно понимаешь, уходящие от современности становятся по большей части музейными экспонатами» (ПССП, 470) — а потому выбранный метод своевременным. описания Существование предполагается такого рода современным «чуждых» и классовой политике людей актуализирует и ироническое (в глазах цензора — обличительное) описание истории упадка данного сообщества. Подобный ответ мог быть написан по поводу каждого из произведений Вагинова. Тем не менее, в случае с «Гарпагонианой», он должен восприниматься не только как оправдание, но и как реальное авторское понимание актуальности, попытка участия в коммуникации официального литературного поля. Роман, безусловно, выделяется из творчества автора 229 К сожалению, внутренняя рецензия Козакова не сохранилась. 157 КП как наиболее открытый общим тенденциям литературы своего времени, однако влияние официального литературного процесса принимается Вагиновым критически. Речь не идет об отступлении от присущих автору эстетических (авангардных) взглядов — это не конформистская уступка ради попадания романа в издательский портфель. Возможность взаимодействия с литературой готовящегося соцреализма с энтузиазмом воспринимается Вагиновым как новая поэтическая задача, решение которой требует совершенствования (реактуализации) классической романной техники,230 релевантного эволюции личностных художественных принципов. Именно в такой проекции — верификация романа в качестве художественного высказывания 1930–х годов — «Гарпагониана» никогда доселе не была прочитана.231 Возможность данной интерпретации подтверждается историей создания романа: закончив текст в 1933 году, Вагинов «взял его назад, чтобы (по совету Н. С. Тихонова) доработать и ввести в него “социально– бытовую” тематику — по возможности, идеологически выдержанную» (ПССП, 557). Наличие зафиксированного слоя, условно, тенденциозного художественного дискурса приближает нас к решению поставленной задачи. Анализ романа без учета исправлений позволит встроить «Гарпагониану» в парадигму предшествующей прозы Вагинова, отдельное внимание к характеру редактуры позволит поместить данный текст в один ряд с популярной литературой своего времени. 230 Общепризнанное мнение о поэтических особенностях соцреалистического романа возможно выразить в емкой формуле Синявского/Терца: «социалистический реализм, пожалуй, имело бы смысл назвать социалистическим классицизмом». Абрам Терц. Что такое социалистический реализм? // http://imwerden.de/pdf/abram_terz_chto_takoe_soc_realizm.pdf. С. 22 [Электронная публикация]. 231 Работ, непосредственно посвященных роману совсем не много. Стоит, однако, отметить немногочисленные имеющиеся исследования: Литвинюк М. А. Балаганный трагикомизм в романах К. Вагинова «Козлиная песнь», «Труды и дни Свистонова», «Бамбочада» и «Гарпагониана» : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филологич. н. М., 1998. 16 с.; Шиндина О. В. О некоторых содержательных особенностях романа Вагинова «Гарпагониана» // Russian Literature. 2002. Vol. LM. № 4. P. 451–469.; Шлапаков П. В. Проблема антропологизма в рецептивных стратегиях К. Вагинова (на примере романа «Гарпагониана») // Изв. Самар. науч. центра РАН. Самара, 2010. Т. 12. № 3. С. 228 — 231.; Баак Й. Заметки об образе мира у Вагинова // Вторая проза: Русская проза 20–30–х годов ХХ века. Тренто, 1995. С. 145–152. 158 Традиционно важной для Вагинова является область паратекста — те элементы, которые стоят на «пороге» произведения, обрамляя его, выстраивая конвенцию чтения (заглавие, предисловие, посвящения, эпиграфы и т.д.), являются областью фиксации прагматики авторского высказывания. В данном случае заглавие романа легко читается как нарицательное существительное от имени главного героя комедии Мольера «Скупой» (1668). Выбранная словообразовательная модель (с использованием суффикса «иан») характерна для новообразований революционной эпохи и времени последующего формирования словаря «советского» языка (1920–е — начало 1930–х годов). С семантической точки зрения такие слова обозначают некую (часто абстрактную) тенденцию, связанную с именем конкретного исторического лица (ср. «лениниана»).232 Для «новояза» было характерно использование аффиксов иноязычного происхождения, что могло свидетельствовать как о преобладании общеевропейской лексики в революционном дискурсе, так и о важности для данного дискурса философского или книжного стиля, чуждого и с трудом преодолимого для носителя языка, внеположенного данному дискурсу. В случае с заглавием романа принадлежность авторского неологизма к книжному стилю, заимствование античного суффикса, помимо советских публицистических коннотаций, неминуемо актуализирует историко–литературный (жанровый) контекст и свидетельствует об эпичности, масштабности дальнейшего повествования (ср. «Илиада» или «Россиада»), даже если речь идет только о пародии на эпос (как в случае с «Гаврилиадой»). Таким образом, существует возможность двойного прочтения заглавия «Гарпагониана»: жанровое 232 А. М. Селищев, к примеру, разбирает синонимичный пример образования новых слов посредством суффиксов «ада» и «иада» («гапонада», «бернштейниада», октябриада» и т.д.) (Селищев А. М. Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским языком (1917–1926), С. 185) Разница между данными суффиксами заключается в их этимологии, уводящей, соответственно, в греческий («иада») и латинский («иана») язык. В условиях советского дискурса 1920–30–х годов данное различие, кажется, может остаться без специального комментария. Показательно, что при первой публикации романа заглавие было передано именно с помощью синонимичного суффикса — «Гарпагониада». Текстологически данный прецедент объяснен быть не может, в имеющихся досье романа нет случаев употребления Вагиновым греческого суффикса. См.: Вагинов К. Гарпагониада. Ann arbor, 1983. 159 значение эпоса может быть отнесено к типичной оксюморонной поэтике вагиновских титлов (ср. «Козлиная песнь» – трагедия); включение заглавия в публицистический (идеологический) дискурс эпохи — специальное свойство паратекста данного романа. Несмотря на прямое упоминание Гарпагона, заглавие не отсылает к проблематике французской комедии положений. Единственное место в комедии, связывающее ее с «Гарпагонианой» Вагинова на основании единства образного ряда — эпизод в начале второго действия, где зачитывается список вещей, передаваемых в качестве кредита от Гарпагона своему сыну Клеанту — вещей бесполезных, которым насильно навязывается ценность и даже рыночная стоимость, как будто из каталога коллекции Жулонбина: «Лафлеш. Пустяки! "Из пятнадцати тысяч ссуды заимодавец чистоганом может дать двенадцать тысяч, а на три тысячи дает вещами, опись коих при сем приложена, и в ней все поставлено по совести, то есть по цене самой умеренной". Клеант. Что это значит? Лафлеш. Послушайте–ка опись: "Первое – кровать о четырех ножках, тюфяк и простыня с прошвами из плетеных кружев, весьма тонкой работы, стеганое одеяло оливкового цвета, подбитое тафтою красной с голубым отливом, и вдобавок стульев полдюжины; все означенное в полной исправности. Далее полог длинный из добротной омальской саржи цвета засохшей розы, с позументами и шелковою бахромой". Клеант. Да что же он? Смеется, что ли? Лафлеш. Погодите, погодите! "Далее штофные обои, на коих выткана история любви Гомбо и Масеи. Далее стол раздвижной орехового дерева о двенадцати витых точеных ножках и к нему шесть табуретов". Клеант. На кой мне черт!.. Лафлеш. Потерпите малость. "Далее три мушкета длинноствольных, выложенных перламутром, и к ним три сошки. Далее печь переносная, кирпичная, а к ней две колбы и три реторты – утварь, весьма полезная для любителей перегонки". Клеант. Ах, чтоб тебе! Лафлеш. Умерьте гнев! "Далее лютня болонская, у коей почти все струны в целости. Далее бильярд настольный с лунками, доска для шахмат, а также гусек – игра древнегреческая, ныне возрожденная, – все перечисленное весьма пригодно для 160 приятного времяпрепровождения в часы досуга. Далее чучело ящерицы небольшой, набитое соломой, – занимательная диковинка, каковую можно подвесить к потолку гостиной для украшения оной. Все означенные в описи предметы по самой добросовестной оценке стоят четыре тысячи пятьсот франков, но из любезности заимодавец согласен уступить их за три тысячи"».233 Данный эпизод не получает сюжетного развития в пьесе, его функция ограничивается, кажется, гиперболизацией «амплуа» заглавного героя. По меткому выражению А. С. Пушкина, «У Мольера Скупой скуп — и только».234 У Вагинова характеристика образа Гарпагона еще конкретнее. Он развивает потенциальные описательные возможности скупости, находящиеся в приведенном эпизоде: излишне бережливое отношение к любому, без разбора, элементу быта рассматривается в качестве абсурдизации действительности, в условиях которой такая деятельность становится возможной. Юмористический эффект, вызванный удивлением Клеанта и дерзостью кредитора, теряется в повествовании «Гарпагонианы», однако остается необходимое проблемное соотношение действительности коллекционера и нормативов социальных отношений. Романное повествование открывается сценой «систематизатора» за работой. Жулонбин аккуратно перебирает предметы, столь дотошно хранимые, пытаясь выстроить некую систему из разрозненных элементов собственной коллекции. Повествование ведется от третьего лица — на достаточной дистанции относительно действия. Получив доступ «на кухню» «систематизатора» (фамилия которого становится известна только в самом конце главы, посвященной истории его семьи и его страсти к накоплению), формально существуя на правах всевидящего создателя повествуемого мира, нарратор, однако, не обладает способностью прогнозировать события, он сознательно лишен тотального контроля над происходящими событиями. Так, нарратор, как будто заглядывая через 233 Мольер Скупой // Полное собрание сочинений в 3–х тт. Т. III. М., 1987. С. 66. Пушкин А. С. Table–talk: <XVIII.> Лица, созданные Шекспиром // А. С. Пушкин Полное собрание сочинений: в 17 т. Т. 12. Критика. Автобиография. М.: Воскресенье, 1996. С. 160. 234 161 плечо Жулонбина, сообщает нам о том, что «<о>н перебирал ногти, складывал в кучки, располагал в единственно ему известном порядке» (ПССП, 336). Однако непосредственно после этого, продолжая наблюдение, нарратор опровергает собственный поспешный тезис: «<н>ет, собственно и ему не известен был порядок, он искал его, он искал его признаков, по которым можно было систематизировать эти предметы» (ПССП, 336). Данный краткий анализ повествовательных отношений между «автором» и «героем» свидетельствует о том, что в «Гарпагониане» фактически снята типичная для Вагинова проблема герметичности фикциональности и возможности проникновения авторских атрибутов реальности в собственно созданный художественный мир. Пространство повествования романа замкнуто и неприступно не только для авторской инстанции, свободной и не закрепленной за определенной областью художественности/ реальности в более раннем творчестве Вагинова, но и для «гарпагона» Жулонбина. Герой не может довести упорядоченность своей коллекции до степени структурированности романа, сочиненного Свистоновым, который был способен заместить (или размножить по принципу mise en abyme) существующую реальность на правах автора. Однако подобное поэтическое решение не свидетельствует об отказе Вагинова от написания метафикциональной прозы: в «Гарпагониане» снято означающее метафикциональности, но не присущий модернизму конструктивный принцип письма. Как уже было сказано, роман открывает сцена систематизации ногтей, объектов деятельности Жулонбина. Остановимся на некоторых описательных подробностях: «Перед человеком лежали: ногти остроконечные, круглые, женские и мужские различных оттенков. На каждом ногте чернилами весьма кратко было обозначено где, когда ноготь был срезан и кому он принадлежал» (ПССП, 336). 162 Предмет коллекции здесь не включен в парадигму культуры на основании маргинального ее элемента (ср. собирательство китча Костей Ротиковым из КП). Несмотря на то что ногти, в качестве объекта фетиша, лишены своей функциональной значимости (или, скорее, вопреки всякому здравому смыслу, нагружены функцией в условиях коллекции) и могут рассматриваться в качестве декадентского символа — это сколь угодно гротескная, но бытовая деталь. Исписанный ноготь в романе не расширяет наше представление о художественности (или, в целом, об эстетике), но гиперболизирует возможности референциального соответствия. Поражает не просто сам факт собирательства ногтей. Невозможно представить, что на срезанном ногте уместилась надпись, содержащая сразу несколько различных данных. Еще до того, как речь в романе зайдет о целях систематизации коллекции, ее предмет ускользает от реалистического соответствия, уровень изображения, прежде не акцентировавшийся в творчестве Вагинова. Происходит нечто подобное «эффекту реальности» (Р. Барт): «взятая по модулю», деталь ищет свое референциальное значение, которое невозможно нигде, кроме как в квази–миметических условиях романного пространства. Именно на этом основании модернистские конвенции изображения коллекции и коллекционеров (сформулированные В. Беньямином)235 замещаются в «Гарпагониане» постановкой проблемы реалистического письма, однако весьма пересмотренного и даже условного. Если предмет коллекции Кости Ротикова сложно было представить в качестве предмета музейной экспозиции, то коллекцию Жулонбина сложно себе представить в принципе. Далее в романе приводятся примеры надписей: «Самарканд 235 О соответствии изображения коллекционеров в романах Вагинова и теоретизации коллекции в качестве атрибута модернистской эстетики Беньямина см.: Anemone A. Obsessive Collectors: Fetishizing Culture in the Novels of Konstantin Vaginov // Russian Review, Vol. 59, No. 2 (Apr., 2000), p. 252–254. 163 1921 г. Копошевич. Саратов 1922 г. Уленбеков. Астрахань 1926 г. Карабозов». (ПССП, 336) Включенные в роман элементы чуждого художественности дискурса, которые, тем не менее, задают тон основному повествованию — характерный прием для вагиновской прозы. Так, «газетные вырезки» становятся подложным материалом для вставного романа Свистонова. Содержание приведенных в ТДС «заметок» в тезисной форме становится комментарием для писательских установок главного героя: неоднозначным образом связанная с художественным дискурсом природа «новелл» (о чем уже шла речь в других разделах диссертации)236 ставит под сомнение целостность имманентной прозаической структуры, выстраивая риторику романа в соответствии с метафикциональным жанром. В «Гарпагониане» мотив экспликации технических средств «творческой» деятельности главного героя повторяется, однако его интерпретация должна иметь существенное различие. Здесь привлекает внимание не дискурсивная природа текста, но композиционные позиции его размещения. Так построенная запись (три строки в столбик) ставит под сомнение собственно техническую реализацию. Если в ТДС легко и необходимо поставить под сомнение реалистичность изображаемого в «новеллах», то в последнем романе Вагинова нереальным кажется существование самой записи. Вагинова, видимо, теперь не волнует 236 См. Глава I, параграф 1, 2 настоящего диссертационного исследования. 164 противоречивое внутреннее строение художественности, гораздо важнее для него становится проблема действенной способности литературы. Почти по просвещенческим, реалистическим стратегиям его текст формирует условия новой реальности («Он <Жулонбин — Д. Б.> был горд, он предполагал, почти был уверен, что никто в мире, кроме него, не занят разрешением некоторых вопросов» (ПССП, 336)). В проверках упругости художественного мира Вагинов как бы возвращается на шаг назад: сомнения в герметичности фикциональной реальности оставлены, актуальной задачей становится строительство прозаического, внешне максимально лишенного проблем модернистской эстетики, дуплета бытового пространства. Центральной темой «Гарпагонианы», без сомнения, является процесс создания коллекций — все главные герои романа, так или иначе, связаны с социальной культом отраслью накопительства, со сложным который предстает иерархическим крупной устройством, требующим обслуживания. Так, в романе присутствуют описания коллекционеров–одиночек (Жулонбин, Локонов) и членов «Общества собирателей мелочей», которые занимают привилегированное социальное положение, в частности председатель Торопуло — инженер, специалист. Маргинальный предприниматель Анфертьев поставляет новые предметы коллекции, расширяет штат клиентуры, тем самым привлекая в данное сообщество новых «гарпагонов». Тема коллекционирования развивается на протяжении всего вагиновского (и не только прозаического) творчества, она переплетается с комплексом автобиографических мотивов: как известно, страсть к накоплению предметов культуры и быта разных эпох возникла у Вагинова еще в юности (он прекрасно разбирался в нумизматике, состоял в обществе библиофилов, подобно своим героям бережно хранил обертки от конфет, газетные вырезки и т.д.). Однако системное изображение социума коллекционеров возникает только в 165 последнем романе.237 Увеличение роли коллекционера в структуре произведения и более тщательное описание предметов коллекции совпадает с нивелированием авторского биографического начала, к изображению которого, посредством включения его в художественный текст, сводился ранее данный мотивный комплекс. Ориентация художественных образов на реальные прототипы, присущая прозе Вагинова 1920–х годов (в первую очередь, данный прием относится к образному ряду КП), сменяется очевидной типизацией героев, их распределением по социальной сетке советского общества. Социализация советского гражданина — актуальнейшая проблема в СССР ко времени работы над романом «Гарпагониана». Стремительный рост населения крупных городов вынудил властей задуматься о введении паспортной системы: решено было выдавать специальные документы, владельцы которых имели право проживать в пределах режимной зоны, к примеру, Москвы и Ленинграда. «Идея была простой и хорошо известной: для того, чтобы обуздать выходившее из–под контроля население,238 его следовало «инвентаризировать». Паспорт призван был стать инструментом, который «проявит» человека, сделает его видимым и полностью зависимым от власти. Паспортная система должна была выполнить функцию грандиозного фильтра, который отделит «чистых» от «нечистых» – тех, кто достоин жить в крупных городах и в «режимных» (паспортных) зонах, от всех остальных <…>».239 Подобно своему герою, «систематизатору», Вагинов коллекционирует, описывает, сводит в конечный список персонажей, по 237 Подробная классификация типов коллекционеров, выведенных Вагинов в собственной прозе, лингвистический анализ частотности лексем, связанных с обозначенной темой, некоторая градация значимости данной темы для каждого конкретного текста от КП до «Гарпагонианы» представлена в прекрасной магистерской работе Эмили Райт. См.: Wright E. Коллекционер в прозе Константина Вагинова: Типология, эволюция, апофеоз. Universite de Lausanne, 2010. (на правах рукописи). 238 Анализ внутренней политической ситуации начала 1930–х годов, приведший к введению паспортной системы, также можно найти в данной статье. См.: Байбурин А. К. Введение паспортной системы в СССР // Статус документа: Окончательная бумажка или отчужденное свидетельство? // Сборник статей. М., 2013. 75–78. 239 Байбурин А. К. Введение паспортной системы в СССР. С. 78. 166 разным причинам недостойных быть социализированными советским государством. Существовала инструкция, ограничивающая право на получение паспорта тем жителям мегаполисов, которые не занимались «общественно–полезным трудом» или же имели репутацию «антиобщественных элементов». Перечень тех, кому было запрещено быть «ленинградцем», начинался с достаточно общего, абстрактно сформулированного пункта, под который, так или иначе, подходят почти все персонажи «Гарпагонианы». В выдаче паспорта должно было быть отказано «лицам, не связанным с производством и работой в учреждениях или школах и не занятым иным общественно–полезным трудом (за исключением инвалидов и пенсионеров)».240 Так, могли быть выселены Жулонбин, частный преподаватель голландского языка, совершеннолетний иждивенец Локонов, спекулянт Анфертьев. Наиболее социально защищенный герой, «специалист» Торопуло, тем не менее, не довольствуется значимой идентификацией, живет не по средствам, распродавая дореволюционное имущество своего отца, орденоносца, более двадцати пяти лет отдавшего службе в железнодорожном ведомстве. Его друг Пуншевич защищен рационалистским дискурсом (его краткие высказывания о принципе коллекционирования касаются, в основном, нормализации азартных и страстных порывов Торопуло), однако о его быте и профессиональной деятельности в качестве инженера мы фактически ничего не знаем. Изображение шпаны и профессиональных налетчиков, воров–домушников, вымогателей, включая инвалидов на паперти, замыкает опись деклассированных элементов, «прописанных» в романе. Приведем характерную цитату из выброшенного впоследствии эпизода, в которой присутствуют разного рода удостоверения личности: 240 Байбурин А. К. Введение паспортной системы в СССР. С. 85. 167 «Жулдыбин241 сидел и разбирал всевозможные удостоверения. Здесь было и удостоверение семнадцатого года, выданное врачу в том, что он крестьянин города Петрограда, и трудовые книжки, и профсоюзные билеты, и временные свидельства, и грамоты. Были и утерянные различными лицами паспорта. Жулдыбин рассматривал печати. Печатей в одном из ящиков его письменного стола было достаточно. Некоторые были разрезаны на четыре части, другие в полной сохранности».242 Выселенцы из советских мегаполисов перемещаются в повествование Вагинова, попадая в которое, они не становятся объектом остранения (как того требует классическая реалистическая поэтика), а только провоцируют потенциального референта, одновременно обозначая свою реальную обусловленность и профанируя любое соответствие с ней. Показательной иллюстрацией к последнему тезису будет эпизод мечтаний Анфертьева, в котором герой размышляет, как возможно развернуть торговлю сновидениями на государственном уровне: «— Будет ли государственное учреждение покупать у меня сны? А между тем мой товар ценен, не вам мне об этом говорить. Ведь если б до нас дошли сны времен французской революции, сны бабефовцев, сны якобинцев, сны времен Директории и времен Парижской коммуны, какой бы это был ценный вклад в бытовую историю революции — так сказал бы я. «Я вас понимаю, — Анфертьев пьяно развел руками и поник, — ответит мне директор, — но ведь сметой подобные расходы не предусмотрены. Заключение подобной рабочей сделки с частным лицом, действительно, может показаться инструктирующим органам сноведением. Но, между нами говоря, ваше предложение мне кажется ценным. Конечно, советую вам представить не проект с предложением торговой сделки, а просто предложить свои услуги по собирания слов, может, какое–нибудь ежемесячное вознаграждение мы вам и выкроем, может быть, мы для приличия придумаем вам какую–нибудь должность. Во всяком случае, не теряйте с нами связи». (ПССП, 359–360) 241 Именно такой вариант фамилии главного героя свидетельствует о начальной стадии работы над текстом. Еще до отправки в издательство первой редакции романа «Жулдыбин» был заменен на «Жулонбин». 242 Вагинов К. К. Гарпагониана // ОР РНБ ф. 1325, ед. хр. 15, л. 1. 168 Условная модальность речи рассказчика присуща описанию не только мечты о подписании контракта с научным институтом («так сказал бы я»), но и правдоподобного, включающего различные варианты, отказа в заключении сделки («ответит мне директор»). Гомогенность внешней реальности и мира романа дает возможность героям самостоятельно вымышлять и предугадывать социальном взаимодействии, развитие формально событий, оставаясь основанных при на этом в защищенной от обусловленности бытом области мечты или снов (напомним, что невольному слушателю инсценировки кабинетного диалога Локонову «только казалось, что он за сновидениями идет к Анфертьеву») (ПССП, 360). Пьяные фантазии Анфертьева рифмуются с содержанием сна Кости Ротикова из первого романа Вагинова, однако здесь мы будем наблюдать ограниченные возможности персонажа управлять собственным иллюзорным миром. Ротикову снится его коллекция безвкусицы, выставленная «в пятнадцати новооткрытых комнатах, выходящих на Неву», (ПССП, 105) торжественные речи коллег в честь открытия долгожданной выставки; ему представляется пóзднее, но заслуженное признание, — и вот сон, повествуемый первичным нарратором, прерывается и столь желанный мираж развеян. «Тоска охватила Костю Ротикова» (ПССП, 106). Энтони Энимон в специальной статье, посвященной теме коллекционирования в прозе Вагинова, справедливо пишет о соответствии значения элемента коллекции в романном повествовании модернистской картине мира, в условиях которой реальность в глазах художника фетишизируется, представляя собой область культуры, усиленно защищенную от враждебности угасающего общества. Однако включение в данную парадигму «Гарпагонианы», изображающей доведенный до абсурда модернистский фетиш коллекционера, представляется проблематичным. Деятельность Жулонбина — это не столько «страсть 169 коллекционирования доведенная до своего логического предела», Жулонбин не просто «ужасная пародия на безобидных и чудаковатых людей науки из первых романов».243 Несмотря на то что внешне характер собирательства в «Гарпагониане» дает право суждения о стертой границе «между элитарной и массовой культурой, одержимостью творчеством и безрассудным фетишизмом»,244 в структуре повествования элемент коллекции теряет свой привилегированный статус артефакта и становится, наравне с прочими описательными конструкциями, сюжетной деталью, призванной мотивировать происходящие в романе события. Так, значки из шкафа Жулонбина не только объект систематизации быта, но и «манок» для доверчивых девушек, с помощью которого, надев его на свой костюм, можно с легкостью одну из них «закадрить». «— Вы были в Египте и на полюсе были? Не участник ли вы экспедиции на «Малыгине»? — спросила девушка оживленно. — И не только в Египте, ответил Жулонбин. Жулонбин расстегнул пальто, девушка увидела значок участника арктических экспедиций. — Я и на острове Формозе был. Если б вы знали, какие у вас глаза». (ПССП, 392) Или: «Жулонбин стоял и беседовал с буфетчицей. Доставая деньги, он расстегнул пальто. На секунду блеснул орден Красного Знамени». (ПССП, 393) В рамках повествования коллекция перестает быть самоценной и только эстетически (антиэстетически) значимой, подразумевается тривиальное использование ее элементов, которым возвращается их прямое функциональное значение. Значки — это, безусловно, приоритетная социализация их носителей. Так, нагрудный знак ГТО 243 Anemone A. Obsessive Collectors: Fetishizing Culture in the Novels of Konstantin Vaginov // Russian Review, Vol. 59, No. 2 (Apr., 2000). P. 264. <пер. с англ. наш — Д, Б.> 244 Ibid. 263. 170 становится неким показателем причастности к «надежной» части общества, вне зависимости от того, кого представляет нагрудный знак. В тех случаях, когда у того или иного героя появляется значок ГТО, каждый раз иронически обыгрывается несоответствие личности, рода занятий, внутренних качеств персонажа и критериев номинальной значимости гражданина, «готового к труду и обороне». Расхожий лозунг является своего рода маской, фактически лишенной своего внутреннего значения, но без которой приписываемые ей «референциальные» показатели не могут быть определены. Так, наводчица Манька–Сверчок приходит на квартиру своей потенциальной жертвы, нацепив соответствующий советский атрибут и тем самым обезопасив себя от подозрений: «Торопуло открыл дверь. Перед Торопуло стоял человек со значком «Готов к труду и обороне» (ПССП, 424). Далее, в эпизоде народных гуляний в Петергофе, описывается ситуация, когда скорее отсутствие какого–либо знака отличия признается нетипичным, необыденным. «С друзьями поздоровался товарищ Книзель, модельщик с седыми волосами, со значком ГТО. <…> Шли партизаны. Шли ударники с соответствующими значками. Другие шли со значками ГТО, у кого ничего не было, тот шел просто с каким–нибудь юбилейным значком или жетоном, или с цветком в петлице. Приехавшим хотелось приукрасить себя». (ПССП, 477) В данном случае, когда значок теряет свое отличительное значение, модернистская концептуализация предмета коллекции остается релевантной, однако только в качестве типологически сходного примера — процесс социализации (нацепить значок) становится одновременно и утилитарным, и сугубо эстетическим («хотелось приукрасить себя»). 171 Только что приведенные цитаты (начиная с тех, где Жулонбин кадрит барышень) являются позднейшими вставками в текст «Гарпагонианы» — частями, так называемой, второй (неоконченной) редакции, целью которой было приблизить текст к тенденциозной литературной продукции. «Первоначальная (точнее, первая оконченная) редакция состояла из 166 нумерованных (страницы 1–159 на машинке, страницы 160–166 — синим карандашом) страниц. Именно в этом виде, судя по записке автора, М. Э. Козакову, рукопись была представлена в Издательство писателей в Ленинграде. Однако, по совету Н. С. Тихонова, Вагинов решил дополнить роман новой сюжетной линией — т. е. «осовременить» или, если угодно, «осоветизировать» его. Глава XI первой редакции (страницы 116–143) автором была изъята; так же изъяты были конец 103–й и вся 104–я страницы. Эти изъятые страницы, к сожалению, не сохранились. Дополняя роман, Вагинов сделал вставки к главам VI (три новые страницы), VII (две новые страницы) и XIII–XIV (две новые страницы, одна из которых — в двух вариантах), а также заново написал главу XI (21 страница) и начал главу XV. Вся эта работа осталась незаконченной».245 Редактируя роман с намерением «осоветизировать» текст, Вагинов, как мы могли наблюдать, привносит атрибуты современности, специфически (часто иронически) воспринимаемые в контексте образного ряда персонажей, сюжетной канвы. Однако главным атрибутивным признаком новых правок являются вкрапления в романное повествование отдельных фрагментов из записной книжки «Семечки», тех самых образчиков «прямой речи» советского человека, собирание которых может быть интерпретировано в контексте литературных исследований художественной риторики. Очередной административный вызов — задача, поставленная перед автором «нещадной» безучастной цензурой — оборачивается неожиданной возможностью завершить «прагматический» 245 Эрль Владимир [Горбунов Владимир Иванович] Исторические и текстологические справки к текстам К. К. Вагинова и список передаваемых в ГПБ материалов. 1991 г. // ОР РНБ ф. 1325, ед. хр. 22, л. 1. 172 языковой эксперимент уже в экстремальных для разрозненных дневниковых записей условиях романного повествования. Следует отметить, что в области поисков риторического обоснования нарождающейся соцреалистической поэтики у Вагинова имеются некоторые предшественники. М. А. Булгаков в годы работы в газетах «Гудок» и «Накануне» пишет многочисленные фельетоны, используя прямую речь рабкоров. В его текстах на глазах читателя «чужое слово» претерпевает авторскую обработку. В качестве примера фельетонной повествовательной стратегии Булгакова, мы разберем небольшую зарисовку «Библифетчик» (впервые, «Гудок», 7 октября 1924 года), однако подобным образом построены еще многие другие его тексты середины 1920–х годов. Фельетон предваряет эпиграф: На одной из станций библиотекарь в вагоне–читальне в то же время и буфетчик при уголке Ильича. (Из письма рабкора)246 Помещая слова рабкора в качестве эпиграфа, Булгаков нарративизирует традиционную газетную рубрику «Письма в редакцию». Нам неизвестно, в каком контексте сообщалась заинтересовавшая фельетониста информация, однако в последующем тексте, «вдохновленном» эпиграфом, сей «гнилой» факт будет едко высмеян. Неожиданная (и, будем честными, желаемая) контаминация профессий и общественных заведений в фельетоне Булгакова предстает на максимальной дистанции от абстрактного автора: диалоги, которые ведутся посетителями и держателем «библиофета» наполнены сказовой риторикой, употребление которой носит обличительный для участников действия характер. 246 Булгаков М. А. Буфетчик // М. А. Булгаков Собр. соч. в пяти томах. Т. 2. М., 1989. С. 481. 173 — Пожалте! Вон столик свободный. Сейчас обтиру, Вам пивка или книжку? — Вася, библиофетчик спрашивает, чего нам… Книжку или пивка? Мне… ти…титрадку и бутирброд. — Тетрадок не держим. Ах вы… вотр… маман… трах–тарарах… — Неприличными словами просюсь не выражаться. Я выра… вы… ражаю протест! — Сооруди нам милый полдюжинки! — «Азбука», сочинение товарища Бухарина, имеется? — Совершенно свежий, только что получен. Герасим Иванович! Бухарин — один раз! И полдюжины светлого!247 Нарративное развертывание эпиграфа — структурное решение, позволяющее эксплицировать зависимость художественного текста от дискурса «факта» (письмо рабкора), однако в данном случае прием во многом продиктован прагматическими факторами — это фельетон, который должен соответствовать рубрикации газеты. Известно, что подобные прагматические задания были противны творческой цели Булгакова, который терпеть не мог работу в «Гудке» и всячески дистанцировался от риторических экспериментов с «советским» языком в своем «большом» творчестве.248 Приведем другой пример, типологичный опыту нарративизации «Семечек» Вагинова. Дмитрий Исаевич Лаврухин (наст. фам. Георгиевский; 1897–1939) в 1930 году в «Издательстве писателей в Ленинграде» публикует роман «По следам героя. Записки рабкора», который затем в течение шести лет будет шесть раз переиздан — роман, действительно популярный и востребованный. Композиция произведения Лаврухина двухчастная. В условной первой части автор эксплицирует рабочий материал, заготовки для будущего художественного текста. В объемной, примерно в половину книги, главе «Завязки–развязки– 247 Булгаков М. А. Буфетчик. С. 481. В отличие, к примеру, от М. М. Зощенко. Об отношении Булгакова к сказу: Чудакова М. О. Поэтика Михаила Зощенко. М., 1979, с. 102–113. 248 174 миниатюры–темы–детали–факты–мелочи–замыслы–вымыслы» представлена записная книжка рабкора Лады, заглавного героя «Записок рабкора». Во второй части, используя записи Лады, его фронтовой друг, достаточно опытный литератор Дмитрий Исаевич выстраивает повествование о жизни завода и «перевоспитании» спецов старой закалки. Позволим себе процитировать одну из критических аннотаций, сопровождающих второе издание «Записок рабкора». «Книга Лаврухина является, пожалуй, первой книгой, где показано громадное богатство рабочей речи и показано совершенно органически — авторская речь срастается с речью героев и обогащается ее без стилизации и без литературной позы. Эту сторону книги Лаврухина и следует, пожалуй, считать наиболее плодотворной в смысле новаторском. Что же касается новаторства в смысле жанра, то книга Лаврухина не открывает новых путей для пролетарской литературы. Форма «Записок рабкора» слишком своеобразна и индивидуальна для того, чтобы ее можно было применять в дальнейшем (и самому Лаврухину и другим). Следующая книга в этом же роде была бы неизбежным подражанием и “повторение пройденного”. Как бы то ни было, “По следам героя” — удача, которая заставляет ожидать от Лаврухина книги не “предварительной”, а “окончательной”. “Резец”, Елена Златова».249 Книгу Лаврухина, настоящий бестселлер 1930–х, оценили не только «наивные» и тенденциозные критики. Четвертое и пятое издание (1932, 1933) редактировал К. Федин (достаточно близкий знакомый Вагинова), в частной переписке доброжелательно о «Записках рабкора» отзывается Л. Я. Гинзбург,250 автор манифеста «промежуточной литературы». Напомним, что сам Лаврухин выступал редактором от Издательства писателей в Ленинграде», в том числе и во время выпуска книги Лидии Ивановой «Первое путешествие» (1932), литературное шефство над которой 249 вели Вагинов и Чуковский. Следовательно, автору Елена Златова <Рец.> // Лаврухин Дм. По следам героя. Записки рабкора. 2–е изд. Л.: Издательство писателей в Ленинграде, 1930. Б. п. 250 См. об этом соответствующую главку в книге: Савицкий С. А. Частный человек. Л. Я. Гинзбург в конце 1920–х — начале 1930–х годов. СПб., 2013. 175 «Гарпагонианы» данный источник был с большой долей вероятности знаком. Глава «Завязки–развязки…» имеет прямое типологическое сходство с «Семечками», если абстрагироваться от явных расхождений поэтических принципов двух писателей и, как следствие, от разных критериев отбора того или иного «факта» для текста. Но принцип нарративизации «цитат» из «Записок рабкора» существенно отличается от условий включения записной книжки Вагинова в «Гарпагониану». Для сравнения двух повествовательных стратегий разберем эпизод из книги Лаврухина. Идет «калибровка» инженера Старикова, бичуют его страсть к древним монетам: «<…>Да, я коллекционирую… ведь это культурная задача… это как добровольная нагрузка… — Какие ж еще другие нагрузки имеете? — Пока еще нет. Нет — да. Я веду дневник в кружке мироздания, то есть мироведения… — Та–ак, — сам нарушая порядок вопросов и ответов, вмешался Белотелов. — Только не случайно ли вы живете в нашу эпоху, раз занимаетесь подбором древних монеток? Где же тут видно дело коммунизма? Разве это дело коммуниста? И вам не завидно, что мы это дело делаем, а вы на отлете, а вы свои монетки сортируете? — А вот я спрошу еще, — выступил низенький в расстегнутом пальто, зажмуривая глаза. — Я спрошу: с коммунистическим приветом беспартийному можно писать? Можно? А он пишет, да… Встал из первого ряда Горский и получил молчаливое согласие Белотелова, выступил. — Совершенно верно заметил товарищ Белотелов, разве коллекционерство дело коммуниста? Но допустим, что это тоже наше дело. Но каким это духом овеяно? Разве тут приложим боевой дух коммунизма, которым овеяны должны быть наши дела, духом конечной цели пролетарской революции, то есть духом коммунизма. Нет. Дело собирания подобных реликвий — ненужное нам сейчас дело…».251 251 Лаврухин Дм. По следам героя. Записки рабкора. Л., 1930. С. 211–212. 176 Очевидное мотивное сходство (герой–коллекционер) с «Гарпагонианой» (как и с изображением коллекционеров в предыдущих романах) для нас не является показательным, хотя данный эпизод не мог не привлечь внимание Вагинова, если предположить, что он действительно читал «Записки рабкора». Нас интересует фраза «с коммунистическим приветом…», которая взята из главы «Завязки– развязки…». Включенная в полилог, фраза приобретает конкретную функцию — обличение Старикова. Она становится одной из многих в цитируемой главе, часто неподготовленных непосредственным ближайшим контекстом (как и в данном случае, обличение бьет мимо страсти к собирательству), однако уместных в условиях дискурса «чистки». Находясь в ином структурном и семантическом окружении, данная фраза не несет ярко выраженного обличительного смысла, более того, имеет субъективный иронический оттенок: – — «Гольная одна досада. – — Все в старостах будут, некому будет перед нами и шапки ломать. – — Какое же его партийное состояние? – — Скажи, почему ты беспартийному в письмах пишешь «с коммунистическим приветом». – — У него так всегда, — от слова до дела сто перегонов. – — Не понят он массой, не понят. Потому что между ним и массой залег аппарат. – — Ах, вы, химики с неумытой газовой улочки».252 252 Лаврухин Дм. По следам героя. Записки рабкора. С. 156–157. 177 Жемчужины красноречия «прозаседавшихся» из рабочих окраин встраиваются в развитие достаточно тривиального для той литературы конфликта, интерпретация развязки которого сводится к просвещению рабочего, коммуниста Орнаментальный и хорошего человека в одном лице. потенциал разрозненных «миниатюр» затухает в условиях стандартного повествования, где «живая» речь передается словами автора: диалогическими и монологическими конструкциями, несобственно–прямой речью. Основная функция главы, имитирующей записную книжку Лады, равно как и главное достоинство книги Лаврухина, по мнению большинства рецензентов — экспликация механики творческого процесса рабкора, В контексте развернутой программы «литературной учебы» пример Лады призван разъяснить, как из разрозненных, мало что означающих «цитат» вырастает связная, выверенная повесть на актуальные темы. Несмотря на то что внутри «Завязок–развязок» можно найти и языковую игру, и случаи сознательного абсурдного употребления партийных клише, большевицки», и оксюморонные Лаврухину ситуации сложно говорения приписать «по– решение социолингвистических задач или же выявить следы поиска адекватной поэтической техники романного письма. С нашим заключением солидаризируется современная Лаврухину критика: «Дмитрий Лаврухин — питерский рабочий, член рабочего литературного кружка, как и герой его записок, Лада. В книге Лаврухина нет ничего декларативного, автор далек был от намерения выступить с какой–нибудь литературной программой. Но коренная связь молодого писателя с повседневной жизнью своего круга, хорошо развитый слух и наблюдательность, желание и умение работать сделали из его книги — если угодно, насквозь экспериментальной — то, что она стала своеобразной практической декларацией писательского дела сегодня и, к счастью, в то же время, художественным произведением о писательской судьбе. Обнажая вся лабораторию писательского ремесла, роман может служить своего рода руководством по литературной технологии, пособием бесчисленным нашим кадрам 178 начинающих писателей, журналистов, слушателей литературных курсов. Конечно, это не сухое пособие. Это подлинный роман, читающийся с увлечением, насыщен самым драгоценным в искусстве действием — не кинематографическим движением, не суматохою побегов и приключений, а внутренним упрямым и трудным ростом героя. Если угодно, это уже не “поиски героя”, это история развития найденного, отысканного героя — и на мой взгляд — первого в советской и пролетарской литературе удачно изображенного, не вымышленного, реального героя. Бесспорно то, что за рабкором Ладой (может быть с известными оговорками) не только будущее нашей литературы, но и вообще будущее. К такому убеждению приводят и способности этого героя, и его умение работать, и весь его сильный жизненный заряд. «Стройка» № 1, Конст. Федин».253 Оценка Лады как «первого <…> невымышленного героя» дает право Вагинову пользоваться «Семечками» с целью придать своему роману бóльшую степень «Гарпагонианы» достоверности. записи не Однако, передаются помещенные в ведомство в текст типичных повествовательных инстанций — Вагинов ищет пути прямой трансляции зафиксированных речевых практик, коммуникативные фрагменты, а даже только если цитируются отдельные выписки не из «словников». Речь идет не столько о содержании «цитат», сколько о прагматических их свойствах (выписаны из записной книжки — генетически правдоподобны), что эксплицируется в повествовательной структуре. Вот первый эпизод, где мы находим следы «Семечек»: «А когда наступил вечер, он <Локонов — Д. Б.> вошел в зеленый дом. Незнакомый голос (громко): — На Путиловском заводе жил козел Андрюшка. Просыпаясь утром, шел козел в кабак. Там его угощали. Налижется, бредет по улице, покачивается. Да и погиб он, как настоящий пьяница: встал на рельсы, поезд идет, орет вовсю, а Алешка хоть бы что, пригнул голову. Он был серый, пушистый, огромный. И была у него жена. Он стал приучать ее тоже пьянствовать. 253 Федин К. К. <Рец.> // Лаврухин Дм. По следам героя. Записки рабкора. Л., 1930. Б. п. 179 Утром встанет и гонит ее к кабаку. <…> Голос Торопуло (радостно): — Розы похожи на рыб. Это не мной подмечено. Возьмите любой каталог, и вы найдете в нем лососинно–розовые, лососинно–желтые, светло–лососинные розы. Встречаются розы, похожие на молоко, фрукты, ягоды». (ПССП, 400–401) Отчетливая драматическая структура (композиционно выделенные реплики персонажей) дает фразам автономию от слов от автора. Такого рода «непрепарированный» художественный дискурс при номинальном отсутствии (или «скупости») авторского высказывания напоминает орнаментальный сказ (Н. А. Кожевникова),254 однако нашедший свое выражение не только в собственной речи героев, но и ставший конструктивным принципом дискурса романа. Как бы ни было это неожиданно, но цитатой из «Семечек» является не рассказ о пьянице Андрюшке (топос Нарвской заставы) — Торопуло перебирает список экзотических роз, находимый в записной книжке: «Чайные розы.255 Лососино–розовая Кармазино–красная Лососино–желтая Медно–розовая Млечно–белая Розовая, бело–окаймленная Телесно–розовая 254 «Сказ и орнаментальная проза, явления в чистом виде противоположные друг другу в это время осознаются как явления близкие не случайно — целый ряд писателей в чужом слове привлекает не столько его социальная определенность, сколько его орнаментальность. <…> Одним из путей развития сказа в литературе 1920–х годов становится движение от конкретного, социально и психологически однозначного повествования к социально неопределенному и стилистически свободному и широкому объединению противоречивых элементов <…>». См.: Кожевникова Н. А. Типы повествования в русской литературе XIX–XX вв. М., 1994. С.72. 255 Напротив данного списка в рукописи есть карандашная отметка, галочка — видимо дополнительное свидетельство, что Вагинов выбрал это место для цитаты в романе. 180 Светяще–розовая Лососино–белая Блестяше–телесно–розовая Светяше–розовая Вишнево–красная Нежно–лососино–розовая Блестяще–розовая» Вне относительно семантического правдоподобия данной цитаты, ее прагматика дает возможность «скупой» повествовательной конструкции. Сами цитаты на этом основании всегда остаются имплицитны. Напротив, воровской жаргон, на котором разговаривают маргиналы «Гарпагонианы», также заимствованный из записной книжки, будет включен в речь героев на стандартных основаниях. Здесь стилистические маркеры сами по себе не обладают свойством прямого высказывания: «— Такого инженера нужно поматросить да в Черное море забросить,256 — произнес он почти вслух. Посмеялись надо мной, вместо инженера повара мне подсудобили. Будет у Пашки спина мягче живота. Пусть знает, не фрейер я, чтоб меня на хомут брать». (ПССП, 425) Или: «— Вот что, миляга, — сказал Мировой. — Видишь полфедора? — Он показал Анфертьеву пол–литра. Ты у меня завтра петь будешь. Я театр организовываю. Хрусты еще в придачу получишь. Ты уж один не пой, я тебя покупаю». (ПССП, 423) Интересно, что в романе есть и скрытые аллюзии на процесс накопления записей в «Семечках», потенциально метафикциональные описания, в обязательном порядке требующие экспликации в КП или же в ТДС. 256 Здесь и далее нижним подчеркиванием выделяется текст, взятый из «Семечек» – Д. Б. 181 «Все мы разбрелись по сжатому полю, — размышлял Локонов, — и собираем забытые колосья, думая, что делаем дело, и в то же время новые сеятели вышли на свежую ниву, приготовляя новую жатву и торжество нового типа. Пуншевич, по–видимому, надеется, что из мелочей и подробностей построится довольно полная характеристика века и периода». (ПССП, 412) Повтор морфемы «сем», равно как и превознесенная значимость «мелочей», отсылает, при условии того, что мы знаем о заглавии вагиновской тетради, не только к собирательству «полевых» записей, но и ко всему символическому комплексу, натурфилософской идее семени как первоосновы мироздания, исторического развития, связанного с календарным сельскохозяйственным циклом. Подобное абстрактное высказывание героя может быть прочитано как авторская рефлексия по отношению к своей деятельности. Однако показательно то, что данный эпизод относится к первой редакции, законченной до того, как в тексте стали появляться собственно цитаты из «Семечек». Равно как и следующий отрывок, также содержащий в себе рефлексию, оценку писательской деятельности, приправленную едкой иронией. «Какая чушь в голову лезет! А мать моя, бывший ангел, превращается в сову, она становится бессмысленной старушкой. Сидит или бегает и ничего не понимает, только и делает, что в очередях разговоры слушает. Может быть, это и есть, что называется общими интересами. Узнает, что у старика кошелек вытащили или что женщина нечаянно палец отрубила и не нашла». (ПССП, 413) Такого рода эпизоды отдаляют нас от принятой описательной модели происходящего в романе, однако никак не влияют на появление «скупого» авторского высказывания, которое мы связываем в первую очередь со второй редакцией «Гарпагонианы». Основное средоточие цитат из «Семечек» приходится на целиком относящуюся ко второй редакции главу «Гроза». Герои во время народных 182 гуляний в Петергофе попадают под ливень и вынуждены тесниться под крышей галереи, где становятся невольными слушателями происходящих между посетителями бесед: «На стеклах галереи появились отдельные капли. Блеснула молния. Ударил гром. Парк мигом опустел. В галерее яблоку негде было упасть. — Смотри, дождище–то какой! — Дождь нужен. — Происходят они из одного класса, а души у них другие. — Совести у тебя нет, у тебя совесть, как у нэпмена. — Так вот, я и говорю, будет этому вредителю гроб с музыкой! — Что и говорить, в молодости дни летят, как огурчики! — Смотри, какой толстяк! — Кто свиной, тот и толстой. — Мой приятель женился на бабе в шесть пудов. Интересно, как он будет выглядеть! — То есть как выглядеть? — Ведь это изюм на куличе. — Вот так–то мы боролись с прорывом. Каждый в отдельности скулит: хлеба нет, масла нет, а вместе — удивляешься сколько героизма. Дождь перестал». (ПССП, 479) Цитаты часто неточные, опосредованные дополнительным контекстом, отсутствующим в «Семечках» («в молодости дни летят, как огурчики»), попадая в роман, изменяют свою синтаксическую конструкцию (диалог про «изюм на куличе») — однако прагматическая значимость цитаты из записной книжки, где собраны действительные впечатления маркируется и в реально услышанная структуре речь, повествования всегда сохраняется «скупым» и авторским высказыванием. Вскоре описание событий принимает структуру записной книжки. Отдельные «разговоры» дополняются лишь короткими указаниями на место их «записи», они фрагментарны и самоцельны, связывающий или 183 обуславливающий их появление сюжет, кажется, прекращается, как только гроза окончательно унялась. Повествовательное пространство расширяется с неумолимой скоростью, все больше удаляясь от галереи. Из–под навеса реплики перемещают нас «на дорожку у пруда», «на дорожку у фонтана», на «дорожку у позолоченной статуи» ... Не все предложенные микродиалоги могут быть найдены в «Семечках» — важно структурное соответствие двух гетеродискурсивных текстов, влияние записной книжки на роман. Расширяющееся пространство, по нашему мнению, свидетельствует о возможностях такого повествования транслировать «типичные обстоятельства», служить основанием для новой конвенции реалистического письма. Случай Вагинова–«соцреалиста», кажется, проблематизирует устойчивый тезис о том, что в сталинской культуре «жизнь в ее революционном развитии вступила в конфликт с жизнью в ее документальной точности».257 В заключение упомянем один конфликт между литературой и документальной точностью. С. З. Федорченко еще в 1917 году публикует якобы собранные ею самой частные реплики простых людей, оказавшихся в жерновах Первой мировой войны. «Народ на войне: Фронтовые записки» пользуются огромной популярностью и вскоре имеют продолжение — в 1925 году издан том «Революция» с полевыми материалами военных действий 1917 года. Ажиотаж вокруг книг возник благодаря заявленной подлинности записанных свидетельств. «Была я все время среди солдат, записывала просто, не стесняясь, часто за работой, и во всякую свободную минуту. В большинстве это беседы солдат между собой. Можно было иногда записывать и при них, так как солдаты привыкли видеть, что сестра всегда что–нибудь пишет (то температуру, то назначение, то „на выписку“, то письма), и, не обращая на это никакого внимания, разговаривают. Лично мне интересного говорилось меньше, особенно молодыми солдатами. Они всё старались под мой уровень 257 Добренко Е. Политэкономия соцреализма. М., 2007. С. 36. 184 подладиться, всё думали, что „простое мне не понять будет“, а когда начинали говорить на подходящем, по их мнению, языке, было скучно, и записывать не стоило. Пожилые солдаты, те чаще рассказывали мне, даже диктовали иногда. Так я записала некоторые песни про войну, сказки, заговоры, предания: они не все вошли в эту книгу».258 Действительно, речь в книге целиком предоставлена «народу», автор только компилирует разрозненные, как будто из записной книжки, свидетельства, солдатский фольклор и т.д. Однако в 1928 году, во время подготовки Федорченко третьей части «Гражданская война» разразился скандал. Писатель в интервью как бы между делом признается, что книга писалась не на фронтах боевых действий, а в кабинете за письменным столом. Обман был бы раскрыт и без участия автора, если бы к 1920–м годам был сформирован фольклорный корпус, которым антропологи обладают в наши дни. Сегодня нет сомнения в том, что стилизация Федорченко типологична «фейклору» сталинского времени: В эпоху Первой мировой войны на страницах печатных изданий Российской империи появляется большое количество якобы фольклорных текстов (главным образом — песен и частушек), призванных продемонстрировать патриотизм и боевой дух русского народа. Собственно говоря, подобные манипуляции воображаемыми образами «народа» и фальсифицированным фольклором вообще характерны для культуры образованных элит в России XIX — начала XX вв., особенно — в пореформенное время. Несколько десятилетий спустя, в эпоху нового закрепощения русских крестьян коммунистической диктатурой, эта тенденция завершится монструозным проектом по созданию “советского фольклора” — своего рода сталинской фабрикой по производству “устно–поэтических” текстов, восхваляющих лидеров государства и «советскую действительность».259 Стилизация Федорченко почти десятилетие считалось источником «правды о войне», во многом благодаря выбранной «цитатной» форме 258 Цит. по: Глоцер В. И. К истории книги С. Федорченко «Народ на войне» // Русская литература 1973. № 1. С. 149. 259 Панченко А. А. Софья Федорченко и «русский народ» // Федорченко С. З. Народ на войне. СПб., 2014. С. 8–9. 185 повествования. Вне контекста авторской речи стилизация фактически не может быть распознана. В «Проблемах творчества Достоевского» (1929) Бахтин формулирует общее свойство речи в условиях стилизации, сказа, пародии, диалога. За счет обширного диапазона действия, данная формула приобретает основополагающий характер для определения романной риторики. Отдельное упоминание сказа или стилизации — дань времени, когда подобные магистральными взаимоотношения при передачи (сквозь сказ) «документального», становятся «правдивого материала» (ср. рассказы М. М. Зощенко или, охватывая предельные точки литературного процесса 1920–30–х годов — полемику вокруг языка первых книг романа Ф. И. Панферова «Бруски»). Слово здесь имеет двоякое направление — и на предмет речи, как обычное слово, и на другое слово , на чуж ую речь. Если мы не знаем этого второго контекста чужой речи и начнем воспринимать стилизацию или пародию так, как воспринимается обычная — направленная только на свой предмет — речь, то мы не поймем этих явлений по существу: стилизация будет воспринята нами как стиль, пародия — просто как плохое произведение.260 Знание истинного происхождения «чужой» речи, помещенной в «Гарпагониану», то есть экспликация записной книжки как одного из источников текста, кажется, принципиально не изменяет восприятие романа, так как оформление данной речи (мы затрудняемся точно определить повествовательный тип, однако в бахтинский список риторика «Гарпагонианы» войдет) сопричастна со структурными особенностями «скупой» романной формы. Вагиновым применяется такой тип риторики, которая распознается только уже на структурном уровне, не тождественном речевому контексту, но обусловленном прагматически в условиях романного дискурса. 260 Бахтин М. М. Проблемы творчества Достоевского. с. 81. 186 187 Заключение Анализируя прозаические тексты 1920–х годов, которые можно отнести к метафикциональному жанру, британский славист Дэвид Шеперд встраивает в один ряд такие произведения как «Вор» Л. Леонова, «КиК» М. Шагинян, «Художник неизвестен» и «Скандалист или вечера на Васильевском острове» В. Каверина и ТДС К. Вагинова.261 По мнению исследователя, данная жанровая парадигма раннего советского периода характеризуется не столько мотивом рефлексии над творческим процессом или же особой композицией «текст в тексте», которая, казалось бы, избавляет произведение от референциальной реальности — но, напротив, отличается репрезентацией творческого процесса в социальном, историческом и политическом контекстах. Иными словами, литература Свистонова более «реальна» только по отношению «к изменяющемуся ежеминутно миру» . Как показывает внелитературный неотъемлемым наше контекст, имманентным исследование, определяемый признаком в прозе Вагинова Шепердом, является структуры повествования, которая, тем самым, обладает прагматическими свойствами. Вагинов не просто искал соответствие своих текстов с тенденциозной литературой и литературными конвенциями эпохи, но видел в этом процессе дополнительные художественные возможности, расширяющие романный жанр. Еще в начале 1920–х «интеллигенты обязательно должны были выработать во многом более изощренные навыки “приспособления”, с другим языком и приемами самооправдания, нежели те, которые были 261 Shepherd D. Beyond metafiction: Beyond metafiction: self–consciousness in Soviet literature. Oxford, 1992. 260 p. 188 присущи рабочим».262 В дальнейшем способы социализации становились только все более противоречивыми и трудными. Однако на протяжении всего прозаического творчества Вагинов превращает изменяющийся литературный быт в прагматическое значение своих художественных текстов. Кроме того, в рамках типологии Шеперда роман Вагинова представляется наименее подверженным дискурсивным влияниям (в противоположность прозе Леонова и Шагинян). Тем не менее, прагматика писательского ремесла распространяется на всех агентов литературного поля, в том числе и на маргинальных представителей, вроде Вагинова, на первый взгляд, чувствительных только к имманентной литературной традиции. В этой связи литературных перспективным современников кажется Вагинова, анализ творчества принадлежащих к предшествующему поколению, однако продолжавших писать в советские годы. Использованная нами методология, в рамках которой акцентируется внимание на прагматических аспектах поэтики, представляется применимой для исследования наследия, например, М. А. Кузмина, Ю. И. Юркуна и других писателей «кузминского» круга. Возможная работа в этом направлении прояснит источники творческих экспериментов была перспектива исследования Вагинова. Не менее интересной бы литературного влияния творчества Вагинова на «младших» коллег– прозаиков: А. Н. Егунова, Г. С. Гора, авторов группы «АБЭРИУ» т. д. По нашему мнению, художественного литературного 262 исследования высказывания процесса русской прагматических позволит литературы выстроить советского аспектов парадигму периода, Яров С. В. Интеллигенция и власть в Петрограде 1917–1925 годов: конформистские стратегии и язык сотрудничества // Новое литературное обозрение. 2006. № 78. [Электронный доступ: http://magazines.russ.ru/nlo/2006/78/iar1.html] 189 бесконфликтно включающую самые разные художественные поэтики, до последнего времени рассматривающиеся только как маргинальные литературные явления. 190 Список сокращений и условных обозначений АЭ КП — авторский экземпляр первого издания романа «Козлиная песнь» // РО ИРЛИ. р.I, оп. 4, ед. хр. 269. АЭ ТДС — авторский экземпляр первого издания романа «Труды и дни Свистонова». Частный архив. КП — роман «Козлиная песнь» ПССП — Вагинов, К. К. Полное собрание сочинений в прозе / К. К. Вагинов; [Сост. А. И. Вагиновой, Т. Л. Никольской, В. И. Эрля; Подгот. текста В. И. Эрля; Вступ. ст. Т. Л. Никольской; Примеч. Т. Л. Никольской, В. И. Эрля]. — СПб.: Академический проект, 1999. — 590 с. ТДС — роман «Труды и дни Свистонова» ТДСр — Вагинов, К. К. Козлиная песнь: Роман / К. К. Вагинов // Звезда. — 1927. — № 10. — С. 53–97 ТДСп — Вагинов, К. К. Труды и дни Свистонова: Повесть / К. К. Вагинов // Звезда. — 1929. — №5. — С. 71–92 191 Библиография Источники текстов К. К. Вагинова 1. Вагинов, К. К. Гарпагониада / К. К. Вагинов. — Ann Аrbor: Ardis, 1983. — 128 с. 2. Вагинов, К. К. Козлиная песнь / К. К. Вагинов // Звезда. — 1927. — № 10. — С. 53–97 3. Вагинов, К. К. Козлиная песнь / К. К. Вагинов. — Л.: Прибой, 1928. — 186 с. 4. Вагинов К. К. Козлиная песнь / К. К. Вагинов. — Нью–Йорк: Silver Age, 1978. — 198 с. 5. Вагинов, К. К. Козлиная песнь; Труды и дни Свистонова; Бамбочада: [Романы] / К. К. Вагинов; [Подгот. текста, вступ. ст. Т. Л. Никольской]. — М.: Художественная литература, 1989. — 473 с. — (серия «Забытая книга»). 6. Вагинов К. К. Труды и дни Свистонова / К. К. Вагинов; [Вступ. ст. проф. Леонардо Палеари]. — Нью–Йорк, 1984. — 152 c. 7. Вагинов, К. К. Полное собрание сочинений в прозе / К. К. Вагинов; [Сост. А. И. Вагиновой, Т. Л. Никольской, В. И. Эрля; Подгот. текста В. И. Эрля; Вступ. ст. Т. Л. Никольской; Примеч. Т. Л. Никольской, В. И. Эрля]. — СПб.: Академический проект, 1999. — 590 с. 8. Вагинов К. К. Собрание стихотворений / К. К. Вагинов; [Сост., послесл. и примеч. Л. Черткова; Предисл. В. Казака]. — Munchen: Sagner, 1982. — 236 c. 9. Вагинов, К. К. Труды и дни Свистонова / К. К. Вагинов. — Л.: Изд– во писателей в Ленинграде, 1929. — 152 с. 192 10.Вагинов, К. К. Труды и дни Свистонова: Повесть / К. К. Вагинов // Звезда. — 1929. — №5. — С. 71–92 11.Константин Вагинов / К. К. Вагинов; [публ. Т. Л. Никольской, Л. Н. Черткова] // День поэзии. — 1967. — С. 77–78 12.Четыре поколения: Нарвская застава / Орг. кн. С. Д. Спасский; сбор материала, ред., композиция С. Д. Спасский, А. Г. Ульянский; в сборе материала принимали участие: К. К. Вагинов, Н. К. Чуковский. — Л.: Изд–во писателей в Ленинграде, 1933. — 558 с. 13. Vaginov K. Bambocciata / K. Vaginov; [Traduzione di Clara Coizzon, Con una nota di Vittorio Strada]. — Torino: Einaudi, 1972. — 128 p. Архивные материалы 14.ОР РНБ ф. 1278, оп. 2, ед. хр. 13. 15.ОР РНБ ф. 1278, оп. 2, ед. хр. 9. 16. ОР РНБ ф. 1278, оп. 2, ед. хр. 61. 17. ОР РНБ ф. 1278, оп. 2, ед. хр. 32. 18. ОР РНБ ф. 1278, оп. 2, ед. хр. 34. 19. ОР РНБ ф. 1278, оп. 2, ед. хр. 49. 20. ОР РНБ ф. 1325, ед. хр. 10. 21. ОР РНБ ф. 1325, ед. хр. 15. (Вагинов К. К. Гарпагониана) 22. ОР РНБ ф. 1325, ед. хр. 22, л. 1. 23. ОР РНБ, ф. 709, ед. хр. 3. 24. ОР РНБ. ф. 474. ед. хр. 11 25. РО ИРЛИ ф. 109, ед. хр. 835. л. 1. 26.РО ИРЛИ. р.I, оп. 4, ед. хр. 269. (Вагинов К. К. Козлиная песнь) 27. ЦГАЛИ СПб ф. № 59, оп. № 2, д. 605. л. 2. 28. ЦГАЛИ СПб. ф. 32. оп. 1. д. № 27. 97 л. 29.Частный архив (СПБ). (Вагинов, К. К. Семечки. Записная книжка; Вагинов К. К. Труды и дни Свистонова) 193 Источники, критика и публицистика 1920 — 1930–х годов 30. Авдеев, Е. Две ударных: [Ленинградский металлический завод им. т. Сталина] Бригада токарей Авдеев, Аптекман, Глухов, Кириллов, Маневич, Перцович, Рейн, Тихоненко, Шерер / Е. Авдеев; [орг. кн. Д. Лаврухин]. — Л.: Изд–во писателей в Ленинграде, 1932. — 148 с. 31. Анциферов, Н. П. Быль и миф Петербурга / Н. П. Анциферов. — Пг.: Брокгауз–Ефрон, 1922. — 226 с. 32. Анциферов Н. П. Душа Петербурга / Н. П. Анциферов. — Пг.: Брокгауз и Ефрон, 1922. — 156 с. 33.Б. п. [Рецензия на роман] «Козлиная песнь» // Октябрь. — 1929. — № 1. — С. 218 34. Бергстедт, Г. Александерсен. / Г. Бергстедт; [Пер. с датск. яз.; Предисл. А. В. Ганзен]. — Петербург.–М.: Всемирная литература, 1924. — 384 с. — (Новости иностранной литературы) 35. Бойцы и корабли: [Сб. расск. литгруппы газ. «Красный Балтийский флот»]. — Л.: Изд–во писателей в Ленинграде, 1932. — 158 с. 36. Борисоглебский, М. В. Бумажный вуз: [Очерк Красногорской бумажной фабрики]. — Л.: Изд–во писателей в Ленинграде, 1931. — 174 с. 37. Будовниц, И. У. Весна 1930: [Очерки колхозного строительства Ленингр. обл.] / И. Будовниц. — Л.: Изд–во писателей в Ленинграде, 1930. — 124 с. 38. Булгаков, М. А. Собрание сочинений: в 5 т. / М. А. Булгаков; [Редкол.: Г. С. Гоц и др.]. — М.: Художественная литература, 1989– 1990. — 2 т. 39. Гесиод Работы и дни: Земледельческая поэма / Гесиод; [Перев. с древне–греч. В. В. Вересаев; Дополнения: Статьи о Гесиоде Т. Бергка, П. Вальца, А. Ржаха, В. Христа, М. Круазе, Э. Роде]. — М. 194 Недра, Новая Москва, 1927. — (Литературно–художественная библиотека «Недра») 40. Володарка: [Очерки прошлого и настоящего Ленинградской писчебумажной фабрики им. Володарского] / Е. Абрамович, В. Александров, Е. Андреева... и др.; [Орг. кн. А. Ульянский]. Л.: Изд– во писателей в Ленинграде, 1932. — 166 с. 41.Гезиод: Подстрочный перевод поэм с греческого / Гезиод; [Вступ. ст.; прим.; пер. Г. Властова]. — СПб.: тип. т–ва Общественная польза, 1885. — X, 280 c. 42. Горький, А. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. / А. М. Горький; [АН СССР; ИМЛИ им. А. М. Горького]. — М.: Гос. изд–во худож. лит–ры, 1949–1955. — 26 т. — (Статьи, речи, приветствия: 1931– 1933) 43. Гоффеншефер, В. Конст. Вагинов. Козлиная песнь: [рец.] / В. Гоффеншефер // Молодая гвардия. — 1928. — № 12. — С. 203–204 44. Дерман, А. К. Вагинов. Козлиная песнь: [рец.] / А. К. Дерман // Книга и профсоюзы. — 1928. — № 10. — С. 43 45. Евгеньев, Т. Огни над Невой / Т. Евгеньев // Вечерняя красная газета. — 1933. — № 258 (4038). — С. 2 46. Златова, Е. <Рец.> / Е. Златова // Лаврухин Дм. По следам героя. Записки рабкора / Д. И. Лаврухин. — 2–е издание. — Л.: Издательство писателей в Ленинграде, 1930. — Б. п. 47. Звонким голосом Методическое литераторам стиха. пособие в объединения К 100–летию помощь (из основания молодым опыта работы завода: самодеятельным литературного объединения «Светлана») / Предисл. В. Е. Петрова. Л., 1989. — 112 с. 195 48. Иванова, Л. Первое путешествие: [Очерк о поездке ударников на теплоходе "Абхазия". 1930 г.] / Л. Иванова. — Л.: Издательство писателей в Ленинграде, 1932. — 128 с. 49. Каждый для себя и немногих: [сб. стих., изданный на средства авторов] / Белоусов, Вдовин, Исаков, Палей, Мезенцев, Плеткин, Руновская, Пономарева, Лаврухин, Кузнецов и др. — Самара: тип. Флоровой, 1885. — IV, 87 с. 50. Кузмин, М. А. Стихотворения / М. А. Кузмин; [Вступ. ст., сост., подг. текста и прим. Н. А. Богомолова]. — 2–ое изд., испр. — СПб.: Академический проект, 2000. — 831 с. 51. Лаврухин, Д. И. По следам героя. Записки рабкора / Д. И. Лаврухин. — 2–ое издание. — Л.: Издательство писателей в Ленинграде, 1930. — 292 c. 52. Лаганский, Е. М. Завоеватели машин: [Очерк завода им. Карла Маркса и др. очерки] / Е. М. Лаганский. — Л.: Изд–во писателей в Ленинграде, [1931]. — 228 с. 53. Мительман, М. И. История Путиловского завода: 1789–1917 / М. И. Мительман, Б. Д. Глебов, А. Г. Ульянский; [Ред. В. А. Быстрянского]. — М.–Л.: Соцэкгиз, 1939. — 756 с. 54. Мольер Ж. Б. Полное собрание сочинений: в 3 т. /Ж. Б. Мольер; [пер. с фр. под ред. Н. М. Любимова]. — М.: Искусство, 1987. — 3 т. 55. Новый набор: [Произведение литкружковцев типографии им. Е. Соколовой в Ленинграде] / А. Гирциус, С. Джуринский, А. Крутецкий и др.; [Орг. кн. Г. Сорокин и С. Спасский]. Л.: Изд–во писателей в Ленинграде, 1932. — 165 с. 56. Орлов, Ал. Светлановская повесть. / Ал. Орлов. — Л.: Издательство писателей в Ленинграде, 1933. — 120 с. 196 57. Патер, У. Воображаемые портреты / У. Патер; [Пер. и вступ. ст. П. Муратова]. — Изд. 2–е, испр. и доп. — М.: Издательство К. Ф. Некрасова, 1916. — XXII, 248 с. 58. Пушкин, А. С. Полное собрание сочинений: в 17 т. / А. С. Пушкин; [АН СССР; Ред.комитет: А. М. Горький, Д. Д. Благой, С. М. Бонди, В. Д. Бонч–Бруевич, Г. О. Винокур, А. М. Деборин, П. И. Лебедев– Полянский, Б. В. Томашевский, М. А. Цявловский, Д. П. Якубович]. — М.: Воскресенье, 1994–1998. — 12 т. — (Критика. Автобиография) 59. Розенталь, С. К. Вагинов. Козлиная песнь: [рец.] / Розенталь С. К. // Красная новь. — 1928. — № 10. — С. 245–246 60. Сергиевский, И. Вагинов. Козлиная песнь: [рец.] / Сергиевский И. // Новый мир. — 1928. — № 1. — С. 284–285 61. Тихонов, Н. С. Как я работаю / Н. С. Тихонов // Литературная учеба. — 1931. — №5. — С. 92–106 62. Тихонов, Н. С. Собрание сочинений: В 7 т. / Н. С. Тихонов; [Редкол.: Р. Г. Гамзатов и др.; Сост. В. Н. Тихоновой, И. А. Чепик; Вступ. ст. М. А. Дудина; Коммент. И. Л. Гринберга, М. И. Земской]. — М.: Худож. лит., 1985. — Т 1. — (Стихотворения; Поэмы; Переводы) 63. Третьяков, С. М. Дэн Ши–Хуа. Био–интерьвю / С. М. Третьяков. — М.: Молодая гвардия, 1930. — 392 с. 64. Труды и дни: Двухмесячник изд–ва «Мусагет». — М.: Э. К. Метнер, 1912. — № 1. 65.Ульянский, А. Г. Партийная работа в годы реакции (1907–1910): Главы из истории [Кировского] завода / А. Г. Ульянский, Кировский завод. — Л.: Ред. истор. завода, 1935. — 82 с. 66. Федин, К. К. <Рец.> / К. К. Федин // Лаврухин Дм. По следам героя. Записки рабкора / Д. И. Лаврухин. — 2–е издание. — Л.: Издательство писателей в Ленинграде, 1930. — Б. п. 197 67. Чуковский, Н. К. Тяжелая потеря / Н. К. Чуковский // Литературный Ленинград. — 1934. — № 20. — 30 апреля 68. Шкловский, В. Б. Тогда и сейчас / В. Б. Шкловский // Литература факта: первый сборник материалов работников ЛЕФа / Под ред. Н. Ф. Чужака. — М.: Захаров, 2000. — С. 129–130. — (Знаменитые книги) 69. ЭПРОН. 1923–1933: Очерки бригады писателей. / А. Карпинский, А. Толстой, И. Соколов–Микитов, Вяч. Шишков, Л. Попова, Н. Никитин, Ел. Тагер, А. Садовский, Л. Ленч, А. Горелева, М. Шкапская. — Л.: Изд–во писателей в Ленинграде, 1934. — 222 с. Газетная периодика 1920 — 1930–х годов 70. Светлана. — 1931. — № 7 (135). — 7 марта 71. Светлана. — 1930. — № 30 (126). — 17 декабря. 72. Светлана. — 1930. — № 31 (127). — 18 декабря 73. Светлана. — 1930. — № 29 (125). — 25 ноября 74. Светлана. — 1933. — № 46 (279). — 6 ноября 75. Светлана. — 1931. — № 7 (135). — 7 марта 76. Светлана. — 1931. — № 1 (129). — 8 января 77. Светлана. — 1933. — № 5 (238). — 3 февраля 78. Светлана. — 1933. — № 19 (252). — 5 мая 79. Советская Абхазия. — 1932. — № 268 (3413). — 21 ноября Исследования 80. Александров, А. Обэриу. Предварительные заметки / А. Александров // Ceskoslovenska rusistika. — 1968. — №5. — С.296– 303 81.Альтшуллер, М. Г. Беседа любителей русского слова. У истоков русского славянофильства / М. Г. Альтшуллер. 2–е издание, дополн. 198 — М.: Новое литературное обозрение, 2007. — 444 с. — (Historia Rossica) 82. Амусин, М. Текст города и саморефлексия текста / М. Амусин // Вопросы литературы. — 2009. — № 1. — С. 152–175 83. Арлаускайте Н. Следы «покушения с негодными средствами», или О пользе чтения уголовного кодекса: Борис Поплавский, Владимир Набоков, Константин Вагинов и многие другие / Н. Арлаускайте // Новое литературное обозрение. — 2003. — №64. — С. 303–304 84.Аронсон, М. И., Рейсер, С. А. Литературные кружки и салоны / М. И. Аронсон, М. И. Рейсер; Ред. и предисл. Б. М. Эйхенбаума. — СПб.: Аграф, 2001. — 398 с. — (Литературная мастерская) 85. Баак, Й. Заметки об образе мира у Вагинова / Й. ван Баак // Вторая проза: Русская проза 20–30–х годов ХХ века: [Труды междунар. конф. «Вторая проза». Рус. проза 20–х — 30–х гг. XX в. (к столетию со дня рождения Л.И. Добычина). М. 19–22 дек. 1994 г.] / Сост. В. Вестсейн. — Тренто, 1995. — С. 145–152 86. Байбурин, А. К. Введение паспортной системы в СССР / А. К. Байбурин // Статус документа: Окончательная бумажка или отчужденное свидетельство? / Cб. статей под ред. И. М. Каспэ. — М.: Новое литературное обозрение, 2013. — С. 75–103 87. Бахтерев, И. В. Встречи / И. В. Бахтерев // Российский институт истории искусств в мемуарах / под ред. И. В. Сэпмен. — СПб: РИИИ, 2003. С. 160–163 88. Бахтин, М. М. Полное собрание сочинений: в 7 т. / М. М. Бахтин; [ИМЛИ им. А. М. Горького; Редкол.: С. С. Аверинцев, С. Г. Бочаров, Л. А. Гоготишвили, В. В. Кожинов, Н. И. Николаев и др.]. — М.: Русские словари, Языки славянских культур, 1997–2012. — 1 т. — (Философская эстетика 1920–х годов) 199 89. Бахтин, М. М. Беседы с В. Д. Дувакиным / М. М. Бахтин, В. Д. Дувакин; [Предисл., послесл., коммент. С. Г. Бочарова и др]. — М.: Согласие, 2002. — 398 с. 90. Бахтин, М. М. Полное собрание сочинений: в 7 т. / М. М. Бахтин; [ИМЛИ им. А. М. Горького; Редкол.: С. С. Аверинцев, С. Г. Бочаров, Л. А. Гоготишвили, В. В. Кожинов, Н. И. Николаев и др.]. — М.: Русские словари, Языки славянских культур, 1997–2012. — 2 т. 91. Бахтин, М. М. Полное собрание сочинений: в 7 т. / М. М. Бахтин; [ИМЛИ им. А. М. Горького; Редкол.: С. С. Аверинцев, С. Г. Бочаров, Л. А. Гоготишвили, В. В. Кожинов, Н. И. Николаев и др.]. — М.: Русские словари, Языки славянских культур, 1997–2012. — 3 т. — (Теория романа (1930–1961 гг.) 92. Бельмен–Ноэль, Ж. Воссоздать рукопись, описать черновики, составить аван–текст / Ж. Бельмен–Ноэль // Генетическая критика во Франции: [Антология] / Редкол. Т. В. Балашова, Е. Е. Дмитриева, А. Д. Михайлов (отв. ред.), Д. Феррер, вступ. ст. Е. Е. Дмитриевой. — М.: ОГИ, 1999. — С. 93–115 93. Берберова, Н. Из петербургских воспоминаний. Три дружбы / Н. Берберова // Опыты. — 1953. — № 1. — С. 166–170 94. Блюм, А. Г. «Зеленый стол и мертвые кресты…»: Константин Вагинов под советской цензурой / А. Г. Блюм // La pensee russe. — 2000. — № 4300. — 13 января. — С. 13 95. Блюм, А., Мартынов, И. Петроградские библиофилы: По страницам сатирических романов К. Вагинова / А. Блюм, И. Мартынов // Альманах библиофила. — 1977. — Вып.4. — С. 217–235 96. Бреслер, Д. М. «Фьютс культура»: к проблеме интертекста «Заката Европы» в романах К. Вагинова / Д. М. Бреслер // Статьи и материалы IX международной летней школы по русской литературе: 200 [сб. ст.] / Под ред. А. Кобринского. — СПб.: ИПЦ СПБГУТД, 2013. — С.115–127. 97. Бреслер, Д. М., Дмитренко, А. Л. Константин Вагинов в диалоге с пролетариатом (литкружок завода "Светлана" и работа над историей Нарвской заставы) / Д. М. Бреслер, А. Л. Дмитренко // Русская литература. — 2013. — №4. — С. 212–234 98. Бреслер, Д. М., Дмитренко, А. Л. Когда на Светлану пришли писатели / Д. М. Бреслер, А. Л. Дмитренко // Светлана: Газета акционерного общества «Светлана». — 2013. — № 5–6 (5210–5211). — 20 июня. — С. 10–11 99. Иосиф Бродский: труды и дни [Сб. ст. о неизвестных в России сторонах жизни и творчества поэта] / Сост. П. Вайль, Л. Лосев. — М: Независимая газета, 1998. — 270 с. — (Литературные биографии) 100. Бологова, М. А. Текст и смысл. Стратегии чтения: К. К. Вагинов «Козлиная песнь», В. В. Набоков «Дар», М. А. Булгаков «Мастер и Маргарита» / М. А. Бологова. — Новосибирск: НГУ, 2004. — 190 с. 101. Борисов, Л. И. Родители, наставники, поэты… Книга в моей жизни / Л. И. Борисов. — М.: Книга, 1967. — 155 с. 102. Бочаров, С. Г. Петербургский текст Владимира Николаевича Топорова / С. Г. Бочаров // Топоров В. Н. Петербургский текст / В. Н. Топоров; Отделение историко–филологических наук РАН. — М.: Наука, 2009. — С. 5–12 103. Буренина, О. «Трагедия» творчества или литература как «остров мертвых»: Набоков и Вагинов / О. Буренина // Rev. des etudes slaves. — 2000. — T.72. — № 3\4. — p. 431–442 104. Васильев, И. Е. Лики Петербургской музы: Ахматова и Вагинов / И. Е. Васильев // Ахматовские чтения: А. Ахматова, Н. 201 Гумилев и русская поэзия нач. ХХ в. — Тверь: ТГУ, 1995. — С. 59– 68 105. Винокур, Г. О. Культура языка / Г. О. Винокур; [Предисл. Л. П. Крысина]. — Изд. 3–е, доп. — М.: КомКнига, 2006. — (Лингвистическое наследие XX века) 106. Волошинов, В. Н. «Слово в жизни и слово в поэзии. К вопросам социологической поэтики» / В. Н. Волошинов // Бахтин М. М. Фрейдизм. Формальный метод в литературоведении. Марксизм и философия языка. Статьи / М. М. Бахтин (под маской); [Сост., текстолог. подг. И. В. Пешкова; Комм. В. Л. Махлина, И. В. Пешкова]. — М.: Лабиринт, 2000. — С. 72–95 107. Волошинов, В. Н. Конструкция высказывания / В. Н. Волошинов // Бахтин М. М. Фрейдизм. Формальный метод в литературоведении. Марксизм и философия языка. Статьи / М. М. Бахтин (под маской); [Сост., текстолог. подг. И. В. Пешкова; Комм. В. Л. Махлина, И. В. Пешкова]. — М.: Лабиринт, 2000. — С. 535– 556 108. Волошинов, В. Н. По ту сторону социального. О фрейдизме / В. Н. Волошинов // Звезда. — 1925. — № 5. — С. 186–214 109. Волошинов, В. Н. Фрейдизм (Критический очерк) / В. Н. Волошинов // Бахтин М. М. Фрейдизм. Формальный метод в литературоведении. Марксизм и философия языка. Статьи / М. М. Бахтин (под маской); [Сост., текстолог. подг. И. В. Пешкова; Комм. В. Л. Махлина, И. В. Пешкова]. — М.: Лабиринт, 2000. — С. 95–195 110. Вулис, А. З. Советский сатирический роман. Эволюция жанра в 20–30–е годы / А. З. Вулис; Акад. наук УзССР; Ин–т языка и литературы им. А.С. Пушкина. — Ташкент: Наука, 1965. — 268 с. 111. Герасимова, А. Г. Труды и дни Константина Вагинова / А. Г. Герасимова // Вопросы литературы. — 1989. — №12. — С. 131–166 202 112. Гинзбург, Л. Я. Записные книжки. Воспоминания. Эссе / Л. Я. Гинзбург; [Вступ. ст. А. С. Кушнера]. — СПб.: Искусство–СПб., 2002. — 766 с. 113. Гинзбург, Л. Я. Работы довоенного времени: [Статьи. Рецензии. Монография] / Л. Я. Гинзбург; [Вступ. ст. С. А. Савицкий]. — СПб.: Петрополис, 2007. — 626 с. 114. Гинзбург, Л. Я. Человек за письменным столом. Эссе. Из воспоминаний. Четыре повествования / Л. Я. Гинзбург. — М.: Советский писатель, 1989. — 605 с. 115. Глоцер, В. И. К истории книги С. Федорченко «Народ на войне» / В. И. Глоцер // Русская литература. — 1973. — № 1. — С. 148–155 116. Голицына, В. Г. Наш институт, наши учителя… / В. Г. Голицына // Российский институт истории искусств в мемуарах / Под ред. И. В. Сэпмен. — СПб.: РИИИ, 2003. — С. 68–77 117. Голубков, С. Н. Труды и дни архитектора Василия Баженова, 1737–1799. / С. Н. Голубков. — М.: Издат. всес. акад. архитектуры, 1937. — 55 с. 118. Гор, Г. О лирике / Г. Гор // День поэзии. — 1964. — С. 51–52. 119. Грачева, А. М. Жизнь и творчество А. М. Ремизова // Ремизов А. М. Собрание сочинений / А. М. Ремизов; [Подгот. текста, послесл., коммент. А. А. Данилевского; Редкол.: А. М. Грачева (гл. ред.) и др.; Вступ. ст., прил. А. М. Грачевой]. — Т. 1. Пруд: Роман. — М.: Русская мысль, 2000. — с. 8–31 120. Гринберг, К. Авангард и китч [Электронный ресурс] / К. Гинзбург //Художественный журнал (Moscow art magazine). — 2005. — № 60. — [URL = http://xz.gif.ru/numbers/60/avangard–i–kitch — дата обращения — 15.01.2015]. 203 121. Грякалова, Н. Ю. Человек модерна: Биография — рефлексия — письмо / Н. Ю. Грякалова. — СПб.: Дмитрий Буланин, 2008. — 382 с. 122. Гуськов, Н. А. Материалы для составления хроники культурной жизни Ленинграда на рубеже 1920–х и 1930–х гг. / Составление, вступительная статья Н. А. Гуськова; материалы вечерней «Красной газеты» за 1928 г. обработаны и предоставлены К. Б. Егоровой // Институты культуры Ленинграда на переломе от 1920–х к 1930–м годам: Материалы проекта. — [URL = http://www.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=LcbyDIUEeWk %3d&tabid=10460 — дата обращения — 15.01.2015]. 123. Гюнтер, Х. Соцреализм и утопическое мышление // Соцреалистический канон / Х. Гюнтер; [Сб. под общ. ред. Х. Гюнтера и Е. Добренко]. — СПб.: Академический проект, 2000. — С. 41–48 124. Деринг–Смирнова, И. Р., Смирнов, И. П. Исторический авангард с точки зрения эволюции художественных систем [Электронный ресурс] / И. Р. Деринг–Смирнова, И. П. Смирнов // Russian Literature. — 1980. — VIII. — С 403–468. [URL = http://novruslit.ru/library/?p=3 — дата обращения — 15.06.2014] 125. Добренко, Е. Политэкономия соцреализма / Е. Добренко. — М.: Новое литературное обозрение, 2007. — 592 с. 126. Дубровин, Н. Ф. Георгий XII, последний царь Грузии, и присоединение ее к России / Н. Ф. Дубровин. — СПб.: тип. Д. В. Чичинадзе, 1897. — VIII, 254 с. 127. Ермолаева Ж. Е. Санкт–Петербург — Ленинград в романах «Скандалист, или Вечера на Васильевском острове» В. Каверина и «Труды и дни Свистонова» К. Вагинова / Ж. Е. Ермолаева // Литература одного дома: [сб. ст. по материалам конференции, 27 204 октября 2007 г.] / сост. Е. В. Жолнина. — СПб.; Островитянин, 2008. — С. 26–30 128. Жаднова, Е. Н. Петербургский текст К. Вагинова / Е. Н. Жаднова // Известия Саратовского ун–та. Новая серия. Серия: Филология. Журналистика. — 2012. — Т.12. — №2. — С. 73–76 129. Жиличева, Г.А. Способы риторической индексации нарративной стратегии (на материале романов К. Вагинова и Б. Пастернака) / Г. А. Жиличева // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. — 2014. — № 2 (26). — С. 134–140 130. Жиличева, Г. А. Функции сносок в нарративной организации романов К. К. Вагинова / Г. А. Жиличева // Филологические науки. Вопросы теории и практики. — Тамбов: Грамота, 2014. — № 8 (38): в 2–х ч. — Ч. I. — С. 75–80 131. Завалишин, В. Николай Заболоцкий / В. Завалишин // Новый журнал. — 1959. — №58. — С.122. 132. Зенкин, С. Некомпетентные разоблачители [рец. на Bronckart J.–P., Bota C. Bakhtine demasque: Histoire d'un menteur, d'une escroquerie et d'undelire collectif. Geneve: Droz, 2011] / С. Зенкин // Новое литературное обозрение. — 2013. — №119. — [URL = http://www.nlobooks.ru/node/3267 — дата обращения — 16.06.2014]. 133. Иванов, Вяч. Вс. Жанры исторического повествования и место романа с ключом в русской советской прозе 1920–1930–х годов / Вяч. Вс. Иванов // Избранные труды по семиотике и истории культуры: 2 т.: [Статьи о русской литературе] / Вяч. Вс. Иванов; МГУ им. М. В. Ломоносова; Ин–т теории и истории мировой культуры. — М.: Языки русской культуры, 2000. — С. 596–613. — (Язык. Семиотика. Культура) 205 134. Инвентаризационный каталог изданий Государственного издательства, «Прибоя» и «Военного вестника» / Гос. изд–во.; Сектор распространения.; Отд. учета. — М.–Л.: Б. и., 1929. 135. Кен, О. Н. Мобилизационное планирование и политические решения (конец 1920–х — середина 1930–х гг.) / О. Н. Кен. — М.: ОГИ, 2008. — 510 с. — (Нация и культура / Новые исследования. История) 136. Кибальник, С. А. Ахматова о Вагинове и у Вагинова (К постановке проблемы) / С. А. Кибальник // Некалендарный XX век: [сборник статей] / Мусатовские чтения; отв. ред.: С. Феоктистова. — М.: Издательский центр «Азбуковник», 2011. — С. 315–327 137. Кибальник, С. А. Труды и дни Константина Вагинова: Документальная биография писателя: [Электронная публикация] / С. А. Кибальник; РГНФ. — [URL = http://www.rfh.ru/downloads/Books/124493014.pdf — дата обращения –15. 01. 2015] 138. Кибальник, С. А. Ненаписанные воспоминания. Интервью с Александрой Ивановной Вагиновой / С. А. Кибальник // Волга. — 1991. — №7–8. — С. 148–149 139. Кибальник, С. А. Путешествие в блоковский хаос (Конст. Вагинов) / С. А. Кибальник // Александр Блок. Материалы и исследования. — СПб.: Издательство «Пушкинский дом», 2011. — С. 102–112 140. Кишкин, Л. С. «Честный, добрый, простодушный…»: труды и дни Александра Филипповича Смирдина / Л. С. Кишкин; [Рос. акад. Наук; Ин–т славяноведения и балканистики; Рос. гуманитар. науч. фонд]. — М.: Наследие, 1995. — 139 с. 141. Кобринский, А. А. Даниил Хармс и Константин Вагинов / А. А. Кобринский // О Хармсе и не только: статьи о русской литературе 206 XX века. — 2–е изд. испр., доп. — СПб.: Свое издательство, 2013. — С. 39–46. 142. Кобринский, А. А. «Читал Свистонов — писал Свистонов»: Ещё раз об источниках романа К. Вагинова / А. А. Кобринский // Vademecum: Сб. статей к 65–летию Л. Флейшмана / Сост. А. Устинов. — М.: Водолей, 2010. — С. 372–375 143. Кожевникова, Н. А. Типы повествования в русской литературе XIX–XX вв. / Н. А. Кожевникова; [РАН, Ин–т рус. яз.]. — М.: Институт русского языка РАН, 1994. — 333 с. 144. Козьменко, М. Проблема «гипер–авантекста» (на материале творческого наследия Л. Андреева) / М. Козьменко // Текстологический временник. Русская литература XX века: Вопросы текстологии и источниковедения: [материалы Международного текстологического семинара, посвященного источниковедческих и текстологических разным аспектам исследований русской литературы XX века] /отв. ред.: Н.В. Корниенко. — М.: ИМЛИ РАН, 2009 — С. 219–229 145. Козюра, Е. О. Вокруг себя: Мандельштам и Вагинов / Е. О. Козюра // Вестн. Удмурт. ун–та. — 2008. — №3. — С. 81–92 146. Козюра, Е. О. Поэтика и эстетика Константина Вагинова в русском литературном контексте: учебное пособие / Е. О. Козюра. — Воронеж: ИПЦ Научная книга, 2011. — 128 с. 147. Коткин, С. Говорить по–большевистски: [из кн. Магнитная гора: Сталинизм как цивилизация] / С. Киткин // Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Советский период: [Антология] / Сост. М. Дэвид–Фокс. — Самара: СамГУ, 2001. — С. 250–329 148. Купченко, В. П. Труды и дни Максимилиана Волошина: летопись жизни и творчества, 1917–1932 / В. Купченко; ИРЛИ РАН. 207 — СПб., Симферополь: Алетейя, Историческая книга, Сонат, 2007. — 604 с. 149. Лакан, Ж. Стадия зеркала и ее роль в формировании функции я в том виде, в каком она предстает нам в психоаналитическом опыте / Ж. Лакан // Лакан Ж. «Я» в теории Фрейда и в технике психоанализа (Семинар. Книга 2 (1954/55)) / Ж. Лакан; [Пер. с фр. А. Черноглазова]. — 2–изд. — М.: Изд–во Гнозис, Изд–во Логос, 2009. — С. 508–516. 150. Левит, С. И. Юрий Александрович Шапорин. Очерк жизни и творчества / С. И. Левит; Ин–т истории искусств М–ва культуры СССР. — М.: Наука, 1964. — 395 с. 151. Левченко, М. А. Индустриальная свирель: Поэзия Пролеткульта 1917–1921 гг. / М. А. Левченко. — СПб.: Свое издательство, 2010. — 141 с. 152. Лернер, Н. О. Труды и дни Пушкина / Н. О. Лернер. — 2–е изд., испр. и доп. — СПб.: Имп. акад. Наук, 1910. — 577 с. 153. Литвинюк, М. А. Балаганный трагикомизм в романах К. Вагинова «Козлиная песнь», «Труды и дни Свистонова», «Бамбочада» и «Гарпагониана». Автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Литвинюк Марина Александровна. — М., 1998. — 16 с. 154. Лихачев, Д. С. Предисловие к книге Веры Лукницкой / Д. С. Лихачев // Лукницкая В. К. Николай Гумилев. По материалам домашнего архива семьи Лукницких / В. К. Лукницкая. — Л.: Лениздат, 1990. — С. 3–5 155. Лукницкий, П. Н. Acumiana: встречи с Анной Ахматовой / П. Н. Лукницкий. — Париж, М.: Ymca–press, Русский путь, 1997. 156. Лотман, Ю. М. Структура художественного текста / Ю. М. Лотман // Об искусстве / Ю. М. Лотман; [вступ. ст. Р. Г. Григорьева, 208 С. М. Даниэля; послесл. М.Ю. Лотмана]. ― СПб.: Искусство–СПб., 2005. — С. 14–285. 157. Лощилов, И. Е. «Вагиновский след» в «Елке у Ивановых» / И. Е. Лощилов // Текст и интерпретация: [сборник научных статей по материалам конференции Пятых Филологических чтений "Интерпретатор и текст: проблема ограничений в интерпретационной деятельности", октябрь 2004 года] / под ред. Т. И. Печерской. — Новосибирск: НГПУ, 2006. — С. 218–228 158. Манн, Ю. В. Гоголь: труды и дни: 1809–1845 / Ю. В. Манн. — М.: Аспект–пресс, 2004. — 812 с. 159. Марков, В. Ф. Поэзия Михаила Кузмина / В. Ф. Марков // М. Кузмин. Собр. стихотворений / М. Кузмин. — Т. 3. — Munchen, 1977. — с. 287–395 160. Медведев, П. Н. Формальный метод в литературоведении. Критическое введение в социологическую поэтику / М. М. Бахтин // Фрейдизм. Формальный метод в литературоведении. Марксизм и философия языка. Статьи / М. М. Бахтин (под маской) [Коммент. В. Л. Махлина, И. В. Пешкова]. ― М.: Лабиринт, 2000. ― С. 186– 348 161. Московская, Д. С. Н. П. Анциферов и художественная местнография русской литературы / Д. С. Московская, под ред. Н. Корниенко. — М.: Изд–во ИМЛИ РАН, 2010. — 432 с. 162. Наппельбаум, И. М. Памятка о поэте // Наппельбаум И. Угол отражения: Краткие встречи долгой жизни / И. М. Наппельбаум. — 3–е изд. — СПб.: Ретро, 2004. — 234 с. 163. Неф, Ж. Поля рукописи / Ж Неф // Генетическая критика во Франции: [Антология] / Редкол. Т. В. Балашова, Е. Е. Дмитриева, А. Д. Михайлов (отв. ред.), Д. Феррер, вступ. ст. Е. Е. Дмитриевой. — М.: ОГИ, 1999. — С. 192–222 209 164. Нива, Ж. Русский символизм / Ж. Нива // История Русской литературы: XX век: Серебряный век / под ред. Ж. Нива, И. Сермана, В. Страды, Е. Эткинда. — М.: Прогресс, Литера, 1995. — С. 73–106 165. Николаев, Н. И. М. М. Бахтин, Невельская школа философии и культурная история 1920–х годов / Н. И. Николаев // Бахтинский сборник. — Вып. 5. — 2004. — С. 210–280 166. Николаев, Н. И. Энциклопедия гипотез / Н. И. Николаев // Пумпянский Л. В. Классическая традиция / Л.В. Пумпянский; [Сост. Е.М. Иссерлин, Н.И. Николаев; Отв. ред. А.П. Чудаков; Вступ. ст., подгот. текста и примеч. Н.И. Николаев]. — М.: Языки славянских культур, 2000. — С. 7–29 167. Никольская, Т. Л. Вагинов / Т. Л. Никольская // Краткая литературная энциклопедия. [Т.] 9: А — Я. [Дополнительный] / Редкол.: Х. Ш. Абдусаматов [и др.]. — М.: Сов. энциклопедия, 1978. — Ст. 169. 168. Никольская, Т. Л. Дополнения к библиографии Константина Вагинова / Т. Л. Никольская // Шестые Тыняновские чтения. — Рига, М.: Б.и., Б. и., 1992. — С. 301–306 169. Никольская, Т. Л. К. К. Вагинов: (Канва биографии и творчества) / Т. Л. Никольская // Четвертые Тыняновский чтения: тез. докл. и материалы для обсуждения. — Рига: Зинатне, 1988. — С. 67–88 170. Никольская, Т. Л. Н. Гумилев и П. Лукницкий в романе К. Вагинова «Козлиная песнь» / Т. Л. Никольская // Николай Гумилев: Исследования и материалы / Рос. А Н. Ин–т рус. лит.; [составители: М. Д. Эльзон, Н. А. Грознова; редкол.: Ю. К. Герасимов и др.]. — СПб.: Наука, 1994. — С. 620–625 210 171. Никольская, Т. Л. О творчестве К.Вагинова / Т. Л. Никольская // Материалы XXII научной студенческой конференции [сб. ст.]. — Ч. I. — Тарту, 1967. — С. 94–100 172. Обатнина Е. Р. Царь Асыка и его подданные. Обезьянья Великая и Вольная Палата А. М. Ремизова в лицах и документах / Е. Р. Обатнина. — СПб.: Изд–во Ивана Лимбаха, 2001. — 384 с. 173. Орлова, А. А. Труды и дни М. П. Мусоргского: летопись жизни и творчества / А. А. Орлова. — М.: Музгиз, 1963. — 702 с. 174. Орлова, М. А. Жанровая природа романа Константина Вагинова «Козлиная песнь»: дисс. на соиск. … канд. филол. наук: 10.01.01. / Мария Александровна Орлова. — СПБ., 2009. — 153 с. 175. Панченко, А. А. Софья Федорченко и «русский народ» / А. А. Панченко // Федорченко С. З. Народ на войне / С. З. Федорченко. СПб.: Лениздат, 2014. С. 5–12 176. Письма Владимира Сергеевича Соловьева / В. С. Соловьев; [под ред. и с предисл. Э. Л. Радлова]. СПб.: тип. об–ва Общественная польза, 1923. — 4 т. 177. Платт, К. История в гротескном ключе. Русская литература и идея революции / К. Платт; [пер. с англ. М. Маликовой]. — СПб.: Академичесий проект, 2006. — 272 с. 178. Подшивалова, Е. А. Блок в зеркале Вагинова / Е. А. Подшивалова // Александр Блок и мировая культура: [Материалы науч. конф., 14–17 марта 2000 г.] / Сост. Т. В. Игошева. — Великий Новгород: НовГУ, 2000. — С. 308–316 179. Поливанов, Е. Д. О блатном языке учащихся и о «славянском языке» революции / Е. Д. Поливанов // Поливанов Е. Д. За марксистское языкознание: Сборник популярных лингвистических статей / Е. Д. Поливанов. — М.: Изд–во «Федерация», 1931. — С. 161–172 211 180. Пономарев, Е. Р. Мертвый город литературы (Ленинград в романе К. Вагинова «Труды и дни Свистонова») / Е. Р. Пономорев // Петербургский текст: [Сб. статей и публикаций]. — СПб., 1996. — С. 79–90 181. Пьеге–Гро, Н. Введение в теорию интертекстуальности / Н. Пьеге–Гро; [Пер. с. фр. Г. К. Косикова, В. Ю. Лукасик, Б. П. Нарумова; Общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова]. — М. Издательство ЛКИ, 2008. — 240 с. 182. Разумова, А., Свердлов, М. Пафос диахронии в филологических текстах круга М.М. Бахтина и в романе К. Вагинова «Козлиная песнь» / А. Разумова, М. Свердлов // В. Я. Брюсов и русский модернизм / ред.–сост. О. А. Лекманов. — М.: ИМЛИ РАН, 2004. — С.223–239 183. Ратгауз, М. Г. Кузмин — кинозритель / М. Г. Ратгауз // Киноведческие записки. — 1992. — № 13. — С. 52–89 184. Конспект времени: труды и дни Александра Ратнера [сб. ст.] / под ред. А. Ратнера, А. И. Рейтблата, А. П. Шикмана. — М.: Новое литературное обозрение, 2007. — 756 с. — (Historia Rossica) 185. Рейсер, С. А. Палеография и текстология нового времени / С. А. Рейсер. — М.: Просвещение, 1970. — 336 с. 186. Савицкий, С. А. Частный человек: Л. Я. Гинзбург в конце 1920–х — начале 1930–х годов / С. А. Савицкий; [Европ. ун–т в Санкт–Петербурге]. — СПб.: Изд–во Европейского университета, 2013. — 221 с. 187. Сандомирская, И. Блокада в слове: Очерки критической теории и биополитики языка / И. Сандомирская. — М.: Новое литературное обозрение, 2013. — 425 с. 188. Сегал, Д. М. Константин Вагинов и античность / Д. М. Сегал // Античность и культура Серебряного века: К 85–летию А. А. Тахо– 212 Годи / отв. ред., сост. Е. А. Тахо–Годи; Науч. Совет РАН «История мировой культуры»; Культ.–просвет. об–во «Лосевские беседы»; Б– ка истории рус. философии и культуры «Дом А. Ф. Лосева». — М.: Наука, 2010. — С. 395–413 189. Сегал, Д. М. Литература как охранная грамота / Д. М. Сегал. — М.: Водолей Publishers, 2006. — 976 с. 190. Селищев, А. М. Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским языком последних лет (1917–1926) / А. М. Селищев. — М.: Работник просвещения, 1928. — 425 с. 191. Синицкая, А. В. Пространственность и метафорический сюжет: на материале произведений С. Кржижановского и К. Вагинова: дисс. на соиск. … канд. филол. наук: 10.01.08. / Анна Владимировна Синицкая. — Самара, 2004. — 202 с. 192. Смирнов, И. П. Грядущий хлам. Десять тезисов к проблеме «Китч и киноискусство 1920–1940–х гг.» / И. П. Смирнов // Последние–первые и другие работы о русской культуре: [сб. ст.] / И. П. Смирнов. — СПб.: Петрополис, 2013. — С. 219–244 193. Смирнов, И. П. Порождение интертекста. Элементы интертекстуального анализа с примерами из творчества Б. Л. Пастернака / И. П. Смирнов. — 2–е изд. — СПб.: Языковой центр СПбГУ, 1995. — 191 с. 194. Смирнов, И. П. Философский роман как метакитч: «Козлиная песнь» Константина Вагинова / И. П. Смирнов // Смирнов И. П. Текстомахия: как литература отказывается на философию: [сб. ст.] / И. П. Смирнов. — СПб.: Петрополис, 2010. — С. 97–116 195. Сойнов, С. В. Творчество Константина Вагинова и петербургский текст русской литературы / С. В. Сойнов // «Дергачевские чтения — 2000»: [Рус. лит.: нац. развитие и регион. 213 особенности]. — Ч. 2. — Екатеринбург: Банк культур. информ., 2001. С. 311–315 196. Степанов, А. Д. Проблемы коммуникации у Чехова / А. Д. Степанов. — М.: Языки славянских культур, 2005. — 400 с. — (Studia philologica) 197. Степанов, Ю. С. В трехмерном пространстве языка (Семиоические проблемы лингистики, философии, искусства) / Ю. С. Степанов; отв. ред. В. П. Нерознак. — М.: Наука, 1985. — 336 с. 198. Тарановский, К. Ф. О поэзии и поэтике / К. Ф. Тарановский; [Сост. М. Л. Гаспаров]. — М.: Яз. рус. культуры, 2000. — 432 с. — (Studia poetica) 199. Терц, Абрам [Синявский, А. Д.] Что такое социалистический реализм?: [Электронный ресурс] / А. Д. Синявский. — [URL = http://imwerden.de/pdf/abram_terz_chto_takoe_soc_realizm.pdf — Дата обращения — 15.06.2014]. 200. Топоров, В. Н. Петербургский текст / В. Н. Топоров; Отделение историко–филологических наук РАН. — М.: Наука, 2009. — 819 с. 201. Тынянов, Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино / Ю. Н. Тынянов; [Предисл. В. Каверина; АН СССР, Отд–ние литературы и яз.; Комис. по истории филол. наук; Науч. совет по истории мировой культуры]. М.: Наука, 1977. — 574 с. 202. Угрешич, Д. Метатекстуалне разине у романиму Константина Вагинова / Д. Угрешич // Кньижевна реч. — 1978. — №102. — 10 jiна. 203. Фещенко, В. В. Лаборатория логоса: Языковой эксперимент в авангардном творчестве / В. В. Фещенко; [РАН, Ин–тут языкознания]. — М.: Языки славянских культур, 2009. — 390 с. 204. Фрезинский, Б. Я. Судьбы серапионов (Портреты и сюжеты) / Б. Я. Фрезинский. — СПб.: Акад. проект, 2003. — 590 с. 214 205. Ханзен–Лёве, Оге А. Русский формализм: Методологическая реконструкция развития на основе принципа остранения / Оге А. Ханзен–Лёве; [Пер. с нем. С. А. Ромашко]. — М.: Языки русской культуры, 2001. — 669 с. — (Studia philologica) 206. Цивьян ,Т. В. Проза поэтов о прозе поэта / Т. В. Цивьян // Цивьян Т. В. Семиотические путешествия: [Сб. ст.] / Т. В. Цивьян. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2001. — С. 206–220 207. Чертков, Л.Н. Поэзия Константина Вагинова / Л. Н. Чертков // Вагинов К. Собрание стихотворений / К. К. Вагинов; [Сост., послесл. и примеч. Л. Черткова; Предисл. В. Казака]. — Munchen: Sagner, 1982. — С. 213–230. 208. Чудакова, М. О. Поэтика Михаила Зощенко / М. О. Чудакова. — М.: Наука, 1979. — 200 с. — (Серия «Литературоведение и языкознание») 209. Чуковский, Н. К. Литературные воспоминания / Н. К. Чуковский; [Вступ. ст. Л. И. Левина]. — М.: Сов. писатель, 1989. — 327 с. 210. Шапир, М. И. Что такое авангард? / М. И. Шапир. — Даугава. –1990. — № 10. — С. 3–6 211. Шатова, И. Н. О карнавальной природе ранней прозы Вагинова / И. Н. Шатова // Мова i культура: (Науковый журнал). — Киев. — 2009. — Вып. 11. — Т. XI. — С. 258–265 212. Шиндина, О. В. К отзвукам статьи «Слово и культура» Мандельштама в художественном мире Вагинова / О. В. Шиндина // Осип Мандельштам: Поэтика и текстология: К 100–летию со дня рождения: [Материалы науч. конф. 27–29 дек. 1991 г.] /АН. Совет по истории культуры; Сост. Ю.Л. Фрейдин. — М.: Б. и., 1992. — С. 68– 72 215 213. Шиндина, О. В. Несколько замечаний к проблеме «Вагинов и Гумилев» / О. В. Шиндина // Н. Гумилев и русский Парнас: Материалы научной конференции, 17–19 сент. 1991 / Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме; [сост. И. Г. Кравцовой, М. Д. Эльзона; ред. И. Г. Кравцовой и др.]. — СПб.: Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, 1992. — С. 84–91 214. Шиндина, О. В. О метатекстуальной образности романа Вагинова «Труды и дни Свистонова» О. В. Шиндина // Вторая проза: Русская проза 20–30–х годов ХХ века: [Труды междунар. конф. «Вторая проза». Рус. проза 20–х — 30–х гг. XX в. (к столетию со дня рождения Л.И. Добычина). М. 19–22 дек. 1994 г.] / Сост. В. Вестсейн и др. — Тренто, 1995. — С. 153–177. 215. Шиндина, О. В. О некоторых содержательных особенностях романа Вагинова «Гарпагониана» / О. В. Шиндина // Russian Literature. — 2002. — Vol. LM. — № 4. — P. 451–469 216. Шиндина, О. В. Творчество К. Вагинова как метатекст: дисс. на соиск. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Шиндина Ольга Викторовна. — Саратов, 2010. 235 с. 217. Шиндина, О. В. Художественный и научный дискурсы 1920 х годов. Тыняновский подтекст образа литератора в художественном мире Константина Вагинова / О. В. Шиндина // Логос. — 2014. — № 3 (99). — С. 145–164 218. Шлапаков, П. В. Проблема антропологизма в рецептивных стратегиях К. Вагинова (на примере романа «Гарпагониана») / П. В. Шлапаков // Изв. Самар. науч. центра РАН. — Самара, 2010. — Т. 12. — №3. — С. 228–231 219. Шторм, Г. П. Труды и дни Михаила Ломоносова: [Обозрение в 9 гл. и 6 иллюминациях] / Г. П. Шторм. — М.: Гослитиздат, 1934. — 307 с. 216 220. Шукуров, Д. Л. Автор и герой в метаповествовательном дискурсе К. К. Вагинова / Д. Л. Шукуров; [науч. ред. В. П. Океанский]; ГОУ ВПО "Иван. гос. энерг. ун–т им. В.И. Ленина", ГОУ ВПО «Иван. гос. ун–т». — Иваново: Ивановский гос. энергетический ун–т, 2006. — 187 с. 221. Эйхенбаум, Б. М. О литературе: Работы разных лет / Б. М. Эйхенбаум; [Вступ. ст. М. О. Чудаковой, Е. А. Тоддес]. — М.: Сов. писатель, 1987. — 540 с. 222. Эрль, В. И. Константин Вагинов и А. Введенский в Союзе поэтов / В. И. Эрль // Wiener Slawistischer Almanach. — 1991. — Bd. 27. — P. 219–222 223. Эткинд А. М. Эрос невозможного: Развитие психоанализа в России / А. М. Эткинд. — М.: Гнозис; Прогресс–Комплекс, 1994. — 464 с. 224. Янушкевич, А. С. «Козлиная песнь» К. Вагинова и «Аполлон Безобразов» Б. Поплавского: судьба русского гедонизма / А. С. Янушкевич // Русская литература в XX веке: имена, проблемы, культурный диалог. — Вып. 5: Гедонистическое мироощущение и гедонистическая этика в интерпретации русской литературы XX века. — 2003. — С. 94–122 225. Яров, С. В. Интеллигенция и власть в Петрограде 1917–1925 годов: конформистские стратегии и язык сотрудничества [Электронный доступ] / С. В. Яров // Новое литературное обозрение. — 2006. — № 78. — [URL = http://magazines.russ.ru/nlo/2006/78/iar1.html — дата обращения — 15.01.2015] 226. A Greek–Englısh Lexıcon with a revised supplement, 1996 / comp. by Henry George Liddell a. Robert Scott; rev. a. augm. throughout by Sir 217 Henry Stuart Jones with the assistance of Roderick McKenzie a. with the coop. of many scholars., Oxford: Clarendon press, 1996. — 2150 p. 227. Anemone A. Konstantin Vaginov and the Leningrad Avant– garde:1921–1934: [Ph. D. diss.] / A. Anemone. — UC Berkley, Michigan, 1986. — 256 P. 228. Anemone, A. Carnival in Theory and Practice: Mikhail Bakhtin and Konstantin Vaginov / A. Anemone // In The Contexts of Bakhtin: Philosophy, Authorship, Aesthetics / ed. David Shepherd. — Amsterdam: Harwood Academic Publishers, 1998. — P. 57–69 229. Anemone, A. Konstantin Vaginov and the Death of Nicolai Gumilev / A. Anemone // Slavic Review. — 1989. — Vol. 48. — №4. — P. 631–636 230. Anemone, A. Obsessive Collectors: Fetishizing Culture in the Novels of Konstantin Vaginov / A. Anemone // Russian Review. — 2000. — Vol. 59. — №2. — P. 252–268 231. Bohnet, Ch. Der Metafiktionale Roman. Untersuchungen zur Prosa Konstantin Vaginovs / Ch. Bohnet. — Muenchen: Verlag Otto Sagner, 1998. — 293 p. 232. Kelly, C. 'A Laboratory for the Manufacture of Proletarian Writers': The Stengazeta (Wall Newspaper), Kul'turnost' and the Language of Politics in the Early Soviet Period / C. Kelly // Europe–Asia Studies. — 2002. — Vol. 54. — No. 4. — P. 573–602 233. Genette, G. Paratext: Thresholds of interpretation / G. Genette; [Translated by Jane E. Lewin]. — Cambridge: Cambridge univ. press, 1997. — XXV, 427 p. 234. Hillis Miller, J. Literature as a conduct: Speech acts in Henry James / J. Hillis Miller. — New–York: Fordham University Press, 2005. — 368 p. 218 235. Millner–Gulland, R. Left art in Leningrad / R. Millner–Gulland // Oxford Slavonic Papers. — New Series. — Vol. III. — Oxford, 1970. — p. 65–75. 236. Pavlov, E. Writing as Mortification: Allegories of History in Konstantin Vaginovʼs Trudy i Dni Svistonova / E. Pavlov // Russian Literature. — 2011. — V. 69. — № 2–4. — p. 359–381 237. Pedersen, Valdemar. Harald Bergstedt: Liv, livsanskuelse, digtning, skaebne / V. Pedersen. — Kobenhavn: Gyldendal, 1967. — 441 p. 238. Roberts, G. The last Soviet avant–garde: OBERIU — fact, fiction, metafiction / G. Roberts. — Cambridge: Cambridge univ. press, 1997. — XIII, 273 p. — (Cambridge studies in Russian literature) 239. Shepherd, D. Beyond metafiction: self–consciousness in Soviet literature / D. Shepherd. — Oxford: Clarendon press, 1992. — XII, 260 p. 240. English–Greek dictionary: A vocabulary of the Attic lang /Comp. by S. C. Woodhouse. — [Repr.]. — London, New York: Routledge, 2002. — VIII, 1029 p. 241. Waugh, P. Metafiction: the theory and practice of self–conscious fiction / P. Waugh. — London, New–York: Routledge, 1984. — 176 p. 242. Wright, E. Коллекционер в прозе Константина Вагинова: Типология, эволюция, апофеоз: [magister’s paper] / E. Wright. — Universite De Lausanne, 2010. 219 Приложение I. Поэтика заглавия романа «Труды и дни Свистонова» Область паратекста, выделенная Ж. Женеттом как своеобразный «порог» произведения (предисловия, эпиграфы, редакторские проспекты и, конечно, заглавия)263 чрезвычайно важна и функциональна для романов Вагинова. Поэтика метафикциональной прозы предполагает усиленное внимание, проблематизацию условной границы между вымыслом и реальностью. Текстуально выраженная, данная граница приобретает особый интерес для исследователя поэтики таких романов. Заглавие романа Вагинова принято читать как цитату из классической литературы, поданную иронически — по аналогии с КП. «В заглавии — вновь ироническая аллюзия к античности. Свистонов — "говорящая" фамилия, за которой не только общепринятая, поверхностная семантика ("свистун", говорящий и живущий впустую), но и специфически вагиновская: "Я не люблю зарю. Предпочитаю свист и бурю..." — эсхатологический свист пустоты».264 Оксюморон, барочное соположение «высокого» и «низкого» стилей воедино — определенный ключ к прочтению титла ТДС. Однако за значимым для эстетики романа, но все же первым уровнем восприятия, следует второй — обнаружить который должен «посвященный» читатель, современник Вагинова, близкий к литературным кругам Петрограда и Ленинграда. И этот второй уровень смысла заглавия несет в себе определенную жанровую характеристику. Косвенно, о существовании такого «кода» может свидетельствовать двуплановость заглавия первого романа Вагинова, вскрыть которую не 263 264 С. 154. Genette G. Paratexts: Thresholds of Interpretation. Cambridge, 1997. 427 p. Герасимова А. Г. Труды и дни Константина Вагинова // Вопросы литературы. М., 1989. №12. 220 составляет труда. КП: 1) сочетание стилистически несочетаемых лексем, 2) буквальный перевод с древне–греческого жанрового определения — «трагедия». Сегодня читатель не может с такой же легкостью разложить смысловую структуру заглавия ТДС, однако, кажется, в конце 1920–х годов, такой читатель существовал. И, читая Вагинова, мы всегда должны стараться чувствовать на себе загадочный взгляд завсегдатая литературной богемы, слушателя лекционных и семинарских занятий на правом берегу Невы. Характеристика поэмы Гесиода «Труды и дни», принятая современниками Вагинова, дает нам право проводить параллели с романом, которые вовсе не ограничиваются схожестью заглавий. В 1927 году выходит издание «Земледельческой поэмы», которое сопровождается обширным разделом статей западных специалистов по античной литературе. Автор одной из них, Вильгельм ф. Христ, пишет следующее: «Гесиод является отцом и главнейшим представителем дидактического эпоса, как Гомер — героического. <…> Гесиод был натурой серьезно–настроенною, критическою; он склонен был к размышлению о боге и мире, о связи между действиями человека и его счастьем, о целях человеческой жизни; он воспринимал мысли народа о подобных вещах и развивал их дальше. Гесиод ищет правды, — не забавляющей игры, не блестящей видимости. <…> И правду он ищет не на сияющих высотах человеческого бытия, а в глубинах, в нужде и в работе повседневности <курсив мой — Д. Б.>, где естественная связь между прегрешением и страданием всего легче бросается в глаза, где вечные основные истины всякой нравственности познаются в наиболее ясных и простых формах».265 В романе Вагинова «повседневность» прозаика заключает в себе метафизическую глубину творческого процесса. Для Свистонова не существует минуты вдохновения, поэтических метаний, поисков, однако 265 Цит. по: Вересаев В. В. Гесиод. «Работы и дни». Земледельческая поэма М., 1927. С. 13. 221 его творческий принцип постулируется на протяжении всего романа как теоретически выверенный подход к описанию данной ему действительности. Пьер Вальц, описывая «моральные идеи и практические предписания» поэмы, сосредотачивает свое внимание на категории труда как на главнейшем двигателе цивилизации, что вполне актуализирует дидактику «Трудов и дней» в духе первого десятилетия советской власти. «Необходимость труда есть кара за участие человека в преступлениях Прометея, плата за огонь, похищенный для него сыном Иопета, в особенности, следствие жадного любопытства Пандоры, выпустившей в мир бедствия. <…> С другой стороны, необходимость труда является неизбежным результатом прогрессивного упадка человечества: сила его и первичные добродетели мало по малу исчезли, а земля стала уже не так плодовита, как в своей первой молодости, и сама собой не дает пищи всем своим обитателям. Каково бы не было философское истолкование этих мифов, обязательство трудиться в обоих случаях вытекает, как необходимое последствие, из нарождения зла».266 Отличие «труда» Свистонова от «необходимого» лишь в его поэтичекой специфике, ориентированности на внутрилитературные проблемы. Внешне циничные и даже безнравственные его поступки оправдываются в свете литературной полемики 1920–х годов (материалом к которой Свистонов является априори в силу своей фикциональности), и могут найти основание в философских взглядах М. М. Бахтина, наиболее просто выраженных еще в раннем невельском очерке «Искусство и ответственность» (1919): «за то, что я пережил и понял в искусстве, я должен отвечать своей жизнью, чтобы пережитое и понятое не оставалось бездейственным в ней. Но с ответственностью связана и вина. Не только понести взаимную ответственность должны жизнь и искусство, но и вину друг за друга. Поэт должен помнить, что в 266 Цит. по: Вересаев В. В. Гесиод. «Работы и дни». Земледельческая поэма. М., 1927. С. 35. 222 прошлой прозе жизни виновата его поэзия, а человек жизни пусть знает, что в бесплодности искусства виновата его нетребовательность и несерьезность его жизненных вопросов. Личность должна стать сплошь ответственной: все ее моменты должны не только укладываться рядом во временном ряду его жизни, но проникать друг друга в единстве вины и ответственности». 267 Следуя комментарию Теодора Бергка, историческая ситуация во время написания поэмы Гесиода вполне соотносима с событиями, связанными с возникновением советского государства и, главное, соотносимо с тем, как Вагинов воспринимал произошедшие перемены в культурной жизни страны: «Великое странствие племен, толчок к которому дало переселение дорийцев, совершенно изменило вид Греции. Рыцарская жизнь, достигшая в троянскую войну высшей своей точки, была уничтожена, и образовались новые гражданские отношения».268 Сходны композиционные черты двух произведений. «Гесиод излагал свои мысли в больших и маленьких разделах, прерывавшихся паузами. Вследствие этого и поэма Гесиода носит до известной степени характер импровизации. Так, например, автору для его цели было достаточно изложения одного мифа, но он прибавляет к сказанию о Прометее рассказ о пяти веках, — родственного содержания, но имеющий и свое особое значение».269 И далее: «вставные «новеллы» в поэме Гесиода вовсе не сочиненные им тексты. Это фольклорные тексты, ходившие в народе: мифы (Прометей и Пандора, Пять веков), басни (Ястреб и соловей)».270 Роман Вагинова также построен на цитировании текстов, связь между которыми подчас чрезвычайно слаба. ТДС изобилует разрывами 267 Бахтин М. М. Искусство и ответственность // Собр. соч. в 7–ми т. Т. I. Философская эстетика 1920–х годов. М., 2003. С. 5. 268 Цит. по: Вересаев В. В. Гесиод. «Работы и дни». Земледельческая поэма. М., 1927. С. 21. 269 Там же. С. 24. 270 Там же. С. 30. 223 сюжетных линий, которые не могут быть воссозданы читательским воображением. Неизвестно, по какому поводу уезжает жена Свистонова, Леночка, об отъезде которой можно судить только по письму, полученному писателем. Нелогичны (или так же сокрыты от читателя) некоторые психологические мотивировки персонажей. Британский славист Г. Робертс верно заметил, что «если чтение Свистоновым реального мира приравнивается к неспешным наблюдениям за материалом, и объект восприятия относительно устойчив, то любому реальному читателю придется обращаться за помощью к тексту Вагинова».271 Читатель подобен глухонемой героине Трине Рублис, невольной слушательнице рассуждений о литературе. Уместно будет упомянуть также, что сшитые между собой предания разного дискурсивного происхождения в поэме «Труды и дни» — своего рода вставные «новеллы» в романе Вагинова, расположенные также в начале повествования, как и у Гесиода. Однако ориентация ТДС на античную поэму272 не представляется нам доминирующей даже в рамках структуры заглавия. Дело в том, что титул поэмы Гесиода «Труды и дни» не был типичен для описываемого периода. На момент появления романа в России было осуществлено пять попыток перевода античного памятника. Первый печатный перевод «Исiода Аскрейского творенiя» принадлежит перу Александра Фрезинского (СПб, 1779). Затем князь П. И. Голенищев–Кутузов (М., 1807) перевел поэму в стихотворной форме, пользуясь современными ему западными переводами с древнегреческого, а А. Г. Огинский (СПб, 1830) — в прозе с первоисточника. В 1885 году появляется работа Г. К. Властова 271 Roberts G. The last Soviet avant–garde: OBERIU — fact, fiction, metafiction. Cambridge, 1997. P. 108. <пер. с англ. наш — Д. Б.> 272 Есть возможность говорить о связях не только с конкретным текстом Гесиода, но и античным «земледельческим» жанром Георгик. Такая параллель возможна, в первую очередь, за счет особенностей хронотопа в романе. 224 (СПб, 1885), который в предисловии так характеризует свой труд: «Самый перевод не имеет претензий на изящество; главная его цель, имевшаяся в виду, была точная передача этого важного документа. Мы старались достичь этой цели подстрочным и почти дословным переводом. Каждая строка нашего перевода строго соответствует содержанию строки греческого оригинала».273 И, наконец, в 1927 году печатается перевод В. В. Вересаева (Л., 1927), текст которого в значительной мере исправлен по указаниям проф. Ф. Ф. Зелинского. Перевод поэм Гесиода был представлен Вересаевым в Академию Наук на соискание премии Пушкина еще 1919 года. Со времени издания 1885 года, первого серьезного, «академического» издания поэмы, хрестоматийным становится заглавие «Работы и дни», которое было востребовано и в переводе Вересаева. На неустойчивую ассоциацию с античным текстом указывает разброс переводов на английский язык заглавия романа Вагинова. Существует три известных нам варианта, из которых только один сохраняет гесиодовскую семантику — «Labours and days of Svistonov», используемый Грэмом Робертсом в книге «The last Soviet avant–garde: OBERIU — fact, fiction, metafiction». Здесь Labour — нужно читать как тяжелый труд, преимущественно физический (как и в «земледельческой поэме» античного классика). В первом посмертном переиздании романа (New–York, 1984), несмотря на то, что основной текст печатается на русском языке, предлагается «расшифровка» заглавия для англоязычных граждан — «The routing days of Svistonov» — которая, видимо, не учитывает античную цитату. И, наконец, в книге Дэвида Шеперда «Beyond metafiction» мы находим любопытную интерпретацию — «The works and days of Svistonov». существительное 273 Относительно «work» Гезиод. СПб., 1885. С. 1. в лексико–семантической английском языке — группы неисчисляемое 225 (соответственно, форма works — невозможна), за одним исключением, когда дефиниция «работа» раскрывается как интеллектуальный труд, труд ученого или литератора. Это тонкое уточнение четко отграничивает «Труды и дни» от «Трудов и дней Свистонова». Даже весьма общий, принципиально не претендующий на исчерпывающий характер, обзор текстов с интересующим нас заглавием дает основание заключить, что «Труды и дни» в начале XX века ассоциируются, в первую очередь, с исследовательской работой, посвященной отдельной биографии литератора или с теоретическим осознанием литературного опыта целого направления. Свистонов написал такое произведение, которое безликие критики, изображенные в охарактеризовали романе, как распространители лучший роман со слухов времени и сплетен, символистов. Любопытно, что печатный орган, «последний оплот» символизма, носил название «Труды и дни». «Иванов, Белый и Блок попытались основать в 1911 году новое издание, которое должно было называться «Журнал– Дневник» и стать новым «Дневником писателя», принадлежащим сразу трем авторам. В конце концов, новое издание получило название «Труды и дни», заимствованное у Гесиода и призванное обозначить переход символизма к «созиданию»; с 1912 по 1916 год вышло восемь номеров этого журнала <…> «Труды и дни» склонялись к филологии, к теории литературы: читатели устали от споров на общие темы, доведенные, надо признаться, Белым в четвертом номере журнала до крайней резкости тона и крайней расплывчатости содержания».274 В январско–февральском номере «Трудов и дней» за 1912 год читаем: 274 Нива Ж. Русский символизм // История Русской литературы: XX век: Серебряный век. М., 1995. С. 100. 226 «Труды и дни ставят себе двойную цель. Первое, специальное назначение журнала — способствовать раскрытию и утверждению принципов подлинного символизма в области художественного творчества. Другое и более полное его значение — служить истолкователем идейной связи, объединяющей разносторонние усилия группы художников и мыслителей, сплотившихся под знаменем Мусагета. Соответственно этой двойной цели, журнал состоит из двух частей. В первом отделе найдут себе место теоретические и критические статьи, посвященные общим вопросам и отдельным явлениям художественного творчества. Во втором — будут разрабатываться проблемы современного философского и религиозно нравственного сознания, наравне с темами эстетики, изучаемой в общефилософской связи».275 Теоретические, литературно–критические статьи являются образчиками культурно–исторического метода в изысканиях, прекрасного слога и энциклопедически широчайшего кругозора авторов, способных сопоставлять явления из разных эпох различных видов искусств. На титуле издания был изображен Аполлон на марке (из книги Carl Phillip Moritz — Die Gotterlehre) — прекрасная иллюстрация к содержанию номеров, полных культурных изысканий во имя покровителя науки и искусства. Отдельными рубриками было освещено творчество Вагнера, Гете и Данте. Знакомство автора ТДС с данным изданием кажется возможным в связи с отмеченной исследователями близостью поэзии Вагинова (особенно в ранний период творчества) с поэзией символизма, что, по мнению Л. Н. Черткова, прослеживается и на прозаическом этапе творчества автора: «В некоторых письмах чувствуется пиетет перед Андреем Белым, «Петербург» которого без сомнения оказал влияние на его роман КП. Есть свидетельство, что из русской прозы Вагинов хорошо знал лишь символистскую. По словам Д. Е. Максимова, интересовался он и Вячеславом Ивановым».276 275 Труды и дни: Двухмесячник изд–ва «Мусагет». 1912. № 1. М.. С. 1–2. Чертков Л. Поэзия Константина Вагинова // Вагинов К. Собрание стихотворений. Munchen, 1982. С. 216. 276 227 Обратим внимание на еще один пример конкретного заглавия, ставшего, по нашему мнению, важной деталью жанрового кода ТДС. В 1910 году выходит второе дополненное издание работы Н. О. Лернера (1877 — 1934) «Труды и дни Пушкина», посвященное биографии классика. Николай Осипович, чей труд о Пушкине долгое время оставался наиболее полной научной биографией поэта, был видным ученым своего времени, типичным представителем дореволюционного «академического» литературоведения. Н. О. Лернер в предисловии, датированном 19 ноября 1904 года, высказывается о принципе составления биографии следующим образом: «Быть может, меня обвинят в излишнем пристрастии к подробностям, к мелочам. На это обвинение я отвечу словами историка Ф. Туманского: “Не должно думать, что это мелочи, иногда самая краткая записка, самое маловажное обстоятельство разливает великий свет в бытописании — особливо потому, что при таковых кратких записках выражается ясно имена, место, месяц, год, число”. К тому же, — чем с большей обстоятельностью мы будем изучать Пушкина, тем лучше: сплошь да рядом то, что сначала кажется нам мелочью в биографии великого человека, при ближайшем изучении даст нам ценный материал для правильного суждения о его жизни, о процессе его творчества, об окружавшей его обстановке и т.п.».277 В тексте ТДС читаем соответствие тезису Лернера: «мелочи удивительно поучительны и помогают поймать эпоху врасплох» (ПССП, 150). «Труды и дни…» представляет собой свод ежедневных заметок о жизни и творчестве Пушкина. Будет уместно процитировать несколько таких заметок: 277 Лернер Н. О. Труды и дни Пушкина. СПб., 1910. С. 3. 228 «1824 Мая 22. Пушкину предписано Воронцовым отправиться в командировку в Херсонский, Елисаветградский и Александровский уезды для собрания сведений об истреблении саранчи».278 «1827 Март. Пушкин был на Тверском бульваре с Корсаковым, В. П. Зубковым, Данзасом и другими знакомыми».279 В работе Н. О. Лернера с юридической непредвзятостью помещаются статьи совершенно разного содержания, безотносительно их принадлежности к творческой биографии поэта: письма (личного, общественного характера), служебные записки, ведомственная переписка, цензурные решения. При подобном подходе отличить, с первого взгляда, биографию классика русской литературы от биографии казначея, состоявшего на затруднительным. какой–либо службе, Основополагающим представляется является довольно принцип хронологической последовательности, согласно которому в «сеть» времени «запутаны» подчас гетерогенные, не связанные между собой факты. У Вагинова встречаем следующее: «Леночка <Свистонов — жене — Д. Б.> сколько раз я тебя просил собрать все <газетные — Д. Б.> вырезки и приклеить в хронологическом порядке. <…> К тому же, сколько раз я тебя просил на всех, даже самых незначительных вырезках помещать дату, название газеты» (ПССП, 156). Среди номенклатурных и бюрократических по содержанию статей теряются замечания о начатых, написанных, отданных в печать произведениях автора. К примеру, частотность упоминаний о работе над «Евгением Онегиным» за 1827–1828 годы уступает количеству заметок по судебному делу о распространении стихов А. Шенье, в котором Пушкин «проходил» только как свидетель. Может сложиться впечатление, что 278 279 Лернер Н. О. Труды и дни Пушкина. СПб., 1910. С. 98. Там же. С. 153. 229 судебная тяжба в большей степени характеризует деятельность поэта, нежели написание художественных текстов. Далее в тексте встречаем две эпиграммы, написанные Пушкиным на рисунках к «Евгению Онегину» в Невском Альманахе за 1829 год, который нашелся у М. И. Пущина. Это эпиграмма на главную героиню Татьяну «Сосок чернеет сквозь рубашку» и «Вот перешедши мост Кокушкин» на самого себя, автора романа в стихах. В тексте биографии Лернера «ценность» сведения о написании эпиграммы равновелика «ценности» написания «Евгения Онегина». Это происходит в силу выбранного критерия систематизации фактов — здесь важнейшим является хронологический признак, одна статья о завершении и печати главы из романа, равнозначная ей — заметка об игривом настроении Пушкина. С работами Лернера Вагинов мог ознакомиться в начале 1920–х годов во время посещения поэтических курсов Н. Гумилева, проходивших в Ленинградском Доме Искусств, где в те годы Николай Осипович вел семинарий по Толстому.280 Также, и что более вероятно, имя Лернера ассоциировалось у Вагинова с литературными прениями, вызванными представителями формальной школы, которые активно выступали против подобного «биографического» подхода к творчеству авторов, отстаивая возможности имманентного анализа художественных произведений. В 2010 году выходит том «Труды и дни Н. Гумилева», осуществляющий реконструкцию замысла скрупулезного исследователя творчества Н. С. Гумилева, собирателя архива поэта, П. Н. Лукницкого (1900–1973). В конце 1920–х годов труд был выполнен лишь частично в виде кратких конспектов и планов всех его частей, однако конкретное заглавие упоминалось Лукницким уже тогда281. Следует также добавить, 280 См.: Фрезинский Б. Я. Судьбы серапионов. Портреты и сюжеты. СПб., 2003. С. 9. В предисловии к книге В. Лукницкой Д. С. Лихачев писал: «В 1924 году, заканчивая курсовую работу по творчеству Н. Гумилева, студент Петроградского университета Павел Лукницкий, начинающий поэт, пришел с собранными материалами к Анне Ахматовой. Встреча положила начало их 281 230 что известный мемуарист, собиратель архива А. А. Ахматовой и Н. С. Гумилева, по мнению авторов комментария к ПССП, Т. Л. Никольской и В. И. Эрля, послужил прототипом к Мише Котикову, персонажу КП, который стремится «оживить» своего кумира, поэта Заэвфратского, буквально «шаг в шаг» повторяя его жизненный путь, и для этого занимается его архивом. «Ваши материалы о жизни Александра Петровича удивительны, но в них есть какая–то странность, но это ничего — это молодость. Как жаль, что во время нашего солнца не существовал молодой человек, подобный вам. Как бы это было бы интересно, день за днем, час за часом, проследить жизнь гения» (ПССП, 128). Вагинов доводит до абсурда образ архиватора–коллекционера, который настолько вживается в своего героя, что считает благоразумным жениться на постарелой вдове поэта: «Вся жизнь для него заключалась в образе Заэвфратского» (ПССП, 134). Подобный подход к исследованию творчества соотносится с методом Н. О. Лернера и академической науки в целом. Традиция заглавия монографических работ с использованием формулы «Труды и дни», посвященных биографиям как литераторов, так и любых других культурных и общественных деятелей в дальнейшем будет поддержана многими работами.282 Итак, если предположить, что из–под пера Вагинова выходит жизнеописание некоего литератора — безусловно, собирательный образ, дружбе и совместному труду о поэте <…> университетская курсовая работа переросла в рукописный двухтомник «Труды и дни» — свод сухих, конкретных фактов хронологической канвы жизни и творчества Н. Гумилева». См.: Лихачев Д. С. Предисловие к книге Веры Лукницкой // Лукницкая В. Николай Гумилев. По материалам домашнего архива семьи Лукницких. Л., 1990. С. 3. 282 Вот только некоторое количество примеров, круг которых, при желании, можно сильно увеличить: Шторм Г. П. Труды и дни Михаила Ломоносова. М., 1934.; Голубков С. Н. Труды и дни архитектора Василия Баженова, 1737–1799. М., 1937.; Орлова А. А. Труды и дни М. П. Мусоргского: летопись жизни и творчества. М., 1963.; Кишкин Л. С. «Честный, добрый, простодушный…»: труды и дни Александра Филипповича Смирдина. М., 1995.; Иосиф Бродский: труды и дни. М., 1998. 270 с.; Манн Ю. В. Гоголь: труды и дни: 1809–1845. М., 2004.; Купченко В. П. Труды и дни Максимилиана Волошина: летопись жизни и творчества, 1917–1932. СПб., 2007.; Конспект времени: труды и дни Александра Ратнера. М., 2007. 756 с. 231 включающий в себя черты, как самого автора, так и ближайшего к нему окружения — то как же охарактеризовать его место в истории литературного процесса, типологизировать Свистонова? И здесь небесполезным будет обратить внимание на возможную этимологию столь забавной фамилии. Свистонов — герой, с которым может ассоциироваться вполне конкретная историческая личность — граф Дмитрий Иванович Хвостов, записной графоман «пушкинской поры», с которым связана целая «хвостовиана» эпиграмм, насмешек и пародий. В 1920 годы, вместе с интересом формалистов к забытым и малоизученным именам Золотого века русской поэзии, личность графа Хвостова обретает некую популярность (в первую очередь, стоит упомянуть работу Ю. Н. Тынянова «О пародии» (1929), начало которой было положено еще на Пушкинском семинаре С. А. Венгерова, где молодой исследователь выступил с докладом о пародийной пушкинской оде «Его сият. гр. Дм. Ив. Хвостову»).283 Реабилитированный современным литературоведением как создатель особой поэтики, которая не могла быть адекватно воспринята в начале XIX века,284 граф Хвостов, однако, навсегда войдет в историю литературы как мифологический персонаж Хлыстов, Ослов, Рифмин и т. д. — как аллегория поэтической бездарности. Среди множества прозвищ, которыми высмеивали поэта, были и такие, как «Свистов» и «Хвастон». Сочетание дает нам выписанное в тексте Вагинова — Свистонов.285 Данным сочетанием можно объяснить, почему автор не остановился на варианте «Свистунов» (что подчеркивало бы однозначную этимологическую связь с корневой морфемой «свист»). 283 Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 236. См. соответствующий раздел в книге: Альтшуллер М. Беседа любителей русского слова. У истоков русского славянофильства. — М., 2007. 285 Идею такой интерпретации имени главного героя романа автору диссертации подсказала Е. Г. Лямина, за что он выражает ей самую глубокую признательность. 284 232 Мы далеки от категоричных выводов о том, что аллюзия на поэму Гесиода никак не присутствует в заглавии романа. Однако нам важно подчеркнуть параллельность существования двух гетерогенных традиций. Среди нескольких задействованы культурных двойным парадигм, прочтением которые заглавия могут быть (античность — современность; традиция — новаторство; литература — металитература и т. д.), особенно следует выделить имплицитное противостояние достоверности (актуальности) и художественности — одну из главных теоретических современников. проблем для Вагинова, писателя–практика, и его 233 Приложение II. «Вот и палец можно истолковать по Фрейду»: прагматика интертекста в романе К. К. Вагинова «Козлиная песнь» Несмотря на богатый интертекстуальный пласт романов К. К. Вагинова, подчас нарочито просвечивающий и заслоняющий авторские описательные конструкции, его проза не может быть адекватно интерпретирована только с помощью многочисленных литературных подтекстов.286 Происходит это, кажется, потому, что случаи фиксации «чужого» слова превосходят количество непосредственно верифицируемых цитат, принадлежащих к литературному дискурсу. Иногда сугубо литературная образность должна иметь дополнительную интерпретацию, в которой учитываются контекстные теоретические разработки. описанных произведениях в Локальное Вагинова, сосредоточение особая роль событий, городской петербургской топики в его романах привлекло внимание В. Н. Топорова, автора работ о семиотике петербургского городского пространства. История петербургского текста, по мнению исследователя, имеет довольно четко очерченные границы: «от ”Медного всадника” до “Козлиной песни”».287 Во вступительной статье к одному из изданий работы Топорова С. Г. Бочаров комментирует обозначенный период: 286 Необходимо оговорить случаи употребления терминов подтекст и интертекст. Интертекст понимается как открытая структура любого художественного произведения, вмещающая в себя весь континуум культурных и литературных связей. Под подтекстом мы понимаем частные верифицируемые контакты ограниченного количества художественных объектов. 287 Топоров В. Н. Петербургский текст. М., 2009. С. 663. 234 «Столетие: 1833—1928. От союза– противоречия поэмы и петербургской повести, оды и трагедии до союза–противоречия трагедии и пародии, “козлиной песни”. Пушкин был “открывателем смыслов” города, Вагинов заявил себя его гробовщиком».288 Несмотря на видимую концептуальную значимость прозы Вагинова, в классических работах о петербургском тексте нет ее непосредственного анализа. В конце жизни В. Н. Топоров надеялся переиздать свои труды в издательстве «Искусство–СПб», дополнив их новыми исследованиями и материалами. Среди запланированных статей был текст «Петербург Вагинова», который, к сожалению, так и не был им написан.289 По нашему мнению, функция городской топики в вагиновской прозе не сводима к мифологеме, концептуализированной Топоровым. В 1920–е годы существовало краеведческое общество «Старый Петербург — Новый Ленинград», занимавшееся изучением, популяризацией и художественной охраной города на Неве и его окрестностей. Вагинов был близок с некоторыми из членов этого общества, в качестве поэта участвовал в мероприятиях «Старого Петербурга…».290 Помимо практической градозащитной деятельности общество уделяло внимание теоретической краеведческой Н. П. Анциферов и искусствоведческой занимался образным работе. восприятием В частности, Петербурга в 288 Бочаров С. Г. Петербургский текст Владимира Николаевича Топорова // Топоров В. Н. Петербургский текст. М., 2009. С. 7. 289 Топоров В. Н. Петербургский текст. С. 31. См. также другие работы, восстанавливающие пробел в исследованиях петербургского текста: Пономарев Е. Р. Мертвый город литературы (Ленинград в романе К. Вагинова «Труды и дни Свистонова») // Петербургский текст: Сб. статей и публикаций. СПб., 1996. С. 79–90.; Сойнов С. В. Творчество Константина Вагинова и петербургский текст русской литературы // Дергачевские чтения. 2000: Рус. лит.: нац. развитие и регион. особенности. Екатеринбург, 2001. Ч. 2. С. 311–315.; Амусин М. Текст города и саморефлексия текста // Вопросы литературы. 2009. № 1. С. 152-175.; Жаднова Е. Н. Петербургский текст К. Вагинова // Известия Саратовского ун–та. Новая серия. Серия: Филология. Журналистика. 2012. Т.12. №2. С. 73–76. Орлова, М. А. Жанровая природа романа Константина Вагинова «Козлиная песнь»: дисс. на соиск. … канд. филол. наук: 10.01.01. СПБ., 2009. С. 52–64. 290 Доподлинно известно, по крайней мере, об одном таком мероприятии: «15 октября сего <1923 – Д. Б.> года / ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 час. Вечера / ВЕЧЕР ПЕТЕРБУРГСКИХ ПОЭТОВ / весь сбор на реставрацию памятника “Медный Всадник” / УЧАСТВУЮТ: / К. ВАГИНОВ / Евг. ГЕРКЕН / М. КУЗЬМИН / Ф. НАППЕЛЬБАУМ / И. НАППЕЛЬБАУМ / Б. ЛИВШИЦ / Вс. РОЖДЕСТВЕНСКЙ и друг. / В. В. ГЕЛЬМЕРСЕН прочтет переводы современных русских поэтов на немецком языке (А. Ахматова, Евг. Геркен, Вс. Рождественский, Вл. Пяст) / Вступительное слово скажет Вс. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ». (ЦГАЛИ СПб. Ф. 32. Оп. 1. Д. № 27. 91 л.). 235 художественной словесности и еще в ранних сочинениях,291 свободных от тяжеловесности научного стиля, определил значение городской топики для русской литературы, близкое позднейшему концепту петербургского текста.292 Вагинову должны были быть известны работы Анциферова. Возможно, тот или иной пейзаж из его романов следует интерпретировать не только как художественную деталь, но и как художественную деталь, которая зависима от аналитического контекста, содержит в себе автоинтерпретацию — атрибут метафикциональности. Если обоснования литературных параллелей достаточно, чтобы интерпретировать общие для двух произведений мотивы и образы, чтобы возвести поэтику двух авторов к единой эстетической доминанте (будь то одно литературное направление или использование определенного жанра), то регистрация метахудожественных коннотаций в художественном тексте имеет дополнительные по отношению к историко–литературной герменевтике следствия. Особая образная константа прозы Вагинова — карнавальность — формулируется исследователями в соотнесении с металитературными коннотациям. Однако напрашивающийся контекст штудий М. М. Бахтина,293 основное содержание которых Вагинов мог почерпнуть из личного общения с участниками домашнего семинара философа от литературы,294 не находит эмпирического подтверждения295. Теория мениппеи настойчиво и безапелляционно определяется как подтекст 291 Анциферов Н. П. Быль и миф Петербурга. Пг, 1922. 226 с.; Анциферов Н. П. Душа Петербурга. Пг., 1922. 156 с. 292 Подробно о значении трудов Н. П. Анциферова для литературного краеведения см.: Московская Д. С. Н. П. Анциферов и художественная местнография русской литературы. М., 2010. 432 с. 293 В известной серии интервью Бахтин высоко оценивает о прозе Вагинова: см. Бахтин М. М. Беседы с В. Д. Дувакиным. М., 2002. С. 210, 211, 212, 224. 294 Историко–литературный очерк об участниках семинара и тех их чертах, которые отразились в романе КП, приводит Д. Л. Шукуров в книге «Автор и герой в метаповествовательном дискурсе К. К. Вагинова» (Иваново, 2006. С. 133–146). 295 Первые наброски будущей книги и диссертации, посвященной карнавальной природе романа относятся к ноябрю–декабрю 1938 года, однако есть свидетельства самого Бахтина о более раннем (но не ранее 1930-х годов) времени исследования темы (см.: Бахтин М. М. Собрание сочинений: в 7 т. М., 2008. 4 (1) т. («Франсуа Рабле в истории реализма» (1940 г.). Материалы книги о Рабле (1930–1950–е гг.). Комментарии и приложения). С. 841–843. 236 романов Вагинова на том только основании, что это «позволило бы объяснить последовательное воплощение в художественном тексте <…> теоретических тезисов Бахтина, опубликованных значительно позднее выхода в свет романа».296 О. В. Шиндина приводит достаточно объемный список признаков, которые, по ее мнению, принадлежат карнавальному дискурсу. «Характерные признаки мениппеи, описанные Бахтиным, убедительно выявляемы на материале произведений Вагинова: одержимость героев собственной философской идеей и испытание ими последних философских позиций, злободневная публицистичность, трущобный натурализм; обусловленная карнавальной природой пародии тема двойничества, позволяющего сравнить героев профанического и сакрального мира; использование экспериментирующей фантастики и оксюморонов, трехпланового утопических построения; элементов, использование вставных жанров, смешение прозаической и стихотворной речи; введение в повествование исторических и легендарных фигур; мотивы сумасшествия, безумия, опьянения, коллекционирования, сновидений, пророчества, необузданной мечтательности, самоубийства, скандалов и эксцентрического поведения».297 Приведенный список поэтических черт прекрасно характеризует особенности творчества Вагинова, но совсем не обязательно эти черты напрямую восходят к бахтинской концепции о происхождении романа.298 Жанровые и образные особенности прозы Вагинова могут быть обусловлены дихотомической (натуралистической и символистской) природой русской литературы рубежа XIX и XX веков299 или же 296 Шиндина О. В. Творчество К. Вагинова как метатекст. дисс. на соиск. … канд. филол. наук: 10.01.01. Саратов, 2010. С. 63. См. также другие работы на эту тему: Anemone A. Carnival in Theory and Practice: Mikhail Bakhtin and Konstantin Vaginov // In The Contexts of Bakhtin: Philosophy, Authorship, Aesthetics. Amsterdam, 1998, p. 57–69.; Шатова И. Н. О карнавальной природе прозы Вагинова // Мова i культура: (Науковый журнал). Киев, 2009. Вип. 11. Т. XI. С. 258–265. 297 Шиндина О. В. Творчество Вагинова как метатекст. дисс. на соиск. … канд. филол. наук: 10.01.01. Саратов, 2010.. С. 63. 298 Ср. Сегал Д. М. Константин Вагинов и античность // Античность и культура Серебряного века: К 85–летию А. А. Тахо–Годи. М., 2010. С. 407-413. В данной статье исследователь высказывает сомнение в «площадном» происхождении «карнавальной» поэтике Вагинова. 299 Ср.: «Интерес к так называемым “пограничным состояниям сознания” (разные виды транса) сфера общая и для натурализма, и для символизма, однако мотивация обращения к ним - разная. Для натуралиста “странные явления” - объект наблюдения и фиксации через “документ”, для символиста - 237 стилистическими особенностями культуры авангарда 1920–х годов.300 Однако, по нашему мнению, даже если признать эту документально неподтвержденную аналогию убедительной на основании тематического единства источников, обнаруженный след Бахтина не может быть конечной целью интерпретации. После фиксации данного подтекста необходимо описание функции металитературного дискурса внутри художественного текста. Кажется, многочисленные соответствия — скорее следствие общности оценки современной эпохи Вагиновым и Бахтиным, нежели их реплики в диалоге «карнавальных» текстов.301 В литературоведении разработан метод герменевтической «дешифровки» художественного целого за счет выявления следов предшествующей традиции, сознательно (или же бессознательно, что считается не менее плодотворным) оставленных автором исследуемого текста. Продуктивно такого рода анализом пользуется школа К. Ф. Тарановского, зачинатель которой вполне однозначно определяет область своего исследования. Подтекст для Тарановского — это уже существующий текст, отраженный в последующем на основании их метонимической связности. Функция данной связи часто различна, что дает возможность выделить четыре вида подтекста. Это «1) текст, служащий простым толчком к созданию какого–нибудь нового образа; 2) “заимствование по ритму и звучанию” (повторение какой–нибудь ритмической фигуры и нескольких звуков, содержащихся в ней); 3) текст, поддерживающий или раскрывающий поэтическую посылку последующего текста; 4) текст, являющийся толчком к поэтической психологический опыт по «расширению сознания», личный он или дискурсивный - другой вопрос». (Грякалова Н. Ю. Человек модерна: Биография - рефлексия - письмо. СПб., 2008. С. 21). 300 Здесь мы опираемся на концептуальное видение И. П. Смирнова, работы которого были в первом параграфе первой главы настоящей диссертации. 301 Ср.: «читатель, помни, что люди, изображенные в этой книге, представлены не сами по себе, т.е. во всей своей полноте, что и невозможно, а с точки зрения современника». (Вагинов К. К. Полное собрание сочинений в прозе. С. 461). Здесь и далее, кроме специально оговоренных случаев, цитаты из романов Вагинова мы будем приводить из Полного собрания сочинений в прозе (СПб.: Академический проект, 1999), пользуясь сокращением ПССП с указанием страниц. 238 полемике».302 Очерченный широкий круг возможных подтекстов умышленно ограничен автором концепции имманентным отношением к тексту как к «группе слов», литературных и даже поэтических. Тарановский использует соссюровскую оппозицию langue — parole, где к «языку» относит свой литературный подтекст, а к «речи» подтекст в терминологии Станиславского, подтекст «сценический», «как своего рода мотивировка произносимого на сцене текста: “Подтекст это то, что заставляет нас говорить слова роли”».303 Оставаясь в поле лингвистики, можно заметить, что Станиславский выявляет прагматическое значение высказывания, которое, если обратиться уже к анализу художественного произведения, определяется не столько во взаимоотношении между двумя текстами (какими бы разными они не были), сколько в регистрации этих отношений автором, находящимся в рядах жизненного, литературно– бытового, исторического подтекста, при дальнейшем использовании текста–предшественника в качестве структурно необходимой метафоры. Стоит отметить важность прагматических условий функционирования интертекста для осмысления художественных поисков и решений 1920–х годов, сопротивляющихся парадигме «Серебряного века», на поэтическом материале которого и был выведен обозначенный методологический аппарат Тарановского. Выросшие на модернистской традиции начала века авторы в 1920–е годы стремятся «преодолеть» «символизм», в частности, с помощью усложнения функции интертекста в системе произведения. Подтекст, чье появление в тексте обусловлено прагматически, выходит за рамки классификации Тарановского: принципиальная дискурсивная гетерогенность подтекста не дает возможности говорить об интенциональном импульсе (1), риторическом соответствии (2), контекстном замещении (3) или же полемической остроте (4) по отношению к новому тексту как к единице поэтической. Но существует 302 303 Тарановский К. Ф. О поэзии и поэтике. М., 2000. С. 32. Там же. С. 39. 239 обратная связь — поэтизация внелитературной аллюзии, помещенной в структуру нового художественного произведения. Главная функция такой аллюзии и состоит в экспликации и проблематизации поэтичности: раскрывая метафору внелитературного подтекста, мы обязательно обнаружим причину различия между двумя членами тождества «по сходству». Структурно данная функция выражается на метаповествовательном уровне текста. Неизбежной данностью интертекстуальных связей является их имманентное стремление к архетипическому смыслу, лежащему в любой поэтической конструкции. К такому справедливому выводу в духе постструктуральной критики приходит, к примеру, И. П. Смирнов, анализирующий подтексты поэзии Б. Л. Пастернака: «Примеры реконструктивной и конструктивной интертекстуальности показывают, что в обеих ситуациях отображение созданного в создаваемое сводится в конечном счете к повтору архетипических смысловых схем. Конверсивная интертекстуальность, коль скоро она является всеобщим правилом связывания эстетически отмеченных текстов, действующим на любом этапе развития искусства, лишает художественное творчество возможности аддитивно накапливать изменения архетипических констелляций. Переход от данного к новому не сопровождается в искусстве вычеркиванием информации, предшествующей данному. Поэтому нет никакого пункта преемственности, в котором словесное искусство оказалось бы в состоянии избежать воспроизведения мифопоэтической семантики. Художественный неизбежностью регрессирует к семантическим протоформам». текст с 304 Участие нехудожественного подтекста не способствует трансляции мифопоэтической семантики, она инерционно воспроизводима за счет влияния структуры текста на чужое слово. Гораздо функциональнее представляется выявление художественной прагматики сосуществования двух гетерогенных дискурсов. Более того, металитературная цитата, 304 Смирнов И. П. Порождение интертекста. Элементы интертекстуального анализа с примерами из творчества Б. Л. Пастернака. СПб, 1995. С. 44. 240 выявленная в художественном произведении, не должна быть соотнесена с другим текстом, принадлежащим вместе с ней к одной научной парадигме. Так, Д. Л. Шукуров делает проницательное замечание о значении бахтинской концепции «чужого слова» для интерпретации романов Вагинова, в которых коммуникативная ситуация представляет собой интерференцию дискурсов. Однако взаимодействие реплик нарраторов, проблематизированных практиками — что внеположенными было присуще литературе представлению речевыми о романной коммуникации «Невельским» семинаром в 1920–30–е — в работе Шукурова только необходимая ступень к прочтению Бахтина Ю. Кристивой и к ее теории интертекстуальности, а затем и к выводу о центонном построении прозы Вагинова.305 Итак, в романах Вагинова, по нашему мнению, наличествует слой гетерогенных по своей природе цитат, разрушающий художественную целостность и, тут же, воссоздающий ее в некоем усложненном виде. В первую очередь, мы имеем в виду случаи упоминания (прямого или скрытого, облаченного в прототипический образ) лиц, чьи литературные, философские, критические работы служили неким дискурсивным фоном ранней советской эпохи, определяя умонастроения и чувственные вкусы. Принципиальным внелитературный отличием такой коммуникативный цитации характер — становится романный ее текст Вагинова вбирает в себя тексты безотносительно их эстетической принадлежности, взаимоотношения с которыми строятся несколько иным образом, нежели в случае диалога нового художественного целого с условной традицией. К подобным квази–подтекстам стоит отнести, к примеру, аллюзии, связанные с «Закатом Европы» О. Шпенглера. На протяжении двух первых романов можно проследить, как снимается 305 Шукуров Д. Л. Автор и герой в метаповествовательном дискурсе К.К. Вагинова. С. 40. 241 осмеянный в карнавальной традиции авторитет автора монументального исторического труда, подвергаются сомнению оригинальность и прочность в доказательстве идейного уровня «шпенглерианства». Однако, вслед за формальным истощением источника в качестве подтекста, в романах подвергается художественного рецепции потенциала двусмысленная позиция самого и Шпенглера, полная автора эсхатологического мифа и одновременно «фаустианского человека», добровольно оказавшегося под собственным аналитическим «скальпелем», нещадно вычищающим отмершие органы «западной цивилизации». Таким метатекстуальный) образом, подтекст внелитературный подвергается двойной (или, точнее, параллельной экспроприации306 внутри художественного мира романов Вагинова, актуализируя метанарративные структурные потенции.307 В данном разделе диссертационного исследования на материале романа КП мы постараемся описать подтекст, связанный с именем Зигмунда Фрейда и его методом анализа психологии и мотивировок деятельности человека, не уступающим по популярности идеям Шпенглера.308 Однако если завершение жизненного цикла цивилизации, концептуализированное немецким философом истории, находит прямое отражение на «трагедийном» тематическом уровне КП («Не люблю я Петербурга, кончилась мечта моя») (ПССП, 14), то психоаналитические аллюзии гораздо в большей степени освобождены от содержательного (семантического) назидания — функция такого цитирования сведена к прагматическому заявлению самой цитаты и последующей метафоризации ее в качестве структурного элемента повествования. 306 Данная формула неизбежно отсылает к определению Р. О. Якобсона специфики художественности (равно как и с размышлениями И. П. Смирнова о механике интертекстуальной коммуникации). 307 Бреслер Д. М. «Фьютс культура»: к проблеме интертекста «Заката Европы» в романах К. Вагинова // Статьи и материалы IX международной летней школы по русской литературе / Под ред. А. Кобринского. СПб., 2013. С.115–127. 308 О популярности психоанализа и фигуры Фрейда см.: Эткинд А. М. Эрос невозможного: Развитие психоанализа в России. М., 1994. С. 171–211. 242 Впервые имя Фрейда появляется в романе в главе «Остров», в которой описывается летнее пребывание Тептелкина на даче в Петергофе. Здесь, на «последн<ем> остров<е> Ренессанса <…> в обставшем <…> догматическом море» (ПССП, 52), собирается культурный и научный бомонд Петрограда: ученые отдыхают, философы беседуют, наслаждаясь гедонистической атмосферой, поэты читают стихи и пьют пиво. Среди прочих гостей вниманием удостаивается один молодой человек, интересующийся психоанализом: «Компания, расположившись у башни, в садике со сломанным забором, с кустами акаций, со следами клумб, развлекалась. Она увеличилась еще за это время. <…> Тут же, прося не двигаться, всю группу снимал кодаком молодой человек, увлекающийся фрейдизмом; он даже уроки немецкого языка здесь брал у Тептелкина, чтобы читать Фрейда в подлиннике». (ПССП, 59) Одухотворенная дачная жизнь богемы описана в легкой гротескной форме, в действиях персонажей прослеживается некоторая наигранность, усталость от подобающего этикета, ощущение бесцельности приятного времяпрепровождения. Следствием моды стоит признать и «фрейдизм» человека с фотоаппаратом. Неуместно звучат высокопарные речи хозяина дачи, Тептелкина, который не перестает ликовать и чествовать достоинства собравшейся компании. Пройдет некоторое сюжетное время, и знакомые и друзья предстанут перед Тептелкиным совершенно в ином свете. «Стали приходить к Тептелкину Аким Акимовичи и на ухо сообщали сведения о его друзьях. Один живет со своей матушкой и занимается оккультизмом; другой — к песикам неравнодушен; третий бывший наркоман, и прозрения его в высшей степени подозрительны. Четвертый подхалимствует в чуждых сферах. Смеялся Тептелкин. — Мои друзья — избранники, никогда клевете не поверю. Нет ничего выше дружбы. 243 Но он стал замечать, что молодой человек, увлекающийся радио, действительно как–то слишком страстно целуется со своей матушкой. Сидят, сидят и вдруг язык с языком соединяется, и напряжение языков у них до того сильно, что оба они, и сын и мать, от натуги краснеют». (ПССП, 64) Вульгарный поцелуй сына и матери — потаенное желание инцеста — служит точкой отсчета сюжетного поворота, отныне надежды на сохранение высокой культуры нет, поскольку сменяется модальность описания культурного быта. Исследовательские начинания, связанные с погружением вглубь человеческой природы, нивелируются филистерским прочтением сексуальной природы бессознательного. «Тептелкин был печален. Он шел домой и думал о том, что вот и палец можно истолковать по Фрейду, он думал о том, что вот омерзительная концепция создалась столь недавно. Читал ли он философское стихотворение, вдруг фраза приковывала его внимание и даже любимое стихотворение Владимира Соловьева: Нет вопросов давно, и не нужно речей. Я стремлюсь к тебе, словно к морю ручей, о – приобрело для него омерзительнейший смысл. Он чувствовал себя свиньей, валяющейся в грязи». (ПССП, 102) За аналитическим дискурсом, который безапелляционно навязывает свои значения привычным антипросвещенческий статус. для героев Фрейдистская реалиям, закрепляется трактовка раннего стихотворения В. С. Соловьева снимает с него художественный флер, чарующую маску символов, фетовскую кодировку,309 выхолащивает поэтическую первозданность, самоценную и параллельную условной реальности. 309 Зависимость эстетического эффекта от объяснения Стихотворение было послано в письме к А. А. Фету, написанному до 22 июля 1892, близкому и влиятельному для Соловьева на тот момент адресату. Если верить автокомментарию, сопровождающему собственно текст стихотворения: «первая строфа постольку хороша, поскольку пахнет Фетом. Вторая от собственных усталых мозгов — слабая». См.: Письма Владимира Сергеевича Соловьева / под ред. Э. Л. Радлова, т. 4, СПб., 1923. С. 228–229. 244 психоаналитика поражает, в первую очередь, автономию искусства, пробует на прочность «слоновую кость» башни Тептелкина. Несмотря на исторические катаклизмы, произошедшие незадолго до времени действия в романе (в основном, это первая половина 1920–х, пореволюционных годов), именно тоталитарное воздействие дискурсивности на культурное сознание героев воспринимается ими как крах привычного образа жизни, разрыв их особенной коммуникации внутри эстетически привилегированного социума. Нехудожественный дискурс внедряется в роман в вульгарном своем варианте, теории Фрейда максимально упрощены и односторонни: эдипальный конфликт, сексуальность бессознательного, страх перед смертью — все, что можно воспринимать как слухи и сплетни о книгах австрийского врача. «Прозрение» Тептелкина связано также и с изменением социального статуса — женитьбой на своей давней пассии, которую раньше герой обожал на расстоянии, довольствуясь романтизированным поэтическим созерцанием. Роль Марии Петровны в браке проговаривается также в соответствии с фрейдистской трактовкой отношений между мужчиной и женщиной — Тептелкин отныне занят замещением травмы от утраты материнской утробы. «<Тептелкин> Сел на скамейку. На этой скамейке несколько дней тому назад он сидел с Мусей Далматовой, но не говорил о любви, а говорил о том, что хорошо жить вдвоем, что он больше не боится женщин. Он вспомнил золотые слова Марьи Петровны в ответ: — Жена как мать должна относиться к своему мужу. Ведь Тептелкину нужна была мама, которая любила бы его и ласкала, целовала бы в лоб и называла своим ненаглядным мальчиком». (ПССП, 63) Идиллия неразрывного сосуществования бытовой реальности и космоса искусств (в античном смысле) становится возможна только в силу действия единого аналитического аппарата, способного описать все 245 многообразие двух первоначально конфликтующих областей. Но такое описание неправомерно в рамках художественного дискурса, а потому воздействует губительно на романный мир КП. Следствие дискурсивного конфликта можно эксплицировать даже на сюжетном уровне: Тептелкин теряет интерес к задуманному программному труду «Иерархия смыслов», избегает общения с культурной элитой, погруженный в «то, что казалось ему уютом» (ПССП, 100), довольством семейной жизнью, которая, однако, вскоре прекращается вместе со смертью Марии Петровны. В конце романа мы оставляем Тептелкина «помнящим, что он лыс и совсем одинок» (ПССП, 145). Нет никаких оснований полагать, что Вагинов штудировал работы Фрейда и другие труды по психоанализу, равно переведенные или же изданные в Европе на языке оригинала. Такой гипотетический интерес не зафиксирован ни одним мемуаристом, документальных подтверждений подобного увлечения не содержит ни один архив писателя. Однако Вагинову наверняка был известен обширный критический очерк о фрейдизме одного из членов домашнего семинара М. М. Бахтина, куда был вхож и автор КП. Это небольшая монография В. Н. Волошинова в Государственном издательстве в 1927 году.310 Во «Фрейдизме» даны краткие характеристики основных понятий, которыми оперирует психоанализ в середине 1920–х годов, после чего в качестве полемики ставится под сомнение внесоциальная экспликация области бессознательного. Это, по мнению автора очерка, невозможно, так как любая потаенная мысль автоматически вербализируется посредством высказывания, речи погруженной в социальные отношения. 310 Первое издание: Волошинов В. Н. Фрейдизм (Критический очерк). М., Л.: Государственное издательство, 1927. В качестве источника цитации мы будем использовать издание: Волошинов В. Н. Фрейдизм (Критический очерк) // Бахтин М. М. Фрейдизм. Формальный метод в литературоведении. Марксизм и философия языка. Статьи. М., 2000. 246 «Содержание человеческой психики, содержание мыслей, чувств, желаний — дано в оформлении сознанием и, следовательно, в оформлении человеческим словом. Слово — конечно, не в его узко лингвистическом, а в широком и конкретном социологическом смысле — это и есть та объективная среда, в которой нам дано содержание психики. Здесь слагаются и находят внешнее выражение мотивы поведения, соображения, цели, оценки. Здесь рождаются и конфликты между ними».311 Объектом взаимодействия анализа для пациента Волошинова и становится врача–психиатра во процесс время психоаналитического сеанса, на протяжении которого и происходит работа с обнаружением проявлений бессознательного. Однако тот продукт, который психоаналитик получает на выходе и интерпретирует как выражение индивидуальной психики, по мнению Волошинова, является результатом препарированного пациентом, специальной микросоциума, стесняющимся итогом высказаться коммуникации внутри «противоборства» между до конца, настроенным одновременно и на сугубую трансляцию внутреннего материала, и на автоинтерпретацию сказанного, и врачом, отстаивающим свой авторитет, навязывающим пациенту собственную точку зрения. Так автор очерка переходит от обзора фрейдизма к особой трактовке высказывания, которая была присуща кругу Бахтина в Ленинградский период его существования, а затем позднее нашла окончательное оформление в бахтинском проекте металингвистики 1960–х годов. В конечном счете, очерк Волошинова концептуально необходим «Невельскому семинару» в качестве подтверждения дискурсивной природы даже глубинной человеческой психики. «Ни одно словесное высказывание вообще не может быть отнесено на счет одного только высказавшего его: оно — продукт взаимодействия говорящих, и шире — продукт всей той сложной социальной ситуации, в которой высказывание возникло. 311 Волошинов В. Н. Фрейдизм (Критический очерк). С. 162. 247 <…> То же, что характерно именно для данного высказывания: выбор определенных слов, определенная конструкция фразы, определенная интонировка высказывания — все это является выражением взаимоотношений между говорящими и всей той сложной социальной обстановки, при которой происходит беседа. Те же «душевные переживания» говорящего, выражение которых мы склонны усматривать в этом высказывании, на самом деле являются только односторонней, упрощенной и научно неверной интерпретацией более сложного социального явления. Это — особый род «проекции», с помощью которой мы вкладываем (проецируем) в «индивидуальную душу» сложную совокупность социальных взаимоотношений. Слово — как бы «сценарий» того ближайшего общения, в процессе которого оно родилось, а это общение, в свою очередь, является моментом более широкого общения той социальной группы, к которой говорящий принадлежит».312 В контексте критики фрейдизма как теории, исключающей влияние дискурсивных (социальных) операций на исследуемый материал, давление внелитературного подтекста на мотивировку событий КП возможно характеризовать как Структурированность потерю героями бессознательного как собственной проекции речи. социальной (дискурсивной) модели,313 отказ в гипотетической возможности вырваться за пределы означающих следует признать одним из центральных проблемных узлов романа Вагинова. Образные характеристики романа выстроены так, что не могут не заострить внимание на области «по ту сторону социального»314 и максимально размыть границу этой области с условной реальностью (социальностью). Размышления зарождении угасании Тептелкиным и и об историческом цивилизаций, Неизвестным поэтом, которые процессе как о высказываются противоречат линеарному движению истории, находятся за пределами ее прогрессивного развития; 312 Там же. С. 157–158. Возможная соотнесенность и взаимообусловленность позиций Волошинова (Бахтина) и французского структурального психоанализа Ж. Лакана еще только предстоит выяснить и описать. Об этом см.: Эткинд А. М. Эрос невозможного. С. 317–318. 314 Под таким заглавием вышла статья В. Н. Волошинова, предваряющая отдельное издание монографии: Волошинов В. Н. По ту сторону социального. О фрейдизме // «Звезда», 1925, № 5, с. 186– 214. 313 248 «внекультурна» коллекция «безвкусицы» Кости Ротикова, а в его искусствоведческих трудах совершается попытка расширить область искусства за счет привлечения принципиально антиэстетичного материала; своеобразным литературным кровосмешением занят Миша Котиков, который, собрав материалы для полной биографии поэта Заэвфратского, неожиданно оканчивает своей труд женитьбой на вдове поэта. Представленный образный ряд, кажется, характеризует сознательную авторскую стратегию конструирования «неофициального сознания». «Мотивы бессознательного, которые вскрываются на психоаналитических сеансах с помощью метода “свободного фантазирования”, суть такие же словесные реакции пациента, как и все обычные другие мотивы сознания; они отличаются от этих последних, так сказать, — не по роду своего бытия, а только по своему содержанию, т.е. идеологически. В этом смысле бессознательное Фрейда можно назвать в отличие от обычного “официального” сознания — “неофициальным сознанием”».315 Особая стратегия «бессознательного» поведения принадлежит образу Неизвестного поэта, который открыто заявляет о своем неприятии внутренней цензуры, стремится к освобождению от привычных форм восприятия действительности. В описании детства героя есть эпизоды подглядывания за матерью, привязанности к ней, наслаждения материнской заботой. Однако формированию «правильного» Эдипова комплекса мешает холодное отношение отца к матери. Отец — любитель «клобов» и полуночных див. Отец ведет богемный образ жизни, который невозможен в начале 1920–х. Замещение позиции отца происходит не только в русле популярной тенденции самоанализа Фрейда. Неизвестный поэт вожделеет ушедшего времени, возможностей своих предков, культурного фона, сопутствующего детским воспоминаниям. Снятие табуированных тем, попытки уйти от рассудочного миропонимания 315 Там же. С. 162–163. 249 оформляются множеством фрейдистских сексуальных мотивов, разрушением собственного Я. Верифицируемая внутри общественных отношений, однако скрытая цензурой, область подсознания героя является областью чистой эстетики, священного пророческого безумия, романтической фигуры творца. «Для этого надо уничтожить волю с помощью воли. Надо уничтожить границы между сознательным и подсознательным. Впустить подсознательное, дать ему возможность затопить светящееся сознание». (ПССП, 96) Автономия «неофициального» сознания героев, содержащая в себе истинный творческий потенциал, в случае Тептелкина поглощена инородным художественному дискурсом, в случае с Неизвестным поэтом — понимается, как способность литературного персонажа к самосознанию, структурному освобождению от тотального всеведения вненаходимого автора (Бахтин). Цензура (психоаналитический термин) приобретает значение авторской повествовательной инстанции, способной контролировать «безвольных» действующих лиц. Процитированный выше отрывок из внутреннего монолога героя, размышления, высказанные им про себя во время одинокой прогулки, показательным образом тут же становятся известны другому персонажу романа, Косте Ротикову. «”Придется навсегда расстаться с самим собой, с друзьями, с городом, со всеми собраниями”. В это время к нему <Неизвестному поэту — Д. Б.> подбежал Костя Ротиков. — Я вас ищу, сказал он. — Мне про вас сообщили ужасную новость. Мне сказали, что вы сошли с ума». (ПССП, 96) Герои обладают общим, единым для всех сознанием, которое открыто и целиком повествовательных подвластно взаимоотношений воле автора Автора. и Экспликация героев, осознание 250 последних в роли марионеток в руках кукловода — метафикциональные черты, безусловно, присущие КП — коррелируют с проблемным столкновением дискурсивных полей литературности/ внелитературности. Бунт против Неизвестным волюнтаристского поэтом в потоке поведения сознания, автора выражается сосредоточенном на фрейдистских «топосах». «Оставьте меня одного. Ибо человек перед раскрывшейся бездной должен стоять один, никто не должен присутствовать при кончине его сознания, всякое присутствие унижает, тогда и дружба кажется враждой. Я должен быть один и унестись в свое детство. Пусть явится мне в последний раз большой дом моего детства, с многочисленностью своих разностильных комнат, пусть тихо засияет лампа над письменным столом, пусть город примет маску и наденет ее на свое ужасное лицо. Пусть моя мать снова играет по вечерам "Молитву Девы", ведь в этом нет ничего ужасного, это только показывает контраст ее девических мечтаний с реальной обстановкой, пусть в кабинете моего отца снова находятся только классики, несносные беллетристы и псевдонаучные книги, — в конце концов, не все обязаны любить изощренность и напрягать свой мозг». (ПССП, 96) Таким образом, подтекст Фрейда эксплицитно, на мотивном уровне, присутствует только в качестве увлечения обывателя, невежество которого способно лишить духовный и прекрасный мир искусства своей полноты. Однако дальнейшее продвижение по аллюзивной лестнице, ведущее к критическому восприятию фрейдизма в близких к Вагинову кругах, дает возможность проследить множественность соответствий романного повествования метафоре психоаналитического сеанса. Аллюзия мимикрирует под романный дискурс и начинает функционировать в качестве структурно необходимого элемента, прообраза романной структуры. Архетипическая семантика, присущая фрейдизму замещается прагматическим функционированием структурировать поэтику КП. интертекста, призванным 251 Выявленные нами прагматические особенности интертекста в прозе Вагинова на примере первого его романа могут быть соотносены с характеристикой поэзии Пролеткульта, определенной М. А. Левченко как поэзии «опустошения интертекстуальности». «<П>онимая под интертекстуальностью прежде всего феномен полного или частичного формирования смысла произведения посредством ссылки на иной текст <…>, мы обнаруживаем в поэзии Пролеткульта частичное опустошение интертекстуальности. Цитация оказывается таковой только формально, то есть оказывается чистым заимствованием (нефункциоальным включением чужого элемента в текст)».316 Такая неожиданная корреляция признаков поэтики еще раз подтверждает факт равновеликого влияния дискурса эпохи на всех агентов литературного поля, вне зависимости от их поэтической доктрины. 316 119. Левченко М. А. Индустриальная свирель: поэзия Пролеткульта 1917–1921 гг. СПб., 2010. С.