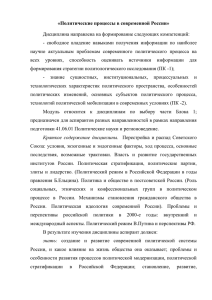ЧТО ТАКОЕ "ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ"? Б.Г. Капустин
advertisement
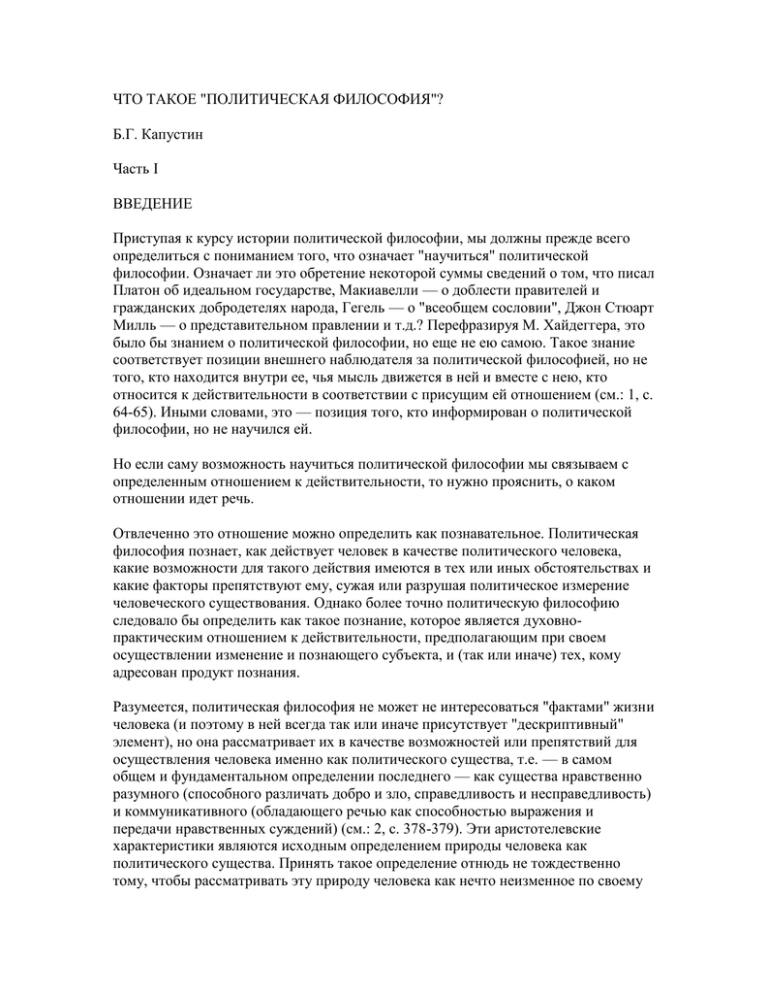
ЧТО ТАКОЕ "ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ"? Б.Г. Капустин Часть I ВВЕДЕНИЕ Приступая к курсу истории политической философии, мы должны прежде всего определиться с пониманием того, что означает "научиться" политической философии. Означает ли это обретение некоторой суммы сведений о том, что писал Платон об идеальном государстве, Макиавелли — о доблести правителей и гражданских добродетелях народа, Гегель — о "всеобщем сословии", Джон Стюарт Милль — о представительном правлении и т.д.? Перефразируя М. Хайдеггера, это было бы знанием о политической философии, но еще не ею самою. Такое знание соответствует позиции внешнего наблюдателя за политической философией, но не того, кто находится внутри ее, чья мысль движется в ней и вместе с нею, кто относится к действительности в соответствии с присущим ей отношением (см.: 1, с. 64-65). Иными словами, это — позиция того, кто информирован о политической философии, но не научился ей. Но если саму возможность научиться политической философии мы связываем с определенным отношением к действительности, то нужно прояснить, о каком отношении идет речь. Отвлеченно это отношение можно определить как познавательное. Политическая философия познает, как действует человек в качестве политического человека, какие возможности для такого действия имеются в тех или иных обстоятельствах и какие факторы препятствуют ему, сужая или разрушая политическое измерение человеческого существования. Однако более точно политическую философию следовало бы определить как такое познание, которое является духовнопрактическим отношением к действительности, предполагающим при своем осуществлении изменение и познающего субъекта, и (так или иначе) тех, кому адресован продукт познания. Разумеется, политическая философия не может не интересоваться "фактами" жизни человека (и поэтому в ней всегда так или иначе присутствует "дескриптивный" элемент), но она рассматривает их в качестве возможностей или препятствий для осуществления человека именно как политического существа, т.е. — в самом общем и фундаментальном определении последнего — как существа нравственно разумного (способного различать добро и зло, справедливость и несправедливость) и коммуникативного (обладающего речью как способностью выражения и передачи нравственных суждений) (см.: 2, с. 378-379). Эти аристотелевские характеристики являются исходным определением природы человека как политического существа. Принять такое определение отнюдь не тождественно тому, чтобы рассматривать эту природу человека как нечто неизменное по своему содержанию и проявлениям, т.е. как нечто внеисторическое. Мы говорим лишь о том, что только обладание данными характеристиками, по каким бы конкретным причинам они ни воспроизводились и в каких бы формах они ни представали, создает возможность политической жизни. Учитывая это, в качестве исходного можно принять то определение политической философии, которое дает ей И. Берлин: это исследование вопросов о том, что есть в жизни людей "специфически человеческое, а что не является таковым и почему "(3, с. 17). Но если исходить из этих соображений, то нам придется принять следующее. Первое. Исследуя действительность под углом зрения возможностей (или отсутствия таковых) осуществления нравственно-разумной и коммуникативной природы человека, мы сами занимаем определенную ценностную позицию: мы не только признаем эту природу человека той ценностью, ради которой предпринимаем исследование, но, изыскивая условия и возможности ее реализации, тем самым требуем от действительности, чтобы в ней было место для этой ценности. Иными словами, все рассуждения принимают такой характер и такое направление, что все, чем бы ни занималась политическая философия, касается нас непосредственно, затрагивает нас в нашей собственной человеческой природе. Мало сказать, что позиция политического философа (если он является таковым) не может быть позицией бесстрастного наблюдателя, регистратора фактов и знатока политических технологий как таковых. Он вынужден не только принимать чью-то сторону в реальной политической борьбе, но и относительно каждой специфической духовно-исторической ситуации переопределять и проблематизировать самого себя — вопрошать о мере собственной нравственной разумности и коммуникативности на предмет ее адекватности осмыслению и поиску возможностей осуществления "специфически человеческого" в данной ситуации. Политический философ, стремящийся раскрыть эти возможности и содействовать их реализации, сам оказывается потенцией "практического разума", а не "фактом" явления "теоретического разума", т.е. не глашатаем его вердикта, не включенного в данную ситуацию, не преобразованного ею. Здесь начинается первое принципиальное отличие политической философии от науки вообще и политической науки, в частности, сравнение с которой нам интересно прежде всего. В конвенциональной модели науки исследователь относится к материалу только как "теоретический разум" — материал не может "потребовать" от исследователя переопределения его как практического субъекта. Их отношения в принципе технологичны, что и порождает претензию на ценностную нейтральность науки в отличие от практического (духовнопрактического) характера отношений политического философа и его "материала". С позиции претензий на ценностно-нейтральную технологичность Г. Лассуэлл мог с полным основанием заключить о том, что так же, как существует "политическая наука демократии" (в виде суммы определенных технологий представительства, организации власти и т.д.), может существовать "политическая наука тирании" (4, с. 471 прим.), ни в чем не уступающая первой с точки зрения ее научного совершенства. В противоположность этому "политическая философия безнравственного неразумия" невозможна. Второе. Если мы считаем, что от действительности можно требовать предоставления места нравственной разумности и коммуникативности человека и вместе с тем исследовать ее теоретически, а не просто прекраснодушно мечтать о "добром и красивом" (политическая философия есть именно теоретическая рефлексия), то это означает принятие точки зрения, согласно которой действительность не сводима к фактам как ставшим фрагментами бытия, лишь данным человеку и не зависящим от него. В своей конкретности эта действительность есть динамичное соотношение сил, в котором "долженствование есть в такой же мере и бытие" (5, с. 339). Спрашивать о действительности и спрашивать с действительности с позиции должного означает теоретическое исследование того, в какой степени человек может действительно быть субъектом, а в какой он — лишь "факт" (подобно тому, как его описывает, к примеру, бихевиоризм) в ряду других фактов. Вопрошание действительности с позиции должного есть теоретический реализм в отличие от пустого морализаторства в том случае, если это должное стало (становится) предметом воления одной (нескольких) из тех сил, соотношение которых образует действительность (см.: 6, с. 285-286). Следовательно, найти то должное, с позиции которого политическая философия имеет право теоретически вопрошать ту или иную историческую ситуацию, есть ее важнейшая задача. Конкретное понимание действительности есть понимание ее как результата пересечения, сопряжения, противоречия двух линий каузальности — каузальности фактов и каузальности долженствования. Как известно, зрелая разработка этой темы, ключевой для политической философии, принадлежит И. Канту. Говоря словами Г. Маркузе, преимущество кантовской этики состоит "именно в понимании свободы... в качестве особого типа действительной причинности в мире; свобода уже не низводится до статичного способа существования". Принятие такого понимания свободы (и долженствования) отнюдь не обязательно связано с кантовским толкованием ее как безусловной автономии, чистого самоопределения индивидуальной воли, т.е. как трансцендентальной "действительности", просто данной человеку и потому представляющейся опять же "фактом" (7, с. 91-92). Более того, политическая философия, оставаясь сама собой, может усвоить кантовскую мысль о двух видах причинности лишь в том случае, если субъект долженствования и свободы предстает не трансцендентальным и универсальным, а "имманентным" истории и контекстуально обусловленным, если само долженствование не абсолютно, а относительно (прежде всего — конкретных коллективов людей), если сами факты наличной действительности рассматриваются не как "грубая" и простая данность, противостоящая субъекту, а как проблема, определяющая содержание его долженствования в качестве и предмета воления, и возможности его осуществления. Иными словами, политическая философия имеет дело не с "внутренней" свободой и моральным долженствованием человека как частного лица, а с его свободой как участника политического (т.е. коллективного) действия и с присущей такому действию нравственностью, что не является ни эвфемизмом безнравственности вообще, ни простой проекцией на коллектив индивидуальной морали (в связи с анализом мысли Макиавелли см. об этом: 8, с. 359). Но и сделав все эти уточнения, политическая философия не расстается с пониманием действительности как пересечения двух видов каузальности. Долженствование и свобода не выводятся из фактов так, как одни из них выводятся из других. Они порождаются самоопределением воли в качестве альтернативы собственной, "объективной", логике фактов. И потому свобода никогда ничем объективно не детерминирована и не гарантирована (как детерминированы, к примеру, соответствующими фактами и обстоятельствами "технический прогресс", рост или падение банковской учетной ставки или регулярность избрания парламента). В отличие от политической философии политическая наука (как и любая наука, соответствующая своему понятию) имеет дело только с фактами, с их взаимосвязями. Даже там, где она (например, в отрасли, именуемой теорией политической культуры) обращается к "ценностям", последние берутся как факты, т.е. в качестве факторов, столь же "объективно" влияющих на институты и процессы, как уровень экономического развития или характер социальной стратификации в других теориях политической науки, но не в качестве полаганий и оснований действующей воли. (Г. Алмонд и С. Верба соответственно этому и определяют демократическую "политическую культуру" как "некий тип политических позиций, которые благоприятствуют демократической стабильности или... в определенной степени "подходят" демократической политической системе". — 9, с. 122). С точки зрения политической философии такое описание действительности является односторонним, т.е. абстрактным. О тех ситуациях, для которых оно может быть признано адекватным и достаточным, можно сказать, что они существенным образом лишены "специфически человеческого", т.е. политического измерения своего бытия. С большой долей обоснованности такое заключение применимо, к примеру, к обществам, именуемым "тоталитарными". Здесь обнаруживается то, что можно назвать этическим парадоксом политической науки. Она истинна в той мере, в какой правильно описываемая ею действительность должна вызывать нравственный протест как действительность, в которой субъект низведен к объекту, а его свободная воля несущественна настолько, что от нее можно абстрагироваться, не погрешив против истины. Но этот парадокс осознается лишь за рамками собственно политической науки, лишь при взгляде на нее со стороны политической философии. Ибо нравственное долженствование как действенная причинность — вне проблемного поля политической науки. Поэтому она не есть знание об освобождении человека; она безразлична к нему по той же причине и в том же смысле, как и любая наука. Ведь, как писал Л. Витгенштейн, "мы чувствуем, что, если бы даже были получены ответы на все возможные научные вопросы, наши жизненные проблемы совсем не были бы затронуты этим. Тогда, конечно, уж не осталось бы вопросов, но это и было бы определенным ответом" (10, с. 72). С другой стороны, правомерно задаться вопросом, почему — по практически единодушному мнению крупнейших западных исследователей — политическая философия в настоящее время находится в упадке или даже, согласно Лео Страуссу, "вообще более не существует, разве что в виде предмета захоронения, т.е. в виде предмета исторического изучения, или сюжета для слабых и неубедительных протестов" (11, с. 23). Не является ли главной причиной такого положения оглушающее молчание западных обществ в ответ на адресованный им с позиции долженствования вопрос или, скажем мягче, неспособность слишком многих философов услышать такие ответы, произносимые, к сожалению, слабыми голосами? И что делать в таком случае политической философии, не желающей ни изменять самой себе, ни деградировать в пустую мечтательность? Ответ на этот в известном смысле ключевой практический вопрос, стоящий перед политической философией, мы должны найти к концу данной лекции. О "ПРЕДМЕТЕ" ПОЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ. ПРОБЛЕМА ПОЛИТИЧЕСКОГО Научные дисциплины принято определять прежде всего через их предмет, т.е. через ту сторону или те стороны объекта, рассмотрением которых занимается данная наука. Концептуализация этой стороны или сторон "соответствующим" образом и дает определяющий ее содержание и форму предмет. Можно ли аналогичным способом определить политическую философию? Иными словами, можно ли обнаружить специфические политические объекты, рассмотрение которых "соответствующим" им образом даст знание, именуемое политической философией? Допущение такой возможности подразумевает, что политическое (причисляемые к нему явления, процессы, структуры и т.д.) существует независимо — "до" и "вне" — от отношения к нему людей, которое всегда есть в той или иной мере осознанное и осмысленное отношение, даже если мы признаем коренящееся в нем сознание "иллюзорным", а смыслы — "ложными". В той мере, в какой сознание и смыслы определяют действия людей, мы вправе сказать, что их отношения к предмету конституируют сам предмет. Формулой приведенного рассуждения будет следующая: рассмотрение предмета в качестве политического делает его политическим предметом. Макс Вебер был по существу прав, заключая, что государство, например, "перестает "существовать" в социологическом смысле, как только исчезает возможность функционирования определенных типов осмысленно ориентированного социального действия " (12, с. 631). Уточним лишь, что в соответствии со сказанным выше мы должны были бы говорить в данном случае не об исчезновении государства в "социологическом смысле", а о его исчезновении как "объективно" данного (но конституированного осмысленным отношением людей) политического тела. Возможно, при наличии иных типов смысл сориентированных действий государство превратилось бы во что-то другое, скажем, в какую-то неполитическую организацию. Характер знания в политической философии. Если вышесказанное может быть принято, то из этого вытекает следующее. Политическая философия по существу определяется не предметом, как бы существующим независимо от нее, а способом рассмотрения, создающим предмет "под себя", причем создающим его не только в голове или в головах, но в интерсубъективной и в этом смысле — объективной действительности. Причем предмет, созданный в головах, отнюдь не идентичен тому же предмету, существующему в интерсубъективной действительности. Их сходство — не в формах, а в резонансе смыслов того и другого: этот резонанс и позволяет идентифицировать оба предмета — "мысленный" и действительный — в качестве (в нашем примере) государства. Ключевым вопросом для понимания специфики политической философии в таком случае становится вопрос о том, какой именно тип смыслов, ориентирующих действия, конституирует предметы в качестве политических? Прежде, чем перейти к вопросу об этом типе смыслов, во избежание недоразумений уточним следующее. Когда мы сказали о том, что политикофилософский способ рассмотрения создает свой предмет в его действительности, то, конечно, не имели в виду абсурдную мысль, будто это делает теоретизирующее сознание индивидов, относимых к разряду собственно политических философов. Их сознание всего лишь артикулирует то, что можно назвать "стихийной политической философией" общества (тех или иных его групп), которая своим рассмотрением и творит предметы в качестве политических. То, что означает подобная артикуляция, мы рассмотрим, разбирая "метод" политической философии. Пока же достаточно сказать, что она в принципе не может быть эзотерическим или экспертным знанием, не доступным в своей сути непосвященным и достигнутым благодаря созерцанию того, что лежит вне практики людей или относится к ней как организующая ее извне форма — будь то вечные сущности метафизики или "железные законы" эволюции социологического позитивизма. Здесь мы обнаруживаем кардинальное отличие политической философии, с одной стороны, от философии политики и политической науки — с другой. Философия политики есть всегда явным или скрытым образом применение к делам человеческим некоторого знания об универсальном, не обусловленном историческим и культурным (а потому всегда специфическим) контекстом практики людей. В парадигмальном и классически ясном выражении у Платона это есть то "царское знание", которое дает право на господство "знающим" независимо от любых контекстуально обусловленных характеристик их отношений с подданными, а также их собственных свойств как личностей, вследствие чего "уже неважно, правят ли они по законам или без них, согласно доброй воле или против нее, бедны они или богаты: принимать это в расчет никогда и ни в коем случае не будет правильным". Контекстуально же обусловленные характеристики отношений этих "знающих" со своими подданными не имеют значения именно потому, что логически в своей сути они являются отношениями попечения о человеческом стаде и ничем иным они быть не могут (13, с. 47, 27). Характер отношения научного знания к делам человека в сущности тот же, что и у философии политики, хотя его содержание меняется с этико-метафизического на фактографическое или дедуктивно-математическое. Этот характер задан, вопервых, тем, что производитель такого знания ("ученый") ставит себя в позицию зрителя, а не действующего лица в смысле причастности к ситуации (такую причастность, пусть условную, может давать не только непосредственное действие, но и, скажем, герменевтика). Быть зрителем, а недействующим лицом, — это по сути еще одно, хотя и не пронумерованное, правило картезианского научного метода (см.: 14, с. 266), которое необходимо для того, чтобы представить в мысли исследуемое, в том числе человека, как объект, а исследователю — оставаться внеконтекстным органом чистого познания. Попутно, следуя Декарту, нужно отметить, что когда такой орган чистого познания обнаруживает себя в качестве человека, все же находящегося в реальной среде других людей и вынужденного определять свое отношение к ней, то никакого другого принципа такого отношения, кроме безоговорочного конформизма, он найти не может. В практических делах необходимо "повиноваться законам и обычаям" своей страны, выбирать среди многих мнений "самые умеренные" и следовать даже "заведомо сомнительным" среди них так, "как если бы они были бесспорны" (14, с. 263,268). И причина здесь, скорее, методологическая, чем собственно нравственная: ведь свое радикальное сомнение и критику орган чистого познания может обратить только на нечто внешнее ему, т.е. на нечто в качестве объекта, тогда как собственный культурный контекст, к которому он причастен в качестве человека, так овнешнен и объективирован быть не может. Это, разумеется, нужно иметь в виду, когда объективно-научные выкладки, скажем, американской политической науки адресуются уже в качестве рекомендаций получателям, принадлежащим иным культурам. Далее, рассматриваемое отношение характеризуется тем, что "ученый" как орган чистого познания создает столь же внеконтестное и в этом смысле универсальное знание, как и классический философ политики, созерцающий платоновские идеи или шпенглеровские "последние элементы исторического мира форм". (Иногда упускают, что шпенглеровская "физиогномика" мыслилась именно как универсальный метод: "Через сто лет все науки, способные еще вырасти на нашей почве, будут частями единой огромной физиогномики всего человеческого". На такую универсальность своего метода не претендовал и Декарт. Шпенглер же решительно занимал — по аналогии с физиком! — позицию зрителя, относящегося к изучаемому материалу "без каких бы то ни было идеалов, безотносительно к себе самому, без желания, без заботы и личного внутреннего участия..." (15, с. 165, 156)). Продукты такого научного познания вроде законов эволюции от военного к промышленному типу общества Г.Спенсера или "регулярностей модернизации" Д. Лернера (см: 16, с. 32) имеют такое же отношение к действительности людей, как и платоновское идеальное государство, — это отношение применения. Если данное отношение ограничивается областью познания, то оно способно дать малосодержательный результат в виде фиксации "идиосинкразии" к исследуемому объекту, т.е. его отличий от того, что предписано "законами" и "регулярностями". Если оно переводится в практику, то дает точно тот же эффект попечения за стадом человеческим, как и платоновское "царское знание". Не случайно даже гуманистически мыслящий, но все же научный Джон Стюарт Милль считал, что в случае "младенческих" (в смысле — неевропейских) обществ, к которым не применим "принцип" свободы, "деспотизм может быть оправдан", если "его действия имеют целью прогресс и на самом деле приводят к прогрессу" ( 17, с. 210). При этом, что такое "прогресс", — определяло научное познание общественной жизни, объективное и нейтральное по отношению к помыслам и желаниям тех, чьей жизнью она является. То, что политика, как и история в целом, "соотносится скорее с людьми, чем с принципами" (18, с. 216), вообще не касается научного мышления. Современная литература, отчасти вследствие отсутствия той ясности и неумолимой последовательности мысли, которые были присущи классике, отчасти — из-за неооруэлловского "новояза" западной демократической культуры, такие формулировки обычно не допускает, хотя в значительном своем массиве демонстрирует в сущности то же применяемое эзотерически-экспертное знание. По крайней мере "стадам" в таких, менее счастливых странах, как Россия, которые еще производят "переход" на тучные пастбища рынка и демократии, обладатели "царского знания" экономики могут предложить научно выверенную "либеральную модель", "любое отклонение" от которой обойдется им дорогой ценой (19, с. 380. Курсив мой. -Б.К.). Конечно, возможна и такая научная точка зрения на общественную жизнь, которая не претендует на обладание "царским знанием" исцеления и осчастливливания людей. В качестве научной она сохраняет свою эзотерически-экспертную природу и заявляет об обнаружении фундаментальных закономерностей и факторов, определяющих жизнь людей, но не доступных их воле. Однако в качестве более последовательной и реалистичной она признает бесполезность представляемого ею знания для практического хода дел людей. По словам Вильфредо Парето (относимым им прямо к себе самому), это — знание "врача, который диагностирует туберкулез у пациента, но который не знает, как лечить его". И причина этого именно в том, что научная точка зрения в принципе отлична от "точки зрения веры, побуждающей простых людей действовать" (20, с. 27, 34). Проблема долженствования в политической философии. Вернемся, однако, к вопросу о том, каков же тот тип смыслов, который конституирует предметы в качестве политических? Для облегчения нашей задачи воспользуемся другим примером, вновь заимствуемым у Вебера, — его определением власти. "Власть (Macht) есть вероятность того, что одно действующее лицо в рамках социального отношения будет в состоянии осуществить свою волю вопреки сопротивлению, каковы бы ни были основания такой вероятности". Чуть ниже Вебер специально оговаривает, что это понятие власти "аморфно": любые мыслимые свойства личности и любые мыслимые сочетания обстоятельств могут позволить одному навязывать свою волю другому (21, с. 53). Но здесь возникает вопрос: имеем ли мы в данном случае политическое определение власти или, что то же самое, — определение политической власти? Ссылки на широко распространенную практику использования тех или иных вариаций этого определения в политической науке (см., напр., у Роберта Даля: 22, с. 80, 82) сами по себе ничего не доказывают. Разве что заставляют лишний раз задуматься о причинах нынешнего упадка политической философии. Власть грабителя, заставляющего жертву под дулом пистолета отдать свой кошелек, является политической властью? Власть избалованного и обожаемого ребенка, принуждающего своими слезами мать купить лишнюю игрушку, тоже является политической властью? И власть грабителя, и власть избалованного ребенка (и многое-многое другое) идеально подходят под указанное веберовское определение власти. Но мы — пока еще, конечно, интуитивно — ощущаем: если эти виды власти также считать политическими, то нечто, понимаемое нами как собственно политическая власть, утрачивает всякую смысловую определенность. В той политико-философской традиции, которая восходит к Аристотелю, различение политической и неполитической власти имеет не просто принципиальное, но в известном смысле конституирующее ее как таковую значение. Неполитическая власть — это любая власть, покоящаяся на "естественных началах" (2, с. 386), т.е. таких, которые коренятся в материальной природе человека: в потребности продолжения рода (отношения мужа и жены), в самосохранении и обеспечении средств существования (отношения господина и раба, торговый обмен и военный грабеж варваров) и т.п. Поэтому для Аристотеля "государство" как политическое сообщество, хотя оно возникает из естественных потребностей, существует не в виде, не на основании и не ради системы "торгового обмена и услуг", "военного союза", защиты от внешних врагов или даже института, гарантирующего "личные права". Все это — лишь средства, служащие цели, — "благой жизни" (2, с. 460-462). "Благая жизнь" есть жизнь свободных и равных, т.е. равных в свободе и свободных в равенстве. Это и только это есть политическая жизнь. Но она не возникает непосредственно из материальной ("низшей") природы человека, к ней не ведет сама собой цепь естественных причин и следствий. Политическая жизнь возможна лишь на основе "высшей", нравственно-коммуникативной, природы человека (по Аристотелю, — лишь у тех людей, которые обладают такой природой, т.е. у свободных эллинов). "Высшая" природа в качестве основания общежития в гегелевском смысле снимает "низшую" природу, оставляя в ее "ведении" подчиненные элементы полиса — домохозяйство, сферу торгового обмена, внешнюю политику (в идеале — направленную только на варварское окружение)... "Высшая" природа устанавливает долженствование в качестве основания общежития. Быть вместе как свободные и равные на основании материальной природы нельзя: в этой природе все, во-первых, не равны, так как нет в ней другого базиса для связи людей, кроме всегда фактически не равных физических качеств, во-вторых, в ней все несвободны, так как подчинены (гетерономной) силе внешних обстоятельств и внутренних природных вожделений. Естественный факт неравенства и несвободы можно снять утверждением равенства и свободы как должного, признанного таковым разумными существами. Из этого признания и рождается собственно политическая власть как власть "над людьми себе подобными и свободными", и состоит она в умении "властвовать и быть подвластным" , причем в умении делать и то и другое в качестве свободного, т.е. не властвовать как раб (собственных страстей и произвола) и не подчиняться как раб (утрачивая свою самодостаточность и самоцельность) (см.: 2, с. 452). Итак, следуя за Аристотелем, мы пришли к некоторым важным выводам. Первое. Далеко не всякая власть есть власть политическая. Определять политическое знание как такое, которое занимается властью вообще (или любыми другими явлениями, относимыми к "политическим", без рассмотрения смыслоориентации действий, их породивших), неверно. Второе. Как и в случае с властью, предметы конституируются в качестве политических лишь тогда, когда они оказываются в модальности долженствования, когда они могут быть оценены в категориях добра и зла, справедливого и несправедливого и когда они существуют в смысловом поле таких оценок. Выходя из него, они становятся естественными явлениями, погружаясь в то, что философы Нового времени называли "состоянием природы", в котором действуют законы, весьма отличные от политических и нравственных. Третье. Поле политики есть поле свободы, так же как свобода есть сущностное определение политики. Это нельзя понимать так, будто в поле политики нет и не может быть несвободы. В той мере и тогда, в какой и когда политический предмет оборачивается ко мне (к нам, к ним) просто как принудительный факт, а не как утверждаемое нами должное, имеет место моя (наша, их) несвобода. Я, оставаясь политическим существом, буду стремиться преодолеть ее, возможно, оспаривая универсальность того определения должного, на котором покоится политическое в моем сообществе. Позже мы рассмотрим значение данного конфликта для производства и воспроизводства политического. Сейчас же отметим, что несвобода в поле политического радикально отлична от несвободы в (материальной) природе. Дело не только в том, что она производна от политической и нравственной свободы как "инобытие" последней. Эта несвобода имеет природу недолжного в отличие от естественной несвободы, природа которой — факт. Именно поэтому несвобода в политическом поле подлежит отрицанию. Такое понимание несвободы важно хотя бы для того, чтобы уяснить: в политической философии парной категорией к свободе выступает не несвобода, а порядок. Свобода и порядок являются центральными и "исходными" категориями любой теории, принадлежащей к политической философии. Не углубляясь в специальное рассмотрение вопроса, отметим, что под "порядком" здесь подразумеваются "стабильные, регулярно повторяющиеся, предсказуемые модели поведения и кооперация в поведении" людей (23, с. 1). Соответственно беспорядок есть в том же смысле "инобытие" порядка, в каком несвобода есть "инобытие" свободы, а именно — беспорядок есть, во-первых, отсутствие (недостаточность) предсказуемости в действиях людей, во-вторых, отсутствие (недостаточность) кооперации между ними. Политический порядок может покоиться только на долженствовании. Он есть система политических обязательств. Обязательство и порядок предполагают ответ на вопрос "почему я должен подчиняться?", а не на вопрос "почему я подчиняюсь?" Второй вопрос есть вопрос о факте подчинения. Он имеет место "здесь и сейчас" вследствие любого случайного стечения обстоятельств. Поэтому он сам случаен и может повторяться или никогда более не повториться, не создавая ни предсказуемости в поведении и отношениях людей, ни устойчивых форм их кооперации. Фактичность и случайность подчинения — это есть глубинная характеристика гоббсовской "войны всех против всех", и потому она — состояние природы и отсутствие порядка в политическом смысле. Ответ на первый вопрос предполагает мое нравственно-разумное самоопределение в форме долженствования невзирая на "материальные" факты моего бытия. "Невзирая" — подчеркнем еще раз — означает не игнорирование фактов (как их "по-кантовски" игнорируют "рациональные личности", определяющие принципы "справедливости как честности" под "покровом неведения" в "исходном положении" Джона Ролза. См.: 24, с. 31-32), а включенность фактов в содержание долженствования. Именно благодаря этой включенности обязательность и порядок обеспечиваются и могут быть обеспечены только долженствованием. Это — то, что имел в виду, к примеру, Кант, когда писал, что акт "односторонней воли" не создает "окончательной" частной собственности (а только предварительное "завладение", могущее быть оспоренным любым); такая собственность может покоиться только на "объединенной (необходимо объединимой) воле всех", возлагающей "на других обязательство, которого они иначе не имели бы для себя" (25, с. 177). Объединенная воля — это и есть универсальное (для данной общности людей, добавили бы мы вместо Канта) долженствование, без которого в данном случае невозможен порядок частной собственности и при котором я отказываюсь — в ущерб себе — от претензий на то, что становится объектом чужой собственности. А иначе — только "война всех против всех". Приняв модальность долженствования, я буду подчиняться, даже если могу не подчиниться без какого-либо фактического ущерба для себя или если подчинение грозит мне гибелью, т.е. самой ликвидацией меня как факта существования (к примеру, в случае исполнения воинского долга). Как далеко простираются мои политические обязательства, при каких условиях они приостанавливаются — все это важнейшие вопросы политической жизни (и потому — ключевые темы политической философии). Но если мы рассматриваем именно политическую жизнь, то ответы на них могут быть даны только в категориях должного и недолжного, справедливого и несправедливого, а не выгодного и невыгодного или желаемого и нежелаемого, т.е. не с точки зрения фактичности и случайности моего существования. Даже у Т. Гоббса, у которого политические обязательства перед "сувереном" простираются лишь до угрозы жизни подданного (включая право солдата "в некоторых случаях, не совершая беззакония, отказаться" сражаться против врага), это обосновывается этически: приказ власти, исполнение которого угрожает жизни, противоречит цели договора, учредившего эту власть, т.е. обеспечению сохранения жизни человека (см.: 26, с. 238-239). Только долженствование обеспечивает порядок в обоих его измерениях — как стабильность и предсказуемость моделей поведения и как минимально необходимую устойчивость кооперации людей. В политическом поле порядок не есть отрицание или ограничение свободы. Разумеется, при этом нужно иметь в виду то отличие произвола от свободы ("произвол есть не воля в ее истине, а воля в качестве противоречия"), которое позволяет понять то, что "именно в произволе заключена причина... несвободы" человека (27, с. 80, 81). Свобода возможна лишь как упорядоченная свобода, так же как порядок есть порядок свободы (т.е. порядок свободных и равных людей). "Неупорядоченная свобода" выступает лишь как иное определение произвола, осуществление которого в отношениях людей есть беспорядок насилия. Из этого и вытекает давно известная в политической философии корреляция деспотизма и хаоса. Более того, как показал еще Ш. Монтескье, деспотическое государство несет в себе принцип собственного "непрерывного разложения", и (в отличие от всех других государств) оно вообще может существовать только вследствие случайных причин и обстоятельств. Сама систематизация и организация насилия, без чего произвол не может продолжаться сколько-нибудь долго, накладывают на него некие правила и заставляют подчиняться им (см.: 28, с. 260). В той мере, в какой это происходит, произвол перестает быть произволом, и соответственно возникают элементы порядка, то есть свободы. Не нужно обстоятельно объяснять то, что получающаяся комбинация порядка и произвола не удовлетворяет требованиям свободы и потому становится объектом протеста и борьбы. Важнее обратить внимание на то, что протест и борьба во имя свободы возможны и действительно начинаются лишь тогда, когда свобода в тех или иных элементах, формах и степенях уже наличествует. Это еще раз подтверждает справедливость мыслей А. де Токвиля о том, что свободу нельзя "ввести в круг учреждений и понятий", в котором безгранична (неполитическая) власть правителей, что революции против правительства несвободы происходят тогда, когда "оно начинает преобразовываться", ослабляя свои свойства правительства несвободы, что свобода может рождаться лишь из свободы в том смысле, что к ней могут стремиться только свободные люди, а тот, "кто ищет в свободе чего-либо другого, а не ее самой, тот создан для рабства" (29, с. 187, 188, 196-197). Вероятно, все это нужно иметь в виду в наших попытках осмыслить и крах советского коммунизма (а также целесообразность использования в них самого понятия "тоталитаризм"), и того, что произошло после 1991 года, хотя бы для постановки вопроса: не искали ли мы (или кто-то из нас) в свободе чего-то другого, чем она сама, например, "рынка" или перераспределения привилегий? Проблема динамики политического. Прежде чем завершить эту часть лекции о "предмете" политической философии, нам следует еще раз вернуться к Аристотелю, опираясь на рассуждения которого о "естественных началах" и долженствовании, мы попытались разграничить политическую и неполитическую власть, а беря вопрос в более общем плане, — политическое и неполитическое как таковые. Дело в том, что если, рассматривая этот вопрос, мы остаемся в пределах собственно аристотелевской мысли, то тем самым можем лишиться возможности уловить ту динамику политического, которая в решающей мере определяет за движение политической философии после Аристотеля. У Аристотеля естественные потребности человека порождают естественные же отношения между людьми. Эти отношения по существу являются той же природой с присущими ей неравенством, несвободой, отсутствием долженствования в качестве их основания и регулятора. Таковы отношения мужа и жены, господина и раба (и политически уподобленных ему свободных), эллина и варвара... Противоречия самого Аристотеля в трактовке этих отношений как естественных многократно отмечались комментаторами (см., напр.: 30, с. 42), но сейчас они нас не будут занимать. Но нас, конечно, не может не интересовать то, не потребуется ли модификация понимания политического, если мы подвергнем сомнению неизменность характера этих отношений как естественных. Согласимся ли мы с мнением сторонников современного неоаристотелизма о том, что утверждения о подобном характере этих отношений (из которых вытекает и "оправдание рабства") "могут быть изъяты из мысли Аристотеля без отвержения его ключевых положений о наилучшем полисе" (31, с. 105) ? Если отношения мужчины и женщины, производителя и потребителя продукта и прочие можно считать обусловленными естественными потребностями (оставим в стороне вопрос об исторических потребностях и историческом преобразовании естественных потребностей), то отсутствие у античной женщины и раба тех культурно-нравственных качеств, которые позволяли бы им быть членами полиса свободных и равных, приходится объяснять только специфическими формами угнетения. Они порождают у угнетенных те качества, которые в свою очередь оправдывают формы угнетения как естественные. Естественные отношения "природоподобны". Но их "природоподобие" дано не природой, но данной конкретной традицией. Последняя же, пока она отвечает своему понятию, т.е. существует как ритуал, самоочевидность, незыблемый авторитет и власть предков — в отличие от того состояния слабости, дезинтеграции и оспаривания, когда она только и осознается своими приверженцами в качестве традиции, — по определению не допускает рефлективного отношения к себе. Традиция в своем понятии есть "узы, являющиеся "трансцендентными" и существующие как бы "объективно", вне сферы индивидуального выбора" (32, с. 33). Естественность или "природоподобие" человеческих отношений есть, таким образом, их объективность в смысле их пребывания вне сферы выбора людей. Это и есть то, что не сказал Аристотель. А что, если те, кто заключен в сферу естественных отношений, начнут выбирать? Если они, пусть вначале только рефлективно, "дезобъективируют" себя и как субъекты подвергнут субъективному сомнению и "трансцендентный" характер и "объективность" уз и скреп, делающих из них предметы природы? Из этого возникнет та политическая динамика, которую Гегель описывал в виде диалектики раба и господина, ведущая к тому, что противоборствующие стороны взаимно признают друг друга "не только за природные, но и за свободные существа" (5, с. 241). Что это означает для понимания проблемы политического? Прежде всего, что его границы подвижны, что они ничем — и менее всего природой как таковой — не определены априорно и имманентно (его ли собственной сущностью или сущностью других форм и видов человеческой деятельности). В жизни людей естественное ("природоподобное") противостоит политическому лишь как неполитическое, т.е. как то, до чего критическая рефлексия и порожденное ею действие либо еще не "добрались" (пример тому — традиция-как-ритуал), либо как то, к чему они уже потеряли интерес, что снято с актуальной политической "повестки дня" (и потому "традиционализировалось", как те же процедуры и формы представительного правления, которые исторически совсем недавно в наиболее "передовых" странах Запада утверждались в яростной политической борьбе и напряженных идейных спорах). Почему же не верится в то, что можно, просто "изъяв" из мысли Аристотеля его неудобоваримые для современной демократии рассуждения о естественных отношениях, оставить представления о полисе и политическом в сохранности? Более того, просто распространить их на жизнь тех, кто раньше был маргинализирован и угнетен сообществом свободных и равных? Критичность политики. Нравственная основа полиса была традицией, т.е. тем самым "трансцендентным" и "объективным", о которых шла речь ранее. Доброе и справедливое было (сейчас мы скажем — считалось) добрым и справедливым "независимо от того, хотел ли действительно это доброе он, они или вообще ктолибо из людей" (31, с. 130). Но если традиция теряет самоочевидность в сфере естественных отношений, то не может критически не вопрошаться и та традиция, лежащая в основании общины немногих свободных и равных, которая делает первую традицию "объективной", ибо в сущности обе есть одна традиция. Расширение общины свободных и равных за счет включения ранее маргинализированных слоев требует как раз пересмотра тех (содержательно скудных) культурно-нравственных оснований, на которых покоился античный полис. Пересмотр предполагает критику — и духовно-практическую и материально-практическую — существующей нравственности и воплощающих ее институтов. Но полис как традиция был в принципе некритичен: по Аристотелю "решение наше касается не целей, а средств к цели" (2, с. 102). Тоновое, что обретает политическое "после Аристотеля", что придает ему динамику и что само является такой динамикой, — это критичность. Политикой становится лишь то, что рефлектирует и деятельно утверждает (защищает старые или утверждает новые) цели. Политика, которая с точки зрения целей осуществляется инерционно, т.е. для которой "ценности не имеют значения", а вся ее "повестка дня" сводится к средствам, есть "политика, превращающаяся в администрирование" (33, с. 452). Но она, собственно говоря, перестает быть политикой. Сказать, что такая квазиполитика "скучна", как это делает Сеймур Липсет, явно не достаточно для выражения причин недовольства ею. Такая квазиполитика откровенно репрессивна по отношению ко всем, чьи ценности и цели отличаются от тех, которые господствуют как бы по инерции. Репрессия в том и состоит, что такие неинституционализированные цели и ценности не допускаются к включению в политическую "повестку дня" — к рационально-нравственному публичному обсуждению их и учету их в проводимой политике: они представляются заведомо неразумными и экстремистскими, поскольку для разумной и умеренной политики никакие "ценности не имеют значения". Технология такой репрессии солидно концептуализирована американскими исследователями и отражена понятием "непринятия решений" (nondecision-making), определяющегося как такое "решение, которое приводит к подавлению или искажению латентного или явного вызова ценностям или интересам лиц, принимающих решение". Оно есть "средство, с помощью которого требования изменений в существующем в обществе распределении выгод и привилегий могут быть задушены еще до того, как их огласили, или скрыты... до того, как они получат доступ к соответствующим позициям принятия решений, или, если все это не удастся, искалечены и разрушены на той стадии политического процесса, на которой происходит претворение решений в жизнь" (34, с. 44). Продуктивность политики. Некритичность аристотелевской политики необходимым образом связана с другой ее характеристикой — непродуктивностью. Последняя проявляется в обоих существенных отношениях — человека и институционального устройства сообщества. По Аристотелю, чтобы участвовать в политике, "нужно быть уже хорошо воспитанным в нравственном смысле. В самом деле, начало [здесь ] — это то, что [дано], и, если это достаточно очевидно, не будет надобности еще и в "почему"" (курсив мой. — Б.К.) (2, с. 57). Ненужность в аристотелевских рассуждениях о политике вопроса "почему" — это лишь новое выражение уже известной нам ее некритичности. Но эта ненужность обосновывается здесь двоякой данностью — уже нравственно готового человека (задача которого в полисе сводится всего лишь к упражнению и совершенствованию в добродетели) и уже наличным "началом" институционального устройства сообщества. То, что просто есть и воспринимается просто как данность, не пропущенная через горнило вопроса "почему" и потому не утвержденная в новом качестве как должное, есть не более, чем факт. Гегель гениально улавливает это обстоятельство, утверждая, что полис есть в сущности еще не нравственное, а природное явление. Ведь в отношении раба и господина природность, "непосредственность особенного самосознания снимается пока только со стороны раба и, напротив, сохраняется на стороне господина", поскольку лишь раб (в силу принуждения) становится бытием для другого, возвышается над себялюбием своей единичной и естественной воли, тогда как господин (община свободных и равных господ) еще пребывает в таком себялюбии и естественности (5, с. 244, 245). По свидетельству Тацита, одним из главных доводов в пользу соблюдения обычая казни всех рабов господина за его убийство являлся тот, что "если рабам в случае недонесения предстоит погибнуть, то каждый из нас может жить один среди многих, пребывать в безопасности среди опасающихся друг друга..." (35, с. 258-259). Таким образом, естественные отношения раба и господина не только зиждутся на воспроизводстве аморальности в среде рабов, но и имеют своим "мотивационным истоком" животный эгоизм "безопасности" свободных и равных господ. Коллапс традиции, замыкавшей одних в сфере естественных отношений, других — в сфере политической, но покоившейся на природном основании, не оставляет другой возможности для продолжения человеческого общежития, кроме выработки нового содержания и новых форм долженствования: со стороны субъекта — новых политических обязательств, со стороны объекта — новых институтов. Пригодны ли для этого и раб и господин в их прежней культурно-нравственной определенности? Ведь их ценности и цели несовместимы, а долженствование не может не быть универсальным для всех, на кого оно распространяется. Сейчас — в ситуации, возникшей после коллапса самоочевидной традиции, — мы имеем дело с конфликтом, несравненно более драматичным, чем те, которые развертывались внутри полиса или между ними и которые были столь ярко описаны Аристотелем в его "социологии политики". И дело не в степени ожесточенности (кровопролитности) борьбы, а в ее ином содержании. Конфликты аристотелевской "социологии политики" представляют собой в сущности классовые конфликты, т.е. конфликты материальных интересов вокруг таких фактов общественного бытия, как богатство, почести, привилегии и прочее. Они суть конфликты распределения, не затрагивавшие тот базисный строй ценностей и целей, в соответствии с которым люди наделялись тем или иным достоинством. Конфликты "после традиции" являются прежде всего конфликтами культур, которые разворачиваются именно вокруг базисного строя ценностей и целей. Это — конфликты определения того, как и чем вообще измерять достоинство человека. Известно, в том числе из практики современных обществ, что конфликты "более легко разрешаются в таких политических системах, в которых доминирующей формой многообразия является многообразие интересов; делать это гораздо труднее, когда ценности или культурные модели также нуждаются в опосредовании". В первом случае действующие лица "разделяют общую матрицу оценок". Во втором случае им приходится решать вопросы о "критериях самого понимания блага" (36, с. 65). Это новое понимание блага в случае конфликта культур не может быть достигнуто никаким созерцанием и никакой логикой доказательств. Конфликтующие стороны могут созерцать только то, что им дано, а им дано разное до несопоставимости. И сколь угодно безупречная цепь логических доказательств неизбежно исходит из неких недоказываемых "априорных" постулатов, не имеющих иного основания, кроме особенного опыта того, кто эту цепь выстраивает. Опытные основания, а следовательно, и конечные результаты логической процедуры опять же окажутся несовместимыми у сторон конфликта культур. Именно в этой ситуации политика приобретает динамику, еще не известную Аристотелю. Она становится большой политикой, политикой par excellence, по сравнению с той малой политикой, которая имеет дело "всего лишь" с конфликтом интересов, является "всего лишь" классовой политикой. Есть много оснований думать, что малая политика более удобна, безопасна, спокойна. Поэтому столь радостно приветствовали в 50-60-х годах нашего века ее наступление на Западе такие писатели, как Р. Арон, С. Липсет, У. Ростоу и сонмище менее известных фигурантов. Беда здесь лишь в том, что подобного рода политика была отождествлена ими с политикой (уже не говоря о демократии) вообще и потому вопринята как некий апогей политического развития, как нечто окончательно утвердившееся на Западе. Сейчас, в конце 90-х, было бы нелепо полемизировать с этим забавным простодушием. Мир столкнулся с невиданным подъемом мультикультурализма (в том числе, если не в первую очередь, на Западе), с реальной угрозой того, что "более древние, более укорененные националистические, религиозные, фундаменталистские, скоро, возможно, мальтузианские силы" вернут нас всех на "классическое поприще истории", каким оно было до столь удобного, рационально упорядоченного (хотя и по-своему небезопасного) биполярного мира "коммунизма и западной демократии" (37, с. 249-250). Страшно быть неготовым к большой политике, тешась малой, когда первая стоит у порога. В России мы тоже хотели построить демократию малой политикой избирательных процедур, многопартийности, двухпалатных парламентов и президентства. И получили то, что получили. Видимо, еще не сполна. Большая политика в первую очередь продуктивна. В настоящее время идея продуктивности политики ассоциируется обычно с "аналитикой" продуктивности власти, предложенной М. Фуко. У него нецентрированная, бессубъектная власть, которой нельзя "овладеть" и которую нельзя "применять", представляет собой объемлющую все (общество) сеть силовых отношений, не принуждающих и ограничивающих людей (говоря им "нет"), а проникающих в людей и производящих их как своих "носителей" (говоря им "да" и наделяя их способностью делать то, что они желают, но желают они в качестве тех, кто произведен властью) (см.: 38, с. 85, 92-98 и др.). Сейчас нет возможности обсуждать интересный вопрос о том, насколько данное Фуко описание "позитивной продуктивности" власти в пику "негативному" либеральному определению ее как препятствующей силы является адекватным изнанке (или просто реальности) той самой малой политики западных демократий, о которой шла речь ранее. Нам здесь важно лишь подчеркнуть, что идея продуктивности политики в высокой традиции политической философии имеет в виду нечто противоположное: становление в ходе политической практики новой субъектной культурно-нравственной определенности ее участников. Поскольку политическая практика обладает потенциалом эмансипации, постольку она является процессом коллективного взаимообучения через совместное делание. Только так продуцируются те новые представления о благе, которые могут составить стержень нового строя долженствования преобразованного общества. Самообоснование политики. Политическую философию Нового времени в известной мере можно интерпретировать как трудный процесс кристаллизации этого понимания. Теория "общественного договора", в различных своих вариациях доминировавшая в политической мысли XVII -XVIII вв., есть прежде всего идея о том, что легитимность любых властных институтов и любые политические обязательства людей могут проистекать только из их добровольного согласия, из общей воли людей, ставших народом через сцепление и согласование их индивидуальных воль, ранее разобщенных и противостоявших одна другой (см.: 39, с. 49-50). В наиболее радикальных версиях долженствование как политическая реальность в буквальном смысле производилось коллективным актом воли. У того же Гоббса "естественные законы безмолвствуют в естественном состоянии" (40, с. 343) и начинают "говорить" лишь с согласия (т.е. общественного договора) людей. Точно так же и потребная для политического сообщества культурно-нравственная определенность человека не дана как факт, не существует "по обычаю". У нее нет "источника в природе", поэтому, говоря словами Руссо, человек "должен попытаться дать себе новое бытие" — бытие гражданина (41, с. 311). Сейчас нет надобности разбирать те посылки и допущения, которые вводились политическими философами Нового времени для того, чтобы решить задачу создания человеком своего "нового бытия". Большинство из них последовательно опрокидывалось и ходом истории западных обществ, и движением критической мысли. Вместо них вводились новые, еще более осторожные и мягкие в отношении утверждений о том, что есть незыблемая данность для человека и в человеке. Их постигала судьба предшественников пока, начиная с Ф. Ницше, не стало утверждаться представление о том, что у человека нет возможностей отступления ни к каким данным ему основаниям. Все необходимые основания ему придется производить только из себя, т.е. самообосновываться. "...Добра и зла, которые были бы непреходящими, — не существует! Из себя должны они все снова и снова преодолевать самих себя" (42, с. 83). Поиск и даже императив самообоснования стал третьей, наряду с критичностью и продуктивностью, стороной динамики политического, в той мере, как оно выявило себя, начиная с Века Разума, в условиях Современности. 1. Heidegger M. What Is Philosophy? Trans. W. K Juback and J.T. Wilde. New Haven: College and University Press, n.d. 2. Аристотель. Соч. в 4-х т. Т. 4. М.: Мысль. 1984. 3. Berlin I. Does Political Theory Still Exist? In: Philosophy, Politics and Society (Second Series), Ed. P. Laslett and W.G. Runciman. Oxford: Basil Blackwell, 1972. 4. Lasswell H. The Democratic Character. In: Political Writings. Glencoe: Free Press, 1951. 5. Гегель. Энциклопедия философских наук. Т. 3. М.: Мысль, 1977. 6. Грамши А. Искусство и политика. Т. 1. М.: Искусство, 1991. 7. Marcuse H. Studies in Critical Philosophy. L.: NLB, 1972. 8. Баткин Л.М. Итальянское Возрождение. Проблемы и люди, М.: РГГУ, 1995. 9. Алмонд Г.А., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии. — "Полис", 1992, № 4. 10. Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1. М.: Гнозис, 1994. 11. Strauss L. What Is Political Philosophy? Glencoe: Free Press, 1959. 12. Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. 13. Платон. Соч. в 4-х т. Т. 4. М.: Мысль, 1994. 14. Декарт Р. Соч. в 2-х т. Т I. М.: Мысль, 1989. 15. Шпенглер О. Закат Европы. Новосибирск: Наука, 1993. 16. Lerner D. Т he Passing of Traditional Society. Glencoe: Free Press, 1958. 17. Милль Дж.Ст. Утилитаризм. О свободе. Спб.: Перевозников, 1900. 18. Мерло-Понти М. В защиту философии. М.: изд-во гуманитарной литературы, 1996. 19. Ослунд А. Россия: рождение рыночной экономики. М.: Республика, 1996. 20. Pareto V. The Transformation of Democracy. Ed. C. Powers. New Brunswick (N.J.) — L.: Transaction Books, 1984. 21. Weber M. Economy and Society. Vol. 1. Ed. G. Roth and C. Wittich. Berkeley: Univ. of California Press, 1978. 22. Dahl R. The Concept of Power. In: Political Power: A Reader in Theory and Research. Ed. R. Bell et al. N.Y.: Free Press, 1969. 23. Elster J, The Cement of Society. A Study of Social Order. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1989. 24. Ролз Д. Теория справедливости. Новосибирск: изд-во Новосибирского университета, 1995. 25. Кант И. Соч. в 6-и т. Т. 4, ч. 2. М.: Мысль, 1965. 26. Гоббс Т. Избранные произведения в 2-х т. Т. 2. М.: Мысль, 1964. 27. Гегель. Философия права. М.: Мысль, 1990. 28. Монтескье Ш. Избранные произведения. М.: Госполитиздат, 1955. 29. Де Токвиль А. Старый порядок и революция. М.: Кушнарев, 1905. 30. Mulgan R.G. Aristotle's Political Theory. Oxford: Clarendon Press, 1977. 31. Maclntyre A. Whose Justice? Which Rationality? Notre Dame (Indiana): Univ. of Notre Dame Press, 1988. 32. Scruton R. The Meaning of Conservatism. L.: Macmillan, 1990. 33. Upset S.M. Political Man. Garden City (N.Y.): Anchor Books, 1963. 34. Bachrach P. and Baratz M.S. Power and Poverty: Theory and Practice. N.Y.: Oxford Univ. Press, 1970. 35. Тацит К. Соч. в 2-х т T.I. Спб.: Наука, 1993. 36. Offe C. Challenging the Boundaries of Institutional Politics: Social Movements since 1960s. In: Changing Boundaries of the Political. Ed. C.S. Maier. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1987. 37. Gray J. Post-Liberalism. Studies in Political Thought. L.-N.Y.: Routledge, 1993. 38. Foucault M. The History of Sexuality. Vol. 1. N.Y.: Vintage Books, 1990. 39. Green Т.Н. Lectures on the Principles of Political Obligation. L.: Longmans, 1941. 40. Гоббс Т. Избранные произведения в 2-х т. Т. 1. М.: Мысль, 1964. 41. Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М.: Наука, 1969. 42. Ницше Ф. Соч. в 2-х т. Т. 2. М.: Мысль, 1990.