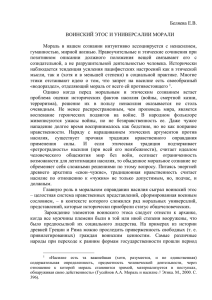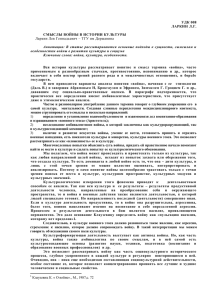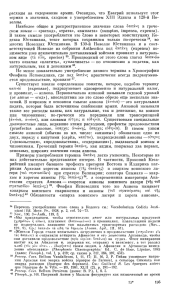Беляева Е.В. ВОИНСКИЙ ЭТОС И УНИВЕРСАЛИИ МОРАЛИ
advertisement
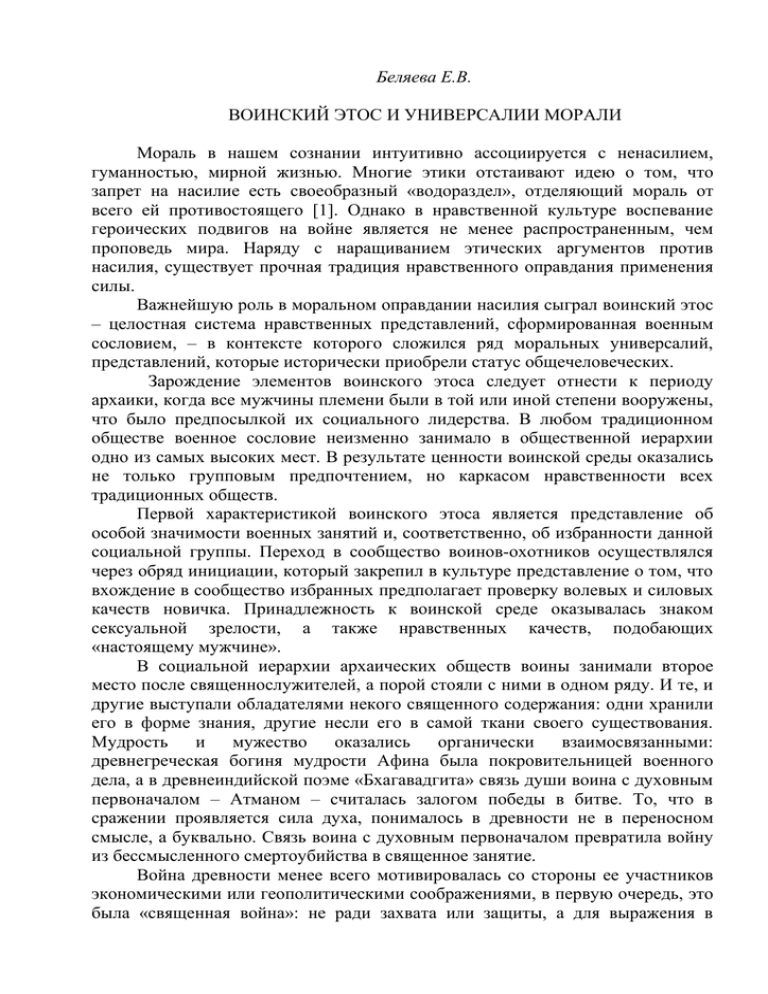
Беляева Е.В. ВОИНСКИЙ ЭТОС И УНИВЕРСАЛИИ МОРАЛИ Мораль в нашем сознании интуитивно ассоциируется с ненасилием, гуманностью, мирной жизнью. Многие этики отстаивают идею о том, что запрет на насилие есть своеобразный «водораздел», отделяющий мораль от всего ей противостоящего [1]. Однако в нравственной культуре воспевание героических подвигов на войне является не менее распространенным, чем проповедь мира. Наряду с наращиванием этических аргументов против насилия, существует прочная традиция нравственного оправдания применения силы. Важнейшую роль в моральном оправдании насилия сыграл воинский этос – целостная система нравственных представлений, сформированная военным сословием, – в контексте которого сложился ряд моральных универсалий, представлений, которые исторически приобрели статус общечеловеческих. Зарождение элементов воинского этоса следует отнести к периоду архаики, когда все мужчины племени были в той или иной степени вооружены, что было предпосылкой их социального лидерства. В любом традиционном обществе военное сословие неизменно занимало в общественной иерархии одно из самых высоких мест. В результате ценности воинской среды оказались не только групповым предпочтением, но каркасом нравственности всех традиционных обществ. Первой характеристикой воинского этоса является представление об особой значимости военных занятий и, соответственно, об избранности данной социальной группы. Переход в сообщество воинов-охотников осуществлялся через обряд инициации, который закрепил в культуре представление о том, что вхождение в сообщество избранных предполагает проверку волевых и силовых качеств новичка. Принадлежность к воинской среде оказывалась знаком сексуальной зрелости, а также нравственных качеств, подобающих «настоящему мужчине». В социальной иерархии архаических обществ воины занимали второе место после священнослужителей, а порой стояли с ними в одном ряду. И те, и другие выступали обладателями некого священного содержания: одни хранили его в форме знания, другие несли его в самой ткани своего существования. Мудрость и мужество оказались органически взаимосвязанными: древнегреческая богиня мудрости Афина была покровительницей военного дела, а в древнеиндийской поэме «Бхагавадгита» связь души воина с духовным первоначалом – Атманом – считалась залогом победы в битве. То, что в сражении проявляется сила духа, понималось в древности не в переносном смысле, а буквально. Связь воина с духовным первоначалом превратила войну из бессмысленного смертоубийства в священное занятие. Война древности менее всего мотивировалась со стороны ее участников экономическими или геополитическими соображениями, в первую очередь, это была «священная война»: не ради захвата или защиты, а для выражения в социальной практике символических категорий своей культуры. Таким образом, воинство оказывалось во всех смыслах «передовым отрядом» своего общества, носителем правой силы, и, следовательно, и нравственности. Освящение военного дела духовными ценностями ведёт к легкому оправданию не только оборонительных, но и наступательных войн. И наоборот: война сама по себе становится критерием правоты, она как бы очищает и сакрализует все, что вовлечено в ее орбиту. «Война все спишет»: все грехи будут прощены. В традиционной нравственности укрепилось представление, находящееся в вопиющем противоречии со всеми этическими установками: «кто сильный, тот и прав». Однако, «энергетика» этого тезиса не только противостоит этической традиции ненасилия, но и питает ее. Постепенное превращение нравственной правоты в силу, способную действовать в мире, было бы невозможно без изначального смыслового сближения понятий «сила» и «нравственность». Дружина воинов, как и любое другое традиционное социальное образование, строилось по модели семейной общины, предводитель дружины выступал заместителем фигуры отца. Если верность внутри семьи носила органический характер, то в дружине – это верность по присяге, кровнородственная связь здесь заменена духовной. Так верность оказывалась смыслообразующей добродетелью воинского этоса, а вслед за ним — и всей человеческой нравственности. Следовательно, измена и предательство во все времена почитались самыми мерзкими грехами. Между соратниками (со-ратниками) в дружине также устанавливались отношения, аналогичные семейным – отношения побратимства. На основе военного побратимства сложился такой почитаемый нравственный феномен, как дружба [2]. По причине «военного» происхождения дружба долгое время считалась привилегией мужчин, а женщинам приписывалась неспособность к столь высокой форме нравственной жизни. Отсутствие имущественных отношений между воинами способствовало формированию идеала бескорыстной дружбы, ведь по роду занятий военные люди в целом не слишком привязаны к собственности. А если вспомнить, что со времен архаики щедрость считалась способом повышения статуса личности, то станет понятным, почему бескорыстная мотивация поведения оказалась безусловной добродетелью воинского этоса. Борясь за первенство в своей среде, «братья по оружию» легко превращались в соперников. Источником личной чести были военные подвиги, поэтому стремление к ним, готовность проявить не только необходимую смелость, но удаль и молодечество, были отличительными чертами воина. В целом война с ее опасностями и необходимостью быстро принимать жизненно важные решения способствовала выдвижению индивидуальных субъектов нравственной регуляции, оказывалась хорошим «полигоном» для выявления истинных качеств человека. В ситуации, где ясно видны «свои» и «чужие», добро и зло поляризуются, а потому легко удерживаются моральным сознанием. Обязательной добродетелью воина является мужество – смелость, дополненная нравственной стойкостью. Не только древние культуры считали мужество важнейшим нравственным качеством, но и Фома Аквинский включил ее в число христианских добродетелей. Ныне в противовес своему буквальному наименованию мужество давно перестало числиться чисто мужским качеством, но вошло и в число обязанностей женщины. Антипод мужества — трусость — осуждается всеми системами нравственности и связывается не только с неспособностью преодолеть страх смерти, но и с предательством нравственных ценностей при малейшей жизненной угрозе. Будучи не в состоянии устранить насилие из социальной практики, человечество стремилось частично легализовать и упорядочить его в рамках воинского этоса. «Этика борьбы» [3] включала правила «честной игры» для сражающихся, существование которых оказывало облагораживающее влияние на нравы военной среды, задавало идеальную планку поведения для тех, кто хотел достичь не только победы, но и укрепления личной чести. Ограничение насилия в воинском этосе диктовалось не гуманностью, а уважением к противнику и уважением к себе как к воину. Поэтому славу приносила победа над достойным соперником, победа, добытая сверхусилием с риском для жизни. Под влиянием этих «романтических» представлений во многих системах нравственности утвердилось мнение, что подлинная нравственность — это поведение, превосходящее обычные стандарты. Истинно добрый человек не раз описывался в моралистической литературе как существо, способное творить благодеяния, поступаясь своими жизненными интересами и самой жизнью. Например, христианское представление о святости предполагало чувство избранности (пусть это избрание на муки); мужество перед лицом страданий и, более того, стремление к подвигам аскезы. Доводя идею героизма до логического завершения, можно сказать, что воинский этос предписывает ценить мораль дороже жизни. Подобный пафос неудивителен в мировоззрении профессиональных воинов, для которых чужая, да и своя, жизнь не дорого стоит, поразительна универсализация этого представления и его этическое обоснование. Лишь в неклассической этике и в моральном сознании современного общества приоритет моральности над витальностью был поставлен под сомнение. Выполнение предписаний укрепляло нравственный статус воина в глазах его сообщества — честь. Так одна из универсальных категорий морального сознания с очевидностью ведет свое происхождение из воинского этоса. Воин должен был активно искать испытаний, выдержать которые — «дело чести», а совершение бесчестных поступков означало социальную смерть, поэтому честь ценилась выше жизни. Чувствительность к покушениям на честь и достоинство стала предпосылкой разработки этикета, соблюдение правил которого предотвращало бы конфликты в среде «своих». Изысканная вежливость не только смягчала и камуфлировала соперничество, но и давала ему формы выражения. В этом плане воинский этикет оказал моделирующее воздействие на манеру поведения всех «высших» социальных слоев. Итак, в составе воинского этоса можно обнаружить такие универсалии морального сознания как верность, мужество, дружба, бескорыстие, щедрость, честь и вежливость. В его рамках сложились также структуры, определившие последующую форму моральной регуляции. Здесь бóльшие возможности для формирования индивидуального субъекта моральной регуляции, относительная автономия которого фиксируется понятием «честь»; здесь в идеях щедрости и бескорыстия закладываются основы той специфической «незаинтересованности морального мотива», которая считается отличительным свойством морали. Наконец, общая конструкция воинского этоса ориентирует индивида на идеальную модель поведения, предполагает не только исполнение долга, но и самостоятельное стремление к сверхдолжным заслугам. Не являясь единственным источником нравственного развития человечества, воинский этос оказал влияние на многие нравственные образцы. Наиболее красочным воплощением воинского этоса стал рыцарский нравственный образец, сложившийся в Средние века. Рыцарство — это не просто сословие средневекового общества, это плодотворный миф европейской культуры, ставший архетипической моделью морального сознания, привлекательной для последующих поколений. Главный эпитет, которым обычно характеризуется рыцарь, — «благородство». В первую очередь, оно обеспечивалось происхождением, ибо средневековое сознание упорно держалось идеи наследственного происхождения нравственных качеств. Отождествление родовитости с нравственностью не раз подвергалось критике в этической литературе. Между тем, это примитивное суждение отражает одну из базовых идей традиционной культуры: быть нравственным — значит принадлежать традиции, а самую устойчивую традицию образуют семейные и родовые связи. Поскольку главным видом деятельности рыцаря была война, то благородство его проявлялось в первую очередь в бою. Учтивость по отношению к противнику, договоренность о месте и времени баталии, довооружение соперника, запрет на пользование хитростями и случайными преимуществами — все эти моменты в той или иной степени были опробованы в культурной практике человечества [4]. Дополнительные обертоны в добродетель благородства внесло христианство. В религиозном контексте военная сила благородного воина должна была быть обращена на защиту слабых, в предельном варианте – на христианское служение ближним. Воинская верность обрела в рыцарском этосе свое логическое завершение. Она отчетливо осознавалась в качестве нравственной нормы, противостоящей холопской «продажности». Механизм верности укреплялся за счет щедрости высшего по отношению к низшему. Со временем категория щедрости все более наполнялась моральным смыслом, в чем не последнюю роль сыграла христианская проповедь «нестяжания». Композиция различных аспектов щедрости превратила ее из частного морального качества в универсальную моральную ценность. В этической литературе она трактуется как «щедрость души», ориентация на то, чтобы «дарить людям добро». Если возвеличивание щедрости иногда приобретало сословный оттенок, то порицание скупости и жадности, как ее антиподов, имеет общечеловеческое звучание. Еще одна добродетель, которую рыцари считали отличительной особенностью своего сословия, – верность слову. Общечеловеческий запрет на ложь и христианское «не лги» обросли в рыцарском кодексе дополнительными требованиями. Верность слову предполагала не только скрупулезное выполнение обещаний, но и целенаправленное стремление давать обеты. При этом культ Девы Марии отчасти совмещался с культом Прекрасной Дамы, за счет чего светская добродетель получала религиозное подкрепление. Как в любой разновидности воинского этоса, в нравственном образце рыцаря огромное значение придавалось понятию чести, которая, с одной стороны, даётся от рождения, а с другой – завоёвывается в бою. Рыцарское сословие прославилось тем, что создало специальный социальный институт, целью которого было «производство подвигов» – регламентированные поединки и турниры. Впоследствии, в культуре Нового времени понятия верности и благородства, чести и честности получили принципиально иное обоснование и превратились в универсальные категории этики. Говоря о рыцарях, невозможно не затронуть такое их «изобретение» как «рыцарское отношение к женщине». Независимо от того, как реальные рыцари относились к своим дамам, в моральной культуре человечества сложился некий стереотип отношений между мужчиной и женщиной, который разрушили лишь феминизм и сексуальная революция. По сравнению с предыдущей традицией, которая не считала женщину субъектом морали, рыцарская идеология существенно повысила нравственный статус женского пола. Женщина не стала субъектом морали, но стала ее объектом. «Любовь к прекрасной даме» развила в европейской культуре традицию индивидуальной половой любви, идеал чистоты и высокой нравственной ценности любви мужчины к женщине. Рыцарская культура оказала влияние и на другие нравственные образцы, в частности, на образ «благородного разбойника». Маргинальные группировки, промышлявшие грабежом, обладали неким псевдорыцарским самосознанием, о чем свидетельствуют истории о знаменитом Робин Гуде. Хотя на уровне теоретического сознания лозунг «отнять и поделить» представляется экономически нецелесообразным, а с этической точки зрения «робингудовщина» есть посягательство на очень существенные нравственные нормы, данный образ получил в культуре нравственную и эстетическую санкцию. Значение рыцарского нравственного образца гораздо шире его сословных рамок, он оказал влияние на идеологию воинствующих монашеских орденов. С одной стороны, христианская община использовала организационные принципы военного сообщества, с другой, воинские подразделения сплачивались на основе религиозных ценностей. Нетрудно заметить, что лишенные семьи и собственности, абсолютно послушные своим руководителям люди и есть идеальные воины. Традиционное мужество воина, подкрепленное мыслью о том, что павший «за правое дело» удостоится Царствия небесного, превращается в подлинное бесстрашие. Мученический идеал святости становится достижимым через жертвование собой на войне. С наступлением эпохи «модернити» нравственные образцы традиционной культуры, в том числе, рыцарский этос, стали активно разрушаться. Однако обаяние воинских добродетелей столь велико, что они оказались встроенными в некоторые системы нравственности, на первый взгляд никак не связанные между собой. Нравственный образец, представленный английским джентльменом, является специфическим продуктом викторианского капитализма. Его добродетели образовались в результате синтеза буржуазной и рыцарскоаристократической нравственной традиции. Среди нравственных качеств джентльмена выделяется благородство со всеми спецификациями, которые были присущи рыцарскому нравственному образцу. Инновацией стала мысль о возможности обладания не врожденными, а приобретенными благодаря воспитанию добродетелями. В привилегированных учебных заведениях для мальчиков культивировался «спортивный дух», стремление к честной состязательности. Сохранила свое значение аристократическая модель чести и добродетелей, которые ее обеспечивают. Дополнительную привлекательность обрела верность слову: наряду с тем, что «слово джентльмена» было нерушимо и «джентльменские соглашения» считались идеалом порядочности в деловых отношениях, джентльмены гордились своей повседневной честностью, не требующей клятв и деклараций. Обнаружить у революционера нравственные черты, общие с джентльменом, казалось бы, невозможно, а между тем и тот, и другой являются наследниками воинского этоса. Нелегальное положение и борьба с превосходящими силами соперника способствовали возникновению у революционера чувства избранности. В контексте революции вооруженные действия трактовались как служение делу трудового народа; экспроприация выглядела как робингудовщина, а сами революционеры уподоблялись рыцарям. Каждый из них был ориентирован на достижение сложной духовной цели: поиск социальной справедливости (или Чаши Грааля). К числу воинских добродетелей, разделяемых революционным образцом, относится верность (делу, товарищам, партии), организация и дисциплина в коммунистической партии всегда напоминала армейскую. И тот, и другой нравственный образец одобряют насильственные методы достижения цели. Наконец, оба нравственных кодекса предписывают аскетическое воздержание, добровольное самоотречение ради великой цели. Покровительственное отношение к слабым («вдовам и сиротам» или беспризорникам) и воинственное неприятие идейных противников – это две стороны одной медали. Мораль профессиональных революционеров оказала влияние и на нравственные представления советского общества, сформулированные в героических терминах: назначение человека состоит в «борьбе за социализм», «битве за урожай» и т.п. Даже принцип трудолюбия был переосмыслен в контексте героики, превратившись в установку на «трудовые подвиги». В нравственности современного общества воинский этос не играет большой роли (продолжающиеся войны имеют уже другое ценностное обоснование), однако некоторые его элементы сохранились внутри других нравственных образцов. Например, в современном общественном сознании понятие «благородства» стало ассоциироваться с «интеллигентностью», которая понимается не как социальный статус, а как «высшее» нравственное качество, духовная избранность. Другой момент, объединяющий воинский этос с интеллигентностью, — это идея служения. Одна обязанность – служить высшему духовному началу (Богу, обожествленному «народу», идее гуманизма, коммунизма etc.), другая – покровительствовать низшим (просвещать, вести за собой, «спасать»). Интеллигентность роднит с воинским этосом также пафос самопожертвования, способность отречься от своих интересов во имя «высших целей». В то же время мораль интеллигенции содержит яркую демократическую установку, которой не было в классическом воинском этосе: поскольку знание потенциально доступно всем, в идеальном обществе все должны быть равно интеллигентными. Таким образом, интеллигентность — это благородство в эпоху господства демократических ценностей, благородство, отрицающее само себя. В воинском этосе оправдание насилия во имя правого дела и высокие добродетели соединились в неразрывный комплекс. Стремление современной этики отказаться от насилия неизбежно приводит к подрыву фундаментальных моральных пафосов: верности и чести, дружбы и бескорыстия. Судьба моральных универсалий, порождённых воинским этосом, оказывается под вопросом. Их восстановление на платформе этики ненасилия возможно в деятельности отдельных личностей, но пока не удаётся в практике социальных общностей. Постмодерное общество не живёт пафосами воинского этоса, а симулирует их в условиях господства экономических интересов и постматериальных ценностей, несовместимых с воинским духом. Такова парадоксальная судьба воинского этоса, который стал источником ряда моральных универсалий и в то же время является только одной стороной желательной нравственности, другой стороной которой выступает этика ненасилия. [1] «Насилие есть та важнейшая (хотя, разумеется, и не единственная) содержательная определенность, предметность человеческой деятельности, через отношение к которой мораль становится зримой, материализуется в поступках, обнаруживая свою действенность» (Гусейнов А.А. Мораль и насилие // Этика. М., 2000. С. 396). [2] Кон И.С. Дружба. М., 1989 [3] См.: Оссовская М. О некоторых изменениях в этике борьбы // Оссовская М. Рыцарь и буржуа. М., 1987. [4] Хёйзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня М., 1992.