ВЗГЛЯД НА ПОВЕРХНОСТЬ ВЕЩЕЙ
advertisement
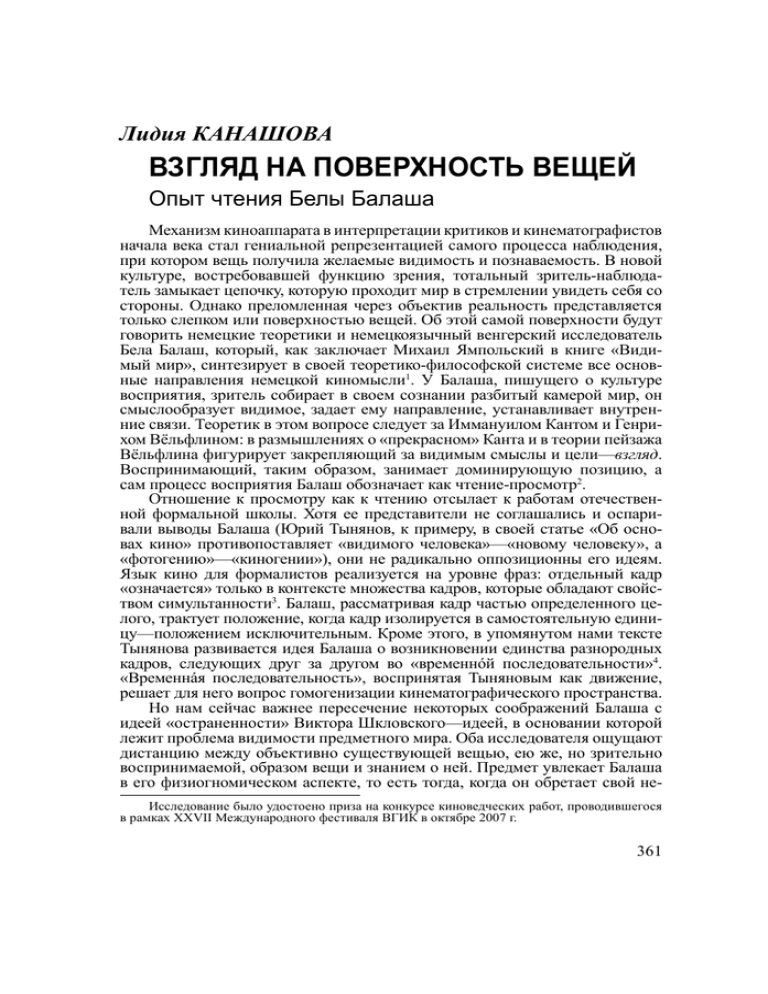
Лидия КАНАШОВА ВЗГЛЯД НА ПОВЕРХНОСТЬ ВЕЩЕЙ Опыт чтения Белы Балаша Механизм киноаппарата в интерпретации критиков и кинематографистов начала века стал гениальной репрезентацией самого процесса наблюдения, при котором вещь получила желаемые видимость и познаваемость. В новой культуре, востребовавшей функцию зрения, тотальный зритель-наблюдатель замыкает цепочку, которую проходит мир в стремлении увидеть себя со стороны. Однако преломленная через объектив реальность представляется только слепком или поверхностью вещей. Об этой самой поверхности будут говорить немецкие теоретики и немецкоязычный венгерский исследователь Бела Балаш, который, как заключает Михаил Ямпольский в книге «Видимый мир», синтезирует в своей теоретико-философской системе все основные направления немецкой киномысли1. У Балаша, пишущего о культуре восприятия, зритель собирает в своем сознании разбитый камерой мир, он смыслообразует видимое, задает ему направление, устанавливает внутренние связи. Теоретик в этом вопросе следует за Иммануилом Кантом и Генрихом Вёльфлином: в размышлениях о «прекрасном» Канта и в теории пейзажа Вёльфлина фигурирует закрепляющий за видимым смыслы и цели—взгляд. Воспринимающий, таким образом, занимает доминирующую позицию, а сам процесс восприятия Балаш обозначает как чтение-просмотр2. Отношение к просмотру как к чтению отсылает к работам отечественной формальной школы. Хотя ее представители не соглашались и оспаривали выводы Балаша (Юрий Тынянов, к примеру, в своей статье «Об основах кино» противопоставляет «видимого человека»—«новому человеку», а «фотогению»—«киногении»), они не радикально оппозиционны его идеям. Язык кино для формалистов реализуется на уровне фраз: отдельный кадр «означается» только в контексте множества кадров, которые обладают свойством симультанности3. Балаш, рассматривая кадр частью определенного целого, трактует положение, когда кадр изолируется в самостоятельную единицу—положением исключительным. Кроме этого, в упомянутом нами тексте Тынянова развивается идея Балаша о возникновении единства разнородных кадров, следующих друг за другом во «временнóй последовательности»4. «Временнáя последовательность», воспринятая Тыняновым как движение, решает для него вопрос гомогенизации кинематографического пространства. Но нам сейчас важнее пересечение некоторых соображений Балаша с идеей «остраненности» Виктора Шкловского—идеей, в основании которой лежит проблема видимости предметного мира. Оба исследователя ощущают дистанцию между объективно существующей вещью, ею же, но зрительно воспринимаемой, образом вещи и знанием о ней. Предмет увлекает Балаша в его физиогномическом аспекте, то есть тогда, когда он обретает свой неИсследование было удостоено приза на конкурсе киноведческих работ, проводившегося в рамках XXVII Международного фестиваля ВГИК в октябре 2007 г. 361 повторимый облик, отделяясь от бесконечного количества других сходных с ним по форме предметов. Он не поясняет, что происходит с вещью до этого счастливого момента, но, скорее всего, она вообще остается невидимой, как бы растворяется в пространстве. Балаш неожиданно реабилитирует предмет в, казалось бы, безвыходной ситуации технического воспроизводства. Шкловский тоже понимает, что бытование вещи не является непоколебимым и устойчивым. Вещь «засматривается» до трагического, уничтожающего ее автоматизма: «Вещи, воспринятые несколько раз, начинают восприниматься узнаванием: вещь находится перед нами, мы знаем об этом, но ее не видим. Поэтому мы не можем ничего сказать о ней»5. Для того, чтобы вывести предмет из состояния клинической смерти, а воспринимающего из немоты, необходимо искажение предмета, которое затруднило бы узнавание, лишило бы привычку силы, и стимулировало бы выпадение предмета из рамок имеющейся в сознании формы. «Остранение» приводит вещь к тому же самому, что и прозрение ее облика у Балаша,—существование вещи больше не подвергается сомнению, оно становится очевидным и вещь переходит в знак. Раскрытие значений, либо имплицитно наличествующих в вещи, либо привнесенных извне, оправдывает ее существование на экране. Модель кинематографической реальности Балаша во многом антропоцентрична: не обладающий собственной физиономией вещный мир заимствует оную в мире человеческом. Не ограничиваясь только констатацией одностороннего влияния, Балаш помещает человека и вещь в таинственную сферу неразличимости, где они смешиваются до некоего варева, на поверхности которого начинают происходить мимические игры, рождается жест и поза: «…человек и его окружение однородны, сделаны из того же материала, оба появляются в виде изображения и потому между ними нет реального различия…6». Предельное сближение изображений вещи и человека обеспечивается у Балаша конкретным удобочитаемым смыслом, эмоцией или состоянием. Освобожденный от своего частного значения предмет преображается под внешней проекцией, порождаемой «антропоморфической фантазией»7: «Выражение человеческого лица выходит за его рамки и повторяется в изображении мебели, деревьев, облаков»8. Подчиняясь деформирующим законам, предмет на экране теряется в повторах и отражениях, становится заложником прозреваемого в нем «облика». Сама поверхность реальности у Балаша отказывается следовать своим же структурным принципам, она разрушается, размывая границы между телами и превращая экранный мир в единое живущее по одним законам плоское тело. Жиль Делёз в книге «Логика смысла» описывает как раз такой тип поверхности, заключая, что «нет ничего более хрупкого, чем поверхность»9. Хрупкостью она обязана смыслам, которые в большом разнообразии обитают на ней: «…поверхность—это местоположение смысла: знаки остаются бессмысленными до тех пор, пока они не входят в поверхностную организацию»10. Так как смыслы зачастую многочисленны, противоречивы и разнонаправлены (справедливость высказываний он подтверждает примерами из кэрролловской «Алисы»), они раздирают поверхность до состояния решета. Делёз, ссылаясь на «Бессознательное» Зигмунда Фрейда, находит аналог рваной, исколотой поверхности в сознании больных шизофренией: «Изначальный аспект шизофренического тела состоит в том, что оно является неким телом362 решетом. <…> Отсюда следует, тело в целом не что иное как глубина—оно захватывает и уносит все вещи в эту зияющую глубину. <…> Всё есть тело и телесное. Всё смесь тел и внутри тел, сплетение и взаимопроникновение»11. Поверхностью для шизофреника является кожа, которая, контактируя с внешним, не препятствует, а способствует скорейшему его впитыванию. Если бы проникновение происходило не в пределах одного организма, оно непременно было бы расценено как чужеродное и враждебное, нормальным следствием чего были бы защитные реакции. Отсутствие признаков сопротивления позволяет сделать вывод, что первостепенное, решающее деление на внутреннее и внешнее просто не имеет место быть. Кинематографическая поверхность в понимании Балаша тоже избегает противопоставлений и прочерченной сетки границ. Внешнее старается выражать внутреннее, а внутреннее соответствовать внешнему, тела становятся элементами единого организма, но при этом их соприкосновение и априорная неотделимость друг от друга сохраняют черты внутренней иерархии. Объяснение всегда присутствующего превосходства человека над вещью можно найти у того же Делёза, который замечает, что «организм всегда сосредоточен во внутреннем пространстве и распространяется во внешнее пространство—ассимилируя и воплощаясь»12. Оставим пока Делёза и сделаем еще несколько необходимых разъяснений. Во-первых, говоря о равенстве между человеком и вещью, нельзя обойти знаменитую формулу Михаила Блеймана «человек—керосиновая лампа», которая по касательной корреспондируется с идеями Балаша. Однако Блейман определяет направление трансформации актера на экране в «стилистический знак», когда «его участие в картине равно участию вещи, пейзажа, титра»13,— от вещи к актеру, а Балаш обосновывает производимое на вещь воздействие и ее подчиненность, предполагая обратное движение от актера к вещи. Во-вторых, подобный ход мыслей характерен не только для теории кино, его можно встретить и в теории театра начала двадцатого века, и в практиках изобразительного искусства. Европейские и отечественные художники уделяют большое внимание вещи, обращаясь к ее поверхности, форме, цвету, функциям. Новый романтизм, стремление к одушевлению и персонализации вещи передается в объектах, искусстве реди-мейд, сутью которого становится жест перенесения бытового предмета в сакральное пространство галереи, в коллажах и ассамбляжах—опытах деконструкции и монтажа предметного мира. В театре возникают различные, связанные с вещью, концепции. Упомянутую М.Ямпольским «сверхдраму» Ивана Голля можно сравнить с теорией «монодрамы» Николая Евреинова. «Сверхдрама» Голля в пересказе Ямпольского является «способом обнаружить смыслы вещей, смыслы, которые лежат за поверхностью подобно царству теней»14. Евреинов в своей работе 1917 года «Введение в монодраму» делит спектакль на внутренний и внешний. Выражение одного спектакля через другой создает двойственность вещи: «Для каждого психолога элементарно, что окружающий нас мир, благодаря чувственному восприятию, неизбежно претерпевает превращения; и представление, будто объекту восприятия присуще то, что он на самом деле заимствует от субъекта восприятия, не есть какое-либо исключительное явление. Вся наша чувственная деятельность подчиняется процессу проекции 363 чисто субъективных превращений на внешний объект»15. Предметный мир сцены, по мнению Евреинова, не должен репрезентировать объективную реальность, быть ссылкой на нее или документальным свидетельством. Театр преображает действительность посредством вещи, которая несет в себе дальше это преображение, переживаясь не только актером, но и зрителем: «…каждый эстетически рассматриваемый предмет является для нас личностью,—не только человек, что само собою понятно, но также и…неорганические предметы <…>, извлекая из объекта его естественную сущность, эстетическое созерцание обращает объект в выраженное во внешней форме настроение. Неодушевленный предмет становится личностью»16. Французский феноменолог Морис Мерло-Понти, исследующий в книге «Видимое и невидимое» отношения человека и вещи, предлагает отказаться от субъектно-объектной иерархии, той иерархии, из которой исходят и Балаш, и Евреинов. Мерло-Понти пытается освободить вещь от зараженного рефлексией восприятия. Зеркально отражая содержание воспринимающего субъекта, оно заводит в тупик познавательно-аналитический процесс, трансформируя «знания о вещи в знание самого себя»17. Окончательная реальность не может принадлежать какому-то отдельному восприятию, реальность всегда находится дальше18. В контексте этой философии вещь Балаша имеет вид частного мнения, что, впрочем, вполне совпадает с намерениями самого Балаша. Человек, обладающий способностью видеть и осязать вещь, сливается у Мерло-Понти с вещью на простом основании наличия у него материального тела, которое может быть воспринято точно так же, как и любой другой предмет. Видящий, «спускаясь к вещам», не превращается в еще одну вещь, он «…втягивается в ткань вещей, воплощается в нее и тем же самым движением сообщает вещам, которыми он замыкается, это тождество без напластования, это различие без противоречия, это различие внутреннего и внешнего…»19. Объединение позволяет не только видеть-ощущать окружающий мир, но мыслить и описывать его вне всяческих личных проекций и «человеческих масок»20. Вещь и человек оказываются в круговороте взаимных касаний и видений. В системе Балаша пленка не свидетельствует о существовании предмета. По крайней мере, это не то свидетельство, которое дает фотография с итоговым заключением типа нейтрального «это было» или оценочного «это уже было». Ролан Барт в своей книге «Camera lucida» определяет банальную «ноэму» фотографии следующим образом: «В фотографии постулируется не просто отсутствие объекта, но тем же самым ходом одновременно и то, что этот объект действительно существовал и находился там, где я его вижу»21. Вещь у Барта не только существует сама по себе, она еще может стать punctum’ом, уникальным случаем попадания в «я» реципиента, случаем превращения фотографии среди многих других в так называемую «мою» фотографию. Ожерелье на шее негритянки, воротничок неизвестного больного или баскетбольные кеды молодого человека—решают исход взаимоотношений зрителя с репрезентируемым. Условием того, чтобы вещь была замечена, является длительность восприятия кадра, восприятие постепенно переходит в воспоминание об изображении, когда память производит необходимый качественный отбор. Кадр в кино, естественно, не располагает воз364 можностью растянутого во времени вдумчивого взгляда, кадр вмонтирован в поток, он сменяется другим кадром, следующим и так далее. Барт подчеркивает принципиальную разницу между кино и фотографией, рассуждая о позе как основе фотографии: «…какая-то вещь позировала перед небольшим отверстием и осталась (подсказывает мне чувство) в нем навсегда, тогда как в кино нечто уже прошло перед тем же самым отверстием: позу уносит и подвергает отрицанию непрерывная последовательность образов»22. Столкновение с предметом, который никак не вписывается в некий событийный контекст, сопротивляясь любому сближению, Балаш переживает довольно болезненно: «Были фильмы, которые просто показывали какуюлибо вещь и не имели при этом намерения обогатить нас новыми познавательными сведениями (своеобразный натюрморт). Вещь кажется освобожденной от всякой связи событий, вынутой из контекста, она—вещь сама по себе. Кадр, в котором эта вещь появляется, не подразумевает помимо себя ничего другого, не ссылается ни на другую вещь, ни на какое-либо значение» 23. Кино европейского авангарда, которое анализирует исследователь, разбирая—в частности—фильмы Марселя Дюшана, Ман Рэя и Викинга Эггелинга, преодолевает свое природное различие с фотографией: изображение в нем равняется референту, оно тавтологично. Мысль Балаша о вещи, вынутой из реальности, лишенной «предметности по ту сторону кадра»24 и как бы бесконечно повторяющей саму себя, предвосхищает опыты многих художников. Реалистические, но сознательно опустошенные образы наблюдаются, например, в живописи Рене Магритта, который, подчеркивая недостаточность воспроизведения вещи, такой, как она есть, прибавляет к изображению текстовое свидетельство. Энди Уорхол, достоверно рисуя предметы массового потребления, через их повторение фиксирует процессы тотального саморазрушения. Повтор или тавтология используется художником в качестве инструмента аутопсии натуралистической формы, так как она (тавтология) «…повторяет саму себя: вещь это вещь, реальность это реальность»25. Джозеф Корнелл изобретает особый вид пространства, в которых собранные предметы уютно соседствуют друг с другом, но парадоксально не пересекаются смыслами. Его объекты-коробки подвергают проверке интерпретационное желание зрителя, делая невозможным объединение предметов по принципу сходства— внутреннего или внешнего. Так художник борется со словом, акцентируя внимание зрителя на изображении, на сочетании, на вещи. Джозеф Кошут в инсталляции «Один и три стула» (1965) помещает в одно пространство предмет, его фотографию и классифицирующее определение. Эта работа точно иллюстрирует и «остраненность» с ее дурманящим взгляд автоматизмом, и удивление Балаша перед необходимостью вынести вещь за пределы традиционной идентификации, и размышления Сартра о природе образа, где мы находим теоретическое обоснование произведения Кошута: «Итак, актуально имеющаяся у меня идея стула только внешне соотносится со стулом, существующим в реальности»26. Но если взгляд современных художников на передаваемое вещью значение отличается категоричностью и пессимизмом, то взгляд Балаша можно определить как утверждающий наличие единого смысла, существующего пусть даже в неоформленном ин365 туитивном виде: «В последовательности происходящего всегда содержится нечто, остающееся по ту сторону кадра и никогда не могущее стать (даже в кино) чистой формой, чистой видимостью27». Таинственное «нечто», по своей сути сходное с понятием «нередуцируемого остатка»28, свойственного всем формам визуального, продлевает жизнь произведению в условиях отсутствия очевидных причинно-следственных связей, контекста, положении затрудненного понимания вещи и прозревания ее «облика». Переход к идее маски не случаен для Балаша, его можно было предсказать, перебирая в уме имеющиеся в наличии составляющие, а происходил он—как сложная химическая реакция—в несколько предварительных этапов, которые мы и попытаемся восстановить. Балаш испытывает недоверие к слову. Точнее, наверное, будет сказать, что он чувствует его недостаточность, слово уводит от зрительного образа и, тем самым, обедняет восприятие. Непосредственное слово оказывается отверженным им вовсе не из-за фальшивости, как это сделал бы, например, пишущий о словесных масках Ларошфуко, а по причине гораздо меньшей выразительности: «В звуковом кино физиогномика в значительной мере утрачивает свое значение, так как словами будто бы можно яснее выразить то, что мимическая игра будто бы выявляет недостаточно ясно. Но слова и мимика говорят далеко не одно и то же! Поэтому в звуковом фильме многие душевные переживания не находят свого выражения»29. Цитата подчеркивает общий кризис литературы, который наступил в конце девятнадцатого—начале двадцатого веков и объяснялся появлением видов искусства, наглядно сталкивающих в себе видимое и сущностное. Словесные искусства активно вытесняются визуальными, слово терпит поражение во всех областях, так или иначе имевших с ним дело. Выдвинувший идею театрализации повседневной жизни Николай Евреинов объявляет язык тела универсальным языком, на котором умеет говорить каждый, но—отметим от себя и в скобках—не каждый свободно может его читать: «Итак, как говорит Пшибышевский, “нет никакой возможности выражаться словами”. Остаются жесты, художественно-выразительная жестикуляция, язык движений, общий у всех человеческих рас, мимика в обширном смысле этого слова, то есть искусство воспроизведения своим собственным телом движений, выражающих наши чувства»30. Всеволод Мейерхольд указывает на способность слова обманывать и запутывать: «Когда вы приступаете к какой-либо пьесе, то, прежде всего, бойтесь слов! Слова—это нечто такое, что может быть на время выкинуто из пьесы, и пьеса от этого не пострадает»31. Теперь самое время вернуться к Делёзу, которого мы оставили на интригующей мысли о крушении поверхности вещей и претерпеваемой поверхностью метаморфозе. Мысль, будучи спроецирована на Балаша, оказалась жизнеспособной, поэтому следующее предположение Делёза, вытекающее из нее, тоже может иметь место быть. Превратившаяся в решето и сменившая свои функции на прямо противоположные поверхность изменяет состояние смыслов, которые, как мы помним, находятся прямо на ней. Прежде всего, изменения затрагивают смыслы слов, которые полностью уничтожаются: «Возможно оно (слово—Л.К.) сохраняет определенную силу денотации [обозначения], но последняя воспринимается как пустота; 366 определенную силу манифестации, но она воспринимается как безразличие; определенное значение, но оно воспринимается как “ложь”. Как бы то ни было, слово теряет свой смысл—то есть свою способность собирать и выражать бестелесный эффект, отличный от действий и страданий тела, а также идеальное событие, отличное от реализации в настоящем»32. Отказ от слова, даже частичный, закономерно приводит и Балаша, и Мейерхольда, и Евреинова к телесной выразительности. В отличие от вещи, не способной активно выразить себя и покорно принимающей, подчиняющейся внешней проекции, человек обладает уникальными средствами самовыражения: телом и лицом. Именно через них играющий передает наиболее полные сообщения, доступные зрителю при некоторых волевых усилиях. Более глубокое исследование телесной выразительности заставляет Балаша признать, что объективно коммуницирует с окружающим только поверхность, которой по своей сути является кожа: «Способная выражать чувства поверхность нашего тела ограничилась лицом, и не только потому, что остальные части тела скрыты одеждой, чтобы выразить то, что еще можно выразить после утраты телом этой функции, достаточно одного лица. Лицо теперь возвышается как неуклюжий семафор души, оно старается сигнализировать изо всех сил, подавать знаки»33. В интерпретации Делёза выразительная поверхность—это поверхность-решето: «…лицо составляет часть системы поверхность-дыры, дырчатую поверхность <…> Лицо проступает лишь тогда, когда голова перестает быть частью тела, когда она перестает кодироваться телом, перестает иметь многомерный, поливокальный телесный код—когда тело, включая голову, оказывается декодированным и должно сверхкодироваться тем, что мы станем называть Лицом. Иными словами, голова, все объемно-полостные элементы головы должны быть олицетворены <…> если олицетворяются голова и ее элементы, то и все тело целиком может и должно олицетворяться»34. С той же силой, с какой идея поверхности подталкивает Делёза и Гваттари к идее маски, которую они противополагают процессу олицетворения, потому как маска служит не лицу, а телу35, поверхностное, внешнее, видимое, применяемые в контексте размышлений о выразительности, неудержимо приводят Балаша туда же. Он, разумеется, не первый и не единственный в истории киномысли, кто совершает описанный нами переход. Его опережают немецкие теоретики, один из которых—Карл Мирендорф, который написал о способности объектива «…“объективировать” мир, превращать его в чистую поверхность вещей. И эта поверхность оказывается маской, накладываемой на весь зримый универсум»36. Балашевская маска имеет отношение не столько ко всему универсуму, сколько к актерской игре. Перед тем как двигаться дальше, сделаем маленькое отступление. Феномен маски возник внутри ритуально-обрядовой культуры, главные значения и функции ее определились там же. Она обезличивает и вводит позиции неизвестного путем сокрытия лица, смешивает несколько сущностей, не позволяя точно идентифицировать носителя маски, фотографически достоверно фиксирует, создает и одновременно утверждает совершенное или желаемое лицо. Патрис Пави в статье «Маска» из «Словаря театра» выделяет одним из основных последствий ее ношения оппозицию движущегося тела и скрытого лица, но оговаривается, что «…маска не должна изображать лицо: для того, 367 чтобы сковать мимику и сконцентрировать внимание на теле актера, достаточно использовать нейтральную маску», скорее она должна «нарушать нормальные связи персонажа с реальностью, вводить инородное тело…»37. В театре таким «инородным телом» можно считать непререкаемо наличествующую условность. Поэтому Мейерхольд не требует буквального сокрытия лица, оно представляет собой нулевую точку выразительности, идеальную пустоту, допускающую сколь угодно большое количество проекций или же «мертвую маску», которую «актер умеет поместить в такой ракурс и прогнуть свое тело в такую позу, что она мертвая становится живой»38. Евреинов соединяет театр и жизнь с помощью связующе-размывающей игры, в процессе которой происходит постоянная смена масок-образов: «Смысл жизни для ребенка—игра. Смысл жизни для дикаря—тоже игра. Знаем ли мы другой смысл жизни для нас, неверующих, разочарованных не только в значении ценностей эстетических и научных, но и в самом скептицизме! Мы можем только рассказывать друг другу сказки. Смешить, пугать или восторгать выдуманными нами личинами»39. Хотя маска в данном случае это типовая конструкция, модель поведения, социальная роль, она не подстраивает человеческую индивидуальность под себя, но возбуждает ее. В 70-е годы ХХ века американская художница-фотограф Сидни Шерман в своей серии «Пассажиры автобуса» (1976), а затем и в серии «Кадры из неизвестного фильма» (1979) поставит под вопрос позитивную роль маски, как в жизни, так и в искусстве. Играя многочисленные и распространенные женские типы, Шерман продемонстрирует угнетение и стериотипизацию личности. Ролан Барт тоже исследует «человеческую маску», которая в фотографии представляется ему «смыслом в его наиболее чистом виде»40. Смысл, доносимый прямо, без помех, быстро «подвергается искажению», и фотография воспринимается не политически, а эстетически. Маска у Балаша редко употребляется в значении социальной маски, воспроизводящей исключительно политический и нравственный смысл лица. Она, как и маска Барта, сгущает и вытесняет на свою поверхность иной, часто остающийся неразгаданным или разгаданным не полностью смысл, успевает схватить и задержать какое-то одно мгновение, одно состояние, одну позу, в которых выражается человек. Рельеф маски не скрывает, а обнаруживает, снимая привычную антиномию маски и лица, подразумевающую под собой противопоставление «искусственного»—«естественному». Конфликт происходит между множеством масок, которые становятся зримыми в момент их несовпадения. Вот как Балаш передает игру Асты Нильсен: «Она надела сразу две мимические маски, одна на другую. Невидимое выражение на ее лице становится видимым (подобно тому как высказанные слова часто по ассоциации выражают невысказываемое). К видимой мимической игре прибавляется невидимая, которую понимает только тот, к кому она обращена»41. Крупный план служит средством опознания «…на одном лице, в аккорде, могут одновременно появиться самые разнообразные выражения, и взаимоотношения различных черт создают богатейшие гармонические сочетания и модуляции. Это—аккорды чувства, сущность которых—в их одновременности»42. Заставляющий зрителя оказаться наедине с персонажем крупный план указывает на прозрачность видимой маски через мельчайшие, едва уловимые детали: подергивание бровей, дрожание ресниц, 368 внезапное напряжение лицевых мышц: «Но жесткое японское лицо Хаякавы43—неподвижная железная маска. На этом равнодушном лице не видно ничего. <…> И тем не менее мы замечаем нечто вокруг его глаз. Или, собственно, не “нечто”, ибо нет ничего, на что мы могли бы указать. Но мы подмечаем, что мы чего-то не видим. За неподвижными чертами лица мы угадываем потрясение, и горячую любовь, и немой ободряющий приказ во взглядах, относящихся к жене…»44 Балаш всматривается в маску и находит в ней дыры, поверхность разъедается изнутри, мгновенно делая видимым все скрытое. Симультанность не приводит к исключению одной маски в пользу другой, их слиянию. Выражения лица, эмоциональные состояния, змеясь, перетекают друг в друга, маски же оказываются неизменными: «…одно движение лица не должно быть непременно закончено, когда другое такое же движение внедряется в него, постепенно вбирая его в себя. Таким legato зрительной непрерывности связывается предшествующее и приближающееся выражение лица с настоящим, и нам показывают не только отдельные стадии душевных состояний, но и процесс самого развития»45. Обещая «истинное, сокровенное лицо», Балаш увлекает читателя и сам увлекается карнавальной игрой масок, проступанием, разъеданием, их самообнажением. Его театральная реальность становится похожа на реальность произведений Льюиса Кэрролла—в ней встречаются противоположности, движение происходит в разных направлениях, а смыслы оборачиваются если не общей бессмысленностью, то уж точно тайной. 1. Ямпольский достаточно подробно останавливается на предшественниках концепции Балаша, поэтому мы ограничимся простым перечислением нескольких имен: Мирендорф применил к внешнему, видимому, поверхностному понятие маски, Иван Голль в своей театральной теории «сверхдрамы» написал о смыслах, которые кроются за поверхностью предметов, Рудольф Леонард предложил идею плоской и поверхностной актерской игры, игры, соответствующей природе кино, Ганс Симсен увидел в фильме способность выражать язык природы и так далее. В той же статье Ямпольский определяет те существенные моменты в физиогномической теории Балаша, которые делают ее оригинальной и уникальной: одновременность существования мимических масок и распространение физиогномики на все предметы экранного пространства. 2. Отождествление действий «смотреть» и «читать» особенно любопытно с учетом рассуждений Балаша об эволюции культуры от зрительной к печатной. Активно критикуя культуру слова, примитивизирующую визуальное, он все-таки предпочитает для определения восприятия характерное ей понятие. 3. Т ы н я н о в Ю. Об основах кино.—В кн.: Поэтика кино. Перечитывая «Поэтику кино». Сборник. СПб: 2001, с. 47. 4. Б а л а ш Б. Кино. Становление и сущность нового искусства. М.: Прогресс, 1968, с. 51. 5. Ш к л о в с к и й В. Искусство как прием.—В кн.: Ш к л о в с к и й В. О теории прозы. М.: Советский писатель, 1983, с. 15. 6. Б а л а ш Б. Кино. Становление и сущность нового искусства. М.: Прогресс, 1968, с. 109 7. Б а л а ш Б. Искусство кино. М.: Госкиноиздат, 1945, с. 48. 8. Б а л а ш Б. Кино. Становление и сущность нового искусства. М.: Прогресс, 1968, с. 109. 9. Д е л ё з Ж. Шизофреник и маленькая девочка.—В кн.: Д е л ё з Ж. Логика Смысла. М.: Раритет, Екатеринбург: Деловая книга, 1998, с. 117. 10. Д е л ё з Ж. Сингулярности.—Там же, с.146. 11. Д е л ё з Ж. Шизофреник и маленькая девочка.—Там же, с. 123. 12. Д е л ё з Ж. Сингулярности.—Там же, с. 145. 369 13. Б л е й м а н М. Владимир Фогель.—В кн.: Б л е й м а н М. О кино—свидетельские показания. М.: Искусство, 1973, с. 126. 14. Я м п о л ь с к и й М. Видимый мир. Очерки ранней кинофеноменологии. М.: Научноисследовательский институт киноискусства, 1993, с. 93. 15. Е в р е и н о в Н. Введение в монодраму. СПб: Издание автора, 1917, с. 18. 16. Там же, с. 19. 17. М е р л о - П о н т и М. Перцептивная вера и рефлексия.—В кн.: М е р л о - П о н т и М. Видимое и невидимое. Минск: Издательство «Логвинов», 2006, с. 58. 18. Там же, с. 63. 19. М е р л о - П о н т и М. Переплетение—хиазма.—Там же, с. 197. 20. Там же, с. 197. 21. Б а р т Р. Camera Lucida. Комментарии к фотографии. М.: Ad Marginem, 1997, с. 171. 22. Там же, с. 117–118. 23. Б а л а ш Б. Искусство кино. М.: Госкиноиздат, 1945, с. 95. 24. Там же, с. 97. 25. Я м п о л ь с к и й М. О Муратовой.—«Киноведческие записки», № 81, с. 10. 26. С а р т р Ж. - П. Воображаемое. Феноменологическая психология воображения. СПб: Наука, 2000, с. 55. 27. Б а л а ш Б. Искусство кино. М.: Госкиноиздат, 1945, с. 97. 28. П е т р о в с к а я Е. Документальность.—В кн.: П е т р о в с к а я Е. Антифотография. М.: Три квадрата, 2003, с. 25. 29. Б а л а ш Б. Кино. Становление и сущность нового искусства. М.: Прогресс, 1968, с. 82. 30. Е в р е и н о в Н. Введение в монодраму. СПб: Издание автора, 1917, с. 10. 31. М е й е р х о л ь д В. Лекция № 12. Сценоведение.—В кн.: М е й е р х о л ь д В. Лекции. М.: О.Г.И, 2000, с. 131. 32. Д е л ё з Ж. Шизофреник и маленькая девочка.—В кн.: Д е л ё з Ж. Логика Смысла. М.: Раритет, Екатеринбург: Деловая книга, 1998, с. 124. 33. Б а л а ш Б. Кино. Становление и сущность нового искусства. М.: Прогресс, 1968, с. 55. 34. Цит. по: П о д о р о г а В. Белая стена—черная дыра.—В кн.: П о д о р о г а В. Феноменология тела. М.: Ad Marginem, 1995, с. 329. 35. Там же, с. 338 36. Я м п о л ь с к и й М. Видимый мир. Очерки ранней кинофеноменологии. М.: Научноисследовательский институт киноискусства, 1993, с. 91. 37. П а в и П. Маска.—В кн.: П а в и П. Словарь театра. М., 1991, с. 171–172. 38. М е й е р х о л ь д В. Балаган.—В кн.: М е й е р х о л ь д В. Статьи, письма, речи, беседы. Ч. 1. 1891–1917. М.: Искусство, 1968, с. 218–219. 39. Е в р е и н о в Н. Театрализация жизни. Ex cathedra.—В кн.: Е в р е и н о в Н. Театр как таковой. Одесса: Издательский центр студия «Негоциант». 2003, с. 65. 40. Б а р т Р. Camera Lucida. Комментарии к фотографии. М.: Ad Marginem, 1997, с. 57. 41. Б а л а ш Б. Кино. Становление и сущность нового искусства. М.: Прогресс. 1968, с. 81. 42. Б а л а ш Б. Культура кино. М.: Ленинград, 1925, с. 38. 43. Сессю Хаякава (1889–1973)—американский актер японского происхождения, получивший известность в период немого кино. актер немого кино. 44. Б а л а ш Б. Кино. Становление и сущность нового искусства. М.: Прогресс. 1968, с. 91. 45. Б а л а ш Б. Культура кино. М.: Ленинград, 1925, с. 38. 370