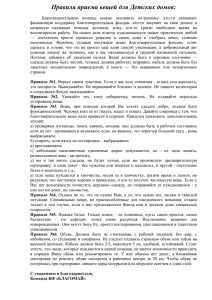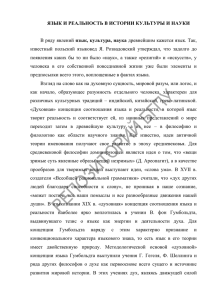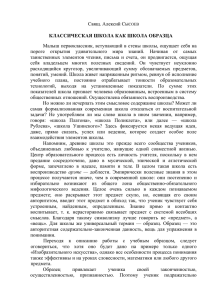СПЕЦИФИКА ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЧТЕНИЯ «ВЕЩИ
advertisement
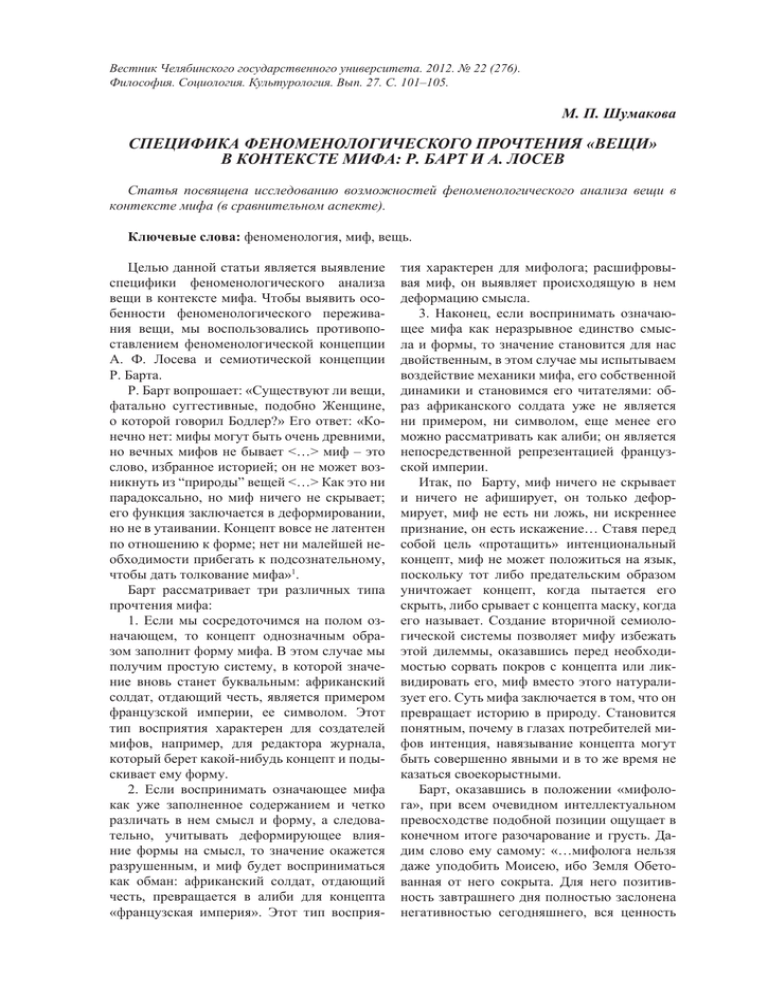
Вестник Челябинского государственного университета. 2012. № 22 (276). Философия. Социология. Культурология. Вып. 27. С. 101–105. М. П. Шумакова СПЕЦИФИКА ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЧТЕНИЯ «ВЕЩИ» В КОНТЕКСТЕ МИФА: Р. БАРТ И А. ЛОСЕВ Статья посвящена исследованию возможностей феноменологического анализа вещи в контексте мифа (в сравнительном аспекте). Ключевые слова: феноменология, миф, вещь. Целью данной статьи является выявление специфики феноменологического анализа вещи в контексте мифа. Чтобы выявить особенности феноменологического переживания вещи, мы воспользовались противопоставлением феноменологической концепции А. Ф. Лосева и семиотической концепции Р. Барта. Р. Барт вопрошает: «Существуют ли вещи, фатально суггестивные, подобно Женщине, о которой говорил Бодлер?» Его ответ: «Конечно нет: мифы могут быть очень древними, но вечных мифов не бывает <…> миф – это слово, избранное историей; он не может возникнуть из “природы” вещей <…> Как это ни парадоксально, но миф ничего не скрывает; его функция заключается в деформировании, но не в утаивании. Концепт вовсе не латентен по отношению к форме; нет ни малейшей необходимости прибегать к подсознательному, чтобы дать толкование мифа»1. Барт рассматривает три различных типа прочтения мифа: 1. Если мы сосредоточимся на полом означающем, то концепт однозначным образом заполнит форму мифа. В этом случае мы получим простую систему, в которой значение вновь станет буквальным: африканский солдат, отдающий честь, является примером французской империи, ее символом. Этот тип восприятия характерен для создателей мифов, например, для редактора журнала, который берет какой-нибудь концепт и подыскивает ему форму. 2. Если воспринимать означающее мифа как уже заполненное содержанием и четко различать в нем смысл и форму, а следовательно, учитывать деформирующее влияние формы на смысл, то значение окажется разрушенным, и миф будет восприниматься как обман: африканский солдат, отдающий честь, превращается в алиби для концепта «французская империя». Этот тип восприя- тия характерен для мифолога; расшифровывая миф, он выявляет происходящую в нем деформацию смысла. 3. Наконец, если воспринимать означающее мифа как неразрывное единство смысла и формы, то значение становится для нас двойственным, в этом случае мы испытываем воздействие механики мифа, его собственной динамики и становимся его читателями: образ африканского солдата уже не является ни примером, ни символом, еще менее его можно рассматривать как алиби; он является непосредственной репрезентацией французской империи. Итак, по Барту, миф ничего не скрывает и ничего не афиширует, он только деформирует, миф не есть ни ложь, ни искреннее признание, он есть искажение… Ставя перед собой цель «протащить» интенциональный концепт, миф не может положиться на язык, поскольку тот либо предательским образом уничтожает концепт, когда пытается его скрыть, либо срывает с концепта маску, когда его называет. Создание вторичной семиологической системы позволяет мифу избежать этой дилеммы, оказавшись перед необходимостью сорвать покров с концепта или ликвидировать его, миф вместо этого натурализует его. Суть мифа заключается в том, что он превращает историю в природу. Становится понятным, почему в глазах потребителей мифов интенция, навязывание концепта могут быть совершенно явными и в то же время не казаться своекорыстными. Барт, оказавшись в положении «мифолога», при всем очевидном интеллектуальном превосходстве подобной позиции ощущает в конечном итоге разочарование и грусть. Дадим слово ему самому: «…мифолога нельзя даже уподобить Моисею, ибо Земля Обетованная от него сокрыта. Для него позитивность завтрашнего дня полностью заслонена негативностью сегодняшнего, вся ценность 102 его предприятия заключается в актах разрушения, одни из которых в точности компенсируют другие, так что все остается на своем месте <…> Мне кажется, что эта трудность характерна для нашей эпохи; сегодня мы можем пока выбирать только из двух одинаково односторонних методов: или постулировать существование абсолютно проницаемой для истории реальности и заниматься идеологизацией или же, наоборот, постулировать существование реальности, в конечном счете непроницаемой и не поддающейся никакому анализу, и в этом случае заниматься поэтизацией <…> Мы беспрестанно мечемся между предметом и его демистификацией <…> И тем не менее мы должны добиваться примирения реальности и человека, описания и объяснения, предмета и знания о нем»1. То, что в переводе работы Барта на русский язык названо как предмет, может быть, на наш взгляд, более адекватно быть передано словом ‘вещь’. Суть ‘вещи’ сегодня – предмет обширных и продуктивных философских споров. В.���� ��� Топоров, например, отмечал, что «“вещный” уровень не исчерпывает суть вещи и что она включена и в иную сферу – духовного. “Человеческое” в вещи – в той ауре духовности и душевности, которыми человек добровольно и свободно делится с вещью [курсив мой. – М. Ш.], как бы умаляясь и снисходя к ней <…> человек выигрывает в том, что распространяет “человеческое” и вне себя, с тем чтобы и вещь могла теперь свидетельствовать о нем и с большим правом включиться в процессы формирования ноосферы»2. По-иному решается проблема вещи у А. Ф. Лосева. Еще Аристотель отмечал, что вещь, во-первых, материя, во-вторых, форма, в-третьих, действующая причина, и, в-четвертых, определенная целесообразность. Эйдос (форма) вещи не существует отдельно, но всегда воплощается в материи. Вещь есть материально осуществленная форма. В этом определении вещи остается место феноменологическому переживанию вещи, поскольку эйдос вещи у Аристотеля тесно связан с материей, ее внутренней способностью к энтелехии. Материя здесь – не косный материал, но сама наделена внутренней силой творческого «оформления». Как нам представляется, концепция Лосева близка аристотелевской. Если Р. Барт намечает, на наш взгляд, важную исследовательскую проблему: проблема М. П. Шумакова соотношения предмета, вещи и восприятия (с последующей дискрипцией) этого предмета/вещи, а также проблему сохранения цельности и непосредственности этого восприятия в последующей дескрипции, то в концепции А. Ф. Лосева вещь – имя – мир соединяются в контексте именно мифологического мышления. Подобное феноменологическое прочтением вещи и приводит нас к «земле обетованной» абсолютной мифологии А. Ф. Лосева. Миф для А.����������������������������� ���������������������������� Ф.�������������������������� ������������������������� Лосева не выдумка, но реальность, это не идеальное бытие, но сама жизнь, «жизненно ощущаемая и творимая вещественная реальность и телесная, до животности телесная действительнсть»3. Это не научное построение, сама наука мифологична по своей сути. Миф есть живая и действенная личность, это не метафизическое, сверхчувственное бытие, но бытие чувственное. Это лик жизни, в котором чувственное соединяется с сверхчувственным3. В нем вещь и идея вещи неразличимы, это «общее, простейшее, до-рефлективное, интуитивное взаимоотношение человека с вещами»3. Вещь, ставшая символом и идеей, превращается в миф, здесь происходит биологически-интуитивное соприкосновение сознания и вещи. В таком взгляде на мир вещи, окружающие человека, как бы оживают. Кажется, что предметная сущность каждой конкретной вещи вопиет о себе. Здесь «узники» также «превращаются в свободных феноменологов, наслаждающихся созерцанием именно этого цветущего дерева и только в этом созерцании постигающих интуитивно «невидимую» идею цветения»4. Вещи мира воспринимаются как нуминозный объект, поэтому нуждаются в особом, «трепетном» касании5. Для Лосева личность и миф тесно связаны: «…и потому вот наикратчайшее резюме всего предыдущего анализа, со всеми его отграничениями и подразделениями: миф есть бытие личностное или, точнее, образ бытия личностного, личностная форма, лик личности»6. Миф поэтичен, его «чувственность» охватывает не только вещественно-телесные, но и умные формы. Миф есть в словах данная чудесная личностная история. Миф есть чудо – как столкновение двух планов бытия: 1) идеального – идеи личности, ее заданности, судьбы, ее предел, первообраз; 2) жизненного. Чудо есть знамение, манифестация, проявление идеального в реальном, данное как единство того и другого6. Специфика феноменологического прочтения «вещи»... Итак, миф для Лосева «такая диалектически необходимая категория сознания и бытия (1), которая дана как вещественно-жизненная реальность (2) субъект-объектного, структурно выполненного (в определенном образе) взаимообщения (3), где отрешенная от изолированно-абстрактной вещности жизнь (4) символически (5) претворена в до-рефлективноинстинктивный, интуитивно понимаемый умно-энергийный лик (6). Еще короче: миф есть интеллигентно данный (3) символ (4–5) жизни (2, 6), необходимость которого диалектически очевидна (1), или – символически данная интеллигенция жизни»6. Лосев различает абсолютную (диалектичную) и относительную (ущербную) мифологии. Абсолютная мифология «всегда ведение, гносис». Фидеизм же и рационализм есть виды относительной мифологии. И на этом примере совершенно ясно, как относительная мифология имеет под собой один из диалектических принципов и как абсолютная – все принципы… Абсолютная мифология гностична, она – гностицизм (конечно, в общем, а не в специальном смысле христианских сект II–III веков). Для нее одинаково равноценны вера и знание. В ней идея и материя синтезируется в нечто единое (Лосев называет это субстанцией), она креативна (она есть теория творчества). Сущность и явление синтезируются в абсолютной мифологии в понятии символа, она есть символизм. Символ, развернутый во времени и пространстве, и есть миф. В символе происходит подлинное слияние идеи и материи, символ, воплощенный в жизни, есть организм, слияние общего и индивидуального происходит в символическом организме (например, в церкови как теле Христовом – в христианстве). Абсолютная мифология для Лосева всегда есть религия в смысле церкви6. Свобода и необходимость примиряются в чувстве, в жизни сердца. Жизнь сердца зависит от характера умно-сердечного состояния личности (в ее отношении к ее же инобытийной судьбе). Абсолютная мифология есть жизнь сердца6. Бесконечное и конечное, человек и мир соединяются в актуальной бесконечности (этому Лосев дает математическое объяснение). Другими словами, абсолютная мифология есть религиозное ведение (6) в чувстве (7) творчески (3) субстанциального (2) символа (4) органической (11) жизни (5) личности (l), аритмологически-тоталистически и вместе 103 алогически данной (12) в своем абсолютном (9) и вечном лике (10) бесконечного (8). Все это, впрочем, есть не больше (а скорее меньше), чем просто указание на развернутое магическое имя, взятое в своем абсолютном бытии. Как отмечают Г. Г. Кириленко и Е. В. Шевцов7, Лосев исходит из неразрывной связи идеи и вещи, человека и мира, что воплощается в понятие ‘жизнь’. Именно в таком подходе, по мнению авторов, проявляется «неклассичность» Лосева: «человек сначала живет, а потом решает то, что задается жизнью». Диалектика Лосева не столько «захватывает вещи», сколько она и есть сами эти вещи в их развитии. Однако, по мнению этих авторов, только любовь к общему, к идее позволяет человеку состояться как человеку. На наш взгляд, это не совсем так. В концепции мифа Лосева мы сталкиваемся с диалектической взаимосвязью чувственно-телесной «вещности» мифологического мышления («Миф не есть бытие идеальное, но – жизненно ощущаемая и творимая, вещественная реальность и телесная, до животности телесная действительность» (Лосев)). Здесь вещь и идея вещи неразличимы, это «общее, простейшее, до-рефлективное, интуитивное взаимоотношение человека с вещами»7. Вещь, ставшая символом и идеей, превращается в миф, здесь происходит биологически-интуитивное соприкосновение сознания и вещи. Символ же обладает энергийным началом, это голос бытия, в нем всегда присутствует элемент архетипического «священного» трепета», «узнавания». И сами вещи��������������������������������������� ,�������������������������������������� «взятые взаправду» (Лосев)����������� ,���������� становятся символом/мифом. Здесь невозможно восхождение к «чистому духу» как таковому, посколько материя и дух, вещный мир и мир духовный даны в слиянном единстве. Воздействие духовного возможно через вещи этого мира. Духовное не преодолевает вещный мир, а как-бы «прорастает» сквозь него, являя свою энергийную сущность в имени/ символе вещи. Сопряжение имени и вещи рассматривается Лосевым как отдельная проблема8. Согласно этимологическому словарю слово ‘вещь’ заимствовано из старославянского языка: вешть из *vektь, производного посредством суф. -tь от той же основы, что и лат. vox – ‘слово, голос’. То есть вещь действительно, как нам подсказывает сам язык, 104 есть то, что названо, то, что обретает свой статус в энергии говорения (здесь остается место и для хайдеггеровского «оповещения» или, иными словами, «вести», «вещания» вещи о самой себе, в которой возможно ведение мира). Лосев отмечал, что в имени вещи заключена «эманация личности», эманация, то есть сознательное исхождение смысла: «Кроме того, эта эманация личности будет обязательно символична, ибо воздушный организмик слова и имени будет обязательно нести на себе печать своего происхождения <…> Воздушный организмик имени и его умноорганическая природа представляют собою полную параллель. Они оба – актуальны, экстенсивны, структурны, динамичны, исходят из источника силы и направляются к действию»8, то есть энергийны по терминологии Лосева. Причем следует подчеркнуть, что подобная энергийность возникает, как это ни парадоксально, не за счет уменьшение предметной определённости бытия, а как раз вместе с ней и благодаря ей – благодаря вещной, предметной определенности явлений мира. В этом коренное отличие мифологической картины мира от философской, которая представлена, например, в концепции А. Б. Невелева9: «…нарастание предметной определённости бытия приводит к уменьшению его энергийной насыщенности, и наоборот, уменьшение предметной определённости приводит к увеличению энергийной насыщенности бытия вплоть до события Духа в человеке. Дух трактуется как предельная концентрация энергии любви, обеспечивающая рождение из человека разумного (homo sapiens) человека любящего (homo amoris)». Человек, становящийся в культуре, согласно концепции Невелева, может энергийно освоить всю её предметную вертикаль, возвышая энергию любви (предметной увлечённости, захваченности жизнью) от осознания того, что он любит, до осознания того, что он любит, до предельной концентрации энергии Духа и персональной идентичности человека с ним. «Если верна версия закона обратного отношения предметной определенности и интенций души к их силе (энергии), – отмечает А. Б. Невелев, – то человеку может быть по силам самоуправление своей духовной и душевной жизнью»10. В мифологической картине мира вряд ли возможно подобное «самоуправление», так М. П. Шумакова как здесь человек зависит от энергий самого мира, он ждет, чтобы мир сам «заговорил» с ним, и лишь тогда становится возможной его собственная открытость этому миру. Однако это не позволяет нам отказаться от гносеологической ценности мифологического переживания. Более того, в концепции, например, Э. Голосовкера, только в мифе раскрывается имагинативная гносеология, которую он рассматривает как основу гносеологии вообще11. В мифе всегда важен именно этот человек, это дерево, эта вещь. Энергия здесь (в том числе – энергия любви) никогда не бывает абстрактной – она всегда имеет интенцию к определенным вещам мира, и только через них – к миру вообще. Это всегда ближний, а не абстрагированно-сублимированный дальний. Любят каждого, и каждую вещь мира, а не всех. Эта стратегия отлична от этапов восхождения платоновского эроса, в котором последующий этап отменяет предыдущий. Отлична и в том, как видеть вещи, и в том, как их переживать в своем личном и неповторимом опыте жизни. Для Лосева в мифе происходит биологически-интуитивное соприкосновение сознания и вещи, интуитивно-телесного и умно-духовного переживания (например, в акте умно-сердечного ведения). На наш взгляд, его позиция близка феноменологии М. Хайдеггера, который рассматривал «вещь» в контексте античной проблемы соотношения формы (или эйдоса) вещи и ее материи (на примере чаши Аристотеля): «Наука делает эту вещь – чашу – чем-то ничтожным, не допуская вещи самой по себе существовать в качестве определяющей действительности <…> А каким способом существует вещь? Вещь веществует. Веществование собирает. Веществуя, она дает пребыть земле и небу, божествам и смертным; давая им пребыть, вещь приводит этих четверых в их далях к взаимной близости <...> Вещью веществится мир <…> Мы позволяем мирящему существу вещи задеть нас. Вспоминая, значит думая о вещи как вещи, мы оказываемся способны к ней при-слушаться. Мы тогда – в строгом смысле слова – послушны ей. Мы оставили позади себя претензию на всякую безусловную отвлеченность от вещи. Веществование есть при-ближение мира. При-ближение – существо близости. Щадя вещь как вещь, мы поселяемся в близком <…> При-ближение близости – собственное и единственное измерение зеркальной игры Специфика феноменологического прочтения «вещи»... мира. Сперва человек как смертный достигнет, обитая, мира как мира <...> Только то, что облегчено миром, станет однажды вещью»12. Настоящий гнозис для Лосева возможен лишь в «абсолютной» мифологии, «императивная логика» которой сродни хайдеггеровской тотальности вещи как «облеченной миром». Только такая мифология для Лосева и есть способ желанного «примирения реальности и человека, описания и объяснения, предмета и знания о нем» (Р. Барт). Примечания Барт, Р. Мифологии / Р. Барт // Барт, Р. Мифологии / Р. Барт. М. : Изд-во им. Сабашниковых, 2000. С. 234. 2 Топоров, В. Н. Вещь в антропологической перспективе / В. Н. Топоров. URL : http://ecdejavu.ru/v/Vesh.htm.l 3 Лосев, А. Ф. Диалектика мифа / А. Ф. Лосев. URL: http://www.philosophy.ru/library/losef/ dial_ myth.html 4 Конфедерат, О. В. Прозрачный кадр: концептуальный фильм как опыт нерефлекторной антропологии / О. В. Конфедерат. Челябинск, 2009. С. 38. 5 П. А. Флоренский так писал на эту весьма деликатную тему: «Даже такие подробности, как специфические прикосновения к раз1 105 личным поверхностям, к священным вещам различного материала, к умащенным и пропитанным елеем, благовониями и фимиамом иконам, причем прикосновения чувствительнейшей из частей нашего тела, губами, – входят в состав целого действа как особое искусство, как особые художественные сферы, например, как искусство осязания, как искусство обоняния и т. п.» (Флоренский, П. А. Храмовое действо как синтез искусств / П. А. Флоренский // Флоренский, П. А. Христианство и культура / П. А. Флоренский. М. : АСТ : Харьков : Фолио, 2001. С. 518–519). 6 Лосев, А. Ф. Диалектика мифа. 7 Кириленко, Г. Г. «Абсолютная мифология» А. Ф. Лосева / Г. Г. Кириленко, Е. В. Шевцов. URL: http://society.polbu.ru/kirilenko_philosophy/ch28_i.html 8 Лосев, А. Ф. Вещь и имя / А. Ф. Лосев. URL: http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text 9 Невелев, А. Б. Событие духа: от мысли к лику / А. Б. Невелев. Челябинск : ЧГИИКЮ ЧИПКРО, 1997. С. 55–56. 10 Там же. С. 194. 11 См.: Голосовкер, Я. Э. Логика мифа / Я. Э. Голосовкер. URL: http://www.klex.ru/ books/logika_mifa.rar 12 Хайдеггер, М. Вещь / М. Хайдеггер ; пер. В. В. Бибихина. URL: http://www.philosophy. ru/library/heideg/th.html