Игра без правил
advertisement
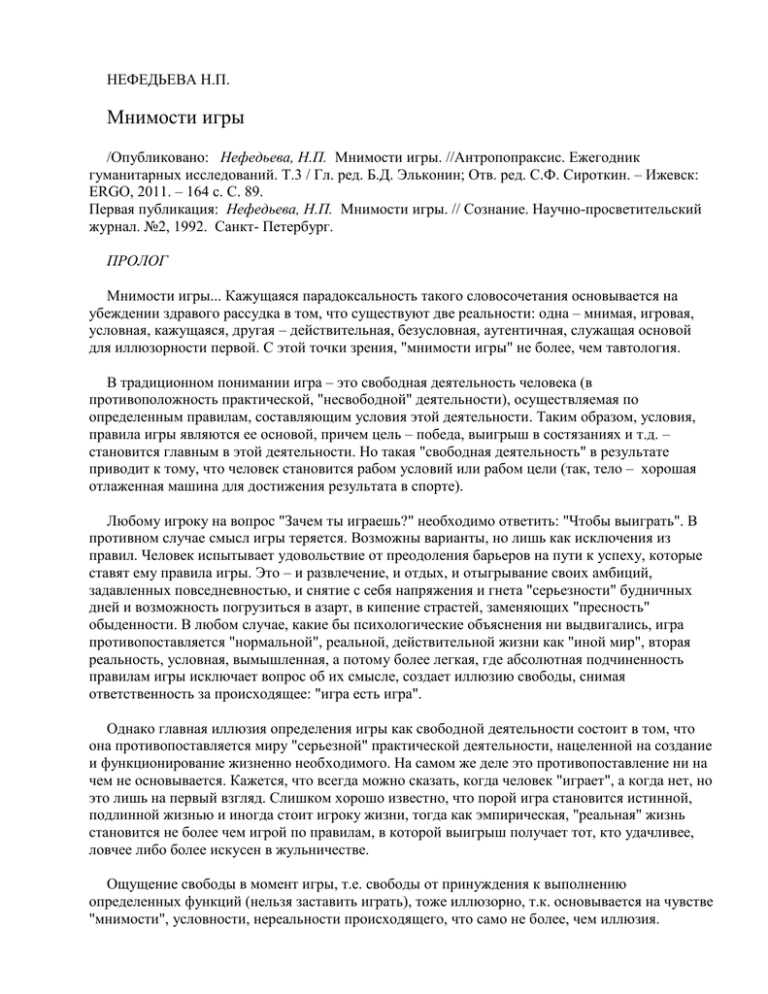
НЕФЕДЬЕВА Н.П. Мнимости игры /Опубликовано: Нефедьева, Н.П. Мнимости игры. //Антропопраксис. Ежегодник гуманитарных исследований. Т.3 / Гл. ред. Б.Д. Эльконин; Отв. ред. С.Ф. Сироткин. – Ижевск: ERGO, 2011. – 164 с. С. 89. Первая публикация: Нефедьева, Н.П. Мнимости игры. // Сознание. Научно-просветительский журнал. №2, 1992. Санкт- Петербург. ПРОЛОГ Мнимости игры... Кажущаяся парадоксальность такого словосочетания основывается на убеждении здравого рассудка в том, что существуют две реальности: одна – мнимая, игровая, условная, кажущаяся, другая – действительная, безусловная, аутентичная, служащая основой для иллюзорности первой. С этой точки зрения, "мнимости игры" не более, чем тавтология. В традиционном понимании игра – это свободная деятельность человека (в противоположность практической, "несвободной" деятельности), осуществляемая по определенным правилам, составляющим условия этой деятельности. Таким образом, условия, правила игры являются ее основой, причем цель – победа, выигрыш в состязаниях и т.д. – становится главным в этой деятельности. Но такая "свободная деятельность" в результате приводит к тому, что человек становится рабом условий или рабом цели (так, тело – хорошая отлаженная машина для достижения результата в спорте). Любому игроку на вопрос "Зачем ты играешь?" необходимо ответить: "Чтобы выиграть". В противном случае смысл игры теряется. Возможны варианты, но лишь как исключения из правил. Человек испытывает удовольствие от преодоления барьеров на пути к успеху, которые ставят ему правила игры. Это – и развлечение, и отдых, и отыгрывание своих амбиций, задавленных повседневностью, и снятие с себя напряжения и гнета "серьезности" будничных дней и возможность погрузиться в азарт, в кипение страстей, заменяющих "пресность" обыденности. В любом случае, какие бы психологические объяснения ни выдвигались, игра противопоставляется "нормальной", реальной, действительной жизни как "иной мир", вторая реальность, условная, вымышленная, а потому более легкая, где абсолютная подчиненность правилам игры исключает вопрос об их смысле, создает иллюзию свободы, снимая ответственность за происходящее: "игра есть игра". Однако главная иллюзия определения игры как свободной деятельности состоит в том, что она противопоставляется миру "серьезной" практической деятельности, нацеленной на создание и функционирование жизненно необходимого. На самом же деле это противопоставление ни на чем не основывается. Кажется, что всегда можно сказать, когда человек "играет", а когда нет, но это лишь на первый взгляд. Слишком хорошо известно, что порой игра становится истинной, подлинной жизнью и иногда стоит игроку жизни, тогда как эмпирическая, "реальная" жизнь становится не более чем игрой по правилам, в которой выигрыш получает тот, кто удачливее, ловчее либо более искусен в жульничестве. Ощущение свободы в момент игры, т.е. свободы от принуждения к выполнению определенных функций (нельзя заставить играть), тоже иллюзорно, т.к. основывается на чувстве "мнимости", условности, нереальности происходящего, что само не более, чем иллюзия. 2 Вступив в игру, человек попадает в жесткую зависимость от правил, условий, ограничений. Даже если речь идет об игре "ролевой", где действия не предписываются заранее, все равно человек принужден играть в соответствии со своим амплуа и его импровизации строго ограничиваются рамками его роли. Поэтому свобода игрока в этой ситуации не слишком отличается от свободы заключенного, который сознательно пошел на преступление, зная заранее, чем для него обернется нарушения правил. Если все это так, то остается неясным, как возможна свободная радостная творческая деятельность в тотально заданных, жестко обозначенных условиях? Чем отличается мнимость, иллюзорность игровой деятельности от реальности, аутентичности, подлинности практической жизни? На каких основаниях человек противопоставляет эти сферы деятельности, вынося игру за пределы реальности, обозначая ее как иную, "мнимую" реальность, понимая при этом жизнь как нечто доподлинно реальное, достоверное, серьезное? Никакие "объективные" характеристики, такие как заданность места, времени, условий, правил, свобода действия в рамках этих условий, не являются относящимися только к игре. В равной степени их можно применить и к обыденной жизни. Любая культура только и занимается тем, что формирует условия и правила для осуществления свободной деятельности человека. И любая "серьезная" деятельность легко умещается в рамки соревнования по достижению определенной цели ("кто первый") либо более ли менее искусного исполнения определенной социальной роли. В иных случаях акценты меняются: то, что большинством принимается за серьезную, ответственную, практически необходимую деятельность, для "скоморохов Божьих" – не более чем игра случая, суетность, иллюзия, майя, скрывающая и искажающая подлинную реальность. Итак, обозначение мира игры через определенным образом структурированную свободную деятельность не приводит к пониманию того, что такое игра. Любая практически реализованная деятельность может быть результатом игры (вплоть до игры политиков и военных в атомную войну), в то время как любая игра (в традиционном смысле этого слова) может стать фундаментом реальной деятельности (например, гигантского бизнеса в области азартных игр и всей индустрии развлечений, включая спорт, который давно уже перестал быть только игрой), в которой "человек играющий" превращается в "человека игрушечного", т.е. раба неизвестных ему сил. Любая деятельность человека разворачивается либо в пределах биологических законов, либо в рамках неких правил, условий, которые устанавливает для этой деятельности культура. Кажущиеся непреодолимыми биологические законы функционирования организма преодолеваются иными правилами и ограничениями – условиями культуры. Условия игры, навязываемые человеку культурой, и правила, по которым он вынужден осуществлять любую свою деятельность, воспринимаются как свобода от отождествления себя с материальной реальностью. Человек свободен не подчиняться жесткому принуждению законов природы, подчинившись законам социума. Если состояние игры рассматривается как свободная деятельность человека по реализации своего внутреннего творческого потенциала, то состояние "вне игры" будет состоянием зависимости, подчиненности внешним обстоятельствам и подавлением индивидуальности. Вступая в игру, человек испытывает радость перехода в "иной мир", освобождения от отождествления себя с данной социальной реальностью. Но это освобождение не менее мнимо, чем освобождение от собственной материальности. "Человек играющий" – пленник правил, вне которых немыслима никакая игра и никакая деятельность вообще. Пространство игры, как и пространство культуры – это тот лабиринт, войти в который можно, но выйти нельзя. Любая 3 ситуация, даже ситуация "вне игры", заранее обозначена в правилах игры. Родившись, человек не может не играть, как не может не быть в культуре. Более того, игра – это наиболее достойный способ бытия культуры. Это единственный шанс преодолеть все барьеры лабиринта, не разрушая стены и не пытаясь прорыть новые ходы, ведущие в никуда. ИГРА В ТЕАТР Совершенно уникальное место в пространстве игры занимает театр. Стремление сравнивать жизнь с театром свойственно людям не меньше, чем противопоставлять жизнь игре. Банальностью стало: "Жизнь – это театр", но даже тот, кто спорит с этой "банальностью", все же часто лишь смутно представляет себе, о чем идет речь. Уникальность театра в игровом пространстве культуры обеспечивается тем, что здесь условием игры является сама игра, т.е. ее правила (что нужно делать?) и смысл (зачем, с какой целью?). Только здесь, в отгороженном от прочего мира месте, может случиться событие подлинной игры, расширяющее это "место" до границ мира. Покупая билет в театральной кассе, человек вступает в игру под названием "театр", принимая на себя обязательства играть роль зрителя. Предположим, что ему посчастливилось, и он идет именно в Театр, а не на балаган, в котором лицедействуют и лицемерят, скрывая (и открывая, что одно и то же) масками пустоту и безликость. (Впрочем, такой Театр лишь идеал и редкое исключение из правила, т.к. актеры – те же зрители, которые перестали видеть что-либо иное, кроме размалеванных декораций, и лишь более или менее искусно притворяются, что верят в нечто, что им недоступно). Итак, наш зритель попадает в совершенно условное место, где условность возведена в предел, где условно – мнимо, "поддельно" все, – театр. Поддельны лица, костюмы, время, место действия. Здесь царствует условность, возведенная в абсолют, – абсурд, лишенный всякого смысла с точки зрения здравого рассудка. Поскольку условием игры является сама игра, правила игры лишаются какого бы то ни было иного содержания и цели. Но какой смысл в том, что не имеет ни цели, ни смысла, кроме самого процесса игры? Нельзя верить в абсолютную условность, нельзя плакать и смеяться от души в ситуации, заранее объявленной "не настоящей", кажущейся, придуманной, мнимой. Глупо и абсурдно, приняв абсолютную условность происходящего, безусловно и абсолютно довериться происходящему. Бред умалишенного – поверить в то, что заранее объявлено неверным. Условность – закон театра, его основание. Это – игра в жизнь, это мнимость жизни, ее подделка, ее искусственный слепок, схематичное и абстрактное отражение. Человек сидит в кресле рядом с чужими людьми, два часа слушает неестественные вопли безумцев, которые в нелепых нарядах и гриме бегают по сцене, пытаясь изображать жизнь, придуманную поэтами. Но он заплатил за билет, и его честно предупредили, что это – "только игра", впрочем он и не собирался обольщаться. Он принимает условность и не ищет иного смысла. Он видит то, что есть на самом деле: Офелия стара, Гамлет толст, костюмы грязны, а самое лучшее место театра – это буфет. Он понимает, что все это обман, но такова игра: он согласился, чтобы его дурачили, пока он отдыхает и не дурачит других. И в этом смысле театр – это жизнь. Этот зритель отлично видит, что король на самом деле гол, но взаимный обман входит в правила игры. Правда, у этой игры нет смысла; есть ложные цели, не отвечающие на вопрос "зачем?", а приводящие к цепи дурной бесконечности вопросов – ответов. Но смысл, делающий невозможным саму постановку этого вопроса, – смысл отсутствует. Это означает, что не 4 выполняются сами условия этой игры, игры в театр, где смыслом должна стать сама игра, а не механическое и послушное исполнение правил. Этот зритель является рабом своей собственной иллюзии – слепой веры в то, что если что и реально, так это сами правила, санкционирующие его веру и его неверие. Другой зритель отрицает реальность данных "самих по себе" условностей. Он принимает абсолютную условность "предлагаемых обстоятельств", в которые ему нужно поверить, их относительность. Ничто не абсолютно в рамках этой игры. Но тогда как возможно во все это верить? Дурной сон: самим придумать этот мир и верить в то, что так оно и есть. Абсурд, ведущий в сумасшедший дом, потому что если я здоров, то все окружающее – явный бред. И значит мир сошел с ума, ибо он не видит того, что для меня очевидно. А если этот мир нормален, значит с ума сошел я, и нужно бежать из этого театра прочь. Полное отчуждение, отстранение от иллюзии – взгляд "постороннего" – превращает все действие в абсурд, разрушает иллюзию, не оставляя взамен ничего, кроме голой схемы условностей, которые сами "заданы". Отчуждение насквозь рационально; это беспощадный анализ, срывание всех и всяческих масок, "разоблачение" жизни "как таковой". Это попытка ребенка взломать телевизор в надежде обнаружить то, что он показывает, или хотя бы увидеть то, что есть в нем на самом деле. Но на самом деле нет ничего. Все иллюзорно, мнимо, бессмысленно, декорации лгут, а маски обманывают. И не на что опереться в этом тотальном балагане, где в марионетках предлагают увидеть людей. Нельзя поверить в ложь. И ложь, открыто объявляющая себя ею, все же не перестает ею быть. Иллюзия не становится правдой от согласия зрителя в нее поверить, и нет никаких гарантий того, что эта вера окажется "верной". Верить можно только правде. Но где же правда, если на сцене ложь, подделка: декорация, картон, грим, краски, костюмы, бутафория. Разве все это правда? Для театра абсурден подобный вопрос. Здесь не важна правда вне актера, вне зрителя. Здесь важна правда в них самих: в их отношении к тому или иному явлению на сцене, к вещи, декорации, к партнерам по сцене, к их мыслям и чувствам. В театре правда то, во что искренне верят участники действа, и даже явная ложь должна стать в театре правдой для того, чтобы быть искусством. Сцена не является самостоятельной реальностью, реальность сцене дает человек – зритель и актер. Образ, создаваемый в пространстве театра, не сводим к тексту, жесту, музыке и прочим составляющим театральной иллюзии, а также – к их механическому смешению. В лучшем случае это будет лицедейство, механическая игрушка, лишенная смысла, т.к. ею можно забавляться, но невозможно ей верить. Театр может быть оснащен по последнему слову техники, автоматизирован, иллюминирован, радиофицирован и т.д., но при этом он будет мертв, т.к. музы могут жить только там, где не иссяк родник живой воды человеческого вдохновения, где играет жизнь. Подлинный театр возможен без всяких декораций, без сцены, без кулис, без костюмов и масок. Но он невозможен без актера (от латинского actus – действие; актер – "действователь", исполнитель и участник действа, воплощатель образа) и без зрителя – без подлинного Творца и подлинного Сообщника, соучастника, содействующего воплощению великой мистерии жизни человеческого духа. Только в их единстве и рождается событие Действа. Каждому человеку в Театре дана возможность быть Зрителем, но не каждому эта роль удается. Каждый может смотреть на сцену, но не все могут видеть за условностью, а порой убогостью декораций подлинный смысл происходящего. Это невозможно без творческого акта самоотречения, позволяющего слиться с иным – "ирреальным", "невидимым" миром чистой духовности. Человек, надевший маску и произносящий чужие слова, – это не актер "в роли". 5 Уничижительный смысл этих слов происходит от понимания неискренности и фальши происходящего. Но точно также и зритель не является в этом случае Зрителем, а лишь наблюдателем, созерцателем, зевакой праздным, поглощателем прописных истин и банальностей, которые ему вещают с трибуны. Место для этих "игр" – базарная площадь с балаганом, арена с клоунами, университетская кафедра, церковь и т.д., но отнюдь не Театр – Храм, где вершится мистерия воплощения Образа, где таинство воображения и таинство воплощения дают жизнь реальности человеческого духа. Если обратиться к истокам, то, вероятно, Адам был самым первым Актером и самым гениальным Зрителем. Рождение Образа – вот то Действо, которое превращает притворщиков в актеров, зевак в зрителей и абстрактную условность в доподлинную реальность, в действительность, истинность которой проявляет себя со всей очевидностью. Театр – не "подражание жизни" и не "отражение" ее. Театр является жизнью человеческого духа, или не является. Такое явление подлинного театра совпадает с его сотворением. Со-общение, которое несет нам смыслы, заключено не в тексте пьесы, не в сценографии, не в актерской технике и режиссерском мастерстве и не в их совокупности, но в акте общения с актерами, воплощающими, одухотворяющими все компоненты спектакля. Паузы, жесты, музыка, свет рождают то особенное настроение, в русле которого слова начинают светиться дополнительными смыслами, проясняющими их плоские, прямые значения. Подтекст – "подводное течение" пьесы, ее истинная жизнь – проясняется, светится сквозь ширму текста и внешних событий действия. Магия театрального действа втягивает в свое русло и актера и зрителя, заставляя жить жизнью творимого Образа. Актер верит в свое перевоплощение, он как бы становится тем персонажем, которого он играет. Из собственного опыта он черпает материал для жизни образа, чужие слова роли обращая в свои собственные. Он будит в себе дремлющие неосознаваемые силы, которые помогают ему чужие страсти сделать своими, придать "образ" своим собственным переживаниям. Актер знает сюжет, более того – он знает все слова, которые должен произнести, и все мизансцены, в которых он должен двигаться, но это знание – тотальная заданность всех действий – не избавляет его от необходимости все это прожить. Он знает все, что произойдет по ходу пьесы, он произносит чужие слова, но он живет постольку, поскольку живет Образ, который он воплощает. Игра не стоит свеч, если актер начинает халтурить и повторять заученные фразы, не вкладывая в них свою собственную душу, являя лишь пошлость лицедейства – позу бытия. Гнилые помидоры будут ему овацией. Однако даже самый гениальный актер не в состоянии создать Театр, если в нем нет хотя бы одного Зрителя, который вместе с ним живет жизнью Образа. Попытки здравомыслящего и недоверчивого зрителя логически вычислить "смысл" из действия абсурдно рационалистичны: невозможно логикой поверить гармонию. Смысл – в самом процессе взаимодействия, он растворен в непосредственном акте сотворчества, который сам для себя является смыслом. Дотошный зритель потом, в воспоминаниях, вычленит "смысл" увиденного, его "значение", но этот узкий – словесный – фабульный "смысл" несводим к Смыслу процесса – самого акта творчества. Сценическое создание – живое органическое создание, сотворенное по образу и подобию человека, а не мертвого заношенного театрального шаблона. Оно не может не быть убедительно, не может не внушать веру в свое бытие; оно должно быть, существовать в природе, жить в нас и с нами, а не казаться, напоминать, представляться существующим. 6 Тогда абсурдность и нелепость предлагаемых обстоятельств наполняется живым и могучим смыслом; за уродливыми декорациями, избитыми и затасканными словами проступает живая струя "внутренней жизни", которая подчиняет себе зрителей и актеров, заставляя их слиться в едином творческом акте. И тогда сами "условия" – искусственно созданные рамки – представляются не случайным набором, нагромождением уродливых и нелепых конструкций, а необходимым элементом игры. Без преодоления жесткой заданности этих схем невозможен был бы и прорыв к свободе творческого их преображения. Роскошный театр с массой эффектов и всеми удобствами в этом смысле может быть мертв и никчемен по сравнению с убогой кибиткой бродячих актеров, которые опираются лишь на собственную веру и веру зрителей в истинность происходящего. Вера в предлагаемые обстоятельства – фундамент театрального действия, основание мистического перевоплощения актеров и зрителей, их преображения. Только силой веры можно оживить картонные маски и совершить в театре любое чудо. На чем же основывается эта вера? Только на том, что без нее Театр теряет всяческие обоснования для своего бытия. Он становится абсурден, бессмыслен, он просто перестает быть Театром, перестает быть. Вера в предполагаемые обстоятельства безосновна, безосновательна. Она не может опираться на какие-либо "доказательства" истинности или ложности этих "обстоятельств". Она не видит смысла вне себя, т.к. она сама – смысл. Эта вера действительна, ибо – действенна: она сама вершит Действо, творит Образ. Это – непосредственная, непереводимая достоверность, дальше нерасчленимая; это и сам смысл – неприменимость вопроса "а зачем ? ". Зачем нужно выполнять условия и верить в происходящее? Да именно затем, что это – условия, и иначе просто нет смысла играть этот спектакль. Смысл в том, чтобы поверить в безусловность насквозь условного Действа, то есть просто-напросто позволить ему состояться, дать ему возможность быть. В этом – смысл игры, в самом процессе игры. Вне веры игра теряет смысл, превращаясь в абсурдную цепочку дурной бесконечности вопросов "а зачем?". Ребенок видит в своей потрепанной кукле принцессу, а в роскошном наряде голого короля – подлог и фальшивку. Здесь он опирается на свое чувство правды и на веру в то, что его игра – реальность, а лицедейство взрослых – балаган, бред и неприкрытый обман. Он верит в то, во что ему хочется верить, а не в то, к чему обязывает статус поданного голого короля. Эта вера и составляет его реальность, которая реальнее и жизненнее, чем подложная действительность разумных взрослых. Ребенок верит во что-то не потому, что это "существует на самом деле", а потому что без этого (чего "на самом деле", самого по себе, может и нет) утрачивается смысл достоверного, реально существующего. Образ не оживет, если актер не войдет в него с полной верой в то, что это – его Образ. Но он также не обретет плоть, не станет ярким и зримым, если не найдется человек, который сможет его увидеть. Увидеть Актера в Образе – поверить в его подлинность, вообразить себя на его месте – это значит стать Актером, другим, но в том же Образе. Акт Веры, осуществляемый как воплощение Образа (себя в Образе), проявляется через внешнее действие – ритуал и внутреннее действие – созерцание этого акта. Внешнее бездействие зрителя обманчиво. Внутреннее действие сопереживания, соучастия и сотворчества не менее напряженно и реально, чем событие, разворачивающее на сцене; зритель – необходимый участник действия, без которого не случится рождение спектакля. Его вовлеченность в действие также зависит от его способности верить, от его готовности и 7 потребности верить, которая является его собственным внутренним, глубинным существом и живет в нем всегда – еще до прихода в Театр, где она раскрывается. Актер и Зритель отдают себя во власть иллюзии, забывая, что они сами оживили ее, приняли участие в ее сотворении. Условность сцены растворяется в беспредельной вере в безусловность открывшегося мира. Тотальность смысла поглощает собою любые оглядки на "низшую" реальность зрительного зала, сцены и прочих театральных условностей. Актер на сцене перестает быть собой и превращается в персонаж, роль которого он исполняет. И чем более отличается персонаж от личности самого актера (чем больше усилий требуется для перевоплощения), тем более живым, убедительным и реальным получается образ. Любой актер знает, что на сцене невозможно сыграть только себя. Оживший Образ имеет большую силу и власть над зрительным залом и самим актером, изменяя его внешний вид, внутреннее состояние; он начинает управлять поведением актера и зрителей, подчиняет их себе. Но должны ли мы опасаться, что в один прекрасный момент актер, вошедший в роль Отелло, на самом деле в порыве ревности задушит Дездемону или что стихийная волна неуправляемых страстей захлестнет сцену и зрительный зал, и шаткие перегородки мнимых условностей рухнут под напором могучей реальности воображения? Хорошо известна театральная байка о зрителе, который во время спектакля вышел на сцену и убил Отелло, спасая Дездемону. Нетрудно догадаться, куда после этого поместили беднягу. Но в таком случае, где же пролегает та граница условности, пересекая которую, мы из Театра попадаем в сумасшедший дом? Как, избежав рабства одной иллюзии – прочности и незыблемости условий и условностей, увидев их мнимость, их преодолимость, не оказаться в рабстве у другой иллюзии – безусловного господства идеального, вымышленного мира, не признающего никаких ограничений? Как не позволить иллюзии в той или иной ее форме управлять собой, а стать ее свободным сотворцом, сообщником единой действительности? Как, отказавшись от роли Санчо Пансы, не оказаться в роли Дон Кихота? Как сохранить присутствие духа? Человек, открывший магию ирреальности, фантазии, мечты, отдается ей вопреки убежденности здравого смысла в ее мнимости. Он доверяется ей, потому что нельзя потребовать гарантий истинности у того, чему он решился верить. Нельзя сказать: "Докажи, что моя вера истинна, что я верю в то, что действительно существует; дай мне гарантии того, что я не ошибаюсь". Человек верит во что-то, и это само по себе и гарантия и основа существования того, во что он верит. Возможность ошибки не исключена, но это ничего не доказывает: ни "ложности" оснований его веры, если она была искренней (а иной она и быть не может), ни правоты тех, кто пытается убедить его в том, что он заблуждается. Принимая "условия" веры – ее априорную подлинность, бездоказательность, человек принимает как возможность, как "условие" игры то, что все это может быть ошибкой, что того, во что он верит, может и не быть. Но, приняв это условие, он с необходимостью должен его исключить, ибо вера должна быть абсолютна. Только в этом случае то, во что он верит, и есть на самом деле. Он верой своей творит то, чего может и не быть, беря на себя полную ответственность – бремя и тяжкий груз ответственности за бытие (или не – бытие) в этом мире того, во что он верит. Этого нет, но человек верит, и значит это есть – вот единственное "доказательство" того, что "объект" его веры существует в действительности. Вера действительна, потому что действенна, она являет собой действо, магический акт творения – творчество. Слепая, фанатичная вера зрителя полагает, что "объект" существует "сам по себе", что он не может не быть. Установив это как факт, он верит в существование этого "факта", видя в нем безусловную реальность, истинность. Это наивная вера человека с детскими душой и разумом. 8 Развившийся разум удерживает равновесие между "может быть" и "может не быть" все возможности и делает свободный выбор, принимая необходимость верить, невозможность не верить на свой страх и риск: страх, ужас от того, что этого – столь необходимого – может не быть, полагая основанием веры – саму веру, как возможность бытия объекта веры, возлагая этим всю ответственность за возможность "ошибки" на самого себя (в противоположность слепой вере, которая в ошибке обвиняет "обманувший" объект). Но, приняв это условие, – верит уже осмысленно и свободно. Глупо выполнять условия игры, не задаваясь вопросом об их смысле, принимая добросовестное исполнение функций за сам смысл, а декорации за единственно достоверную реальность. Глупо пытаться отыскивать смысл за пределами декораций, срывать маски с актеров и разоблачать бессмысленность и лживость этого мира фантомов. Магическая формула театра "как будто на самом деле, как бы всерьез" – помогает выполнить условия игры в театр. Спасительное "как бы" стремится удержать в равновесии рассудочнохолодное обессмысливающее жизнь сцены отношение к происходящему и порывистое, безумно-безудержное, фанатичное преклонение перед принятой на веру реальностью. Принятие условий игры (ее обусловленность пространством и временем Театра, данность, заданность этого пространства и времени) означает умение видеть и считаться с ними, не противопоставляя смыслу игры. Реальность картонных декораций и расписанных ролей не уничтожает "иную" реальность свободного творческого проявления, а живет – оживает в ней. Реальность правил и ограничений неотделима от безграничной реальности Смысла, в них и с ними существующей, ради которой, собственно, и затеян весь спектакль. Единственная – единая реальность творится на фоне сменяющихся декораций и масок, которые обретают свое истинное предназначение с нею и в ней в условном пространстве Театра, уже не разделенного рампой на сцену и зрительный зал. ЭПИЛОГ Опустится занавес, закончится спектакль. Закончится ли? Для тех, кто видел на сцене лишь декорации, спектакля и не было. А “тот, кто видел наяву, сможет видеть и вслепую”. Игра без правил ИГРА И РАБОТА Игра рождается как точно рассчитанное (гармоничное) движение Смысла, производимое с легкостью и оставляющее след в форме пространства-времени. Игра реализуется в пространственно-временном континууме, который творится в процессе Игры без правил и является застывшим слепком, механически повторяющим первоначальное и вечно длящееся движение. Застывшее движение, механически повторяясь в прстранстве-времени, создает иллюзию возникновения и уничтожения, начала и конца, жизни и смерти, иллюзию игры, состоящей в чередовании противоположностей. Иллюзорная игра застывших механических движений ведется по твердым, "от века данным" правилам, которые составляют основу или "скелет" первоначального движения Игры без правил. Теперь уже не движение рождает правила, а правила регламентируют и предписывают движения, имитирующие Игру. 9 Мысль, чувство, тело – все движется, все находится в непрестанном движении, но движет всем правило, множество правил, известных всем. Нельзя прыгнуть в пропасть, не разбившись; если весело – нужно смеяться, если грустно – плакать; дважды два – четыре; вчера – было, сегодня – есть, завтра – будет и т.д. Механические повторы движений мыслей, чувств, жестов создают впечатление непрерывного движения, но на самом деле ничто не движется, т.к. это имитация Игры, иллюзия, не оставляющая следов, она сама – след, следствие уже свершившейся Игры без правил. Чем чаще повторяется какое-то движение, тем глубже след, тем больше нужно усилий, чтобы это движение совершить. Кажется, что очень легко думать "как принято", но это означает – не думать совсем. Правила, заставляющие копировать первоначальное движение, служат сохранению этого движения в пространстве-времени, берегут его от бесследного исчезновения, но вместе с тем ведут его к уничтожению, вернее к уничтожению его Смысла. Чисто механическое движение – это движение бессмысленное, безразличное к результатам своего собственного действия. Если первоначальное движение Игры без правил реализует Смысл в стремлении к созиданию, то механически повторяющееся "правильное" движение его уничтожает. Бессмысленная вещь – это вещь, рожденная механическим движением, вещь мертворожденная, игрушка. Механическое движение обессмысливает и мертвит все, с чем соприкасается, т.к. лишено движущей силы – Смысла и является отсутствием движения по своей сути, остановкой. Автоматизм множественности повторов является препятствием на пути изначального движения Смысла и требует все большего усилия для преодоления. Чем больше усилий вкладывается в действие, воплощающее движение, тем менее это игра и тем больше – работа. Работа, таким образом, – это движение, направленное на восстановление изначального Смысла, производимое с усилием и преодолевающее оформленность пространства-времени. Если следами Игры без правил являются пространственно-временные формы, т.е. все, что можно назвать, то результатом работы будет трансформация, перевоплощение, разрушение застывших пространственно-временных структур (схем) при извлечении смысла. Такую работу может проделать только сознание, возвращаясь по собственным следам к себе самому, извлекая себя из руин некогда для себя же построенного храма. То, что обычно называют "работой мысли", "работой души", "работой тела" – не что иное, как механическое движение, повторяющее то, что кем-то когда-то уже сыграно, впервые сделано, создано. Такая "работа" – труд – ничего не производит, но дублирует, множит последствия некогда с легкостью сделанного движения. Трудно то, что легко дается. Трудна механическая бессмыслица повторяющихся действий, трудно выполнить обязательные для всех правила, трудно выучить и запомнить все, что всем давно известно. "Сизифов труд" труден, это – адский труд. Умножение трудностей – его результат. Легкость подлинного движения восстанавливается работой сознания над реликтовыми останками застывших в механических повторах форм. Легко то, что дается с трудом. Работа сознания – преодоление трудностей на пути движения к легкому постижению изначального смысла Игры без правил. Чем больше трудностей преодолевается, тем легче движение, тем оно гармоничнее, тем точнее расчет, тем больше возможностей исполнить любую работу играючи. Спонтанность, ненаправленность подлинного движения Игры без правил осуществляется в присутствии Смысла и отсутствии заранее данного пути (следов). Безусловное попадание в цель в Игре без правил обеспечено тем, что самый Смысл – это и движущее и движущееся, и цель и средства для ее достижения. Направленность рождается вследствие движения Смысла. Но эта направленность последующих движений никогда не совпадает с изначальным движением: последующие движения направлены не "во след" (не по пути), а вспять или навстречу Смыслу. Попутное движение – это движение механических повторов (след в след), которое по сути 10 является топтанием на месте. Встречное (или попятное) движение осуществляется работой сознания и направлено на исследование оставшихся разнообразных и бесчисленных форм (следов) и преодоление последствий изначально ненаправленного движения Смысла. Движение навстречу Смыслу имеет столько же направлений, сколько следов сумело обнаружить на этом пути сознание исследователя, но все направления однонаправлены в этом встречном движении. Точный расчет, позволяющий продвинуться навстречу Смыслу, заключается в преодолении трудностей механических повторов и в обретении импровизационной легкости, учитывающей все возможные варианты присутствия Смысла на пути к нему. ВРЕМЯ ИГРЫ Каждая отдельная игра (отдельная-отделенная, ограниченная своим собственным полем) ведется в том времени, в котором она уже случилась, но внутри своего поля имеет свой собственный ход времени. Игра идет от своего "начала" к своему "концу". Поскольку и "начало" и "конец" уже были в данном пространстве игры, они могут быть известны. Но "конец" игры вовсе не означает прекращения игры как таковой: будет повтор (с другим счетом, с другими партнерами, другим призом, но это не принципиально). Находящиеся в поле данной игры вынуждены играть в нее снова и снова. В разных странах, в разных одеждах, в разных временах данная игра все время будет идти от своего "начала" к своему "концу". И конец известен. Игру бросают, чтобы начать все сначала. Игроки обречены начинать, но не могут закончить. Азарт – невыносимое желание конца, разрушение связей и уничтожение данного игрового поля. Но поскольку никакого иного поля игры для игрока данной игры не существует, а создавать свое поле он не может (не умеет), он вынужден вновь и вновь возвращаться на прежнее, разрушенное им самим место постольку, поскольку вынужден жить (существовать, иметь какую-то реальность). Игровые пространства непроницаемы для изолированных в них фигур, но совместимы и вполне проницаемы для любителей "сеансов одновременной игры", т.е. тех, кто делает свою игру, владеет техникой. Техника обеспечивает достижение наилучшей связи в деформированном поле игры. Связь – это не просто связанность. Связь реализуется в согласии, созвучии, содействии, совместности. Где нет согласия, там нет связи. Связь удерживает игровое пространство, создает поле игры. Связь сохраняется удержанием в поле зрения каждым участником игры всех остальных. Чем больше "чужих" мест в поле своего зрения может удерживать игрок (не пытаясь их занять), тем большего согласия он достигает, тем большей реальностью обладает, приближаясь к реальности Создателя единого игрового поля Игры без правил. Это единое поле просвечивает сквозь муть деформированных игровых пространств и может быть видимо ясным зрением. Чем отличается тот, кто впервые попал в игру, от того, кто в десятый, сотый, тысячный раз в нее играет? Ученик и мастер (спорта), начинающий скрипач и Паганини, служка и святой, буддист и Будда. Мастерством, владением техникой игры? На самом деле их нельзя сравнивать, т.к. они находятся в разных игровых пространствах, хотя, на первый взгляд, играют в одну и ту же игру. Новичок для мастера – это прошлое: ученик еще не знает, чем закончится игра; мастер знает, что окончания не будет. Мастер знает начало и конец как единство, он состоялся, сделал свою игру и – вышел из игры. Поэтому для мастера ученик – это будущее. Для ученика мастер – это будущее. Ученик учит правила его игры, уже состоявшейся, в надежде стать мастером. Но будущего не будет, пока мастер для ученика не станет прошлым. Так они играют друг с другом, создавая единое игровое пространство, но каждый – свое. ИГРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО 11 Для реализации Игры необходимо игровое поле. Оно создается в процессе Игры без правил, а впоследствии, когда она свершилась, заполняется фигурами игроков, которые, прежде чем начать игру, изучают правила, механически повторяя однажды случившееся, уже сбывшееся. Игровое поле создает тот, кто придумал игру, Создатель игры, приглашая к участию в ней партнера или партнеров (неограниченное количество), которые становятся Партнерами уже в процессе игры. Таким образом, Создатель творит поле игры, приглашая к участию в ней всех желающих, и создает Партнера тем, что позволяет ему играть в его игру. Собственно, сказать, что Создатель игры ее придумал, будет неверным выражением. Он просто тот, без кого его игра не состоится. Причем, если партнеры создаются в процессе игры, то Создатель игры существует до ее начала, т.е. он ее начинает, сам является началом игры, ее Смыслом; он демонстрирует ее своим присутствием, хотя сам может в нее и не играть. "Окружение играет короля". Это парадоксально звучит, однако сама игра существует только потому, что король есть. Для успешного ведения партии в шахматы не нужен король, но если его не будет – не будет и игры. Правда, игры не будет и в том случае, если не будет окружения. Голый король, король без свиты, король без войска, король без ферзя и прочих фигур может в какой-то степени сохранить свое королевское достоинство, но он не сможет сделать свою партию, свою игру. Поэтому нужен партнер, нужен ферзь и другие фигуры, и значимость их возрастает в той степени, в какой они играют короля, делают его игру. Итак, все игроки играют Создателя игры, причем выигрывают все, кто играет. Проигравшим является тот, кто не смог вступить в игровое поле или не смог на нем удержаться. Сохранить свои позиции на игровом поле можно, если играть не по правилам (их еще нет, они создаются в процессе игры). Играть Создателя игры – это делать свою игру, сохраняя изначально выигрышную позицию. Передвижение игроков в игровом поле прежде всего должно быть самостоятельным. То, что конь ходит буквой "Г", а слон иначе, ферзь перемещается как хочет, а король едва-едва ходит, не является "правилами" – это их собственный способ перемещения. Эти правила могут быть исследованы с точки зрения способов перемещения игроков в игровом поле, но, по сути, это исследование будет далеко от понимания смысла игры без правил. Так, исследовав строение птицы, можно узнать, что способ ее перемещения – полет при помощи ритмических движений ее крыльев. Но чтобы понять смысл полета, надо войти в игровое поле, в котором находится птица, ветер, все, что летает, т.е. надо начать играть Создателя полетов. Тогда, уже находясь в этом игровом поле, можно делать свою игру и фигуры для этой игры: воздушного змея, воздушный шар, самолет, бумеранг, парашют и т.д. Другими словами, только находясь в игровом пространстве летающих "субъектов", можно создавать летающие "объекты" и учить летать предметы, тела. Смысл игры без правил в сообщении: "Я есть, и я с тобой играю; ты – есть"; в обнаружении невидимых связей, поддерживающих игровое пространство, связей мест и времен. Если двое, занимающие каждый свое место в едином игровом пространстве, играют друг с другом, то смысл их игры будет в сохранении связи при передвижении в пространстве игры. Например, если они стоят лицом друг к другу и один из них делает шаг назад, то второй делает шаг вперед. Здесь "назад" и "вперед" – одно и то же, если они делают это вместе. Этот ход на самом деле не имеет направления. Это танец. Здесь нет "борьбы" противоположностей, а есть только единство, "нераздельное и неслиянное". Партнеры, находящиеся в одном игровом поле, делают одну и ту же игру, но при этом каждый делает ее по-своему. Игровое поле создается взаимодействием. Все игроки действуют с учетом действий всех остальных. Этот "учет" достигается не соблюдением правил (их еще нет), а тем местом игроков по отношению к Создателю игры, которое они занимают. У самого Создателя данной игры нет определенного места. Его "место" – это все пространство игры, но формально это место может занимать главная фигура в игре, например король, т.е. тот, кто играет первым, первым вступил в игру, является первым номером, "первой скрипкой", лучше всех играет. 12 Расстановку участников игры по местам осуществляет Создатель игры, формируя тем самым пространство игрового поля. В дальнейшем им предоставляется свобода перемещения в границах поля, но их связь друг с другом остается заданной. Разрушение связи (т.е. попытка поменять онтологически занимаемое место) ведет либо к разрушению данного игрового пространства, либо к устранению нарушителя (проигравшего) с этого поля, либо к созданию нового пространства (новой игры). В последнем случае занявший "чужое место" формально может считаться Создателем новой игры, но только формально, т.к. новое пространство в этом случае не формируется, а возникает в результате деформации прежнего. Деформации подвергаются все связи и места первоначальной игры. Деформатор не создает свою игру, а искажает чужую. В данном случае от перемены мест не меняется "сумма", но искажается первоначальный смысл. В общем игровом поле происходит раскол. Теперь игра будет состоять в том, чтобы удержаться от окончательного распада. Однако те, кто прежде вступили в игру, не в эту игру хотели играть. Тогда, чтобы удержать их от дальнейшей перемены мест или от бегства в другое игровое поле, создаются правила, которые теперь они, вдруг оказавшись в новой игре, вынуждены соблюдать. Известный вопрос: "Может ли Ахиллес догнать черепаху?" для исследователя механизмов их передвижения покажется абсурдным, т.к. будет трансформирован в проблему "кто быстрее?". Но смысл этого вопроса не "кто быстрее", а "кто с кем играет". Ахиллес не может догнать черепаху, потому что они находятся в разных игровых пространствах, т.е. ведут каждый свою игру. Для того, чтобы играть с черепахой, т.е. догнать именно ее, Ахиллесу нужно вступить в игровое поле черепахи, начать играть Создателя ее игры, стать этой черепахой. В своем игровом поле Ахиллес реализовал смысл игры создателя "бега". Он был богом бега. Черепахой в своем поле реализовался смысл игры Создателя "ползанья". В едином игровом поле Игры без правил эти поля сосуществуют: здесь каждый играет свою игру, и все эти игры – одна и та же игра. Но при переходе из одного игрового поля в другое изменяется смысл игры. Деформация этого поля приводит к тому, что начинается смещение игровых мест. Единое поле разрушается и становится дискретным, т.е. каждый продолжает свою игру вне всякой связи с остальными игроками. Появляется "чужая игра", вступить в которую означает выучить правила. Поэтому, чтобы догнать черепаху, Ахиллесу для начала нужно научиться ползать. Ползающий Ахиллес – это уже не Ахиллес, но и не черепаха, играющая свою игру. Это тот, кто играет в игру черепахи, а не Создателя этой игры. Если Ахиллес хочет играть с черепахой, он может вступить в ее поле, находясь одномоментно и в своем собственном, т.е. он может быть Ахиллесом и черепахой одновременно. Таким образом, его собственное игровое поле расширяется – он восстанавливает единое игровое пространство. Но если он не может удержаться в своем игровом поле, он забывает свою игру. Тогда начинается соревнование за приоритет в чужом игровом поле. Возможно, он обгонит черепаху, т.е. станет "лучшей" черепахой в игровом поле черепах, станет для них богом и, таким образом, сделает игру "своей", но в свою игру, в которой он был Ахиллесом, он уже не сможет вернуться, если он ее оставил с целью обогнать черепаху. Соблюдение законов и правил в искаженном игровом поле требует привлечения специально созданных новых фигур, для которых поддержание порядка – это уже не игра, а работа. Фиксированность на правилах делает невозможной свою игру. Основной заботой игроков становится оборона от посягательств на занимаемое место или мучительные попытки его поменять (в обход законов). Игроки забывают первоначальную Игру без правил и начинают играть по правилам в чужую игру, в которой нет места игре своей. Чужая игра в данном случае – это игра деформатора. И несмотря на все усилия охраняющих правила, захват чужих мест продолжается, что приводит к дальнейшей деформации игрового поля, к дальнейшему искажению первоначального смысла, ко все большему сужению пространства игры и распаду на мелочные игры каждого с самим собой, где каждый сам себе деформатор. 13 Дальнейшая деформация приводит к тому, что игровые пространства не просто пересекаются, порождая возможность прорыва за их пределы в результате "счастливого" или "несчастного" (что одно и то же) случая, – они накладываются друг на друга, смешиваются и в конечном итоге снова приводят к ситуации Игры без правил. Но в этом деформированном поле Игры без правил уже никто не знает (не имеет) своего собственного места, а значит, не может не только удержать в поле своего зрения чужое, но и увидеть. Неспособность к различению – безразличие – приводит к отсутствию какого-либо "поля" зрения и, соответственно, поля игры. Игрок без места попадает из одной игры в другую, не успевая понять правила, не пытаясь сообразить, кто, зачем и почему играет, становится механической игрушкой, не помнящей (не слышащей) собственного имени. Если смысл первоначальной Игры без правил можно выразить в словах: "Давай будем играть вместе", то отсутствие смысла в деформированной игре выражается следующей фразой: "Я не хочу ни с кем играть". Это отсутствие смысла, если оно обнаружено, заставляет игрока искать выход из деформированного пространства игры по чужим правилам, т.е. создавать свою игру. СВОЯ ИГРА Своя игра реализуется "внутри" своего поля, которое может расти до бесконечности, в зависимости от того, насколько осколки чужих игр включаются в единое игровое поле делающего свою игру. Эзотеризм игры увеличивается вместе с усилением деформации игрового пространства. Игра становится непроницаема для тех, кто не вступил в ее поле. Игроки, находящиеся в смежных игровых пространствах, могут видеть друг друга, слышать, но не понимать; они могут даже учить друг друга правилам своей игры, но это еще более усугубляет их взаимонепонимание. Они не играют друг с другом, а поэтому лишают друг друга реальности, реальности совместной игры. Их собственная игра для наблюдателей лишена смысла, т.е. не существует. Создание своей игры не предполагает создания новых правил. Все возможные правила уже есть, но не все известны всем. Тот, кто играет по правилам, известным только ему, будет удален из игры, по правилам которой играет большинство (он будет объявлен преступником, шизофреником или святым). Но остаться в игровом поле большинства необходимо, чтобы выйти из чужой игры и начать делать свою, т.к. быть удаленным за "нарушение правил" – это входит в игру большинства, т.е. это не выход. Выходом будет своя игра, по правилам которой начинает играть большинство. Тот, кто "правит бал", осуществляет насилие, заставляя играть в созданную им игру тех, кто играть в эту игру не хочет. Создание новой игры в деформированном пространстве происходит за счет нарушения правил старой. В этом случае игроки сопротивляются и говорят: "Так не играют" (что равносильно выражениям "так не бывает" или "так не принято"). Они не подозревают в этот момент, что уже вступили в игру, что их сопротивление входит в правила новой игры. Вопрос заключается в том, насколько тот, кто устанавливает новые правила, знает эти правила, т.е. насколько это "его игра". Может случиться, что он сам является фигурой в более крупной игре, которая ведется по правилам, о которых он и не догадывается. Новая игра может создаваться в результате объединения разных игровых полей. Создатель новой игры может быть участником разных игр, с точки зрения правил совершенно несовместимых. Чем в большее количество игр может одновременно играть человек, тем большим игровым пространством он владеет. Если вступление в деформированное пространство игры чаще всего непроизвольно, неосознанно, то выход из него возможен только через сознательный переход в большее игровое пространство, где разные игры составляют элементы новой игры. Впрочем, выход из данной игры возможен и через сужение игрового пространства, но это для тех, кто не справляется с правилами той игры, в которой они в какой-то момент себя обнаружили. Например, не 14 справившийся с правилами игры "Ты - начальник, я - дурак" пытается объявить себя начальником, становясь по сути "дураком". Далее он вынужден играть по правилам, созданным для обитателей сумасшедшего дома, хотя может считать, что делает свою игру. В перспективе – дальнейшее сужение игрового пространства, до бесконечности. Степень погружения в чужую игру зависит от фиксированности игрока в этой игре, от способности или не способности свободно перемещаться в пределах заданного игрового пространства. Крупье приглашает к игре восклицанием: "Делайте игру, господа!", тогда как игра уже "сделана" и барыши от азарта игроков уже подсчитаны. Чем более человек фиксирован на правилах чужой игры, тем более он в нее погружен, тонет в ней, тем в большей степени он является тем, кем играют (фигурой, пешкой), "игрушкой судьбы". Причем им играет не кто-то конкретно, не какое-то "лицо" (это было бы не так обидно – все-таки ясно, откуда все неприятности); им играет "судьба", "случай", "обстоятельства", т.е. нечто безличное, неопределимое с точки зрения этого игрушечного человека, непреодолимое. В конечном итоге – это Бог, который требует не понимания, а смирения. Понимание ситуации и покорное непонимающее следование ей – вот что отличает человека играющего и человека игрушечного. Бог, весело и легко играющий судьбами людей, "играющий в кости" – это Бог людей игрушечных. Определенная степень фиксированности в чужой игре и определенная степень свободы в игре своей есть у каждого. Каждый в той или иной степени и игрушка, и игрок. Различные игровые пространства сосуществуют, пересекаются, ежеминутно (даже ежесекундно) сменяют друг друга. Проблема в том, насколько человек знает (понимает), в какой игре (по каким правилам) он участвует или во скольких играх и в каком качестве (игрока или игрушки). Понимание своего участия (соучастия) в существовании данной игры ведет к выходу из игры через возможность ею управлять, т.е. ее делать. Степень фиксированности в чужой игре может быть следующей: – человек не играет, потому что не знает, что он в "игре". Он очень серьезно занимается "делом", даже когда едет в трамвае, ест клубнику или смотрит футбол. Это человек игрушечный; – человек играет, но не знает, во что (и с кем). Для него все это – "только игра", хотя он понятия не имеет о правилах, по которым она ведется; – человек не играет (опять не играет), но уже знает, во что он играть не хочет. Он говорит всем: "Я с вами не играю". Он хочет придумать свою игру, в которую он мог бы играть один. Но для этого нужны игрушки. Ими могут стать животные, люди, формулы, звуки, слова, краски, чужие страны и чужие судьбы. Возможно, такой человек придумает свою игру, и создаст свой собственный игрушечный мир, и даже станет богом для своих игрушек. Но играть он не сможет. Он все равно останется рабом своего собственного – созданного им для себя мира. Потому что он не играет со всеми; – человек играет и знает, во что он играет. Он знает все игры и может вступать в ту или иную игру, мгновенно постигая ее смысл. Он может создать свою игру, не для себя – для всех; тогда "своя игра" будет у всех участников игры. ПАРТНЕРСТВО Чтобы делать свою игру, нужен партнер. В чужую игру играют рядом (все подряд), свою игру делают вместе, совместно, находясь буквально в одном и том же пространстве творимой игры. В той степени, в какой человек осваивает это совместное пространство, игра становится "его" игрой. Проблема не в том, во что играть, а в том, с кем, где и когда. Ответ на вопрос "во что мы играем" будет зависеть от того, с кем мы играем. Если игрок пытается делать свою игру, то ему, в конечном итоге, все равно, что именно он пытается делать (это вопрос тех, кто будет потом играть в его игру), но ему далеко не все равно, с кем он эту 15 свою игру делает. Когда ребенок говорит: "Я с тобой не играю", он не пускает в свою игру тех, кто эту игру может испортить. Испорченная игра – это всегда чужая игра, в которой человек вдруг обнаруживает себя игрушкой, часто уже сломанной. Ломается механизм, прежняя схема перестает работать. "Это уже не игра", – говорит человек, чью игру испортили. Он отказывается играть, т.е. он отказывается быть игрушкой. У него есть выбор: починить механизм и с азартом включиться в другую чужую игру или в ситуации испорченной игры пытаться начинать делать свою. Когда все механизмы, обеспечивающие человеку благополучное функционирование в разных играх, испорчены, его разбирают на "запчасти" или он впервые понимает, что возможна своя игра. Вопрос, "кто чем играет": человек судьбой или судьба человеком, девочка куклой или кукла девочкой, кошка мышкой или мышка кошкой – это вопрос механизма тех игр, которые уже давно были кем-то, когда-то и где-то сыграны. Если понять "кем", то станет понятно "когда" и "где". Понять, кем была сыграна данная игра – это начать самому играть с этим "тем", т.е. начать свою игру. Поэтому единственный вопрос, от решения которого зависит своя игра, это – “кто с кем” играет. "Я с тобой играю не по правилам. Ты со мной играешь не по правилам. Мы делаем свою игру. Правила здесь ни при чем. Мы просто играем друг с другом". В ситуации жесткой фиксированности на правилах чужой игры уничтожается смысл первоначальной Игры без правил. Если игроки играют по правилам (в которые входит и нарушение правил), то они являются механизмами, игрушками в непонятно чьей и для чего творимой игре. По правилам кто-то играет кем-то (чем-то): кто-то устанавливает правила, кто-то их исполняет, а нарушение правил портит игру или ведет к удалению из игры. Механизмы функционируют в игре в соответствии с целями и задачами тех, кто эту игру сделал. Если в Игре без правил кто-то из партнеров играет не по правилам, а кто-то играет по правилам давно известной всем игры, то его механизм будет испорчен, его игра будет испорчена, потому что это не его игра, а чужая. СМЫСЛ ИГРЫ Для чего нужна игра? Игра делается ни "для чего", а "для кого". "Для чего играет музыка?" – это абсурдный вопрос. Она играет для того, кто ее слышит. Чтобы постичь смысл игры, надо в нее вступить. Можно исследовать работу механизма в чужой игре, но так и не понять "для чего". "Нельзя объять необъятное" – так может сказать человек, пытающийся исследовать механизм необъятности. Но смысл необъятности в объятии. Смысл чужой игры в том, что она становится "своей". Для вступления в игру надо попытаться понять не правила, а того, кто играет, стать им, принять его в себя (воспринять). Поэтому вопрос "с кем играть" – это вопрос выбора себя на пути движения к смыслу Игры без правил. Человек игрушечный в принципе не может задуматься о смысле игры, за него все решено: его ходы и выходы, жизнь и смерть. Единственно, что он твердо знает, – это незыблемость раз и навсегда установившегося порядка и то, что есть некто (нечто), кто за этот порядок отвечает, как и за его собственную судьбу. Человеком игрушечным движет что-то, чего он не понимает. Человек играющий стремится играть прежде всего с теми, кто делает свою игру, вместе с ними участвовать в "их" игре, Игре без правил, где ничто заранее не гарантировано и нет выигравших и проигравших. Вступлением в игру считается само желание играть в их игру. Но по мере погружения чужая Игра без правил становится своей для того, кто решился в нее играть. Более того, если она не станет своей, если игрок не начнет сам делать свою игру, то не сможет войти в это игровое пространство, где каждый играет в чужую игру, но при этом делает свою (в отличие от игры механизмов, где каждый стремится играть в свою игру, но при этом делает чужую). 16 Если кто-то приходит и спрашивает: "Во что вы тут играете?" – ему отвечают: "Давай будем играть, тогда узнаешь". Иначе не ответить: названия у игры нет, правил тоже. Многие думают, что они знают, в какую игру они играют. Некоторые пытаются строить гипотезы. Но ни те, ни другие еще не вступили в пространство Игры без названия и правил. Правила создаются в процессе игры, название дадут исследователи механизмов. По мере того, как чужая игра становится своей, появляется желание играть с теми, кто своей игры не имеет. Человек играющий играет со всем миром, он сделал свою игру, но смысл этой игры в том, что чужой игры нет. Санкт- Петербург, 1992 г.