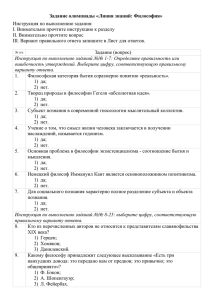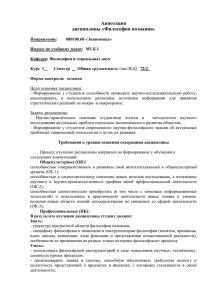Вестник МГУ. Серия 7. Философия. 2014.
advertisement
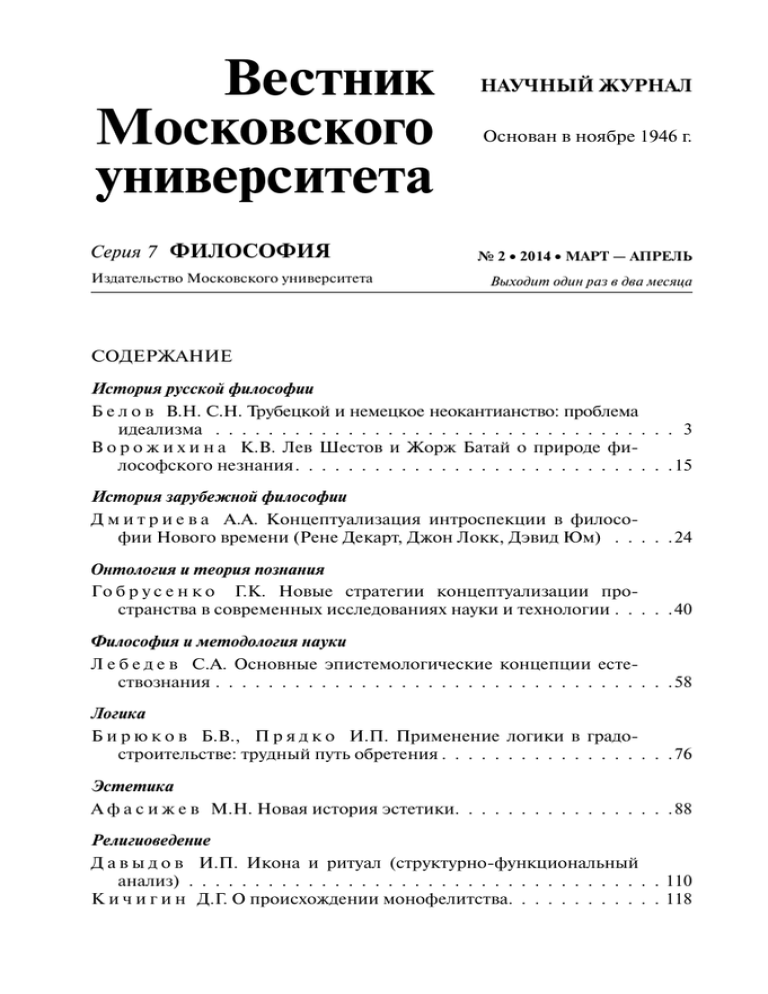
Вестник Московского университета Серия 7 ФИЛОСОФИЯ Издательство Московского университета НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ Основан в ноябре 1946 г. № 2 • 2014 • МАРТ — АПРЕЛЬ Выходит один раз в два месяца СОДЕРЖАНИЕ История русской философии Б е л о в В.Н. С.Н. Трубецкой и немецкое неокантианство: проблема идеализма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 В о р о ж и х и н а К.В. Лев Шестов и Жорж Батай о природе философского незнания. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 История зарубежной философии Д м и т р и е в а А.А. Концептуализация интроспекции в философии Нового времени (Рене Декарт, Джон Локк, Дэвид Юм) . . . . .24 Онтология и теория познания Го б р у с е н к о Г.К. Новые стратегии концептуализации пространства в современных исследованиях науки и технологии . . . . .40 Философия и методология науки Л е б е д е в С.А. Основные эпистемологические концепции естествознания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 Логика Б и р ю к о в Б.В., П р я д к о И.П. Применение логики в градостроительстве: трудный путь обретения . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 Эстетика А ф а с и ж е в М.Н. Новая история эстетики. . . . . . . . . . . . . . . . .88 Религиоведение Д а в ы д о в И.П. Икона и ритуал (структурно-функциональный анализ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 К и ч и г и н Д.Г. О происхождении монофелитства. . . . . . . . . . . . 118 ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 7. ФИЛОСОФИЯ. 2014. № 2 CONTENTS History of Russian Philosophy B e l o v V.N. S.N. Trubezkoj and the German Neo-Kantianism: problem of idealism. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vo r o z h i k h i n a K.V. Lev Shestov and Georges Bataille about nature of philosophical ignorance . . . . . . . . . . . . . . . . . . ИСТОРИЯ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ the . . . . . 3 the . . . . .15 History of Foreign Philosophy D m i t r i e v a A.A. Conceptualization of introspection within the framework of Early Modern Philosophy (René Descartes, John Locke, David Hume) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Ontology and Theory of Cognition G o b r u s e n k o G.K. New strategies of conceptualization of space in contemporary science and technology studies . . . . . . . . . . . . . . . .40 Philosophy and Methodology of Science L e b e d e v S.A. Main epistemological concepts of natural science . . . . . .58 Logic B i r y u k o v B.V., P r y a d k o I.P. The use of logic in town-planning: hard way of discovery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 Aesthetics A f a s i z h e v M.N. The new history of aesthetics. . . . . . . . . . . . . . . .88 Religious Studies D a v y d o v I.P. Icon and ritual (structural-functional analysis) . . . . . . . 110 K i c h i g i n D.G. About origin of monothelitism . . . . . . . . . . . . . . . 118 © Издательство Московского университета. «Вестник Московского университета», 2014 В.Н. Белов* С.Н. ТРУБЕЦКОЙ И НЕМЕЦКОЕ НЕОКАНТИАНСТВО: ПРОБЛЕМА ИДЕАЛИЗМА** Статья посвящена сравнительному анализу в понимании идеализма со стороны русского последователя Вл. Соловьева и Марбургской школы неокантианства. Автор отмечает как общие черты, так и различия в представлениях о характере идеалистической философии, которые обусловлены ориентацией философии на религию у С.Н. Трубецкого и на науку у марбургских неокантианцев. Ключевые слова: Вл. Соловьев, С.Н. Трубецкой, Г. Коген, неокантианство, русская религиозная философия, идеализм. V.N. B e l o v. S.N. Trubezkoj and the German Neo-Kantianism: the problem of idealism The article is devoted to the comparative analysis in understanding of idealism from the Russian follower of V. Solovjev and Marburg school of NeoKantianism. The author notes both generalities and differences in understanding of character of idealistic philosophy, which conditioned by orientation of philosophy to religion by S.N. Trubezkoj and to science by Marburg Neo-Kantianism followers. Key words: V. Solovjev, S.N. Trubezkoj, H. Cohen, Neo-Kantianism, Russian religion philosophy, idealism. Выбор данной темы может быть оправдан несколькими обстоятельствами. Прежде всего здесь через отдельных представителей мы будем иметь дело с двумя наиболее презентабельными идеалистическими системами конца XIX — начала XX в., а именно с русской философией всеединства и немецкой трансцендентальной философией в ее марбургском варианте. Следует, конечно, сразу отметить и то, что ни С.Н. Трубецкой, ни марбургские философы не были продолжателями, с одной стороны, традиции, родоначальником которой считается В.С. Соловьев, и традиции И. Канта — с другой, слепо копирующими идеи своих предшественников. Напротив, и С.Н. Трубецкой, и марбургские неокантианцы смело ∗Белов Владимир Николаевич — доктор философских наук, профессор Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, тел.: 8 (8452) 26-12-84; e-mail: belovvn@rambler.ru ∗∗Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (проект № 1303-00042а). 3 могут быть отнесены к тем мыслителям, которых причисляют к данным традициям в качестве самостоятельных и оригинальных, занимающих в них свое особое, только им присущее место. Однако анализ и выявление отличительных черт этих самостоятельных позиций в рамках обозначенных традиций — отдельная и достаточно объемная тема1, чтобы быть включенной в предлагаемую статью. Кроме того, кантовская философия (наряду с гегелевской) оказала самое серьезное влияние, особенно в этической ее составляющей, на становление взглядов В.С. Соловьева. Поэтому и сама эта философия, и попытки ее актуализации и развития в Германии — а марбургская школа на рубеже XIX–XX вв. занимала ведущие позиции в европейской философии — не могли не привлекать критического внимания со стороны последователей «школы Соловьева». Проблема философской позиции, которая определяет отношение ко всем составляющим их философских систем, несомненно, является центральной как для представителя философии всеединства С.Н. Трубецкого, так и для представителей трансцендентальной философии в ее марбургском варианте. Именно понимание идеализма в философии становится у рассматриваемых нами авторов моментом, предоставляющим возможность экспликации их позиции на основе компаративистского подхода, а сам идеализм становится тем стержнем, вокруг которого группируется разработка русским и немецкими философами-идеалистами онтологических, этических, эстетических и религиозных проблем. Но прежде чем перейти непосредственно к проблеме понимания идеализма нуказанными авторами, следует сказать несколько слов об оценке ими роли философии в жизни человека и общества. С.Н. Трубецкой в целом разделяет здесь позицию своего учителя и кумира В.С. Соловьева, который говорит о двух значениях понятия «философия»: согласно первому, философия есть «дело только школы», согласно второму — «преимущественно дело жизни». С.Н. Трубецкой отдает предпочтение последнему, согласно которому философия отвечает «и высшим стремлениям человеческой 1 Здесь я могу лишь отослать к некоторым обстоятельным исследованиям по данной тематике: Зеньковский В.В. История русской философии: В 2 т. Л., 1991. Т. 2. Ч. 2. С. 93–105; История русской философии / Под ред. М.А. Маслина. М., 2008. С. 348–360; Жучков В.А. Система кантовской философии и ее трансформация в неокантианстве // Кант и кантианцы: критические очерки одной философской традиции / Отв. ред. А.С. Богомолов. М., 1978. С. 10–96; Наторп П. Кант и Марбургская школа // Новые идеи в философии / Непериодическое издание под ред. Н.О. Лосского и Э.Л. Радлова. Сб. № 5. СПб., 1913. С. 93–132 (перепеч.: Наторп П. Избр. работы. М., 2006. С. 121–144); Ernst Cassirer, Hermann Cohen und die Erneuerung der Kantischen Philosophie // Kantstudien. B., 1912. Bd. 17. S. 252–273. 4 воли, и высшим идеалам человеческого чувства, имеет, таким образом, не только теоретическое, но также нравственное и эстетическое значение, находясь во внутреннем взаимодействии с сферами творчества и практической деятельности, хотя и различаясь от них» [В.С. Соловьев, 1990, т. 2, с. 179]. Конечно, чтобы соответствовать такой великой роли, и сама философия должна быть подвергнута преобразованию. На каких основаниях возможно преобразование философского знания? В.С. Соловьев предлагает для этих целей концепт цельного знания, полностью поддерживаемый и С.Н. Трубецким. Однако обращают на себя внимание абсолютный формализм и метафизически-отвлеченный интеллектуализм, господствующие в построениях концепта цельного знания великого русского философа. Критикуя отвлеченность априорных начал философского познания истины западной философии и предлагая преодолеть эту самую отвлеченность, В.С. Соловьев на самом деле не предлагает ничего кардинально нового и иного по отношению к логике западного философского мышления. Он не преодолевает сами основы этой логики, указывая лишь на ограниченность рационализма и эмпиризма, не охватывающих истину в полном ее объеме, как «сущее всеединое». Для полного, всеединого постижения истины, согласно мнению русского философа, опыт и теория должны быть дополнены верою, или мистическим знанием. Причем ссылка на то, что мистическое знание должно лежать в основе знания эмпирического и теоретического, по сути, ничего не меняет в той формальной логике мышления, которой всегда пользовался западный рационализм. Таким образом, религия, наука и философия как три уровня проникновения в истину, а именно мистический, эмпирический и теоретический, дают ее полноту, т.е. удостоверяют ее всеединый характер. Причем связь этих уровней знания с истиной такова, что «если разум и опыт без знания мистического лишены истины, то без разума и опыта сама истина лишена полноты и действительности» [В.С. Соловьев, 1990, т. 1, с. 741]. У С.Н. Трубецкого в оценке характера цельного знания, в отличие от В.С. Соловьева, преобладает более критическое отношение к мистическому знанию и более эпистемологическое, если так можно выразиться, — к вере. Поэтому он может внести следующее уточнение и в определение предмета философии, подчеркнув при этом его рациональность и идеальность: «Философия есть рациональная переработка данных сознания» [С.Н. Трубецкой, 1994а, с. 699]. Для основоположников марбургского неокантианства вести речь о философии без установления ее тесной связи с наукой и выявления философской специфики такого тесного взаимодействия бессодержательно и бесперспективно. Согласно П. Наторпу, нет ни5 каких сомнений в том, что философия является «основной наукой», устанавливающей общий для всех наук «последний фундамент» [П. Наторп, 2006а, с. 58]. Подобную роль способна исполнить только критическая философия, которая ищет единство познания «не на периферии научного знания, в предметах, подлежащих познанию, но в центре, в самом познании и в его собственной внутренней закономерности» [там же]. Поэтому истинно философское вопрошание, по убеждению Наторпа, должно исходить из вопроса о последнем единстве, которое и является «проблемой философии», потому что все другие — «ее проблемы в особенном» [P. Natorp, 1911, S. 24]. Для Г. Когена синонимичными понятиями оказываются понятия философии и критики. «Философия не является “доктриной”», — заявляет он, — но является критикой; она не сама порождает науку о предметах природы, но учит вскрывать заблуждения, и делает то, без чего была бы невозможна никакая наука: позитивно определять “горизонт” познания» [Г. Коген, 2012, с. 572]. Одним из самых важных моментов, определяющих общефилософскую позицию обоих авторов, является их отношение к метафизике. Для Трубецкого не вызывает сомнения необходимость метафизического элемента в познании, который и должен зафиксировать наличие Абсолютно Сущего, постижение которого объявляется им конечной целью процесса человеческого познания. Согласно русскому мыслителю, сам разум человека — «прирожденный метафизик» [С.Н. Трубецкой, 1994а, с. 636]. Если бы немецкие неокантианцы и согласились с утверждением Трубецкого, то только для того, чтобы указать на необходимость преодоления этой стадии в процессе познания трансцендентальной, ничего общего не имеющей ни с психологической, ни с догматической, т.е. метафизической. Таким образом, для философского идеализма С.Н. Трубецкого самыми общими понятиями, раскрывающими его существо, являются понятия сознания, мировоззрения и метафизики, для марбургских неокантианцев — понятия науки, критики и трансцендентального метода. Какова же в общих чертах схема обоснования идеализма у русского философа? Трубецкой называет свой вариант идеализма конкретным идеализмом, стремясь преодолеть основное противоречие любой философской системы: противоречие между объектом и субъектом, необходимостью и свободой, общим и частным, родовым и индивидуальным и т.д. Такое преодоление не может состояться ни в рамках эмпиризма, ни в рамках субъективизма; ни внешние вещи, ни внутренний мир человека, по мнению представителя философии всеединства, не могут выступить основой этого преодоления. 6 Но и мистическое единения субъекта со всем остальным миром грозит следствием растворения в «мистическом бульоне» как субъекта, так и окружающего его природного и человеческого мира. Поэтому, дистанцируясь от такого пантеистического мистицизма и в то же время оставаясь на рационалистических позициях, Трубецкой предлагает концепт соборного сознания, или коллективного разума. Однако понятие «соборное сознание», несмотря на его центральное положение, которое, согласно русскому мыслителю, позволяет индивидуальному, не теряя своего своеобразия, приобщаться к надсубъективно-общему, осталось у него совершенно не разработанным, за что автор справедливо получил изрядную долю критики2. Более убедительно и разработанно выглядит у русского философа критическая часть его системы конкретного идеализма. Главный свой критический пафос он направляет против других форм идеализма, потому что эмпиризм как противоположное идеализму философское направление не выдерживает критики со стороны обычного здравого смысла3. Согласно Трубецкому, все формы немецкого идеализма являются субъективистскими и поэтому, собственно, подменяют реально существующие вещи продуктами индивидуального человеческого сознания. И здесь «разоблачается» прежде всего всякий объективный и трансцендентальный идеализм. Первый, наиболее полное воплощение получивший у Гегеля, критикуется за то, что вводит метафизический абсолют в индивидуальное сознание, второй, разрабатываемый неокантианцами, — за то, что вообще не признает метафизики. Характерно в этом отношении и выделение в идеалистической традиции наиболее значимых фигур. И С.Н. Трубецкой, и немецкие неокантианцы едины в том мнении, что идеалистическая философия берет свое начало в Античности с Платона. Но если для русского мыслителя Аристотель — естественный и последовательный сторонник учения Платона, развивающий его идеалистические интенции в направлении метафизики, то для неокантианцев такая интерпретация платоновского идеализма означала, напротив, то, что Аристотель совершенно не понял своего учителя и друга, когда он сферу идей перемещает из мышления в бытие. 2 См. вступительную статью П.П. Гайденко «“Конкретный идеализм” С.Н. Трубецкого»: [С.Н. Трубецкой, 1994, с. 25–27]. 3 Хотя и здесь русский философ старается прозревать глубже обычного здравого смысла, указывая на религиозные корни ограничений как эмпиризма, так и идеализма: «Новая протестантская философия попыталась упразднить это противоречие, признав и общее и частное, и понятия и представления одинаково субъективными. Все индивидуальные вещи суть наши представления, все общие начала, идеи, принципы — суть наши понятия. В этом германский идеализм сошелся с английским эмпиризмом. В этом общем субъективизме, в этом отрицании вселенского бытия, объективного и универсального, они сходятся между собою и сводят все общее и частное к личному сознанию» [там же, с. 486–487]. 7 Признавая особую значимость платоновского учения для традиции трансцендентальной философии, марбургские неокантианцы посвятили ее анализу несколько отдельных исследований4, среди которых выделяется работа П. Наторпа «Учение Платона об идеях. Введение в идеализм». Прежде всего, Наторп предстает в этой работе как убежденный сторонник абсолютной необходимости идеализма. Его творцом он считает Платона, продолжателем которого уже был Кант: «Платоновское учение об идеях — это рождение идеализма в истории человечества» [P. Natorp, 1903, S. V]. Чрезвычайно рискованным представляется центральный тезис Наторпа: воспринять идею Платона как непосредственную предтечу закона природы Галилея и Ньютона [H.-G. Gadamer, 1958, S. XV]. Кроме того, чтобы увеличить заслуги учения об идеях Платона, Наторп находит там даже предпосылки кантовской «трансцендентальной дедукции» как особого вида доказательства из «метода логического» [ibid., S. 394]. Работа с учением Платона для Наторпа соединена с кантовскими исследованиями, так как только возрождение кантовского идеализма означает полное признание и идеализма Платона. Основная позиция Платона, которую позже извратил Аристотель, согласно Наторпу, заключена в убеждении, «что идеи означают законы, а не вещи» [P. Natorp, 1903, S. VI]. Слово «идея» как нельзя лучше подходит для того, «чтобы выразить открытие логического, что значит собственной закономерности… в своей полной первоначальности и движущей силе, чтобы крепко держаться сознания» [ibid., S. 1]. Так же как и Пауль Наторп, родоначальником критики познания, а потому и Канта, Герман Коген считает Платона, главной заслугой которого явилось решение вопроса о соотношении чувственности и мышления как двух способов познания. По мнению Когена, «если мы в Платоне усматриваем зачинателя критики познания, это следует понимать прежде всего в том смысле, что он направил вопрос о соотношении чувственности и мышления на верный путь. Отличие чувственности от мышления следует определять по различию вклада, который оба вносят в науку и истину, а не по их психологическому первоначалу в человеческой душе» [Г. Коген, 2012, с. 92]. Именно Платон, согласно марбургскому философу, через обозначение идеи как гипотезы, т.е. основополагание, открыл главное значение идеи, но как раз пропущенное другими исследователями учения об идеях античного философа. Аксиома4 В частности, Коген дважды обращается к философии Платона в своих работах «Учение об идеях Платона, психологически развитое» (Die platonische Ideenlehre, psychologisch entwickelt, 1866) и «Учение об идеях Платона и математика» (Platons Ideenlehre und die Mathematik, 1879). 8 тичность, самодостоверность мышления обеспечивается ориентацией философии на математику как на новый, отличный от чувственного род бытия. Сами реальные вещи как не истинные и не иллюзорные выступают здесь лишь в качестве импульса, толчка для мышления, единственно способного открыть истинное бытие. Вполне закономерно в свете их идеалистической позиции выглядит единогласное утверждение русским и немецкими мыслителями особой роли Канта в становлении современного облика идеалистической философии. И Трубецкой, и марбуржцы отмечают непреходящее значение кантовской философии, которая, по их единодушному мнению, стала краеугольным камнем в здании современной философии и оказала решающее влияние на формирование всего разнообразия философских направлений. Рассматриваемые нами авторы единодушны не только в подчеркивании заслуг кантовской философии, но и в критике ее недостатков. Однако уже в акцентах этой критики наблюдаются и принципиальные различия. Если С.Н. Трубецкой как истинный последователь учения В.С. Соловьева и один из представителей религиозной философии полагает противоречия кантовского критицизма закономерным итогом ограничения им сферы философского анализа разумом человека, марбургские неокантианцы вскрывают причины противоречий в системе кантовской философии в непоследовательной позиции трансцендентализма. Если Трубецкой известный дуализм Канта предлагает преодолевать более «высоким» монизмом, то марбуржцы считают его дуализм следствием не до конца выверенного трансцендентализма. Если русский мыслитель преодолевает дуализм чувственности и мышления, теоретического и практического разума своей концепцией соборного или вселенского сознания, в которой наряду с чувствами и разумом свое законное рационально-оправданное место должна занять вера, то марбургские неокантианцы стремятся с помощью строго трансцендентального метода преодолеть любые психологические и метафизические рецидивы, связанные с кантовским дуализмом. Поэтому неслучайна жесткая оценка немецкого неокантианства со стороны Трубецкого, согласно которому «неокантизм есть кантизм без Канта, выхолощенный критицизм, из которого удалены все живые, плодотворные побеги. Возвращение к Канту знаменует здесь отрицание всех учений, вытекающих из Канта, а следовательно, и всех плодотворных метафизических элементов, которыми была переполнена его философия» [С.Н. Трубецкой, 1994б, с. 524–525]. Оправдание своей интерпретации кантовского идеализма Трубецкой видит в априорных формах чувственности и рассудка. «И если теперь мы понимаем, — заключает он по этому поводу, — что все чувственное предполагает нечто чувствующее… ясно, что 9 чувственность, обуславливающая вещественный мир, не может быть субъективной: признавая объективную действительность вещественного мира, мы предполагаем всеобщую, антропоморфную чувственность до человека» [там же, с. 565]. Иную интерпретацию предлагают здесь марбургские неокантианцы. Следует подчеркнуть тот факт, что именно спор о характере пространства и времени у Канта между Куно Фишером и Адольфом Тренделенбургом послужил отправной точкой в формировании собственной оригинальной позиции Германа Когена в решении им проблем кантовской философии. И Тренделенбург, и Фишер критиковали Канта за недостаточную проясненность проблемы пространства и времени и обвиняли друг друга в непонимании аутентичного Канта. Тренделенбург в своем основном произведении «Логические исследования» указал на то, что из трех возможных характеристик пространства и времени, а именно объективной, т.е. присущей внешним вещам и явлениям, субъективной, т.е. относящейся к субъективным условиям внешнего мира, и, наконец, и объективной и субъективной одновременно, Кант через априоризм пространства и времени настаивает на их строгой субъективности, упуская, таким образом, третью, наиболее, по мнению Тренделенбурга, приемлемую возможность5. Фишер критикует Тренделенбурга за его попытку «дополнить» Канта через эту третью возможность интерпретации пространства и времени, полагая, что третья возможность, напротив, не дополняет, а исключает первые две — «как чистую субъективность, так и чистую объективность», ведь «если в огонь добавляют воду — он гаснет» [H. Cohen, 1928, S. 238]. Несмотря на верную интенцию — защитить априоризм пространства и времени у Канта от такой односторонности, которую ему приписал Тренделенбург, Фишер не смог сделать это в достаточной степени убедительно в результате того, что «сам не понял своего Канта» [H. Cohen, 1928, S. 242]. Коген соглашается здесь с выводом, который ранее в отношении Фишера сделал Тренделенбург. Анализируя аргументацию Фишера, он находит, что тот действительно не смог постичь всю глубину кантовских коперниканских идей: например, используя математический довод, он не видит различие чистой и прикладной математики, сравнивая габилитационную работу Канта с «Критикой чистого разума», он опирается совсем не на те положения, которые с очевидностью демонстрировали бы эволюцию взглядов Канта на проблему пространства 5 Более подробно о позиции Тренделенбурга в отношении кантовских пространства и времени см. также: Длугач Т.Б. А. Тренделенбург об эффективности кантовских принципов априоризма и дуализма // Длугач Т.Б. Проблема бытия в немецкой философии и современность. М., 2002. С. 140–145. 10 и времени, путает условия применения с принципом объяснения. В целом получается, что если Тренделенбург абсолютизирует особость двух «стволов» человеческого познания — чувственности и рассудка, то Фишер, впадая в другую крайность, делает акцент на их единстве, несправедливо отождествляя формы чувственности и формы рассудка. Именно проблема характера априорности пространства и времени послужила для Когена основанием для пересмотра всей кантовской идеалистической системы. Прежде всего, и Коген, и Наторп уверены в том, что классический идеализм представляет собой не систему открытых истин, т.е. доктрину, а всего лишь метод. Поэтому самым ценным в учении Канта, согласно марбуржцам, является трансцендентальный метод. С полным на то правом Наторп мог заявить, что «основной идеей, с которой все остальное в Канте находится в связи, с точки зрения которой все остальное следует понимать и оценивать, Коген считал идею трансцендентального метода» [П. Наторп, 2006б, с. 122]. На интерпретацию трансцендентального метода и направляют свои основные усилия основатели Марбургской школы неокантианства. Тенденцией этой интерпретации можно считать переход от трансцендентального идеализма Канта к критическому идеализму Когена. Как отмечает известный исследователь основоположника марбургского неокантианства А. Пома, «переход от трансцендентального идеализма к критическому представляет, с одной стороны, развитие, главным образом, кантианской философской позиции, а с другой — преодоление Канта, которое Коген рассматривает прежде всего как очищение своего идеализма» [А. Пома, 2012, с. 87]. Прежде всего, для критико-идеалистической позиции марбуржцев важна тесная и постоянно подвергаемая научной рефлексии связь философии и науки. Такой областью, где бы философия и наука могли объединиться, Коген называет область опыта. Именно на почве опыта происходит реальное объединение идеализма и реализма, но реализма опять же научно мыслимого и философски представленного. Коген открывает возможность единства идеализма и эмпирического реализма в математическом естествознании, т.е. в единстве математики и физики. Чтобы такое единство обосновать философски, Коген предпринимает ревизию кантовского понимания трансцендентального априори, которое вследствие этого должно быть дистанцировано не только от любой психологии, к чему стремился и сам Кант, но и от априори метафизического, чего Канту до конца сделать не удалось. В том, что в этом направлении необходимо предпринимать собственные усилия, Когена убедил опыт развития понимания кантовского априори в наукоучении Фихте. Последний попытался 11 найти априори в сознании человека, в процессе очищения собственного Я, в самопорождении самости, но такое направление поиска не отдаляло, а, напротив, приближало его метафизическое априори к эмпирии. Поэтому, по мнению Когена, истинные критические философы должны направлять свои усилия по определению трансцендентального априори не на самосознание как элемент априори, а на поиск фундамента познания, фундамента не личного Я, а научного сознания. А таковым выступают научные законы. Поэтому усилия философа должны быть направляемы, во-первых, на усмотрение научного факта и, во-вторых, на выявление закона, дающего возможность конституироваться этому факту. В свете вышесказанного Коген предлагает собственную оригинальную интерпретацию кантовских носителей априорного значения, а именно пространства, времени и категорий в качестве методов, а не в качестве неких субстанций. Именно в подобном решении марбургского неокантианца заключен тот методологизм, в котором чаще всего обвиняют представителей Марбургской школы. Априоризм, таким образом, приобретает у Когена значение той познавательной ценности, которая должна реализовываться в процессе научного производства. То есть пространство как априори, согласно Когену, не может означать ничего другого, кроме метода, с помощью которого геометрия конструирует свои предметы — прямые, треугольники, конусы и т.п.. Вместе со временем как методом арифметики пространство и время выступают методами чистого созерцания, которые, согласно Когену, отличаются от категорий как методов механики или методов чистого мышления. Таким образом, марбургский неокантианец разрешает спор об объективности или субъективности пространства и времени, преодолевает кантовский дуализм созерцания и мышления: пространство и время ни материальны, ни духовны, но представляют собой, так же как и категории, методы, пути и средства, с помощью которых раскрывается понятие научного предмета. Однако даже в качестве методов априорные мыслеформы, как их называет сам Коген, подчеркивая и единство и одновременно своеобразие пространства, времени и категорий, все же не обладают единым фундаментом своего производства. Поэтому по аналогии с размышлениями Канта в отношении единства своих априорных элементов Коген вопрошает о необходимости обоснования единства априорных мыслеформ. Но, в отличие от того же Канта, не достигшего в понятии апперцепции действительного трансцендентального единства, а, напротив, получившего здесь рецидив смешения с психологическим, Коген настаивает на необходимости той объективности, в которой пребывает единство как фундамент 12 научного познания. Такое единство, по его мнению, представляют научные законы, фундированные единством основоположений. «Научно зафиксированная объективность, — подчеркивает основоположник Марбургской школы, — требует единства сознания только в значении единства основоположений, таким образом, здесь не может больше скрываться ничего личностного, ничего психологического. Основоположения являются фундаментом естественных законов, “всеобщими естественными законами”. Естественные законы объективируются в силы, а в силах объективируются предметы природы. Таким образом, основоположения являются фундаментом вещей. Так как методы принадлежат законам, основоположения требуют в качестве своих методических условий методы созерцания и методы мышления; говоря конкретно, методы многообразного и синтетических единств. Осмысленные в качестве элементов основоположений, они не могут быть в дальнейшем представлены как субъективные факторы, напротив, в них обосновывается объективный характер основоположений, ценность всеобщих естественных законов для конституирования объектов» [Г. Коген, 2012, с. 583]. Следовательно, обвинение С.Н. Трубецкого в субъективизации неокантианцами Канта, в забвении ими метафизических моментов его учения может быть принято только с учетом той идеалистической позиции, которой придерживается сам русский философ. Альтернативой неокантианской интерпретации Канта, которая абсолютизирует субъективные моменты его философских построений, Трубецкой считает идеализм Гегеля, сделавшего акцент на объективно-метафизических моментах, но ошибочно приписав их возможностям человеческого разума, т.е. не покинув субъективистской позиции, характерной, по его мнению, для всех разновидностей немецкого идеализма. Подводя общий итог нашего анализа, следует отметить, что для идеалистической философии Трубецкого и марбуржцев характерны такие общие черты, как антипсихологизм, высокая оценка роли Платона и особенно Канта, что, однако, не нивелирует, но, напротив, только еще более остро подчеркивает принципиальные различия в позициях русского мыслителя и немецких неокантианцев. Так, если Трубецкой исправляет Канта через Гегеля, то неокантианцы стремятся остаться с духом и буквой кантовской философии, учитывая опыт Гегеля и Фихте, но не соглашаясь ни с объективными, ни с субъективными тенденциями этих исправлений. Для русского философа признание стороннего человеческому сознанию Сущего ведет к необходимости признания вселенского или соборного сознания, объемлющего, в свою очередь, и то, и другое, неокантианцы же отрицают что-либо вне человеческого 13 сознания, поэтому Абсолют для них — это бесконечный процесс научного познания, недостижимая задача в целостной научной формуле миропорядка. Поэтому если критическую позицию неокантианцев называть субъективным идеализмом, то позицию С.Н. Трубецкого более справедливо обозначить не как конкретный, а как теистический идеализм. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ Коген Г. Теория опыта Канта / Пер. с нем. В.Н. Белова. М., 2012. Наторп П. Философская пропедевтика: Общее введение в философию и основные начала логики, этики и психологии // Пауль Наторп. Избр. работы. М., 2006а. Наторп П. Кант и Марбургская школа // Пауль Наторп. Избр. работы. М., 2006б. Пома А. Критическая философия Германа Когена. М., 2012. Соловьев В.С. Критика отвлеченных начал // Соловьев В.С. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 1. Соловьев В.С. Философские начала цельного знания // Соловьев В.С. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. Трубецкой С.Н. О природе человеческого сознания // Трубецкой С.Н. Соч. М., 1994а. Трубецкой С.Н. Основания идеализма // Трубецкой С.Н. Соч. М., 1994б. Cohen H. Zur Kontroverse zwischen Trendelenburg und Kuno Fischer // Cohen H. Schriften zur Philosophie und Zeitgeschichte / Hrg. von A. Görland, E. Cassirer. B., 1928. Bd. I. Gadamer H.-G. Die philosophische Bedeutung Paul Natorps // Natorp P. Philosophische Systematik. Hamburg, 1958. Natorp P. Platos Ideenlehre: Einführung in den Idealismus. Leipzig, 1903. Natorp P. Philosophie. Ihr Problem und ihre Probleme: Einführung in den kritischen Idealismus. Göttingen, 1911. ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 7. ФИЛОСОФИЯ. 2014. № 2 ИСТОРИЯ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ К.В. Ворожихина* ЛЕВ ШЕСТОВ И ЖОРЖ БАТАЙ О ПРИРОДЕ ФИЛОСОФСКОГО НЕЗНАНИЯ На протяжении двух лет Лев Шестов был наставником Жоржа Батая в чтении философской литературы и тем самым оказал воздействие на него как на мыслителя. Цель статьи — показать влияние Шестова на идеи Батая, выявить те сходства, которые прослеживаются в творчестве русского мыслителя и Жоржа Батая, через сравнение их позиций по отношению к философии, Богу и к самим себе как философам. Ключевые слова: русская религиозная философия, внутренний опыт, беспочвенность, богоискательство, подполье, антифилософия. K.V. V o r o z h i k h i n a. Lev Shestov and Georges Bataille about the nature of philosophical ignorance For the period of two years Lev Shesov guided Georges Bataille in his philosophical reading, and therefore inspired Bataille to advance as a thinker. The objective of the article is to demonstrate the influence of Russian philosopher on Bataille`s ideas and to find similarities in Shestov`s and Bataille`s philosophy through the comparison of their attitude to philosophy, to God and to themselves as philosophers. Key words: Russian religious philosophy, inner experience, groundlessness, God-seeking, underground, antiphilosophy. Что объединяет философию русского мыслителя и творчество французского писателя, эссеиста, экономиста, философа и мистика? Понятие невозможного, чувство отчаяния, безумие, переживание смерти, представление о Боге. Идеи Льва Шестова повлияли на отношение Жоржа Батая к Богу, к философии и к самому себе. Жорж Батай не скрывал того, что у него не было философского образования, — его знания по философии были несистематичны, фрагментарны, чтению Батай предпочитал размышление. В течение двух лет (1923–1925) Лев Шестов, живший в Париже в эмиграции, был наставником Жоржа Батая в чтении философской литературы, тем самым русский мыслитель повлиял на становление Батая как философа. Шестов открывает для Батая мир «подполья» — он советует прочитать ему Достоевского, предлагает углубиться ∗ Ворожихина Ксения Владимировна — аспирант кафедры истории русской философии МГУ имени М.В. Ломоносова, тел. 8 (919) 723-72-49; e-mail: x.vorozhikhina@ gmail.com 14 15 в историю философии — в труды Паскаля, Ницше, Платона, Плотина. Батай задумывает написать книгу о Шестове, однако замысел так и не был воплощен. Тем не менее Батай совместно с дочерью Шестова Т. Ражо (Березовской-Шестовой) переводит книгу русского мыслителя «Добро в учении гр. Толстого и Ницше: философия и проповедь» (издательство Siècle, 1925). Со временем Батай отходит от Шестова: Батая отталкивает излишняя серьезность русского мыслителя («Он … озадачил меня отсутствием чувства юмора» [цит. по: С. Фокин, 2002, с. 16], а в смехе французский философ видел «основу основ») и его политический консерватизм. Впоследствии Батай подчеркивал отличия своей философии от философии Шестова, однако сходства при ближайшем рассмотрении оказываются значительными и заслуживают внимания. Философия как дело жизни и смерти Н.А. Бердяев, близкий друг Шестова, утверждал, что «Лев Шестов был философом, который философствовал всем своим существом, для которого философия была не академической специальностью, а делом жизни и смерти» [Н. Бердяев, 1989, т. 3, с. 407]. Это утверждение справедливо и в отношении Жоржа Батая. Как считает Ж.-П. Сартр, цель Батая в том, чтобы «передать нам некоторый опыт, скорее, пережитой опыт... Тут дело жизни и смерти, страданий или восхищений, речь идет не о спокойном созерцании» [Ж.-П. Сартр, 1994, 22]. «Он был однодум» [Н. Бердяев, 1989, с.407], — говорит Бердяев о Шестове. Р. Барт считает, что «Батай всю жизнь писал тексты или, вернее, быть может, один и тот же текст» [Р. Барт, 1989, с. 415]. Действительно, все написанное Шестовым и Батаем отличается некоторым однообразием. И Батай, и Шестов постоянно возвращаются к одним и тем же вопросам — о жизни, смерти, Боге, обращаются к пограничным ситуациям — состоянию исключения, выпадения из общего порядка вещей, стоянию «на краю возможного». Их волнуют те вопросы, на которые разум бессилен ответить. Только бездна, разверзнувшаяся под ногами, интересует их. Фраза Батая звучит совсем по-шестовски: «Я отбрасываю добро и отбрасываю разум (смысл), под ногами я обнаруживаю бездну...» [Ж. Батай, 2010, с. 25] В основе философии, считает Шестов, должен лежать крайний, предельный опыт: «Философия должна жить сарказмами, насмешками, тревогой, борьбой, недоумениями, отчаянием, великими надеждами и разрешать себе созерцание и покой только время от времени, для передышки» [Л. Шестов, 2007а, с. 35]; в основании философии, утверждает Батай, должны лежать «состояния экстаза, восхищения, по меньшей мере, мысленного волнения» [Ж. Батай, 1997, с. 17]. По мысли французского мыслителя, чистая игра созна16 ния без тоски тщетна, тоска, таким образом, представляет собой средство познания наряду со стоянием на краю возможного («край возможного» для Батая открывается в смехе, экстазе, ощущении приближения смерти). Философия не есть нечто завершенное, оконченное: отличительной чертой философии, согласно Батаю, является «невозможность в принципе прийти к окончательному результату…» [Ж. Батай, 2000, с. 11]; любое мировоззрение, по мысли Шестова, ограничено, поэтому величайшей прерогативой философов является свобода от убеждений. Философские методы Л. Шестова и Ж. Батая Метод Шестова, как его назвал друг и переводчик работ философа Б.Ф. Шлёцер, — это метод «странствования по душам» мыслителей, близких Шестову по духу, прежде всего тех, которые пережили безнадежность, отчаяние, безумие, даже смерть, и этот опыт лег в основу их «переоценки ценностей», «перерождения убеждений». Шестов видел свою задачу в восстановлении траектории внутренней жизни исследуемого философа, в осознании того, как преломился пережитый им опыт в его произведениях. Тексты Шестова представляют собой выхватывание, игру цитат из произведений философов-двойников мыслителя — Толстого, Достоевского, Ницше, Кьеркегора, Лютера и др., причем эти цитаты вольно излагаются и передаются. Таким образом, работы Шестова слагаются из «осколков», «обрывков» других текстов — философских цитат, литературных отрывков, библейских изречений. Шестов неаккуратен при цитировании — он деформирует, искажает цитаты, передавая их смысл весьма приблизительно, часто воспроизводит по памяти, не вполне точно переводит. Такое цитирование оказывается неявным способом изложения мыслей самого Шестова; цитаты «вкладываются» в уста мыслителей, которым Шестов приписывает собственные идеи. Таким образом, прикрываясь масками своих философских двойников, Шестов выражает и исследует, главным образом, самого себя, тем самым его произведения представляют собой не что иное, как непрерывный самоанализ. Шестов «борется с очевидностями» восприятия и интерпретации идей мыслителей; по его мнению, в произведении можно выделить два голоса: рациональный, приводящий доводы и аргументы, этот голос говорит то, что хочет сказать автор, и эмоциональный, срывающийся на крик, который раскрывает истину пережитого, экзистенциальную истину, которую сам автор не знает о себе. Шестов указывает на внутреннюю борьбу личности, ее двойственность и расколотость, проявляющиеся в двухголосии текста и возникающие из-за несоответствия между человеком и его убеждениями, 17 между поступками и принципами. Уже современники Шестова называли его предтечей психоанализа, поскольку свою задачу он видит в расшифровке внутренней жизни Другого. Философ ищет глубинные мотивы творчества, обращает внимание на символы-знаки, которые могут раскрыть душевные тайны его героев. При анализе работ того или иного мыслителя Шестову интересны не идеи, а «книга жизни» — он ищет в произведениях своих «литературных пациентов» отражение опыта пережитого. С помощью своего метода Шестов пытается ухватить то «я», которое живет за словами. Наставником философа в области исследования души является не З. Фрейд, а Ф. Ницше, который, в свою очередь, постигает это искусство во многом благодаря Ф.М. Достоевскому. Шестову оказывается ближе ницшеанский акцент на чувстве вины, страдании и саморазрушении. Обостренное ощущение зла и чувство вины — основа его религиозной философии, основной источник его произведений. Причем связь между чувством вины, наказанием и совершенным действием может отсутствовать, т.е. чувство вины может не иметь под собой почвы, а за преступлением не следовать кары — это является источником «переоценки ценностей» Шестова, которая произошла в 1895 г. В это время философ переживает психологический и мировоззренческий кризис, ознаменовавший собой переход от идеализма к философии беспочвенности. В отличие от Шестова, Батай говорит о себе напрямую. Чувство тоски, страдание, безумие, стояние на «краю возможного» — это средства познания; без крайнего, предельного опыта невозможно приблизиться к наготе, откровенности. Что означает быть нагим, согласно Батаю? Дойти до предела, быть честным, мужественным в поиске истины, мужественным там, где даже разум отступает. Чтобы оказаться нагим, чтобы открыться новой истине, новым убеждениям, необходимо отказаться от устойчивого, определенного, привычного, т.е. приобщиться к беспочвенности. Таким образом, метод Батая — это драматизация, доведение до крайности, излишества, до предела. Сартр так выражает эту черту философии Батая: «Смотрите, говорит он, вот мои язвы, вот мои раны. И он распахивает свои одежды…» [Ж.-П. Сартр, 1994, c. 13]. Для Батая истина изрекаема и сообщаема, более того, без сообщения и передачи Другому нет истины, нет выхождения за пределы себя, нет экстаза, т.е. нет крайности: «Полностью она (крайность. — К.В.) достигается лишь в сообщении (человек сидит во многих людях, одиночество — это пустота, ничтожность, ложь)» [Ж. Батай, 1997, с. 99]. Батай говорит о необходимости чувства сообщничества, которое человек получает «в отчаянии, безумии, любви, казнении» [там же, с. 74]. Если человек доходит до крайности и не сохраняет связь с Другим, то этот опыт не имеет ценности, не является ис18 тинным — это «будет лишь причуда, а не край возможного» [там же, c. 78]. Задачей творчества Батая является передача и сообщение пережитого предельного опыта. Сообщенный опыт изменяет того, кто к нему приобщается. Согласно Шестову, истина, полученная в крайнем переживании, не может быть истиной для всех: «Последняя истина рождается в глубочайшей тайне и одиночестве. Она не только не требует, она не допускает присутствия посторонних» [Л. Шестов, 1966, с. 284]; истина, считает философ, индивидуальна, единична и «больше всего боится… признания человеческого и окончательной санкции» [там же, c. 284], она не может быть принудительной. Если к истине нельзя приобщиться, если она не может быть передана, а лишь выстрадана, то в чем Шестов видит задачу своей философии? Философское учение Шестова состоит из отрицания всего, что относится к разуму, морали, т.е. к греху. Только на критическом подготовительном этапе человек может быть нужен и полезен другому человеку: «Задача духовного руководителя состоит лишь в том, чтобы помочь ближнему освободиться от обычной, ставшей как бы второй человеческой природой, мудрости» [Л. Шестов, 1966, с. 285]. Внутренний (т.е. внеконфессиональный мистический) опыт является единственным авторитетом для Батая; Шестов признает авторитет библейского откровения. Воздержание, ограничение традиционно считается практикой, которая благоприятствует получению особого рода опыта, однако мыслители выступали против аскезы. Батай считал, что аскеза всегда связана с умыслом, с усилием, проектом, т.е. с расчетами человека, — все это обесценивает переживание. Методом получения предельного опыта является не умаление, а избыток, излишество. С точки зрения Шестова, аскетические практики основаны на убеждении в том, что спасение зависит от самого человека, от его дел и поступков, а не от воли Божией, аскеза заставляет верующего забыть о том, что спасение обретается только верою. Философов объединяет отказ от проективности, от ориентации на будущий результат: Шестов призывает бросить «всякие расчеты и обобщения» и идти «смело, без оглядки в неизвестность, куда Бог поведет, и что будет, то будет» [Л. Шестов, 2007б, с. 75]; Батай утверждает, что опыт должен вести «туда, куда он сам ведет» [Ж. Батай, 1997, с. 17]. То есть философские проекты Шестова и Батая заключаются в отказе от проекта, их цель — отказ от цели. Богоискательство Незнание, бессмыслие является целью предельного опыта; знание, язык и философия оказываются лишь средствами для его достижения. И Шестова, и Батая называли антифилософами: Ю. Мар19 голин написал о Шестове статью «Антифилософ» [Ю. Марголин, 1970], О. Тимофеева говорит то же о французском мыслителе [О. Тимофеева, 2009, с. 8]. Ж.-П. Сартр считал, что Батай не любит философии, если он «использует философскую технику, то только затем, чтобы удобнее было выразить авантюру, место которой — за пределами философии, на рубежах знания и незнания» [Ж.-П. Сартр, 1994, с. 22]. Г. Марсель указывает, что в работах Батая «мысль… восстает против самой себя» [Г. Марсель, 1994, с. 47]. На краю возможного, утверждает Батай, нас ожидает «сияние, даже “апофеоз” бессмыслия» [Ж. Батай, 1997, с. 84–85]. Бессмысленное, невозможное — это то, как воспринимается Бог, уклоняющийся от категорий рассудка. Как для Шестова Бог, так для Батая Бог есть средоточие суверенности и свободы. Шестов указывает на несовершенство Бога. Бог не всеблаг, Он не всемогущ, не всезнающ, не всесилен — Он «любит, и хочет, и волнуется, и раскаивается, и спорит с человеком, и даже иной раз уступает человеку в споре» [Л. Шестов, 2009, с. 18] (как это было в случае с Иовом). Бог нас обманывает, являясь источником человеческих заблуждений и скрывая от нас тайны мира, Он непостоянен («Бога нет постоянно. Он… является и исчезает. Нельзя даже про Бога сказать, что он часто бывает. Наоборот, обыкновенно, по большей части его не бывает» [Л. Шестов, 2007б, с. 9]), капризен и ревнив. Разум, приписывая Ему предикаты, подчиняя Его этическим принципам, пытается спасти человека от божественного произвола, т.е. руководствуется человеческими целями и интересами. Он создает образ такого Бога, которому было бы не страшно вверить свою судьбу, однако тем самым он убивает живого Бога, «ибо разум, если бы и хотел, никак бы не мог создать ничего живого — это ведь не его дело» [там же, с. 13]. Представления Шестова о Боге оказываются близкими Батаю: «Бог ни в чем не находит ни отдохновения, ни пресыщения. Мало того что Ему неведомо умиротворение, Богу неведомо знание (знание — это покой). Он не знает — ровно как жаждет» [Ж. Батай, 1997, с. 192]. Как для Шестова, так и для Батая мораль и разум противоположны божественному. Для Батая сфера сакрального также связана с понятием каприза. Батай, подобно Шестову, указывает на неразрывную связь разума и морали; они принадлежат профанному порядку. Мораль содержит в себе нормы и правила, направленные на поддержание общественных отношений, т.е. миропорядка вещей. Мораль и добро служат долговременности, они полезны. Ценности морали, заставляющие нас задумываться о будущем, противоположны ценностям порядка интимного (для интимного порядка ценно то, что сиюминутно). Мораль, по мнению Батая, осуждает неоправданные траты (например, жертвоприношение, богатые убранством храмы), с которыми связан интимный порядок. 20 Как пишет Батай, разум и мораль низвергают божество, заставляя его действовать рационально и в рамках этических принципов; тем самым разум и мораль раскалывают мир интимного, сакрального, относя светлое к божественному, темное — к безбожному. Так возникает дуализм, который производит двойственного, дискретного человека рефлексии: с одной стороны, человек — вещь, индивид, обладающий общественно значимыми качествами, приносящий пользу обществу, поддерживающий порядок и исполняющий свои обязанности; с другой стороны, считает Батай, в каждом человеке есть изначально присущая самость, олицетворяющая интимное, которое связывает человека с сакральным. Таким образом, у человеческого рода две перспективы: жестокое наслаждение, ужас и смерть, т.е. крайние переживания, которые вырывают человека из мира целерациональной деятельности, или мира реальной пользы, где человек редуцируется к объекту, т.е. к тому, что является ничем для себя. Представление о наличии двух уровней в структуре личности можно найти в работах русского философа: разум раскалывает человеческое «я» на рациональное и иррациональное. Рациональное «я» представляет собой уровень обыденности, где преобладают всеобщность и необходимость. Это жизнь человека культуры согласно разуму, закону и морали. В этом случае «я» наполняется внешним: оно функционирует согласно социальным нормам, законам и приравнивается к социальной роли. Рациональное «я» представляет собой антитезу иррациональному, подпольному, подлинному «я» индивида, которое находится в постоянных сомнениях, колебаниях, но главное, «ищет невозможного, борется с непреодолимым, не верит самоочевидности, не покоряется даже разуму» [Л. Шестов, 1964, с. 45]. Именно подлинное «я» индивида обращено к Богу. С точки зрения Батая, сфера сакрального связана с непроизводительной тратой и насилием, воплощением которых является жертвоприношение; жертвой может быть тот объект, который служит, который полезен. Через жертвоприношение субъект, жертвоприносящий, воссоединяется с миром имманентности, тем самым он отделяется от мира вещей, перестает быть объектом, уходит от действительности. В жертвоприношении намеренно игнорируется реальное положение вещей. И чем больше отрицается действительный миропорядок, тем в большей степени происходит утверждение миропорядка мистического. Один из любимых библейских сюжетов Шестова — жертвоприношение Исаака Авраамом. С Исааком, долгожданным сыном, Авраам, как известно, связывал будущее своего народа, и в этом качестве Исаак для Авраама есть нечто полезное, имеющее смысл, привнесенный извне, а не просто самоценное существование. По21 чему Авраам приносит своего сына в жертву? Он следует Божественному наказу, тем самым он уходит из мира действительности, воссоединяясь с интимным. Действия Авраама противоречат принципу реальности, он действует, не думая о последствиях, его действия не идут на пользу, не служат длительности и будущему, а значит, принадлежат не миру объектов, а миру сакральному. Для Шестова сюжет о жертвоприношении Исаака служит иллюстрацией преодоления этического, противопоставления морали и веры, добра и живого Бога. С точки зрения разума и этики, Авраам — преступник, намерившийся убить собственного сына. С точки зрения этики, Авраам — один из многих, он должен следовать правилу, норме, даже веление Бога не делает его исключением из общего. Таким образом, этика становится выше воли Бога; по мнению Шестова, когда господствует разум, мораль заменяет собой Бога. С точки зрения веры, он совершает жертвоприношение. Авраам ищет покровительства не у разума с его вечными истинами и моральными нормами, его очевидностями, ограничениями и пределами; он верит против разума, его вера не ищет и не может найти у разума оправдания. Как для Шестова, так и для Батая выход к сакральному возможен лишь через принесение разума и морали (как «полезного» и «того, что служит») в жертву. Н.А. Бердяев считал, что Шестов искал, но не выразил веры, Бог для него так и остался гипотезой, Его бытие постулируется для спасения от власти разума и морали. С.Н. Булгаков отмечал, что у Шестова консервативный ум, которому свойственно повторение, «вечное возвращение» — он постоянно возвращается к одним и тем же вопросам, он остался богоискателем в буквальном смысле этого слова. Сартр выражает ту же мысль о философии Батая: «Мы думали, тут ищут человека в лоне нищеты его. Нет, опять Бог, опять тут ищут Бога» [Ж.-П. Сартр, 1994, с. 38]. Батая считают создателем новой мистической (а)теологии. (В одной из своих работ французский мыслитель так высказывается о своем отношении к бытию Бога: «Пусть говорят: пантеист, атеист, теист!.. Но я кричу в небо: “Я ничего не знаю!”» [Ж. Батай, 1997, с. 74].) Как ни пытаются мыслители осуществить восхождение горе, приблизиться к Богу, они непременно оказываются в подполье. Шестов пишет: «И, может быть, проникнуть в иной мир дано лишь тому, кто отказался от приманок и соблазнов существования, кто сроднился с вечной бессонницей, с бедностью, слабостью. Кто осмеял то, что люди в нем считают лучшим, и бережет в себе то, что считается худшим, никому не нужным…» [Л. Шестов, 2007а, с. 12] По мнению Батая, темное, пагубное, низкое является таким же проявлением сакрального, как светлое и возвышенное, поэтому он специализируется в высматривании в мире всего, что в нем есть гад22 кого, унылого, прогнившего, и он зовет человека «избегать быть полезным чему бы то ни было определенному» [А. Бретон, 1994, с. 6]. Батай и Шестов в подполье ищут Бога. *** Впоследствии Батай вспоминал о Шестове с чувством глубокой признательности и говорил, что главным усвоенным от него уроком было то, что неистовство человеческой мысли — ничто, если оно не становится свершением, не находит своего воплощения в жизни. Судя по всему, Батай услышал именно то, что Шестов хотел выразить в своей философии: философия должна соответствовать опыту пережитого, «книге жизни». Батай в своем опыте стремился пережить все то, о чем писал, — он «пытался жить с личиной “подпольного человека”, жить не просто сознавая мерзость человеческую, но и выставляя ее напоказ… жить человеком “невозможным”» [С. Фокин, 2002, с. 18], т.е. испытывающим тягу ко всему неприемлемому. Так, как отмечает близкий друг французского мыслителя М. Лейрис, в год их знакомства (1924) Батай жил, подражая героям Достоевского. «Познать человека, каков он есть и каким он может быть в самых предельных состояниях, познать его на себе, доводя себя до крайностей, до потери себя…» [там же, c. 20] — так может быть сформулировано «жизненно-творческое установление» [там же, c. 20] Жоржа Батая. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ Барт Р. От произведения к тексту // Барт Р. Избр. работы: Семиотика. Поэтика. М., 1989. Батай Ж. Внутренний опыт. СПб., 1997. Батай Ж. О Ницше. М., 2010. Батай Ж. Теория религии. Литература и зло. Минск, 2000. Бердяев Н. Основная идея философии Льва Шестова // Бердяев Н. Типы религиозной мысли в России // Бердяев Н. Собр. соч.: В 3 т. Париж, 1989. Т. 3. Бретон А. Еретик // Танатография Эроса: Жорж Батай и французская мысль середины ХХ века. СПб., 1994. Марголин Ю. Антифилософ // Новый журнал. Нью-Йорк, 1970. Кн. 99. Марсель Г. Против спасения // Танатография Эроса: Жорж Батай и французская мысль середины ХХ века. СПб., 1994. Сартр Ж.-П. Один новый мистик // Танатография Эроса: Жорж Батай и французская мысль середины ХХ века. СПб., 1994. Тимофеева О. Введение в эротическую философию Жоржа Батая. М., 2009. Фокин С. Философ-вне-себя: Жорж Батай. М., 2002. Шестов Л. Умозрение и откровение. Париж, 1964. Шестов Л. Sola fide — только верою. Париж, 1966. Шестов Л. Великие кануны. М., 2007а. Шестов Л. Potestas clavium (Власть ключей). М., 2007б. 23 ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 7. ФИЛОСОФИЯ. 2014. № 2 ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ФИЛОСОФИИ analysis herein is significant today primarily in the context of philosophy rather than psychology. Key worlds: introspection, obviousness, philosophy of the early modern period, self-knowledge, self-observation. А.А. Дмитриева* КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ИНТРОСПЕКЦИИ В ФИЛОСОФИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ (РЕНЕ ДЕКАРТ, ДЖОН ЛОКК, ДЭВИД ЮМ) Статья посвящена вопросу о месте интроспекции в гносеологических исследованиях Нового времени. Предпринята попытка описать как характерные, так и функциональные особенности этой способности, выделяемые репрезентативными философами этого времени, и дать общий образ ее понимания, сложившийся в их текстах. Автор обращается к философским концепциям Рене Декарта, Джона Локка и Дэвида Юма с целью продемонстрировать, что вопрос об интроспекции был поставлен в эпоху Нового времени задолго до работ Вильгельма Вундта и Эдварда Титченера, хотя последние и ввели этот термин в активный научный словарь. Именно такой подход позволяет обнаружить теоретические и общеметодологические, а не экспериментальные и частные проблемы интроспекции, которые коренятся еще в ранних работах по этой теме как раз потому, что интроспекция приобретает в них статус особого привилегированного метода познания. Представляется, что это делает настоящий анализ значимым преимущественно в философском, а не в психологическом контексте. Ключевые слова: интроспекция, очевидность, самонаблюдение, самопознание, философия Нового времени. A.A. D m i t r i e v a. Conceptualization of introspection within the framework of Early Modern Philosophy (René Descartes, John Locke, David Hume) This paper attempts to situate introspection in the epistemological investigations of early modern philosophy. It explores the characteristic and functional features that philosophers of this period ascribed to introspection and provides a general outline of the understanding of this ability laid out in their writings. Examining key philosophical concepts of Rene Descartes, John Locke, and David Hume, this article demonstrates that the question of introspection was posed in the early modern period, long before the investigations of Wilhelm Wundt and Edward Titchener, although they first introduced the term itself into scholarly discourse. The author’s approach allows us to uncover the theoretical and general methodological aspects of the problem of introspection rather than its experimental and private aspects. This is because in the works in question the introspection assumes a privileged status as a method of knowledge. Thus the ∗ Дмитриева Ангелина Арсеновна — аспирант кафедры онтологии и теории познания философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, тел.: (8) 910-420-28-34; e-mail: angelina.dmitrieva@gmail.com 24 Кажется, что проблема самопознания волновала человека испокон веков. Что может быть насущнее и ближе, чем попытка заглянуть в область, которую принято называть «внутренним миром» с целью осознать, например, собственные наклонности, стремления, особенности? Философы разных эпох и направлений по-разному и в различных аспектах формулировали проблему и цели самопознания, а также противоположно оценивали значимость самой постановки этого вопроса — от представления, что это единственный способ начать философствовать, до полного отрицания философской и практической значимости этой процедуры. Современный общественный интерес к этой теме подтверждается наличием огромного количества популярных нью-эйдж практик, целью которых является самопознание. Интерес поддерживается и на уровне академических исследований. Хотя еще с начала XX в. обсуждаются затруднения, связанные с эпистемологическими возможностями интроспекции (бихевиоризм, философия Л. Витгенштейна и др.), тем не менее окончательно тема «не снимается», о чем в несколько парадоксальном ключе свидетельствует, например, выход книг, в которых выражается скептическое отношение к гносеологическим возможностям интроспекции [W. Lyons, 1988; Е. Schwitzgebel, 2011.]. Кроме того, в настоящее время выходят работы как защищающие от скептицизма наиболее сильную (перцептивную) модель интроспекции [G. Elshof, 2005], так и предлагающие альтернативные модели интроспекции, новые стратегии ее переосмысления [см. напр.: Introspection and consciousness, 2012; J. Butler, 2013]. В настоящей статье предпринята попытка найти истоки философского понимания интроспекции в работах таких влиятельных философов Нового времени, как Рене Декарт, Джон Локк и Дэвид Юм. Мы уделим внимание именно этим авторам, потому что, вопервых, это фигуры, как нам представляется, репрезентативные, симптоматические в специфическо-философском исследовании интроспекции, во-вторых, они реципированы современным философским сообществом именно как мыслители, занятые гносеологическими вопросами, а в-третьих, потому что каждый из них привнес что-то новаторское в понимание интроспекции. Продемонстрировать последнее — наша основная задача. В научной среде термин «интроспекция» получил распространение в связи с экспериментальной и структуралистской психоло25 гией Вильгельма Вундта и Эдварда Титченера, но идея обращения к внутренним ментальным состояниям с целью получения философски значимого результата появилась гораздо раньше, в Новое время. В горизонте западного (античного, а затем европейского) философского мышления вопрос об интроспективной способности и ее возможностях возник никак не раньше, но и не позже XVII в. Осмысление интроспекции как ключевого психологического метода исторически было тесно увязано со становлением философской психологии как самодостаточной дисциплины о ментальной жизни человека. Как показывал В.В. Васильев [В.В. Васильев, 2010], о психологии в этом смысле слова можно говорить только с эпохи Нового времени. Хотя еще античные философы исследовали различные вопросы «о душе», предлагали структурные описания ее «частей», В.В. Васильев отмечает, что «в том же аристотелевском “О душе” гораздо больше биологии и физики, чем психологии» [там же, с. 7], т.е. интереса к исследованию сущности и способностей души. Новая постановка вопроса, появившаяся в Новое время, заключается в том, что душа и тело стали противопоставляться в определенном смысле друг другу — так, как они не противопоставлялись ни греками, ни средневековыми философами. Как пишет Р. Рорти, ментальное начинает пониматься в своем отличии от физического, и его отличие состоит в том, что оно обладает несомненностью: «…факт, что боль, как и мысли и большинство вер, таковы, что субъект не может сомневаться в обладании ими, в то время как возможны сомнения обо всем физическом» [Р. Рорти, 1997, c. 41]. До XVII в. душа рассматривалась как энтелехия, форма тела, а также в ее связи с религиозными вопросами — здесь важно то, что во всем докартезианском мышлении нет нерва бесконечного сомнения в том, насколько внешний, протяженный порядок соответствует внутреннему, ментальному порядку. Мы полагаем, что в Новое время произошло рождение интереса к психологическим аспектам души именно потому, что в исследованиях нашей души, вероятно, нас могла бы ожидать некоторая надежность. Если так, то первейшая задача философа — выявить инструменты познания души и показать, какие результаты может дать такое гносеологическое исследование. Таким образом, Рене Декарт был первым, кто принципиально по-новому осмыслил природу души, сконструировав идею субъекта, способного мыслить себя независимо от тела. Многие исследователи указывают, что взгляды Декарта формировались под значительным воздействием средневековой схоластической традиции. Известно, что стилистка и содержание «Духовных упражнений» Игнатия де Лойолы, теолога, католического святого, создателя Ордена иезуитов, оказали влияние на Рене Декарта. З.А. Сокулер указывает на теологические предпосылки кон26 цепции познающего субъекта и отмечает, что картезианское сogito основывается на идее «непосредственного присутствия Бога в мышлении» [З.А. Сокулер, 2003, с. 104]. Не отрицая этого влияния, нам хотелось бы подчеркнуть, что он, безусловно, является «зачинателем» новой философской эпохи, философии Нового времени. Его подход был новым в различных аспектах, для нас принципиально то, что Декарт открыл дорогу совершенно новому пониманию души как субстанции, независимой от тела, а также то, что методом этого открытия стала интроспекция. Таким образом, мы считаем, что хотя термин «интроспекция» никогда не употреблялся философами Нового времени, в этот период они уже осознавали эту мысленную операцию как особый метод исследования сознания, отличный от других мысленных операций, например, памяти или воображения. Этот метод обладал конституирующем значением для их гносеологических концепций, так как описывался ими как самый достоверный и единственно возможный метод исследования подлинных способностей души. Но не будем сильно забегать вперед. Дадим определение интроспекции, которое, как нам представляется, релевантно и для современных ее моделей, и для эпохи формирования этого метода в работах философов Нового времени. Интроспекция, или интроспективная способность, — способность к осознанному наблюдению за данностями, находящимися в сознании в текущий или непосредственно предшествующий момент. Мы не стали нагружать это определение перечнем более конкретных признаков, так как они сильно разнятся в зависимости от того, какая перед нами модель интроспекции. Тем не менее будет продуктивным для демонстрации наличия этого метода в философских концепциях философов Нового времени зафиксировать некоторые ее признаки, общие для большинства современных авторов. Э. Швицгебель, автор статьи в Стэндфордской философской энциклопедии [E. Schwitzgebel, http://plato.stanford.edu/entries/ introspection/], считает, что исследователи сегодня в целом согласны в следующих принципиальных пунктах. 1. Интроспекция — это ментальная операция. То есть происходящая в сознании и предоставляющая сведения о данностях, которые находятся именно в нем. 2. Интроспекция — это операция, осуществляемая «от первого лица». Интроспекция прежде всего самому человеку дает возможность исследовать свое сознание. Она не ставит своей целью исследовать чье-то чужое сознание. 3. Интроспекция предоставляет сведения о совсем недавно происходящих процессах в нашем сознании или даже о тех, которые происходят непосредственно в момент интроспективного наблюдения 27 (если признавать возможность одновременного протекания ментального процесса и интроспективного наблюдения). Этим интроспекция отличается от памяти, которая предполагает наблюдение за более отдаленными (в прошлое) ментальными состояниями. В настоящей статье мы, во-первых, покажем, что указанные философы Нового времени опирались в своих гносеологических исследованиях именно на интроспекцию, во-вторых, выясним, с какой целью они это делали и, в-третьих, отметим те результаты, которые они при этом получили. Философия Рене Декарта в своей сердцевине имеет идею cogito, очевидного, как пишет сам мыслитель, положения о том, что «Я мыслю, следовательно, существую». Чтобы понять, как можно соотнести интроспекцию с cogito, проследим за размышлениями Декарта. В «Рассуждении о методе» Декарт пишет, что с детства интересовался точными науками и искал в них «ясное и надежное познание всего полезного для жизни» [Р. Декарт, 1989, с. 252], но, когда закончил обучение, «совершенно переменил свое мнение, ибо так запутался в сомнениях и заблуждениях, что, казалось, своими стараниями в учении достиг лишь одного: все более и более убеждался в своем незнании» [там же, с. 252]. В своих сочинениях Декарт часто подчеркивал, что в науках он ищет прежде всего истины; «Правила для руководства ума» начинаются с утверждения: «Целью научных занятий должно быть направление ума таким образом, чтобы он мог выносить твердые истинные суждения обо всех тех вещах, которые ему встречаются» [там же, с. 78]. Движимый желанием найти положения, в которых невозможно усомниться, Декарт формулирует четыре пункта своего метода размышлений, первый из которых «никогда не принимать за истинное ничего, что я не признал бы таковым с очевидностью, т.е. тщательно избегать поспешности и предубеждения и включать в свои суждения только то, что представляется моему уму столь ясно и отчетливо, что никоим образом не сможет дать повод к сомнению» [там же]. Говоря об очевидности, Декарт не употребляет это слово в претенциозном смысле, как, например, в высказывании: «Очевидно, что Земля круглая». Строго говоря, это именно «не очевидно», так как непосредственно наблюдаться человеком не может (если только он не находится на космической станции). Декарт более скромен и имеет в виду очевидность для самого субъекта. Но что именно может быть очевидно для субъекта? Ощущения? Нет, говорит Декарт, они непостоянны и обманчивы. Декарт приводит различные (и хорошо известные) примеры с фантомными болями. В итоге ему приходится отбросить данные наших чувств, да и вообще любое представление, которое мы имеем в бодрствующем состоянии, так 28 как оно может явиться нам и во сне. Тем не менее он находит в самом своем разуме суждение, в котором усомниться никак нельзя: «…я тотчас обратил внимание на то, что в это самое время, когда я склонялся к мысли об иллюзорности всего на свете, было необходимо, чтобы я сам, таким образом рассуждающий, действительно существовал. И, заметив, что истина Я мыслю, следовательно, я существую столь тверда и верна, что самые сумасбродные предположения скептиков не могут ее поколебать, я заключил, что могу без опасений принять ее за первый принцип искомой мною философии» [там же, с. 269]. Точкой ясности, очевидности, несомненности Декарт считает рационалистический тезис о собственном существовании. Процедура поиска очевидности, производимая Декартом, отсылает к тому, что сегодня принято считать интроспекцией: это ментальная операция, производимая субъектом над своим же сознанием и предоставляющая сведения о данностях этого сознания. Особенность концептуализации этой операции Декартом заключается в том, что он использует этот метод как средство поиска рационалистической истины, в которой невозможно усомниться. Интроспекция, приведшая к cogito, здесь служит устранению, по крайней мере, трех скептических сомнений: сомнения в существовании мира, затруднения, связанного с обманчивой работой наших чувств, предположения о том, что все наши представления — лишь сон. Сogito дает Декарту возможность приступить к доказательству существования Бога и мира. С первого шага осуществления сомнения до момента обнаружения cogito Декарт пользуется интроспекцией, и ее единственной функцией является проверка представлений на очевидность, несомненность, т.е. истинность в понимании Декарта. Здесь же находится «граница» интроспективного усмотрения у Декарта. Обнаружив это положение, картезианский субъект дальше интроспекцией, «созерцанием», не пользуется, он, скорее, рассуждает — посредством рассуждения доказывается существование Бога и мира. Таким образом, возможности интроспекции у Декарта таковы: 1) нашей интроспективной способностью мы можем открыть рационалистические основания всего человеческого знания; 2) с помощью интроспективного усмотрения мы способны по поводу любого представления вынести окончательное решение о том, очевидно оно или нет; 3) cogito является основанным на внутреннем созерцании (интроспекции) представлением, независимым даже от идеи Бога (все остальные ментальные представления могут найти подтверждение своей истинности только после того, как доказано существование 29 Бога-не-обманщика). Единственным гарантом исходного положения Декарта выступает его очевидность, усматриваемая интроспективно. В философской литературе существует дискуссия о том, является ли операция рефлексии, описываемая Джоном Локком, аналогом современного понятия интроспекции. По крайней мере два великих философа XX в. — Г. Райл и Р. Рорти — придерживались мнения о том, что современное понятие интроспекции, основные черты которой мы отметили выше, и Локкова рефлексия являются понятиями сопоставимыми. Райл, например, пишет, что еще протестантская идея транспарентности сознания для самого себя, вероятно, повлияла на лЛоккову идею рефлексии [Г. Райл, 1999, с. 162]. Рорти также соотносит Локкову рефлексию с понятием самопрозрачности сознания [Р. Рорти, 1997, c. 38]. Подобная трактовка господствует и в новейшей литературе по теме интроспекции [J. Butler, 2013, p. 8]. Однако есть исследователи, придерживающиеся мнения, что Локкову рефлексию не имеет смысла соотносить с современным пониманием интроспекции, например, К. Шарп (K. Scharp). Нам представляется, что такая трактовка связана с тем, что Шарп особым образом понимает интроспекцию: он подчеркивает, что рефлексия у Локка не происходит постоянно, что якобы подразумевает под собой операцию интроспекции [K. Scharp, 2008, p. 27]. На наш взгляд, понимание интроспекции вовсе не обязательно включает в себя требование того, чтобы эта операция производилась постоянно. В представленный выше список черт интроспекции подобное требование не входит, а потому мы можем соотнести Локкову рефлексию и с понятием интроспекции. Ощущение и рефлексия — два исключительных источника простых идей у Локка. Их сопоставление друг с другом не просто сравнение, так как по своим функциям они буквально тождественны, разница лишь в том, что ощущение предоставляет нашему уму простые идеи о внешнем мире, а рефлексия — о внутреннем. Это предполагаемое Локком совпадение функциональности буквально выражается в том, что Локк называет рефлексию «внутренним чувством» [Дж. Локк, 1985, т. 1, с. 155]. В «Опыте о человеческом разумении» Локк дает такое определение рефлексии: «…под рефлексией в последующем изложении я подразумеваю то наблюдение, которому ум подвергает свою деятельность и способы ее проявления, вследствие чего в разуме возникают идеи этой деятельности» [там же, с. 155]. Получается, что рефлексия — это ум, обращенный в созерцании на самое себя; здесь инструмент и объект его приложения совпадают. Простыми идеями рефлексии являются «восприятие, или мышление, и желание, или хотение» [там же, с. 177]. Сила восприятия (мышления) — это разум, а сила желания (хотения) — это воля. И разум, и воля называются Локком способно30 стями. Модусами1 (т.е. уже сложными идеями) разума и воли являются воспоминание, различение, рассуждение, суждение, познавание, вера и др. Особенно важно для нас отметить то, что Локк, несмотря на свое стремление соотнести и «уравнять» ощущение и рефлексию (которое объясняется ставкой на эмпиризм), в завершающей, четвертой книге «Опыта…» приходит к противоречащему принципам эмпиризма тезису о том, что познание, опирающееся на способность ума наблюдать самое себя (интроспекцию), совершеннее познания, опирающегося на ощущения. Рассмотрим этот поворот подробнее. В четвертой, завершающей «Опыт…» книге Локк выделяет вначале две степени познания — интуитивное и демонстративное, объясняя, насколько достоверным является каждое из них. Локк говорит об интуитивном познании (т.е. о познании, в ходе которого мы соотносим две идеи без посредства какой-либо третьей [там же, т. 2, с. 8]) как о наиболее совершенном. Демонстративное познание оказывается менее совершенным: к нему прибегают тогда, когда соответствие (или несоответствие) двух идей нельзя понять из них самих; тогда их соотносят при помощи одной или нескольких «промежуточных» идей [там же]. Иными словами, демонстрация представляет собой логический вывод. И интуиция, и демонстрация — это в некотором смысле рационалистические операции, т.е. направленые на деятельность ума. Далее, Локк добавляет к этим двум степеням познания третью — чувственное познания существования отдельных вещей внешнего мира [там же, с. 14]. Какой же достоверностью обладает эта степень? От эмпирика можно было бы ожидать уверений в том, что, по крайней мере, какая-то достоверность у этого познания есть. И эти уверения мы находим: только упомянув о наличии еще и такой степени познания, Локк сразу же принимается ее защищать, приводя аргументы, способные убедить скептиков, не доверяющих чувственному познанию. Но по тому тону, с которым он говорит о третьей степени познания, потому, что он включает эту степень познания в «список степеней» в самую последнюю очередь2, а также по тому, что с самого начала он объявляет совершеннейшей степенью познания интуицию — по всему этому можно заключить, что Локк сам во многом входит 1 Определение модуса таково: «…модусами я называю такие сложные идеи, которые, как бы они ни были соединены, не имеют в себе предпосылки самостоятельности их существования, а считаются либо зависимыми от субстанций, либо свойствами последних. Таковы идеи, обозначаемые словами “треугольник”, “благодарность”, “убийство” и др.» [Дж. Локк, 1985, т. 1, с. 214]. 2 Локк пишет об этом так: «Есть, правда, и другое восприятие в уме, касающееся единичного существования конечных предметов вне нас; простираясь дальше простой вероятности, но не достигая вполне указанных степеней достоверности, оно слывет за “познание”» [там же, т. 2, с. 14]. 31 в противоречие с позицией эмпиризма, которая защищалась им в первой книге «Опыта…». Такого же мнения придерживается, например, А.О. Маковельский. Он пишет: «Чувственное познание оказывается обладающим наименьшей степенью достоверности, и, таким образом, в своих конечных выводах теория познания Локка впадает в противоречие со своим началом, поскольку ее исходным пунктом служило положение, что чувственное познание является первоисточником и фундаментом нашего знания» [А.О. Маковельский, 1967, с. 377]. Но, хотим спросить мы, не был ли такой поворот мысли предрешен в каком-то смысле изначально? Не была ли избранная стратегия поиска достоверности посредством исследования способностей души определяющей также и для заключений этих поисков? Ведь если надежность мы хотим найти в исследовании ума и в его способности наблюдать себя (т.е. в его способности к интроспекции), то можем ли мы всерьез говорить о том, что наша способность познавать объекты внешнего мира не менее достоверна? Иными словами, мы хотим сказать, что дело тут в том, что изначально выбранная стратегия — исследование способностей души, которая является общей и для Декарта, и для Локка, предопределяет ход мышления обоих, хотя Локк и хотел избежать затруднений, связанных с рационализмом, посвятив значительную часть первой книги своего сочинения критике представления о существовании врожденных идей [Дж. Локк, 1985, т. 1, с. 96–114]. Следовательно, имеет смысл обратить внимание на общие моменты в мышлении Декарта и Локка: 1) по Локку, в нашем уме есть особый инструмент, делающий его транспарентным по отношению к самому себе; 2) рефлексия Локка, как и самосозерцание cogito, направлена на действия нашей души, а не на познание внешнего мира; 3) при этом и у Декарта, и у Локка ум пассивен в процессе самосозерцания в том смысле, что его задачей является открыть, «высветить» идеи, уже содержащиеся в нем3. Добавим, что позднее Иммануил Кант радикально переосмыслил в том числе этот пункт в теории познания, создав концепцию, ключевым пунктом которой является постоянная активность (постоянное участие) субъекта в процессе познания [см. например: В.И. Метлов, 1979, с. 153], в том числе в процессе самопознания. Но есть и отличия: 1) Локк соотносит рефлексию с ощущением — внешним наблюдением, в то время как у Декарта нет никакого другого инструмента, 3 Локк пишет об этом так: «…ум, будучи совершенно пассивным при восприятии всех своих простых идей, производит некоторые собственные действия, при помощи которых из его простых идей как материала и основания для остального строятся другие» [Дж. Локк, 1985, т. 1, с. 212]. 32 сопоставимого с внутренним созерцанием. И ощущение, и рефлексия — два исключительных источника простых идей, благодаря которым ум, производя некоторые действия, создает сложные идеи. Важно подчеркнуть эту пассивность в восприятии простых идей как в случае ощущения, так и в случае рефлексии; 2) в отличие от Декарта, который в «Рассуждении о методе» склоняется к гносеологическому оптимизму («если воздерживаться от того, чтобы принимать за истинное что-либо, что таковым не является, и всегда соблюдать порядок, в каком следует выводить одно из другого, то не может существовать истин ни столь отдаленных, чтобы они были недостижимы, ни столь сокровенных, чтобы нельзя было их раскрыть» [Р. Декарт, 1989, с. 261]), Локк уже в первой главе первой книги «Опыта…» оговаривает, что у нашего познания есть границы, которые имеет смысл исследовать. Более того, исследование этих границ, выяснение того, что мы действительно способны знать достоверно, становится отправной точкой для всей исследовательской работы Локка. Вот как он об этом пишет: «На мой взгляд, до тех пор, пока этого не было сделано, мы начинали не с того конца и напрасно искали удовлетворения в спокойном и надежном обладании наиболее важными для нас истинами в то самое время, как пускали свои мысли в обширный океан бытия, как будто бы все это бесконечное пространство является естественным и несомненным владением нашего разума, в котором ничто не избегает его определений, ничто не ускользает от его понимания» [Дж. Локк, 1985, т. 1, с. 95]. Что же должно стать инструментом такого исследования? Для него избирается метод рефлексии, так как предполагается, что ум может сам определить собственные границы: «Исследованием природы разума мне удастся открыть его силы, как далеко они простираются, каким вещам они в некоторой степени соответствуют и где они изменяют нам» [там же, с. 92]. Исследовать свои собственные границы должен ум, направив внимание на самое себя. Таким образом, для Локка, так же как и для Декарта, рефлексия (интроспекция) связана с деятельностью ума и направлена на выяснение его способностей. Но в то же время для Локка не был ключевым момент поиска некоего единого рационалистического основания знания, в отличие от Декарта. Он, скорее, рассматривал интроспекцию как особый рабочий инструмент для нашего познания, который способен нам предоставить данные о простых идеях, поступающих в нашу душу, и в то же время определить границы нашего познания. Дэвид Юм также высоко ценил способность ума направлять внимание на самого себя. Он развивает тему, начатую Локком: наш ум посредством особого внимания к самому себе способен обнаружить 33 свои способности и в то же время собственные «лакуны», затруднения. Обнаруженные способности он должен по возможности совершенствовать. В «Исследованиях о человеческом познании» Юм пишет: «Замечательно, что операции нашего духа (mind), наиболее непосредственно сознаваемые нами, как бы окутываются мраком, едва лишь становятся объектами размышления, и глазу нелегко найти те линии и границы, которые разделяют и размежевывают их. Эти объекты слишком мимолетны, чтобы долго оставаться в одном и том же виде или положении; их надо схватывать мгновенно при помощи высшего дара проникновения, полученного от природы и усовершенствованного благодаря привычке и размышлению» [Д. Юм, 1996, т. 2, с. 11–12]. В фундаментальном «Трактате о человеческой природе» Юму с помощью интроспекции удается критически осмыслить многие философские предположения. Рассмотрим два случая — критику идеи неизменного, постоянного Я (души, cogito) и критику идеи причинности. Первый случай. С помощью интроспекции Юм критически относится к восходящей еще к Декарту идее о том, что мы способны найти в акте наблюдения за своим умом некое единое и неизменное составляющее — Я (душу, cogito). Юм полагает, что идея Я должна происходить — как и всякая идея происходит — от какого-нибудь впечатления. Но проблема концепции единого Я в том, что впечатления не бывают постоянными, а значит, и само Я постоянно меняется, т.е. не может быть неизменным, как предполагают сторонники единого Я. «Страдание и наслаждение, печаль и радость, страсти и ощущения сменяют друг друга и никогда не существуют все одновременно. Итак, идея нашего я не может происходить ни от этих, ни от каких-либо других впечатлений, а следовательно, такой идеи совсем нет» [там же, т. 1, с. 297], — заключает Юм. Максимум, что мы можем обнаружить, попытавшись отыскать собственное Я, — это очередное восприятие (тепла, или холода, или тесноты, или духоты, или какого-то объекта, в конце концов), но никакой особой субстанции4, которая бы служила точкой сведения всех этих восприятий, не существует. Во сне, когда мы не имеем никаких восприятий, никто не осознает своего Я, а потому может считаться и несуществующим. Проницательная критика Юма заходит очень далеко: так, он пишет, что после смерти, когда уже нет никаких восприятий, нет больше и самого Я: «Если бы все 4 Английский философ XX в., один из пионеров лингвистического направления в философии Гилберт Райл, критикуя психофизический дуализм в своей работе «Понятие сознания», именно такую «субстанцию», на которой якобы «проявляются» все ментальные представления, будет иронично называть «фосфоресцирующим сознанием» [Г. Райл, 1999, с. 163]. 34 мои восприятия совершенно прекратились с наступлением смерти и если бы после разложения своего тела я не мог ни думать, ни чувствовать, ни видеть, ни любить, ни испытывать ненависть, то это было бы полным уничтожением меня; да я и не представляю себе, что еще требуется для того, чтобы превратить меня в полное небытие» [там же, с. 298]. Это одно из самых ярких мест в сочинениях Юма, где мы можем столкнуться с прямым свидетельством секулярности его мышления. Получается, что человек — это «связка, или пучок (bundle or collection) различных восприятий» [там же], и нет какой-либо постоянной точки, в которой сходились бы все эти впечатления. Что же заставляет нас воображать, что у нас есть этот центр сведения наших впечатлений? Мы смешиваем в нашем внутреннем восприятии отчетливую идею тождества объектов с отчетливой идеей последовательности соотносительных объектов. Идея тождества — это идея действительной одинаковости объектов. Что касается последовательности соотносительных объектов, то, хотя между ними и существует отношение, при внимательном ее рассмотрении мы совершенно отчетливо можем заметить разницу между этими объектами. Но отношение, существующее между этими объектами, помогает соединять их очень быстро, в связи с чем мы путаем идею соотносимости объектов с идеей тождества. А для того, чтобы компенсировать разрыв между на самом деле различными восприятиями, мы создаем фикцию души, Я, духовной субстанции. Чтобы пояснить, как мы смешиваем идеи тождества и идеи соотносительных объектов, Юм приводит такой пример. Допустим, у нас есть масса, какой-то вязкий материал. Если по кусочку отнимать от него, то нам будет казаться, что это все та же масса, тот же объект, хотя, строго говоря, это уже другой объект. Такие же утверждения мы создаем насчет растений или животных: со временем каждое их них изменяется и, строго говоря, не является тем же растением или животным. Опасаясь подобных утверждений о самих себе, мы создаем идею души (Я, cogito). Второй случай. В «Исследовании о человеческом разумении» мы можем найти рассуждения, в которых интроспекция позволяет Юму критично относиться к идее причинности. В нашей душе, считает Юм, нет и не может быть идеи причинной связи объектов. Обратив свое внимание на то, как ум соединяет якобы причинной связью два явления, Юм обнаруживает, что у нас в действительности нет никакого логического основания считать, что между данными явлениями действительно есть причинная связь. Например, сколько бы мы мысленно не представляли себе следующую картину: шар, двигающийся к другому шару, толкает его, и этот второй отскакивает от первого, мы не можем обнаружить в нашем уме ни35 какого объяснения, почему должно было произойти именно это второе событие (второй шар отскакивает от первого), а не какоето другое (например, шар остается неподвижным). Иными словами, мысленно созерцая эти два события, мы никогда не сможем объяснить, что первое с необходимостью вызывает второе. А значит, именно с помощью интроспективного наблюдениями своего собственного ума мы можем осознать, что в нашем сознании нет идеи причинности. Что заставляет нас постоянно соединять в нашем сознании эти два события и думать, что если произошло первое, то с неизбежностью произойдет и второе? В этом случае, говорит Юм, мы находимся во власти привычки (custom). Интроспекция позволяет Юму обнаружить, что именно привычка заставляет нас мысленно соединять в причинной связи два явления: мы сотни раз наблюдали, что объект, который столкнулся с другим объектом, вызвал движение первого, и это заставляет наш ум считать, что такое событие произошло с необходимостью. Но мы решительно не можем утверждать такую необходимость, считает Юм, так как в действительности нет никакой логической гарантии, что в следующий раз произойдет то же развитие событий, что и обычно. «Обладающие сходством объекты всегда соединяются со сходными же — это мы знаем из опыта; сообразуясь с последним, мы можем поэтому определить причину как объект, за которым следует другой объект, причем все объекты, похожие на первый, сопровождаются объектами, похожими на второй» [там же, т. 2, с. 65], — здесь мы видим, что Юм, обнаружил в наблюдении за своим умом то, что мы, будучи не способны вывести рационально какой-либо идеи причинности, вынуждены уповать только на то определение причинности, которое мы можем вывести из повторяемости нашего опыта. Таким образом, на наш взгляд, Юм продолжает общую для философии Нового времени традицию представления нашей способности наблюдать свой ум как исключительной способности. Именно через интроспективную внимательность ума к собственным операциям Юму удается продемонстрировать конкретные затруднения, с которыми мы можем столкнуться, осуществляя, казалось бы, основные и «естественные» ментальные операции. Как мы показали, интроспекция позволяет Юму проблематизировать и критично отнестись к таким философским концепциям, как наличие некоей неизменной составляющей в нашем внутреннем опыте восприятия самих себя (Я, cogito) и даже к идее причинно-следственной связи. Подведем итог нашему исследованию. Во-первых, мы показали, что в Новое время философы использовали метод наблюдения за данностями своего сознания (интроспекцию). При этом основной целью, с которой они обращались 36 к интроспекции, было, например, не стремление к самопознанию, а гносеологические интересы: они пытались обнаружить в сфере исследований души основания нашего познания, достоверность, которая, как они считали, так необходима в качестве фундамента бурно развивающимся наукам. То есть, во-вторых, мы выяснили, что интроспекция прежде всего виделась в гносеологической перспективе: как инструмент познания, способный нам дать если не новое, то твердое знание, основание всего корпуса наук. Эта мысль является общей для Декарта, Локка и Юма, которые расположили возможности интроспекции в области рационалистически построенной гносеологии. В-третьих, мы показали, что у Локка, по сравнению с Декартом, можно обнаружить стремление к тому, чтобы представить рефлексию (интроспекцию) как одну из сторон определенной способности ума; при этом второй стороной этой же способности оказывается ощущение. Рефлексия поначалу не выделяется Локком в сравнении с ощущением, но сама рационалистическая стратегия мышления, свойственная всей философии Нового времени, — стратегия, которую Локк не мог не разделять, — выводит его в заключительной книге трактата к позициям, которые говорят о большем доверии к «внутреннему чувству», чем к ощущению. В-четвертых, мы обнаружили, что Юм, продолжая начатую Локком традицию поиска с помощью интроспекции границ нашего познания, использовал интроспекцию для обнаружения множества затруднений, связанных с нашим познанием. Так, он утверждал, что, наблюдая за своим умом, нельзя обнаружить в нем ясную и неизменную идею души, Я. Кроме того, критика предположения наличия идеи причинности в нашем уме также производится средствами интроспекции: наблюдая за своим умом, мы можем понять, что из-за постоянного столкновения в опыте с определенного рода связью событий у нас может возникнуть мысленная привычка связывать эти события связью, которая кажется нам необходимой, — причинной связью, в то время как в действительности мы не можем сказать, что есть какая-либо логическая гарантия, что события имеют причинную связь между собой. Описанная концепция интроспекции — естественное продолжение разделяемого всеми рассмотренными здесь представителями Нового времени предположения о том, что сознание — это особенный внутренний порядок, отличный от порядка физического. Казалось вполне естественным предположить, что так же, как существует внешнее наблюдение, существует наряду с ним и в то же самое время в соответствии с гораздо более совершенными принципами и внутреннее наблюдение — тот самый «метафизический глазок», с помощью которого мы наблюдаем за собой, как пишет 37 об этом пионер аналитической философии XX в. Г. Райл. И этот «метафизический глазок» позволил философам задуматься о многом: о том, есть ли в нашем уме нечто постоянное, кроме наших изменчивых впечатлений, есть ли границы у нашей способности познавать мир, наконец, он позволил исследовать затруднения нашего рационального познания. Лейтмотив всех этих философских усилий состоял в том, что философам казалось очевидным, что если быть внимательным и последовательным, мы сможем открыть какие-то верные положения о нашем уме и из них вывести другие философски значимые выводы — об окружающей реальности, о моральной природе человека, о наилучших методах воспитания, об оптимальном государственном устройстве наконец. Мы уже отмечали, что данный контекст понимания интроспекции не является единственно возможным. Представляется, что после последовательной критики гносеологической значимости интроспекции, произведенной в XX в. (бихевиоризм, Л. Витгенштейн, Г. Райл, Д. Деннет и многие другие), мы не можем рассматривать гносеологические возможности интроспекции без учета и реакции на эти критические замечания. Современный философский интерес к этой теме, о котором мы упоминали в начале статьи, с одной стороны, обусловлен стремлением не впадать в наивную веру в способность нашего ума беспристрастно рассматривать самого себя, а с другой стороны, основан на глубоком ощущении неполноты и недостаточности любого исследования проблем сознания без серьезного рассмотрения нашей способности наблюдать и давать самим себе отчет в операциях нашего сознания. Butler J. Rethinking introspection: A pluralist approach to the first-person perspective. N.Y., 2013. Elshof G.T. Introspection vindicated: An essay in defense of the perceptual model of self knowledge. Burlington, 2005. Introspection and consciousness / Ed. by D. Smithies, D. Stoljar. N.Y., 2012. Lyons W.E. The disappearance of introspection. A Bradford Book. 1988. Scharp K. Locke’s theory of reflection // British Journal for the History of Philosophy. 2008. N 16 (1). Schwitzgebel E. Introspection: Stanford Encyclopedia of Philosophy // http:// plato.stanford.edu/entries/introspection/ Schwitzgebel E. Perplexities of consciousness. A Bradford Book. 2011. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ Васильев В.В. Философская психология в эпоху Просвещения. М., 2010. Декарт Р. Соч.: В 2 т. / Сост., ред. и примеч. В.В. Соколова. М., 1989. Т. 1. Локк Д. Соч.: В 3 т. М., 1985. Т. 1, 2. Маковельский А.О. История логики. М., 1967. Метлов В.И. Ступени становления идеи диалектической противоречивости в философии и современной науке. Диалектическое противоречие. М., 1979. Райл Г. Понятие сознания / Пер. с англ. М., 1999. Рорти Р. Философия и зеркало природы / Пер. с англ. В.В. Целищев. Новосибирск, 1997. Сокулер З.А. Философия сознания: история и современность: Материалы научной конференции, посвященной памяти профессора МГУ А.Ф. Грязнова (1948–2001). М., 2003. Юм Д. Соч.: В 2 т. / Пер. с англ. С.И. Церетели и др.; Примеч. И.С. Нарского. М., 1996. Т. 1, 2. 38 39 ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 7. ФИЛОСОФИЯ. 2014. № 2 ОНТОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ Г.К. Гобрусенко* НОВЫЕ СТРАТЕГИИ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА В СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ В статье рассматриваются основные особенности концептуализации пространства, предложенной в рамках современных исследований науки и технологии. Особое внимание уделяется роли данной концептуализации в исследованиях неоднородных объектов (гибридов), представляющих собой сложные конфигурации органических и неорганических, социальных и природных компонентов. Ключевые слова: «исследования науки и технологии», Б. Латур, Э. Пикеринг, пространственные конфигурации, неоднородность, локальность, становление. G.K. G o b r u s e n k o. New strategies of conceptualization of space in contemporary science and technology studies The article deals with the main features of the conceptualization of space that was offered in contemporary science and technology studies. Special attention is paid to the role of this conceptualization in research of heterogeneous objects (hybrids), presenting the complex configurations of organic and non-organic, social and natural components. Key words: science and technology studies, B. Latour, A. Pickering, spatial configurations, heterogeneity, locality, becoming. «Великой навязчивой идеей, неотступно преследовавшей девятнадцатый век, была история: темы развития и остановки, темы кризиса и цикла… Сегодняшнюю же эпоху можно, скорее, назвать эпохой пространства». М. Фуко. Другие пространства1 К концу XX в. становится очевидным стремительное возрастание междисциплинарных стратегий и пограничных исследований в современном естествознании и социогуманитарных науках. На фоне многократного усложнения структуры взаимосвязей между различными дисциплинами и увеличения числа концептуальных * Гобрусенко Гелана Константиновна — аспирант кафедры онтологии и теории познания философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, тел.: 8 (495) 939-14-21; e-mail: gkgobrusenko@yandex.ru 1 См.: [М. Фуко, 2006, с. 191]. 40 заимствований набирают силу две противоположные тенденции: с одной стороны, к интеграции, с другой — к дифференциации и автономизации различных областей производства знания. Подвижность, а подчас и неопределенность границ между сферами специализации многих научных дисциплин, возникшая в результате парадигмальных сдвигов и трансформаций, не раз переопределявших интеллектуальную историю столетья, способствует более плотному взаимодействию исследовательских стратегий, кардинально отличающихся друг от друга по своим базовым предпосылкам и категориально-понятийным ресурсам. Появление своеобразных «пограничных» зон коммуникации приводит не только к росту частоты и интенсивности междисциплинарных обменов, но и к аккумуляции концептуальных ресурсов как для постановки и решения новых задач, так и для реактуализации классической проблематики. Новые комплексные проблемы, имеющие фундаментальное значение для поля современных междисциплинарных отношений, связаны прежде всего с изучением так называемых объектов «смешанного типа» — экологических и информационных систем, биотехнических и социотехнических комплексов, в которых особую значимость приобретает взаимодействие неоднородных, органических и неорганических, социальных и природных компонентов. Свойства и параметры таких объектов могут быть изучены только в рамках междисциплинарных взаимообменов с точки зрения структурного единства гетерогенных компонентов, поэтому их появление требует пересмотра и переопределения как методологических установок конкретных наук, так и фундаментальных категориальных оппозиций, связанных в том числе с нашим собственным самопониманием2. Возникновение «смешанных» концепций, направленных на пересмотр соотношения материальных и социальных, природных и культурных порядков, характерно не только для сферы естественно-научных дисциплин, где в качестве ключевых инициатив можно выделить синергетику, биополитику, социобиологию3, но и для различных областей социогуманитарного знания. В рамках философии, социологии и истории науки активно развиваются собственные программы исследования «смешанной» реальности, в которых разрабатываются различные способы концептуализации взаимного определения общества и природы. Это многообразие междисциплинарных социогуманитарных подходов к науке получило название science studies (SS), или исследований науки. 2 Как замечает Д. Харавэй, человек больше не может считать себя не зависящим от мира, самодостаточным индивидом [D. Haraway, 1991, p. 149–152]. 3 Подробнее см.: [Р.С. Карпинская., И.К. Лисеев., А.П.Огурцов, 1995, с. 94–95]. 41 «Исследования науки» как сфера междисциплинарных отношений, возникшая во многом под влиянием постпозитивистской философии, представлена такими направлениями, как «Социальная конструкция технологии» (SCOT), «Культурологические исследования науки» (CSS), «История и философия науки» (HPS), «История философии науки» (HOPOS), «Социология научного знания» (SSK), «Исследования науки и технологии» (STS)4. Во многих университетах мира эти исследовательские программы потеснили такие традиционные учебные курсы, как «Философия науки» и «Философия техники»5. Именно в рамках SS, в частности в STS, были разработаны наиболее яркие и продуктивные решения проблемы концептуализации взаимодействий между элементами природного и социального порядков. В качестве теоретических истоков современных исследований науки и технологии (STS) можно выделить различные версии позитивизма, прагматизм, феноменологию, герменевтику, структурализм, постструктурализм. Также следует отметить особое влияние работ К. Мангейма, Р. Мертона, Г. Башляра, К. Поппера, М. Полани, А.Н. Уайтхеда, Т. Куна, П. Фейерабенда, И. Лакатоса, С. Тулмина, А. Койре, М. Фуко, П. Бурдье, Ж. Делёза и Ж. Деррида. Приоритетными темами исследований в рамках данного направления являются историческая изменчивость и социокультурная обусловленность научного познания, соотношение научного реализма и конструктивизма и др. Современное состояние исследований науки и технологии характеризуется стремлением преодолеть ограничения и недостатки, присущие социальному конструктивизму, который в свое время стал (и до сих пор остается) одним из самых значительных направлений в STS. В последнее десятилетье XX в. одним из наиболее значимых событий в философии науки стали так называемые «научные войны». Именно такое название получила серия дебатов между «реалистами» и «конструктивистами» (последних также именуют и «релятивистами», и «постмодернистами»)6, развернувшаяся в англоязычной академической литературе. «Реалисты» выступали за существование 4 Существует две различных расшифровки аббревиатуры STS: «Science, Technology, Society» и «Science and Technology Studies». Первоначально это были разные направления, которые в силу динамики своего развития на определенном этапе слились друг с другом, поэтому считается корректным употребление обоих терминов, но в данном изложении мы будем пользоваться вторым вариантом. 5 Например, на сегодняшний день исследовательская программа STS представлена в университетах Оксфорда, Кембриджа, Гарварда, Стэнфорда, Массачусетском технологическом университете и др. 6 Сложно сказать, кто в итоге вышел победителем из этой полемики, но, тем не менее, последствия этой дискуссии до сих пор оказывают влияние на развитие направлений science studies. Обзор противоборствующих точек зрения можно найти в следующих работах: [Ж. Брикмон, А. Сокал, 2002] и [J.R. Brown, 2001]. 42 объективного научного знания, в то время как «конструктивисты» пытались проблематизировать научную объективность за счет совмещения философских, социологических и культурологических исследовательских стратегий. Именно к лагерю «конструктивистов» в свое время присоединилось большинство представителей STS7, пытавшихся разработать различные варианты социокультурной интерпретации познавательной деятельности ученых. Выступив с критикой классической философии науки, социальные конструктивисты рассматривали научную деятельность и ее результаты как зависящие от подверженных историческому изменению социальных условий и практик и потому не имеющие права претендовать на самостоятельную значимость и объективность вне этих условий и взаимодействий. Научные факты трактовались как обусловленные социально-культурным контекстом конструкты, результаты конвенций, принятых учеными. Таким образом, не только не получало своего разрешения, но скорее усиливалось доминировавшее в классической философии науки противопоставление субъекта и объекта. Выбирая в качестве источника объяснения «смешанных» объектов социальные структуры, социальный конструктивизм, по сути, исключал сами объекты из рассмотрения, оставляя за субъектом или коллективом субъектов привилегированную позицию в любых взаимодействиях между элементами социального и природного порядков. Французский исследователь науки и технологии Б. Латур выразил сущность данной стратегии следующим образом: «…социальная интерпретация, в конечном счете, подразумевает способность заместить некоторый объект, относящийся к природе, другим, принадлежащим обществу, и показать, что именно он является истинной сущностью первого» [Б. Латур, 2003, № 3, с. 22]. Преувеличение активности познающего субъекта, под которым подразумевался прежде всего человеческий коллектив, и, как следствие, констатация пассивности объектов8 стали причиной как внешней, так и внутренней критики социального конструктивизма и пересмотра его программных установок. Поиск выхода из противоречий, разделивших «реалистов» и «конструктивистов», привели представителей STS не только к новой интерпретации ряда 7 В качестве примеров наиболее продуктивных социал-конструктивистских исследований в рамках STS можно выделить работы: [B. Latour, S. Woolgar, 1979] (во второй редакции термин «социальное» был удален из названия после пересмотра авторами ряда положений социального конструктивизма) и [A. Pickering, 1984]. 8 По мнению Б. Латура, различные конструктивистские подходы приписывали объектам весьма ограниченный набор ролей, ни одна из которых не предполагала рассмотрение вещей в качестве самостоятельных действующих сил [Социология вещей, 2006, с. 365–389]. 43 базовых допущений социального конструктивизма, но и к своеобразному совмещению положений противоборствующих сторон. На данный момент в рамках STS разработаны теории, в которых сложные явления природы и культуры изучаются в условиях их динамического взаимоопределения, а само различение между регионами природного и общественного рассматривается как квазиразличение. К началу 90-х гг. XX в. такие исследователи, как Б. Латур, М. Каллон, Д. Ло, А.-М. Мол, Д. Харавэй, Э. Пикеринг, Д. Айди и др., в рамках реалистической интерпретации социал-конструктивистской эпистемологии предложили ряд концепций, в которых подверглось переосмыслению само понятие объекта («вещи»). Философами STS было показано, что допущение пассивности объектов, которое лежит в основе ограниченного набора ролей, предписанных вещам социальными конструктивистами, является произвольным и необоснованным. С точки зрения исследователей науки и технологии, объекты природы и материальные предметы не только не находятся в полной власти коллектива субъектов, но и способны оказывать активное сопротивление внешнему воздействию — они «останавливают эксперименты, внезапно исчезают, умирают, отказываются отвечать или разносят лабораторию вдребезги» [Б. Латур, 2003, № 3, с. 30]. Способность к сопротивлению позволяет рассматривать объекты в качестве источников активности наравне с людьми, поэтому в концептуальных построениях STS они фигурируют как «субъекты действия» [A. Pickering, 1995, p. 6], «которые имеют право голоса и должны быть услышаны» [О.Е. Столярова, 2003, № 3, с. 44]. Как пишет Латур, «в нашу коллективную жизнь вовлечено множество nonhumans, обладающих историей, отзывчивостью, культурой, темпераментом — короче говоря, всеми теми качествами, в которых им традиционно отказывали гуманисты» [там же]. Той же точки зрения придерживается и Э. Пикеринг, говоря о непрерывно действующих вещах, «которые относятся к нам не как представления к бесплотному интеллекту, но как материальные силы к телесным существам» [A. Pickering, 1995, p. 6]. Таким образом, разделяемый большинством философов STS, поворот к материальному (в другой терминологии — к вещам, к объектам9, к телесности10) состоит в признании невозможности дальнейшего игнорирования конститутивной роли «маневров материальных агентов» [A. Pickering, 1995, p. 581] при анализе человеческих практик. 9 При этом под понятие «объект» подпадают животные, растения, неодушевленные предметы и искусственно созданные артефакты. 10 Поворот к телесности подразумевает утверждение того факта, что эпистемологический субъект наделен телом и не может быть сведен к бесплотному интеллекту, поэтому модус тела необходимо учитывать при анализе познавательного процесса и его результатов. Особое влияние на концептуализацию тела в рамках STS оказали доктрины М. Фуко и М. Мерло-Понти. 44 В концептуальных построениях STS объекты представлены как конституенты действия, свойства и характеристики которых относительны и не заданы a priori. Подобная трактовка объекта является следствием попыток трансформировать конструктивистскую теорию деятельности за счет включения в нее концептуализации нечеловеческой активности, исключающей антропоцентричные коннотации. Следует отметить особое влияние на концептуализацию материальной агентности в STS со стороны структуралистской и постструктуралисткой семиотики. Исследователи науки и технологии, каждый на свой лад, воспроизводят структуралистский тезис о том, что значение того или иного элемента структуры всегда детерминировано его отношениями с другими элементами. Постструктуралистская критика показала, что существует не одна общая праструктура, как утверждали структуралисты (например, ЛевиСтросс), а множество различных «глубинных структур», пребывающих в становлении, поэтому в концептуальных построениях STS тезис о детерминации свойств объекта его местом в структуре отношений дополняется тезисом о множественности и динамичности структур. Другой, не менее важной для STS установкой является признание объектов как сконструированными, так и реально существующими [О.Е. Столярова, 2006, № 8, с. 88], что получило название принципа симметрии, призванного устранить жесткое противопоставление субъекта и объекта, показать относительность различий между ними. Заимствованный из «сильной программы» социологии знания Эдинбургской школы (Д. Блур, Б. Барнс)11, в трактовке Б. Латура и М. Каллона принцип симметрии состоит в том, что объекты природы должны быть описаны в тех же терминологических конструкциях, что и поведение человеческих агентов. Они наделяются «человекоразмерными свойствами, такими как многопрофильность, открытость, нестабильность, историзм» [О.Е. Столярова, 2003, № 3, с. 40], что позволяет им претендовать на роль активных действующих сил, наравне с людьми, участвующими в создании мира. Переопределение границ между объектом и субъектом, вещью и человеком порождает проблему интерпретации способов существования объектов «смешанного типа», не редуцируемых полностью ни к одному из полюсов прежней субъектобъектной дихотомии. «Акцент переносится с экстремальных сущностей на точку их пересечения, на пограничные ситуации “встречи” природы и культуры, а эпистемология симметрично дополняется онтологией, заинтересованной в том, каков мир в действительности» [там же, с. 44]. 11 [Д. Блур, 2002, № 5/6, с. 162–185]. 45 Объекты, возникающие в результате столкновения и пересечения природных, культурных, социальных и технологических процессов, трактуются философами STS как «ансамбли отношений», обладающие пространственными характеристиками. В качестве репрезентативного примера таких объектов Б. Латур в одной из своих работ рассматривает озоновые дыры, которые не только определяются им как природное явление, но и включают в себя «химическое производство, холодильную промышленность, производство аэрозолей, завод в пригороде Лиона, ближайшие выборы и грядущий административный совет» [Б. Латур, 2006, c. 59]. Следовательно, такой объект, как озоновая дыра, находится в точке пересечения всех составляющих его компонентов, как человеческих, так и нечеловеческих, вступивших в определенные связи и отношения друг с другом. Пребывая в отношениях между собой, данные компоненты формируют пространство, которое представляет собой порядок их сосуществования. В данном случае именно пространство становится той категорией, которая позволяет ухватить и зафиксировать все изменчивое многообразие связей и отношений между гетерогенными сущностями. Связывая разрозненные, на первый взгляд, компоненты в единую цепь событий, пространство также становится и центральной категорией анализа объектов «смешанного типа», что, в свою очередь, неизбежно ставит перед исследователем вопрос о том, что именно понимается под пространством. Актуальность этого вопроса обоснована уже тем, что пространство в современных исследованиях все чаще выступает в роли своеобразного ярлыка, за которым скрываются различные смыслы и практики тех или иных проблемных областей. В связи с социокультурной локализацией и интерпретацией пространственных концептов, их ситуативностью увеличивается риск некорректных концептуальных заимствований, поэтому одной из приоритетных задач для социогуманитарных наук оказывается разработка новой комплексной концептуализации пространства. Отсутствие унифицирующих «метанарративов», способствующее инфляции и дефляции пространственных концептов, усиливает постмодернистские плюралистические тенденции в современной философии, обозначенные Латуром как «переход от озабоченности временем к озабоченности пространством» [B. Latour, 1998, Vol. 3, № 1–2, p. 99]. Возрастающая в последние десятилетия тенденция обращения к проблематике пространства в социогуманитарных науках связана с констатируемым многими исследователями «пространственным поворотом» (spatial turn). Спровоцированный работами таких авторов, как М. Фуко, А. Лефевр, Э. Соджа, Д. Харви и др., пространственный поворот выражается в пересмотре традиционных представлений о пространстве и появлении новых исследователь46 ских стратегий, стремящихся разработать комплексные подходы к пониманию пространства. В данном случае «речь идет не об “открытии пространства” в социальных и гуманитарных науках (сама эта тема является далеко не новой, особенно для философии), а о критическом пересмотре того, как пространство мыслилось прежде (с опорой на какие концепции и представления). <…> Акцент смещается с пространства как предмета исследования (пространства самого по себе) на пространство как проблему, требующую новой исследовательской парадигмы» [Ю.А. Бедаш, 2009, № 1, с. 96]. Социальные и технологические изменения, сопровождающие развитие современного общества, появление новых форм организации жизни приводят к все более заметному дисбалансу между сформировавшимися в научном, политическом и повседневном дискурсе определениями пространства и современными пространственными практиками. Социальные, технологические и культурные трансформации в первую очередь ставят под вопрос оппозицию локальное/глобальное, используемую при анализе динамики социально-политических процессов. Разрушается привычный изоморфизм между пространством, социумом и государством, утрачивается пространственно-временная фиксированность, а значит, и прежняя стабильность социальных и политических отношений. Формирование новой архитектоники социального мира сопровождается появлением новых форм организации, в которых регионы общественного, природного, политического и технологического оказываются неразрывно связанными, а различия между ними становятся все более подвижными и все менее эксплицируемыми. На смену всегда казавшимся автономными регионам бытия приходят новые образования, неотъемлемыми характеристиками которых выступают гетерогенность и гибридность, предполагающие коллективное распределение деятельности и идентичности. Как замечает Д. Харавэй, на сегодняшний день нет смысла говорить отдельно о живом, отдельно о техническом, так же как нет смысла говорить о границах между физическим и нефизическим, человеческим и животным, «животно-человеческим» и машиной [Д. Харавэй, 2005, с. 326–327]. Исследовательские стратегии, разработанные в рамках пространственного поворота, рассматривают пространство как некую динамическую структуру, которая обнаруживается в процессе реализации различных типов практик и отношений. Парадигма действия, подразумевающая ориентацию на конкретные практические стратегии в условиях повседневности, вынуждает исследователя работать с элементами, связанными между собой, но при этом локализованными в различных порядках отношений — природных, соци47 альных, технологических12. В итоге исключается возможность использовать в качестве концептуального инструментария жесткие бинарные оппозиции: природное/социальное, физическое/ментальное и т.д. Таким, образом, анализ пространства в качестве практической схемы помогает «преодолевать “двойную иллюзию”, о которой писал А. Лефевр: “иллюзию прозрачности” (когда пространство сводится к идеям/представлениям о пространстве и рассматривается в качестве ментальной — дешифрованной — реальности) и “реалистическую иллюзию” (когда пространство сводится к материальным объектам и рассматривается как естественно/объективно данное)» [Ю.А. Бедаш, 2009, № 1, с. 108]. Ключевую роль в концептуальных инновациях, связанных с «пространственным поворотом», играет реактуализация лейбницианских идей, в соответствии с которыми пространство представляет собой не субстанциальную реальность, а некоторый порядок сосуществования, порядок отношений, от которых оно неотличимо. В своей знаменитой полемике с Кларком13, выступавшим в роли апологета теории Ньютона, Лейбниц критикует точку зрения, согласно которой пространство является абсолютным и гомогенным и представляет собой некое вместилище, предшествующее телам и не зависящее от них. Согласно лейбницианскому подходу, пространство не может быть представлено как некий особый объект, находящийся в определенном отношении с другими объектами, наоборот, именно отношения между различными объектами и формируют пространство, полностью зависящее от их динамики. Реляционно-динамическая трактовка пространства в рамках концепции Лейбница дополняется тезисом о множественности перспектив, в соответствии с которым «пространственные отношения <…> могут изменяться благодаря открытию новых перспектив» [там же, с. 101]. Но, несмотря на актуальность этих идей для современных исследований, концепция Лейбница в рамках «пространственного поворота» претерпевает значительные трансформации в связи с содержащимися в ней метафизическими импликациями, которые вряд ли смогут послужить надежной объяснительной матрицей для процессов взаимодействия общества, природы и технологии. Во многих комплексных подходах, разработанных исследователями пространства, реляционная трактовка дополняется рядом других представлений, в том числе и субстанциолистскими, при этом продолжая сохранять свое доминирующее положение14. 12 «Дистантные браки, интернет-сообщества, диаспоры, электронные офисы с разбросанными по всему миру рабочими местами, различные протестные движения, международный терроризм и т.д.» [Ю.А. Бедаш, 2009, № 1, с. 107]. 13 См.: [Г.-В. Лейбниц, 1982, т. 1, с. 430–529]. 14 На наш взгляд, наиболее ярким примером такого комплексного подхода к пространству является исследование Д. Харви [Д. Харви, 2011, № 1, с. 10–39]. 48 Будучи вовлеченными в оживленный исследовательский дискурс, спровоцированный «пространственным поворотом», представители STS также разрабатывают собственные подходы к проблематике пространства, поскольку установка на обращение к материи, к вещам и включение последних в социальные взаимодействия неизбежно требует ответа на вопрос о том, где разворачиваются и локализуются такого рода взаимодействия. Претендуя на новую концептуализацию объекта, они предъявляют права и на построение новой пространственной перспективы, которая позволит по-другому взглянуть на взаимоотношения общества и природы. Одним из ключевых тезисов, лежащих в основе концептуальных разработок STS, является антиэссенциалистское утверждение, что ни один объект (человек, животное, искусственный артефакт) сам по себе не обладает никакими сущностными свойствами, поскольку он может приобрести их только в процессе взаимодействия с другими объектами. «Речь, тела и их жесты, субъективности, строительные материалы, корабли, самолеты или огнестрельное оружие. Все произведено отношениями и участвует в их производстве» [В.С. Вахштайн, 2005, т. 4, № 1, с. 108]. Таким образом, любой объект понимается как «производная некоторых устойчивых множеств или сетей отношений» [Социология вещей, 2006, с. 223], и одно из фундаментальных допущений теоретиков STS состоит в том, что «объекты сохраняют свою целостность до тех пор, пока отношения между ними стабильны и неизменны» [там же, с. 223]. Являясь продуктом отношений, поддерживающим свое существование за счет их исполнения, объект обладает пространственными характеристиками и может быть рассмотрен как пространственная конфигурация. Развивая концептуальные инновации «пространственного поворота», исследователи науки и технологии тоже апеллируют к лейбницианской трактовке пространства, которая дополняется ими за счет обращения к теоретическим ресурсам современной топологии15 и теории катастроф. В связи с тем что идентичность объекта конституируется не только связями между его элементами, но и его отношениями с другими объектами, каждый объект оказывается пересечением как минимум двух пространственных конфигураций — той, которую 15 Выбор топологии в качестве одного из концептуальных «инвесторов» связан с тем, что, в отличие от различных, построенных на данный момент геометрий, топология имеет неметрический и качественный характер, например, такое топологическое свойство, как непрерывность, оказывается связанным только с положением фигуры, а не с ее величиной. Это созвучно разрабатываемой в STS идее о том, что параметры и свойства объекта зависят от той позиции, которую он занимает в системе связей и отношений. Ярким примером аналитических изысканий, основанных на идеях топологии, является исследование Д. Ло [Социология вещей, 2006, с. 223–243]. 49 представляет он сам, и той, которую он образует вместе с другими объектами, поэтому следующим ходом в концептуализации пространства становится допущение существования количества пространств, соответствующего количеству отношений [В.С. Вахштайн, 2005, т. 4, № 1, с. 107]. Таким образом, в концептуальных построениях STS пространство «не самоочевидно и не единично» [Социология вещей, 2006, с. 225], а из приоритета отношений напрямую следует, что многочисленные пространственные конфигурации не нейтральны, способны взаимодействовать друг с другом и влиять на процессы конституирования и трансформации объектов. Мотив множественности как одна из отличительных черт, присущих концептуальному анализу пространства в рассматриваемой традиции, разворачивается в связи с идеей неоднородности. Требование пересмотра традиционных категориальных различений заставляет исследователя работать с некоторыми гетерогенными многообразиями, элементы которых принадлежат к разным порядкам — социальным, природным и т.д. и способны менять свою принадлежность в зависимости от приобретенного ими положения в том или ином ряду связей. В силу этого сами связи даже в рамках одной конфигурации можно рассматривать как неоднородные и исполняющиеся тем или иным образом в зависимости от того, какие именно элементы взаимодействуют друг с другом. Гетерогенность отношений в свою очередь является причиной асимметричности взаимодействий, образуемых ими форм пространственности. Допущение множественности пространств формирует такую логику анализа, которая преодолевает дуализм природного и социального не за счет сведения одного к другому, а за счет работы с гетерогенными многообразиями и их пересечениями. Другим не менее важным концептуальным ходом наряду с допущением множества неоднородных пространств становится расшифровка той или иной исследуемой пространственной конфигурации как локальной и непрерывно становящейся. Рассмотрение любой пространственной конфигурации как локальной позволяет анализировать объекты любого масштаба вне стандартных оппозиций локальное/глобальное, локальное/универсальное. Ориентация на исследование конкретных эмпирически выявляемых конфигураций (например, конфигураций, в которых был установлен тот или иной научный факт) неизбежно ставит перед аналитиком вопрос о границах этих конфигураций. Эмпирические конфигурации являются конфигурациями ограниченной протяженности. Но в связи с тем, что панорама всех возможных объектов и пространств, способных принимать участие во взаимодействии, никогда не дана изначально, то границы взаимодействий, а следовательно, и пространственных конфигураций оказываются весьма расплывчатыми. 50 Пространственная конфигурация как некоторая локальность может взаимодействовать только с доступными ей в данный момент локальностями. Поскольку панорама всех объектов и пространств, которые могут вступить во взаимодействие, не задана окончательно, то границы взаимодействия могут постоянно расширяться. Например, такая пространственная форма, как сеть в классическом акторно-сетевом анализе16, может быть сколь угодно протяженной за счет возможности включения в нее новых объектов и отношений. Латур сравнивает сеть с железной дорогой. «Является ли железная дорога локальной или глобальной? Ни то и ни другое. Она локальна во всех точках, вы всегда обнаруживаете шпалы, железнодорожников, иногда вокзалы и автоматы для продажи. Однако она является и всеобщей, поскольку перевозит вас из Мадрида в Берлин или из Бреста во Владивосток. Однако она не является достаточно универсальной для того, чтобы доставить вас в любое место, куда вы только пожелаете» [Б. Латур, 2006, с. 194–195]. Таким образом, сеть оказывается не более чем набором сопряженных локальностей, которые соотносятся друг с другом разными способами. «В сети некоторые очень отдаленные точки могут обнаружить себя соединенными, в то время как другие, которые были соседями, удалены далеко друг от друга. Хотя каждый актор локален, он может перемещаться от места к месту, по крайней мере, до тех пор, пока он способен договариваться об эквивалентностях, которые делают одно место таким же, как другое. Сеть, таким образом, может быть “в действительности повсеместной”, не становясь при этом “универсальной”. Какой бы разреженной и витиеватой сеть ни была, она, несмотря на это, остается локальной и ограниченной, тонкой и хрупкой, с вкраплениями пустоты (interspersed by space)» [B. Latour, 1988, p. 171]. Гетерогенные элементы и отношения, образующие ту или иную локальность, составляют ее ресурсы17, определяющие способ соот16 Акторно-сетевая теория (Actor-Network Theory, ANT) — один из самых востребованных подходов к изучению науки и технологии в STS, разработанный Б. Латуром, М. Каллоном, Д. Ло и др. В его основе лежит антиэссенциалистское утверждение о том, что отношения предшествуют сущности, а также принцип генерализованной симметрии и материально-семиотический метод. В конце 1990-х гг. выделились две ветви ANT — парижская, представленная Б. Латуром и М. Каллоном, и ланкастерская, к которой принадлжат такие исследователи, как Д. Ло, А.-М. Мол, М. Акрич, Н. Альбертсен, В. Синглтон. В рамках первой разрабатываются общетеоретические и методологические принципы акторно-сетевого подхода, вторая, в свою очередь, развивает идеи первой в конкретных исследованиях науки и техники. На сегодняшний день акторно-сетевой подход представляет собой одну из наиболее значимых альтернатив традиции социального конструктивизма. 17 Силы или ресурсы — это элементы и отношения, которые пространственная конфигурация может аккумулировать в процессе увеличения своей протяженности. Например, Латур описывает ситуацию столкновения научных теорий, интерпре- 51 несения с другими локальностями. Например, в различных версиях того же акторно-сетевого подхода локальности могут находиться в отношениях включения, пересечения, взаимообусловленности, захвата, подчинения, взаиморазрушения18 и т.п. Неопределенность количества локальностей в силу их неоднородности всегда является предостережением от опрометчивого утверждения, что одна из локальностей захватила или подчинила себе все остальные. Но она не отменяет возможности неограниченного распространения для каждой локальной пространственной формы, поэтому Латур пишет о том, что любому взаимодействию одновременно присущи и глобализация, и локализация. «Взаимодействие выражается в противоречивых формах: оно представляет собой систему фреймов (которая ограничивает интеракцию) и сеть (которая распределяет одновременность, близость и “персональность” взаимодействий)» [Социология вещей, 2006, с. 176]. Заимствуя из теории И. Гофмана19 категорию фрейма, Латур переопределяет ее как локализующее ограничение взаимодействия, укорененное в материальных предметах. Но даже с акцентом на материальности ограничений интеракции теория Гофмана не дает ответа на вопрос о том, как связаны между собой взаимодействия, происходящие в разных фреймах. Именно эту взаимосвязь Латур и пытается объяснить, рассматривая взаимодействие и как глобальное и как локальное одновременно, или, в терминологии Каллона, как фреймированное и сопряженное. Но в силу неоднородности и неопределенного количества взаимодействующих форм приоритетом обладает локальное, в то время как глобальное существует только в возможности. «Непрерывные пути, ведущие от локального к глобальному, от обусловленного обстоятельствами к универсальному, от случайного к необходимому, существуют лишь при условии, что их подключение будет оплачено» [Б. Латур, 2006, с. 195]. «Между глобальным и локальным нет тропинки, поскольку глобального не существует. Вместо этого у нас есть географы, самолеты, карты и ежегодные международные съезды геодезистов» [B. Latour, 1988, p. 219–220]. Становление в STS трактуется в соответствии с кумулятивным принципом, принципом развития. Поскольку ни одна пространтирующих один и тот же наблюдаемый феномен, в терминах столкновения пространственных конфигураций (сетей), в которых они были произведены. В зависимости от соотношения протяженностей и характеристик взаимодействующих элементов та или иная пространственная конфигурация может «победить» (см.: [B. Latour, 1987, p. 103–104]). 18 Например, в социальной топологии Д. Ло такая пространственная конфигурация, как сеть, может либо разрушать, либо конституировать «регионы» (аналог гомогенного евклидова пространства) как формы пространственности. 19 См.: [И. Гофман, 2003; В.С. Вахштайн, 2011, с. 64–106]. 52 ственная конфигурация неотличима от составляющих ее отношений, то ее развитие будет определяться в соответствии с их динамикой. Апелляция к становлению, во-первых, позволяет исследователям избегать произвольных провиденциалистских заключений относительно трансформаций, которые претерпевает та или иная пространственная конфигурация в силу того, что «наличное состояние ряда сущностей не предопределяет их будущего» [Э. Пикеринг, 2008, № 5, с. 74], т.е. трансформациям «органически присуща случайность — случайность конкретных изменений в конкретные моменты времени и во взаимоотношениях играющих сущностей — вне зависимости от того, складываются они в составные структуры или нет» [там же, с. 74], во-вторых, «рассматривая этот процесс как движение, обращенное в будущее, можно говорить о темпоральном возникновении, при обратной перспективе — об историчности» [там же, с. 74]. Становление показывает, что «наличное состояние ряда сущностей в любое данное время является функцией как исходного набора сущностей (относительность, ситуативность), так и того временного пути, который они прошли к настоящему моменту (временная зависимость)» [там же, с. 74]. Постулирование становления для конфигураций, состоящих из гетерогенных элементов, неизбежно приводит к вопросу: можно ли объединять с помощью данной характеристики, например, сложное развитие органических организмов и механические трансформации неодушевленной материи? Пикеринг считает, что адекватным ответом на данный вопрос может быть сочетание апелляции к становлению с принципом симметрии. Предложенный им концептуальный ход состоит в том, чтобы, во-первых, отказаться от требующего серьезных обоснований допущения некой внутренней логики развития неодушевленной материи, во-вторых, в соответствии с принципом симметрии рассматривать становление человеческих и нечеловеческих агентов в их взаимодействии друг с другом. Пикеринг предлагает концепцию киборг-структур20, которые представляют собой своеобразные сочетания «машина-человек». «В то время как довольно трудно представить историчность “игры” механизмов самой по себе, гораздо легче представить историчность и становление сочетаний машина-человек» [там же, с. 77], которые, по мнению Пикеринга, взаимно определяют друг друга. 20 «Фигура киборга знаменательна для той культурной ситуации, которая сложилась во второй половине XX в. в связи с взрывом информационных и биологических наук и технологий: трансплантанты, продукты генной инженерии, виртуальные корреспонденты, экосистемы — все это “материально-семантические агенты”, которые демонстрируют обратимость движения от реальности к конструкции и обратно» [О.Е. Столярова, 2003, № 3, с. 47]. 53 Киборг-структуру можно рассмотреть с точки зрения ее пространственных характеристик, в качестве своеобразной пространственной модели, поэтому основные выводы Пикеринга относительно становления подобных гетерогенных сочетаний важны для нашего анализа концептуализации пространства в STS. Для более наглядной иллюстрации положений Пикеринга, касающихся неразрывно связанной эволюции человеческих и нечеловеческих агентов, обратимся к ряду его эмпирических примеров. «Появление радара в период Второй мировой войны тесно связано с новыми способами ведения войны (“техновойна”), а также с новыми способами научной практики (“большая наука”) и новыми социальными отношениями между наукой и вооруженными силами (новые координационные институты — такие, как Управление научных исследований и усовершенствований в США; “вбирание” науки военными). Несомненно, в основном таким же образом (хотя и в более широких масштабах) возникновение, развитие и технологическое усовершенствование паровых машин тесно связано с колоссальными социальными изменениями, происходившими в рамках так называемой индустриальной революции, — с появлением фабрик, разделения труда, развитием индустриальных городов и промышленного строительства, новыми социальными классами и классовой борьбой» [там же, с. 77]. Из приведенных примеров видно, что человеческие агенты, определяя процесс развития неодушевленной материи, в свою очередь сами подвергаются влиянию со стороны этого развития, вследствие чего отношения между этими гетерогенными элементами претерпевают трансформацию, приобретают другие параметры, связанные, например, с изменениями масштаба. Соответственно изменяется и пространственная конфигурация, конституированная их отношениями. «Специфическую траекторию эволюции парового двигателя невозможно понять без учета человеческого и социального пространства, в котором он появился. Но, в свою очередь, и развитие самого этого человеческого и социального пространства структурировалось новой силой — паровым двигателем» [там же, с. 77]. Разрабатываемая в рамках STS концептуализация пространства, представляющая собой взаимосвязь характеристик множественности, неоднородности, локальности и становления и допускающая только условные различения между социальными, природными, символическими и другими формами пространственности, открывает перед исследователем новые возможности для аналитической работы. В категориях таким образом понятого пространства, органично дополненных принципом симметрии, могут быть переопределены процессы развития научного знания и технологии без выявления доминирующих компонентов и их природы. Преиму54 щества подобного переопределения состоят в том, что, во-первых, оно дает возможность избегать редукции одних компонентов к другим, во-вторых, позволяет уйти от проблем, связанных с субъектобъектной дихотомией в силу того, что оба ее полюса понимаются как определяющие друг друга во взаимном становлении, а потому различия между ними могут быть успешно нейтрализованы. Постулирование реляционной природы пространства предоставляет аналитику концептуальный инструментарий для работы с объектами, являющимися конфигурациями гетерогенных составляющих. Однако сама по себе идея о том, что субстанция немыслима без отношений, в которые она включена, достаточно тривиальна для неклассической философии, поэтому возникает правомерный вопрос: в чем именно состоит специфика реляционной трактовки пространства в «исследованиях науки и технологии»? На наш взгляд, ответ заключается в том, что разрабатываемая теоретиками STS концептуализация пространства позволяет выстраивать на ее основе пространственные модели, которые представляют собой новые способы организации и упорядочивания взаимодействий общества, природы и технологии. Следует отметить, что на протяжении XX в. было проведено множество организационных исследований, спровоцированных достижениями в области биологии, математики, физики и ряде других дисциплин. К началу 80-х гг., когда начинают формироваться рассматриваемые нами концепции, уже было разработано огромное количество моделей организации, успешно используемых в различных проблемных областях21. Но, несмотря на это, теоретики STS предлагают новые способы упорядочивания гетерогенных многообразий. Это связано в первую очередь с влиянием на исследователей науки и технологии философии постструктурализма, в которой были подвергнуты критике различные иерархические модели. Понятия системы и структуры оказались неприемлемыми для концептуализации взаимодействий неоднородных элементов в силу недостатков, присущих каждому из них, — стабильности отношений между системными компонентами, однотипности связей между ними, соотношения инварианта и вариаций и, как следствие, проблемы изменчивости структур. Следовательно, нужно было нечто «более гибкое, чем понятие “система”, более историческое, чем понятие “структура”, более эмпирическое, чем понятие “сложность”» [Б. Латур, 2006, с. 62]. Результатом поисков новых форм композиции гетерогенных многообразий и новой пространственной метафорики стали специфические модели организации, являющиеся также и простран21 Например, общая теория систем Л. Берталанфи. 55 ственными моделями, т.е. совокупностями ряда связанных между собой пространственных концептов. Это в первую очередь сетевая модель Б. Латура и М. Каллона, социальная топология Д. Ло, киборг-структуры Э. Пикеринга и Д. Харавэй. Особое влияние на их разработку оказали квазипространственные концепты Ж. Делёза и философия процесса А.Н. Уайтхеда. В соответствии с принципом генерализованной симметрии неоднородные элементы, упорядоченные с помощью этих концептуальных построений, могут быть определены только через свою способность вступать в изменчивые связи и отношения, принадлежащие к различным порядкам и формирующие пространственные конфигурации, представляющие собой гибриды. Разрабатываемая в STS концептуализация пространства позволяет рассматривать различные формы пространственности как не имеющие локализации в сфере социальных, природных или технологических отношений, потому что воздействия, которые человеческие и нечеловеческие агенты оказывают друг на друга, могут быть опосредованы сколь угодно разнообразным количеством связей. При этом сами связи не являются нейтральными и могут выступать в роли своего рода акторов, поэтому участвовать во взаимодействии может человек, животное, социальный институт, научная статья и т.д. Основанная на равноправии, несводимость элементов взаимодействия друг к другу позволяет исследовать уникальные свойства новых «смешанных» объектов без апелляции к тем или иным видам редукционизма, тем самым способствуя сближению и во многом успешному разрешению ряда эпистемологических и онтологических вопросов в современной философии. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ Латур Б. Нового времени не было: Эссе по симметричной антропологии. СПб., 2006. Лейбниц Г.-В. Переписка с Кларком // Лейбниц Г.-В. Соч.: В 4 т. М., 1982. Т. 1. Пикеринг Э. О становлении: воображение, метафизика и вальцы // Российский научный журнал. 2008. № 5. Социология вещей. М., 2006. Столярова О.Е. Социальный конструктивизм: онтологический поворот (послесловие к статье Бруно Латура) // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7. Философия. 2003. № 3. Столярова О.Е. Между «реальностью» и «конструкцией»: философия в поисках «новой объективности» // Философские науки. 2006. № 8. Фуко М. Интеллектуалы и власть: Избр. политические статьи, выступления и интервью. М., 2006. Харавэй Д. Манифест киборгов: наука, технология и социалистический феминизм 1980-х гг. // Гендерная теория и искусство: Антология. М., 2005. Харви Д. Пространство как ключевое слово // Топос. 2011. № 1. Brown J.R. Who rules in science? An opinionated guide to the wars. Cambridge (MA), 2001. Haraway D. Simians, cyborgs and women. N.Y., 1991 Ihde D. Expanding hermeneutics: visualism in science. Evanston, 1999. Latour B., Woolgar S. Laboratory life: A social construction of scientific facts. L., 1979. Latour B. Science in action: How to follow scientist and engineers through society. Cambridge, 1987. Latour B. The Pasteurization of France. Cambridge (Mass), 1988. Latour B. Ein ding ist ein thing: A philosophical platform for left European party // Concepts and Transformation. Benjamin, 1998. Vol. 3. N 1–2. Latour B. Pandora’s hope: essays of the reality of science studies. L., 1999. Pickering A. Constructing quarks: A sociological history of particle physics. Chicago, 1984. Pickering A. The mangle of practice: time, agency and science. Chicago, 1995. Бедаш Ю.А. Пространство как проблема постметафизической философии // Топос. 2009. № 1. Блур Д. Сильная программа в социологии знания // Логос. 2002. № 5/6. Брикмон Ж., Сокал А. Интеллектуальные уловки: Критика философии постмодерна. М., 2002. Вахштайн В.С. Возвращение материального. «Пространства», «сети», «потоки» в акторно-сетевой теории // Социологическое обозрение. Т. 4. 2005. № 1. Вахштайн В.С. Социология повседневности и теория фреймов. СПб., 2011. Гофман И. Анализ фреймов: Эссе об организации повседневного опыта. М., 2003. Карпинская Р. С., Лисеев И. К., Огурцов А. П. Философия природы: коэволюционная стратегия. М., 1995. Латур Б. Когда вещи дают сдачи: возможный вклад «исследований науки» в общественные науки // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7. Философия. 2003. № 3. 56 57 ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 7. ФИЛОСОФИЯ. 2014. № 2 ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ С.А. Лебедев* ОСНОВНЫЕ ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ В истории философии естествознания был выдвинут ряд концепций природы, сущности и особенностей научного познания: эмпирикоиндуктивистская конвенционалистская, неопозитивистская, постпозитивистская, постнеклассическая, диалектическая. Они и сегодня являются влиятельными и пользуются признанием у разных групп ученых, поэтому критический анализ этих концепций и их возможностей остается актуальным. Ключевые слова: наука, научное познание, эпистемология, эмпиризм, индуктивизм, конвенционализм, эмпириокритицизм, неопозитивизм, постпозитивизм, постнеклассическая эпистемология, диалектическая эпистемология. S.A. L e b e d e v. Main epistemological concepts of natural science In history philosophy of natural science there were a number of main concepts of nature, essence and peculiarities of scientific cognition: empirical, inductivist, conventionalist, neopositivist, postpositivist, postnonclassical, dialectical. These are also today recognized by some groups of scientists and therefore deserve consideration. Key words: science, scientific cognition, epistemology, empirism, inductivism, conventionalism, empiriocriticism, neopositivism, postpositivism, postnonclassical epistemology, dialectical epistemology. Бурное развитие конкретных наук начиная с Нового времени, рост их значения в культуре и реальной жизни общества не могли не породить стремления ученых и философов к пересмотру безраздельно господствовавшего ранее понимания философии как «науки наук». Впервые достаточно четко эти проблемы были поставлены в 30-х гг. XIX в. в рамках такого нового направления философии, как позитивизм. Его основоположники (О. Конт, Г. Спенсер, Дж.Ст. Милль) выдвинули лозунг освобождения конкретно-научного познания от влияния традиционной философии как далекой от нужд нового типа науки, возникшего в эпоху Возрождения и поставившего себя на службу практическим интересам и потреб∗ Лебедев Сергей Александрович — доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии ИППК МГУ имени М.В. Ломоносова, тел.: 8 (495) 939-34-43; e-mail: saleb@rambler.ru 58 ностям общества («Знание — сила» (Ф. Бэкон)). Разработка нового понимания взаимоотношения философии и науки требовала нового решения целого комплекса проблем. Какие это были проблемы? Первая проблема. Как известно, история развития самой философской эпистемологии продемонстрировала возможность построения в ее рамках значительного разнообразия не просто различных, но и исключающих друг друга концепций (Платон, Аристотель, Беркли, Лейбниц, Локк, Кант, Шеллинг, Гегель и др.). При этом каждая из них претендовала не только на единственно верное представление о науке и научном методе, но и активно навязывала его научному сообществу. Как быть в таком случае реальным ученым по отношению к множеству разработанных философами исключающих друг друга концепций? Кому из традиционных философов (спекулятивных «метафизиков») ученый может и должен верить? Вторая проблема. Насколько оправдано прежнее высокомерное отношение философов к попыткам ученых собственными силами выработать адекватное представление о науке, ее возможностях и методах научного познания? Третья проблема. Можно ли построить не философскую, а конкретно-научную по своим методам теорию научного познания, и если — да, как это можно сделать? Различные попытки дать ответы на эти вопросы, не выходя за пределы самой науки, и составили сущность позитивистской философии науки, прошедшей весьма длительную эволюцию от Конта вплоть до конца XX в. Первая попытка построения эпистемологии и философии науки как результата самосознания самой науки (путем эмпирического изучения реальной науки, ее содержания, структуры, методов и развития) была предпринята в рамках так называемого первого позитивизма (Конт, Спенсер, Милль) в 30–70-е гг. XIX в. [Современная философия науки, 1996; Философия науки, 2006; С.А. Лебедев, 2008; Он же, 2009, № 1; Энциклопедия эпистемологии и философии науки, 2009]. Необходимо отметить, что к этому времени для постановки вопроса о возможности построения философии науки как самосознания самой науки в культуре уже сложились достаточное количество оснований и предпосылок. Важнейшими из них были следующие: 1) резко возросшая к этому времени (даже по сравнению с XVIII в.) относительная самостоятельность науки как подсистемы культуры; 2) массовая ориентация новой европейской науки (science) на результаты экспериментов и систематических наблюдений («факты») как на свой подлинный фундамент; 3) тесная связь science с практикой, с применением результатов науки в технических и технологических целях; 59 4) высокий престиж науки в обществе и понимание ее огромного социального значения как одного из важнейших факторов развития общества. По мнению первых позитивистов, основными задачами разработки позитивной философии науки должны были быть следующие: 1) создание общенаучной картины мира путем обобщения содержания науки своего времени; 2) построение гносеологии науки (эпистемологии) путем обобщения реальной познавательной деятельности ученых в разных областях науки; установление таким же способом общей структуры научного познания и его динамики; таким образом, основу эпистемологии должно составлять исследование того, как в разных науках ученые реально получают факты, законы, теории и каким образом реально обосновывают их; 3) описание социальных функций науки путем эмпирического исследования реальных взаимосвязей между наукой и обществом. С точки зрения первых позитивистов, различие между прежней («метафизической») эпистемологией и новой философией науки («позитивной») столь же кардинально и принципиально, как различие между натурфилософией и физикой или как различие между философией общества и научной социологией, которую еще только предстоит создать. В одном случае мы имеем дело с общими умозрительными рассуждениями (традиционная философия — «метафизика») о том, какими должны быть природа, общество или научное познание, а во втором (новая, «позитивная» философия») — с установлением и описанием того, какими они действительно являются. Очевидно, что это абсолютно разные задачи. Главными итогами реализации нового понимания философии науки стали: 1) построение Г. Спенсером общей научной картины мира своего времени, разработка им классификации наук и написание истории естествознания; 2) разработка эмпирико-индуктивистской методологии научного познания (Дж.Ст. Милль); 3) формулировка программы конкретно-научного исследования общества и его законов (идея создания «социальной физики» — О. Конт). 1. Эмпирико-индуктивистская эпистемология Если говорить о гносеологических представлениях первых позитивистов, то, согласно разработанной ими модели научного познания, источником, основой и критерием истинности научного знания должен быть только эмпирический опыт (данные наблюдения и эксперимента — «факты»). Методом же открытия и обоснования научных законов (под которыми прежде всего имелись в виду причинно-следственные законы) считался индуктивный 60 метод. Однако это должна быть не перечислительная индукция, а индукция через элиминацию различных гипотез, претендующих на звание причинного закона, путем сопоставления этих гипотез с данными опыта и отбраковки ложных причинных гипотез. Дж.Ст. Миллем был разработан целый ряд таких индуктивных процедур отбора причинных гипотез, получивших название «методов установления причинно-следственных связей»: метод сходства, метод различия, объединенный метод сходства и различия, метод остатков, метод сопутствующих изменений. Эти методы были подробно изложены Миллем в его знаменитой работе «Система логики силлогистической и индуктивной». Однако уже к концу XIX в. для большинства ученых и философов (в том числе и для самих позитивистов) стала очевидной несостоятельность эмпирикоиндуктивистской модели научного познания при ее сопоставлении с реальной познавательной деятельностью ученых. Основываясь на материале истории науки, а также функционировании современной науки, критики индуктивистской модели показали: а) реальное научное познание не обязательно и не всегда начинается с данных наблюдения и эксперимента (например, в математике и теоретическом естествознании); б) открытие научных законов и теорий осуществляется с помощью не только индукции, но и многих других методов (гипотезы, аналогии, интуиции, идеализации, конструктивного мышления и др.); в) по своим логическим возможностям любая индукция, в том числе и миллевские методы, принципиально не способна быть средством доказательства истинности научных законов (в том числе и причинных), а в лучшем случае — только способом подтверждения их истинности или доказательства вероятности этой истинности. Все эти аргументы стали основой возникновения нового, второго этапа эволюции позитивизма — эмпириокритицизма и конвенционализма (Э. Мах, А. Пуанкаре, П. Дюгем и др.). Его представители вполне справедливо отметили тот факт, что процесс открытия научных законов и теорий не чисто логический, а в целом весьма сложный психологический и творческий процесс, в котором существенную роль играет продуктивное воображение ученого, а также его интуиция. Это относится не только к естествознанию, но и к математике. Анализ творчества таких ученых, как Г. Галилей, И. Кеплер, И. Ньютон, А. Пуанкаре, Г. Кантор, Дж. Максвелл, Л. Больцман и др., свидетельствовал об этом весьма убедительно. 2. Эмпириокритицизм и конвенционализм В рамках второго этапа развития позитивизма («эмпириокритицизм») было четко осознано, что путь от фактов (данных наблюдения и эксперимента) к научным законам и теориям не является 61 ни строго однозначным, ни чисто логическим. Внимательный анализ таких общепризнанных научных теорий, как классическая механика И. Ньютона, термодинамика, молекулярно-кинетическая теория газов Л. Больцмана, показывал, что их содержание не только не могло быть индуктивным обобщением эмпирических фактов, но и то, что оно вообще никак не могло быть выведено из данных опыта. Дело в том, что в составе этих физических теорий имеются идеализированные (или идеальные) объекты — такие, например, как материальная точка, идеальный газ, абсолютное время, абсолютное пространство, абсолютно изолированная система, абсолютно инерциальная система, мгновенная передача воздействия на любое расстояние (принцип дальнодействия), абсолютная одновременность некоторого события во всех системах отсчета, абсолютно черное тело, абсолютно белое тело, абсолютный хаос (абсолютное термодинамическое равновесие) и т.д. Эти идеальные объекты в принципе не наблюдаемы, а потому не могут быть предметом чувственного познания или эмпирического исследования. Научные теории не могут быть логически выведены из опыта, они создаются конструктивной деятельностью мышления в качестве надстройки над эмпирическим знанием как его идеальные схемы. Конечно, поскольку задачей научных теорий является максимально полное объяснение имеющихся эмпирических фактов определенной предметной области, а также предсказание новых, постольку это является существенным ограничением конструктивной свободы мышления при создании теорий. Таким образом, эффективная эмпирическая интерпретация всегда так или иначе предполагается при создании любой теории. Однако существование такой интерпретации является только необходимым, но отнюдь не достаточным условием оценки состоятельности научной теории, и уж тем более не может служить критерием ее истинности. Еще более сложным для эмпиристской философии науки конца XIX в. оказался вопрос о природе математического знания, методах его получения и обоснования и особенно о критериях его истинности, ведь уже с построением неевклидовых геометрий (Н. Лобачевский, Я. Бойаи, Б. Риман) и их принятием математическим сообществом в 70-е гг. XIX в. стало очевидным, что математические теории имеют явно внеэмпирическую природу как в плане своего происхождения, так и в отношении своего обоснования. Их успешное применение в других науках само по себе отнюдь не может выступать доказательством их истинности. Таким критерием не может выступать и требование интуитивной очевидности их аксиом. Дело в том, что интуитивная очевидность всегда (а) субъективна, (б) относительна, (в) во многом является делом привычки, следствием образования сложившихся в математическом сообществе 62 стереотипов очевидности. В частности, неэвклидовы геометрии долгое время не принимались именно потому, что большинству живущих в XIX в. математиков аксиомы геометрии Эвклида казались интуитивно более очевидными, чем аксиомы геометрий Лобачевского или Римана. Однако столь же несостоятельными оказались попытки философов обосновать безусловную истинность эвклидовой геометрии (и соответственно ложность неэвклидовых геометрий) утверждением априорного характера содержания эвклидовой геометрии и невозможностью для нашего сознания представить истинной какую-то другую геометрию (И. Кант). Последующее принятие математиками неэвклидовых геометрий в качестве полноценных теорий привело их к необходимости пересмотра старых критериев истинности математического знания (его согласие с эмпирическим опытом и интуитивная очевидность аксиом) и выработки новых. В результате такими критериями стали считаться внутренняя логическая непротиворечивость математических теорий, их доказательность, внутриматематическая полезность и эффективность в приложениях (не обязательно имеющих эмпирический характер). Моделями для математических теорий могли служить другие математические теории, а их эффективность могла проявляться в решении не только эмпирических задач, но и математических проблем, а также в обеспечении развития математического знания в целом. Анализ реального процесса научного познания и выявление его особенностей породили в философии науки конца XIX — начала XX в. такое самостоятельное направление второго этапа эволюции позитивизма, как конвенционализм, который по целому ряду принципиальных трактовок процесса научного познания отличался от эмпириокритицизма Маха. Основными представителями этого направления были Ле Руа, А. Пуанкаре, П. Дюгем и другие крупные ученые и философы. Конвенционалисты одними из первых четко осознали невозможность решения проблем истинности и объективности научного знания с позиций как эмпиризма, так и априоризма кантовского типа [С.А. Лебедев, С.Н. Коськов, 2013а, № 2]. С их точки зрения, это особенно очевидно по отношению к реальным научным теориям, которые, с одной стороны, не являются логическим обобщением эмпирических фактов, а с другой — не имеют априорного характера или каких-то окончательных и бесспорных оснований в человеческом разуме, как это полагали ранее Декарт, Кант или Гегель. Согласно конвенционалистам, во-первых, все научные теории представляют собой результат конструктивной деятельности мышления, которое по самой своей природе является творческим процессом. Во-вторых, как принятие, так и непринятие любых результатов мышления — дело свободного выбора субъектов 63 научного познания и основано на их когнитивной воле. В-третьих, принятие решения об истинности тех или иных исходных понятийных конструкций является конвенциональным по своей сути для всех реальных субъектов научного познания. С точки зрения конвенционалистов, апелляция к необходимости философского обоснования научных теорий лишь запутывает ситуацию, но отнюдь не способствует ее разрешению. В своей конкретной аргументации сторонники конвенционализма обращались прежде всего к математическим теориям, а также теориям из области естественных и социально-гуманитарных наук. Истина, считают они, — необходимая категория науки и научного познания, но только саму научную истину следует понимать как результат соглашения между учеными и, соответственно, как то, что в принципе может быть пересмотрено в будущем, а не как нечто, навязанное ученым извне с абсолютной необходимостью. При этом не имеет никакого принципиального значения характер этой необходимости, будь то Природа, Бог или априорное сознание субъекта познания. Следует признать вместе с конвенционалистами, что конвенции действительно играют большую роль в научном познании (определение значений всех научных терминов, принятие определенной системы логических законов и правил, выбор системы аксиом, основных законов и принципов научной теории, выбор эталонов, систем единиц и правил измерения в той или иной науке и т.д.). Однако представители конвенционализма явно не правы, когда утверждают конвенциональный характер всех истин в науке. Ибо при этом они незаконно абстрагируются от важных факторов и условий научного познания — (а) существенного влияния познаваемых объектов на содержание научного знания, (б) социально-детерминированного характера процесса принятия самих научных конвенций, (в) логической взаимосвязи и зависимости одних научных понятий и суждений от других (в том числе зависимости новых конвенций от уже существующих, а всех их вместе от объективно сформировавшейся системы естественного языка, который составляет необходимую основу любого научного языка). 3. Неопозитивизм Новым этапом развития позитивистской эпистемологии и философии науки стал неопозитивизм, возникший в начале XX в. и ставший на долгие годы ведущим направлением в философии научного познания. Особенно сильным было влияние такого его течения, как логический позитивизм и, в частности, логический эмпиризм. Основателями логического позитивизма были Б. Рассел, Л. Витгенштейн, М. Шлик, Р. Карнап, Г. Рейхенбах и др. Что не устраивало 64 создателей неопозитивизма в эмпириокритицизме как предшествующей версии позитивизма? Прежде всего, сведение эмпириокритиками задач философии науки к теории научного творчества и к описанию организационных механизмов функционирования науки и научного знания. Но больше всего их не устраивали исторические и психологические методы анализа и решения эмпириокритиками проблем философии науки. Обвинив эмпириокритиков в психологизме, неопозитивисты утверждали, что методы эмпириокритиков являются слишком расплывчатыми для статуса такой строгой науки, какой должна быть философия науки. Из этой ситуации, с точки зрения неопозитивистов, есть следующий выход: во-первых, ограничение предмета философии науки только языком науки и, во-вторых, построение эталонного (идеального) научного языка с помощью методов таких строгих наук, как математическая логика и логическая семантика. К этому времени обе эти дисциплины были на подъеме и достигли замечательных результатов в решении проблем построения строгих логических моделей доказательств и рассуждений. Логический анализ научного знания, структуры научных теорий, их доказательности, уточнение смысла и значения всех фундаментальных понятий реальной науки средствами математической логики и логической семантики — вот суть программы философии науки логического позитивизма. Однако мощные усилия логических позитивистов в течение 50 лет реализовать эту программу показали явную ограниченность заявленных ими методов реконструкции научного знания. Язык реальной и успешно функционирующей на практике науки явно не соответствовал тем стандартам и меркам, с позиций которых к нему подходили логические позитивисты. Структура реального научного знания явно не укладывалась в прокрустово ложе идеальных схем современной формальной (математической) логики. В итоге программа логического позитивизма оказалась реализуемой лишь частично: только в самой логике и лишь частично в математике (да и то с существенными ограничениями — результаты А. Черча, К. Геделя, Б. Рассела и др.). Она оказалась весьма плохо реализуемой в естественных науках (где попытки применить строгие формальнологические стандарты анализа и реконструкции языка этих наук были явным насилием над ним; показательными в этом отношении были явно схоластические работы А.А. Зиновьева типа построенной им системы «логической физики» и т.п.). И наконец, философия науки логических позитивистов потерпела полное фиаско в социально-гуманитарных науках, язык которых не только весьма далек от формально-логических канонов его построения, но и потому, что само социально-гуманитарное знание выражается с помощью дискурса лишь частично и достаточно приблизительно. 65 Здесь существенную роль играют также такие средства и методы, как понимание, коммуникации (как когнитивные, так и социальные), большой объем неявного знания, в том числе личностного и др. Основу общей модели научного знания и познания логического позитивизма составляли следующие предпосылки, получившие впоследствии от его критиков едкое название «эпистемологические догмы»: 1) научное знание имеет два основных уровня: эмпирическое и теоретическое знание; при этом второе частично сводится к первому и контролируется им; 2) научная теория — это дедуктивно организованная система высказываний об основных законах изучаемой предметной области; 3) из научной теории логически выводятся эмпирически проверяемые следствия; 4) единственным критерием истинности и обоснованности научных теорий должна быть только степень их соответствия данным наблюдения и эксперимента. Однако сравнение всех этих положений с реальной наукой и ее историей показало, что они явно не соответствуют структуре реального научного знания и познания и их динамике. Они оказались значительно сложнее представлений о них позитивистов. Во-первых, структура реальных научных теорий состоит не из двух, а как минимум из трех качественно различных по содержанию уровней знания: эмпирического, теоретического и метатеоретического. Вовторых, научная теория имеет собственное (идеальное) содержание, которое не сводимо ни полностью, ни частично к эмпирическому знанию. В-третьих, теории являются относительно самодостаточными когнитивными системами. Они не только не находятся под полным контролем и управлением со стороны данных наблюдения и эксперимента, но, скорее, сами контролируют и интерпретируют эмпирическое исследование и его результаты. В-четвертых, только математические теории являются дедуктивно организованными (аксиоматическими) системами. Подавляющее же большинство теорий естествознания и социально-гуманитарных наук организованы другим способом. В-пятых, из теорий самих по себе непосредственно, чисто логически не могут быть выведены никакие эмпирические следствия. Такие следствия можно вывести только из более сложной системы: «теория + ее конкретная эмпирическая интерпретация». В-шестых, соответствие эмпирически интерпретированной теории некоторому множеству фактов является лишь одним из критериев ее истинности и успешности. При оценке истинности и приемлемости научной теории используется также целый ряд других критериев: «внутреннее совершенство теории» (А. Эйнштейн), ее логическая непротиворечивость, простота, со66 гласие с другими теориями, доверие к ней со стороны членов научного сообщества, эвристичность теории и др. Мощная критика логического эмпиризма, явное несоответствие его моделей научного познания реальной науке, неспособность эффективно решать центральные проблемы философии науки и, в частности, проблему выбора научных теорий, проблемы развития науки и научного знания, исключение логическими позитивистами из своих моделей структуры и динамики науки реальных субъектов научного познания, а также исторического, социального и психологического контекстов научного познания — все это привело в начале 70-х гг. ХХ в. к уходу логического позитивизма с философской сцены в качестве ее главного действующего лица. Более жизнеспособным оказалось второе направление неопозитивизма — философия лингвистического анализа науки (Г. Райл, Дж. Остин и др.). Лингвистические неопозитивисты разделяли позицию логических позитивистов лишь в том, что предметом философии науки должен быть язык науки. Однако в отличие от логических позитивистов они считали: а) это должен быть язык реальной науки, а отнюдь не его искусственно сконструированный образец с помощью средств математической логики; б) язык реальной науки — это специфический вид языковой игры с достаточно широким набором правил, применение которых в существенной степени определяется задачами общения субъектов научного познания и варьируется достаточно широко в зависимости от предмета, целей и контекста научного исследования (концепция языковых игр Л. Витгенштейна). 4. Неклассическая эпистемология В 60–70-х гг. ХХ в. на смену неопозитивизму в западной философии науки приходит постпозитивизм. Его основные представители — К. Поппер, И. Лакатос, П. Фейерабенд и др. В отличие от логических позитивистов они считают главным предметом философии науки не проблему структуры научного знания, а проблему его динамики и развития. К. Поппер создает в качестве альтернативы логическому эмпиризму концепцию критического рационализма и фальсификационизма, которая явилась своеобразным синтезом эмпиризма и конвенционализма. Постпозитивизм был связан мощной пуповиной с эмпиризмом. Его представители лишь пытались выйти за пределы логического эмпиризма. Что их не устраивало в последнем? Во-первых, традиционная эпистемологическая вера, что эмпирический опыт выступает в качестве основного средства если не доказательства, то, по крайней мере, подтверждения истинности теорий в случае соответствия их следствий эмпирическим данным. Р. Карнап и Г. Рейхенбах пытались 67 даже построить системы индуктивной логики, с помощью которых можно было бы количественно определять степень подтверждения теории фактами. Однако все попытки построения такой вероятностной индуктивной логики окончились неудачей, имевшей принципиальные основания. В отличие от логических позитивистов, Поппер предложил радикально изменить взгляд на функцию опыта по отношению к теориям. С его точки зрения, назначение эмпирического опыта в науке состоит отнюдь не в том, чтобы подтверждать и внедрять истинные теории (для этого у опыта просто не хватает «силенок»), а в том, чтобы распознавать, критиковать и опровергать ложные теоретические гипотезы. Это, конечно, более слабая эпистемологическая задача, чем распознавание истинных теорий, но зато, по Попперу, вполне выполнимая. Так появилась фальсификационистская доктрина Поппера. Однако фальсификационистский эмпиризм Поппера был куплен весьма дорогой ценой с позиций правоверного догматического эмпиризма. Такой ценой оказалось допущение Поппером идей конвенционализма в стан эмпиризма. Правда, Поппер вовсе не склонен соглашаться с утверждениями конвенционалистов о конвенциональной природе теорий. Тем не менее он полагал, что принятие учеными некоторых эмпирических фактов в качестве бесспорно истинных утверждений является, безусловно, делом конвенции и не может быть другим, иначе был бы неизбежен логический регресс в бесконечность при обосновании теорий. А это означало бы разрушение веры ученых в возможность достижения в науке объективноистинного и обоснованного знания, что допустить нельзя. Другим неприятным следствием фальсификационизма явился фаллибилизм: согласно Попперу, все научные теории и законы потенциально ложны и рано или поздно будут опровергнуты опытом. Это вытекает из того, что любой закон имеет всеобщий характер, однако его претензия на всеобщность всегда имеет под собой в качестве реального основания только конечный человеческий опыт, который принципиально является неполным по отношению к содержанию всей объективной действительности и потому рано или поздно будет скорректирован ею. Об этом убедительно свидетельствует вся история развития научного познания. Поэтому реально научное познание может претендовать только на создание гипотез, которые не противоречат имеющимся на сегодня истинным эмпирическим фактам. В этой связи необходимо отметить, что постпозитивистские концепции методологии исследовательских программ (И. Лакатос) и анархистской методологии (П. Фейерабенд) развивались в том же русле скрещивания идей эмпиризма с идеями конвенционализма. 68 Однако уже к концу XX в. на смену постпозитивизму приходят более конкуретноспособные и влиятельные направления эпистемологии и философии науки, которые были нацелены уже не на совершенствоваение эмпиризма, а на его радикальную критику и замену. Постпозитивизмом вообще заканчивается эпоха неклассической философии науки, начало которой было положено в конце XIX в. эпистемологией прагматизма и конвенционализма [С.А. Лебедев, С.Н. Коськов, 2013б, № 2]. После основательной критики постпозитивистских моделей научного познания моделей предпринимаются мощные попытки создания новых моделей, но уже не на основе противоречия между теорией и опытом как главной движущей силы развития научного познания, а на более широкой основе, включая социальные, антропологические и ценностные детерминанты и мотивации в развитии научного знания. И это знаменует собой начало уже нового, так называемого постнеклассического этапа развития эпистемологии и философии науки [С.А. Лебедев, 2013, № 4]. 5. Постнеклассическая эпистемология Основными течениями постнеклассической философии науки являются такие, как социальная эпистемология, антропологическая эпистемология, радикальный конструктивизм, культурно-исторический анализ науки, синергетическая парадигма научного познания, позитивно-диалектическая эпистемология и философия науки и др. Социальная и социально-психологическая эпистемология и философия науки были мощно заявлены в работах М. Фуко, Т. Куна, представителей институциональной и когнитивной социологии науки (Н. Коллинз, А. Сторер, Э.М. Мирский, Е.А. Мирская, А.Н. Авдулов, А. Юревич, М. Барбер, М. Малкей, Дж. Гилберт, Л. Лаудан и др.). Все они настойчиво подчеркивают принципиально социальный характер науки и научного познания, интегрированность науки в более широкие познавательные системы и контексты, зависимость функционирования и развития науки и научного познания от различного рода социальных факторов и детерминант, причем не только и даже не столько материального характера (например, производственные, экономические, технические и технологические проблемы и потребности развития общества), сколько социально-психологического и научно-организационного: теоретические и методологические стереотипы, степень востребованности креативных личностей, творческого и инновационного мышления в обществе и науке, господствующий в обществе менталитет граждан и их отношение к науке, уровень организации науки и на69 учных исследований, качество научных приборов и оборудования, эффективность научно-технической политики государства и др. В рамках же гуманитарной, антропологической парадигмы философии научного познания (герменевтика, когнитивная психология, постструктурализм, теория научного творчества) ее представители всемерно подчеркивают роль субъективно-личностных факторов в функционировании и динамике научного познания и знания. Этими факторами являются: качество самих субъектов научного познания, их познавательные и организационные способности, творческий потенциал, самоотдача ученых в служении своему делу, степень их интенции на проникновение в сущность явлений, волевые и личностные качества субъекта познания, стремление не только к эффективному усвоению имеющегося знания, но прежде всего к созданию нового, способность не только объяснять познаваемые явления, но и достигать их понимания, интенция в своем когнитивном поведении не на конформизм, а на защиту собственного видения предмета познания. Важным направлением современной постнеклассической эпистемологии и философии науки явился культурно-исторический анализ функционирования и развития научного познания и научного творчества. Наибольшее развитие он получил в отечественной эпистемологии и философии науки, особенно в последней четверти XX в. (исследования Н.В. Мотрошиловой. П.П. Гайденко, Л.А. Косаревой, В.С. Библера, В.С. Степина, М.К. Петрова, В.Л. Рабиновича, Г.Д. Гачева. М.К. Мамардашвили и др.). Наиболее четкое теоретическое обоснование данное направление эпистемологии и философии науки было представлено в работах В.С. Степина [В.С. Степин, 2011]. Исходным пунктом данного направления является акцентирование того обстоятельства, что наука и научное познание являются органическими подсистемами культуры, а потому всегда в своем функционировании и развитии испытывают серьезное влияние со стороны культуры как целого и всех ее подсистем. Конечно, наука, как и все другие подсистемы культуры, обладает относительной самостоятельностью и относительной независимостью от других подсистем и имеет свою специфическую систему регуляторов, способов самоорганизации и внутренних закономерностей развития. Однако все они имеют конкретно-историческое наполнение и в целом резонируют с культурно-историческими сдвигами в развитии цивилизации, отвечая на эти вызовы изменением своего содержания и степенью значимости влияния различных внутринаучных факторов на развитие научного знания. Эта зависимость науки от изменений в культуре результируется изменением идеологии, норм, методов и идеалов научного познания. Она особенно четко видна при смене типов цивилизационной ди70 намики общества, приводящей и к смене культурно-исторических типов науки: древняя восточная наука, античная наука, европейская средневековая наука, наука эпохи Возрождения, классическая наука, неклассическая наука, современная постнеклассическая наука. Центральной философской проблемой культурно-исторического анализа науки и научного познания является взаимосвязь и соотношение внутренней логики развития научного познания с изменением социокультурных условий ее существования. Является ли сила этой зависимости науки и научного познания от социокультурного контекста величиной постоянной или переменной? Один из важных и влиятельных направлений современной постнеклассической философии научного познания — радикальный конструктивизм. В отличие от культурно-исторической парадигмы эпистемологии и философии науки, представители радикального конструктивизма (Матурана, Бергер, Лукманн, Рот и др.) в своем объяснении процесса научного познания пытаются не выходить за рамки науки и не апеллировать к социальным или культурно-историческим детерминантам, оставаясь в рамках интерналистского подхода к объяснению динамики научного знания. Но тогда им приходится чрезмерно педалировать конструктивно-творческую природу научного познания на всех его уровнях — не только на теоретическом и эмпирическом, но даже на чувственном уровне познания. Для них любой акт и результат познания есть конструкт, включая даже любой чувственный образ. Они — радикальные противники любых версий трактовки научного познания и содержания научного знания как отражения объективной реальности. Само понятие объективной реальности они также считают познавательным конструктом, но при этом неудачным, неприемлемым с точки зрения критического мышления. Методологическую ущербность данного конструкта они видят в том, что его принятие ведет к порождению догматизма в эпистемологии и философии науки. А это явно противоречит реальному плюрализму научного познания как в его синхронии, так и особенно в диахронии при обращении к реальной истории науки, где одни концепции и подходы сменяются другими, часто радикально противоречащими первым при описании и объяснении одного и того же круга явлений. С точки зрения радикальных конструктивистов, любой образ, понятие, высказывание являются в своем содержании не копиями познаваемых явлений, а лишь их репрезентантами (представителями), более или менее удачными. Вопрос же о степени их удачности решается, как правило, на основе прагматических соображений, с точки зрения их полезности для решения определенных практических проблем или на основе конвенции. Других способов оценки их приемлемости, согласно радикальным конструктивистам, просто не существует. 71 В последнее десятилетие возникла новая исследовательская программа в философии научного познания — синергетическая. Ее развивают в основном представители отечественной философии науки (В.И. Аршинов, Е.Н. Князева, В.Г. Буданов, В.М. Розин, В.Е. Лепский и др.). Они пытаются применить категориальный и методологический потенциал синергетики к моделированию развития научного знания. Упор делается при этом на трактовку накопленного научного знания как сверхсложной системы, состоящей из огромного по своей мощности множества самых разных единиц и подсистем научного знания, вступающих между собой (с помощью исследователей и их творческого потенциала) в огромное число самых разных отношений. Благодаря этому, а также взаимосвязи научного знания с объективной действительностью к научному знанию и научному познанию становится применимым понятие самоорганизующейся, открытой, диссипативной эволюционирующей системы. Общей теорией функционирования таких систем и является синергетика в ее общеметодологической интерпретации. Эта концепция находится еще только в начале своего развития, особенно в плане практического испытания ее предсказательных возможностей в отношении системы научного познания. 6. Диалектическая концепция научного познания Однако наиболее адекватной и универсальной среди всех парадигм научного познания представляется концепция, которую мы называем позитивно-диалектической эпистемологией. Позитивной, потому что она ориентирована на структуру и динамику реальной науки, рассматривая ее эмпирический анализ в качестве отправной точки построения адекватной модели научного познания. В этом ее сходство с позитивизмом. Диалектической, потому что она исходит из реальной противоречивости структуры и динамики научного знания как фундаментального факта. Это направление сложилось в России во второй половине XX в. и представляло собой программу применения категориального аппарата диалектики к анализу реального процесса научного познания, структуры реальной науки и ее динамики. Известными его представителями стали такие отечественные философы и методологи науки, как Б.М. Кедров, Д.П. Горский, А.И. Уемов, Н.Ф. Овчинников, В.С. Готт, Б.С. Грязнов, В.С. Швырев, В.А. Лекторский [В.А. Лекторский, 2010], В.С. Степин и др. Базисными положениями этого направления эпистемологии являются четыре следующих. 1. Наука и научное познание представляют собой не просто сложные системы, а диалектические системы, т.е. системы, состоящие из элементов и подсистем, противоположных по своим свойствам: 72 например, чувственное и рациональное знание; эмпирическое, теоретическое и метатеоретическое знание и познание; рассудок и разум; логика и творчество; интуитивное и дискурсное знание и познание; внешняя детерминация содержания сознания и внутренняя; созерцательные и волевые действия сознания и познающего субъекта; сознательное (явное) знание и бессознательное (неявное) знание; априорное (предпосылочное) знание и апостериорное знание; анализ и синтез; индукция и дедукция; необходимое и вероятное знание; субъективное и объективное знание; индивидуальное и коллективное в познании; биологически обусловленное и социально обусловленное в познании; инвариантное и изменчивое в познании и знании; относительное и абсолютное в познании и знании; аксиоматическое и выводное знание; конвенциональное и объективно-детерминированное содержание знания; прерывные и непрерывные процессы в познании; эволюционные и революционные периоды в эволюции содержания знания и технологиях познавательной деятельности и др. 2. Диалектически противоречивые системы знания и познания должны быть описаны логически непротиворечивым образом. Это нельзя сделать непосредственным образом, а только путем создания частных моделей, описывающих отдельные стороны процесса познания, которые являются гомогенными и непротиворечивыми. В результате должно возникнуть множество частных моделей описания сложной диалектической системы познания и знания, которые будут находиться в отношении дополнительности друг по отношению к другу при описании процесса научного познания в целом. В то же время все эти модели будут противоречить друг другу при попытке любой из них претендовать на универсальную значимость. 3. Как известно, основным способом построения частных моделей и программ исследования научного познания является принцип бинарной оппозиции. Он состоит в абсолютизации одного из реальных противоположных свойств научного познания в качестве основного для характеристики сущности всего процесса познания: сенсуализм–рационализм; эмпиризм–априоризм; интернализм– экстернализм; эссенциализм–инструментализм; методологизм–конструктивизм; натурализм–культурологизм; объективизм–уманитаризм; позитивизм–трансцендентализм; индивидуализм–социологизм и др. Принцип бинарной оппозиции лежит в основе конструирования содержания знания по принципу «либо-либо» в отношении его противоположных свойств и сторон. Этот принцип является основой всякого рассудочного мышления с его разведением противоположностей по различным аспектам или уровням системы. Конструктивным же принципом мышления на более высоком его 73 уровне, на уровне разума, является (диалектический) синтез противоположных характеристик системы. Очевидно, что он может быть не непосредственным синтезом противоположностей (иначе система будет формально логически противоречивой, что, конечно, недопустимо с позиций рациональности), а только опосредованным. Такой синтез всегда предполагает введение некоторого третьего, промежуточного элемента между противоположностями, который должен обладать некоторыми свойствами каждой из синтезируемых противоположностей. Это самая творческая задача при создании непротиворечивой модели любой диалектической системы. Например, диалектический синтез эмпирического и теоретического знания осуществляется с помощью введения такого посредствующего звена между этими противоположными видами научного знания, как эмпирическая интерпретация теории, которая осуществляется с помощью особого класса утверждений — интерпретативных предложений, называемых часто также правилами соответствия. 4. Создание универсальной диалектической модели научного знания и познания возможно только на пути синтеза (диалектического обобщения) частных моделей и научного познания. Такое обобщение можно осуществить только при соблюдении двух условий — выявлении объективного содержания (реконструкция «рационального зерна») каждой из частных моделей и снятии с каждой из них абсолютизированной формы и вызванных ею ошибок в истолковании реального процесса научного познания. Например, эмпиризм абсолютизирует значение эмпирического уровня познания в науке и данных наблюдения и эксперимента как основы и критерия истинности научного знания. Теоретизм же, напротив, преувеличивает относительную самостоятельность теоретического познания по отношению к данным опыта и его роль в динамике научного знания. Иррационализм преувеличивает роль интуиции и личностное измерение научного знания и познания. Прагматизм явно преувеличивает зависимость научного познания от практической деятельности и недооценивает мировоззренческое значение научного знания. Интернализм недооценивает влияние на развитие научного знания и познания социокультурных факторов и абсолютизирует значение внутренней логики в развитии познания и т.д. Указанный выше способ построения позитивно-диалектической модели научного познания выводит ее на более высокий уровень философско-методологического знания по сравнению с обобщаемыми в ее рамках частными эпистемологическими моделями, а именно на метатеоретический уровень познания. При этом очевидно, что дальнейшее развитие содержания позитивно-диалек74 тической модели эпистемологии науки будет в существенной степени зависеть от появления новых частных моделей структуры и динамики научного познания. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ Лебедев С.А. История философии науки // Новое в психолого-педагогических исследованиях. 2009. № 1. Лебедев С.А. Постнеклассическая эпистемология: основные концепции // Философские науки. 2013. № 4. Лебедев С.А., Коськов С.Н. Конвенционалистская эпистемология // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7. Философия. 2013а. № 2. Лебедев С.А., Коськов С.Н. Постпозитивизм: выход за пределы эмпиризма // Новое в психолого-педагогических исследованиях. 2013б. № 2. Лебедев С.А. Философия науки: Краткая энциклопедия. М., 2008. Лекторский В.А. Эпистемология: классическая и неклассическая. М., 2010. Современная философия науки: Хрестоматия / Сост. А.А. Печенкин. М., 1996. Степин В.С. История и философия науки. М., 2011. Философия науки: Хрестоматия / Отв. ред. Л.А. Микешина. М., 2006. Энциклопедия эпистемологии и философии науки / Под общ. ред. И.Т. Касавина. М., 2009. 75 ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 7. ФИЛОСОФИЯ. 2014. № 2 ЛОГИКА Б.В. Бирюков*, И.П. Прядко** ПРИМЕНЕНИЕ ЛОГИКИ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ: ТРУДНЫЙ ПУТЬ ОБРЕТЕНИЯ В статье рассматриваются примеры использования формальнологических методов в сфере строительства. Авторы касаются отдельных сторон исследовательского поиска, который вел выдающийся отечественный гидроинженер Н.М. Герсеванов. Показан формализованный язык, используемый Герсевановым, для обоснования устойчивости зданий. Выводы Герсеванова рассматриваются в сопоставлении с логической теорией релейных схем В.И. Шестакова. Ключевые слова: Н.М. Герсеванов, В.И. Шестаков, логическая формализация, логика в строительной сфере, расчет устойчивости сооружений, необходимые и достаточные условия устойчивости зданий, релейноконтактные схемы класса А. B.V. B i r y u k o v, I.P. P r y a d k o. The use of logic in town-planning: hard way of discovery The article deals with the use of logical methods in the construction field. The authors touch upon some aspects of research conducted by distinguished Russian engineer and logician N.M. Gersevanov. The formalized language, used by Gersevanov is preferable to substantiate the stability of buildings. Gersevanov’s logical theory is treated in the light of logic of the relaying schemes developed by V.I. Shestakov. Key words: N.M. Gersevanov, V.I. Shestakov, logical formalization, logic in civil engineering, construction stability calculation, necessary and sufficient conditions of stability of buildings, A class relaying schemes. Малоизученным аспектом в истории отечественной логики пред- и послевоенного периода являются разработки, которые были связаны с решением прикладных задач техники. Одной из таких задач было градостроительство, восстановление разрушенных гитлеровской армией промышленных предприятий. Насущные вопросы практики стимулировали исследования в теоретических ∗ Бирюков Борис Владимирович — доктор философских наук, профессор, руководитель Межвузовского центра чтения и информационной культуры Московского государственного лингвистического университета, тел.: 8 (495) 433-76-91; email: prt33@hotmail.ru ∗∗ Прядко Игорь Петрович — кандидат культурологии, доцент кафедры политологии и социологии ФГБОУ ВПО Московского государственного строительного университета, тел.: 8 (495) 588-62-12; e-mail: priadcko.igor2011@yandex.ru 76 науках. Именно применительно к строительству получило у нас в стране развитие математической логики. Несколько раньше логика нашла сферу приложения в теории синтеза и анализа релейноконтактных схем. Первопроходцем здесь стал В.И. Шестаков, не поддержанный у нас и малоизвестный на Западе. Его теория релейно-контактных схем была переоткрыта К. Шенноном. В настоящей работе мы напомним об одной малоизвестной работе отечественного гидротехника Н.М. Герсеванова, который, как и В.И. Шестаков, обдумывал проблему приложения выводов пропозициональной логики и алгебры логики к решению технических задач. Рассказ о Герсеванове, выдающемся зодчем и гидроинженере, мы предварим обращением к широко известным логико-технологическим разработкам Виктора Ивановича Шестакова. В наше время написаны сотни работ, посвященных вкладу в логическую науку этого исследователя. Мало кем оспаривается у нас в стране значимость его работ в области логического анализа проблем электротехники. Разве только представители направления, созданного С.Ю. Гавриловым, не видят принципиальных различий между идеями, высказанными, скажем, физиком Паулем Эренфестом в виде первоначальных и самых общих догадок, и практическими шагами по реализации данных идей, предпринятых В.И. Шестаковым [см.: В.Н.Рогинский, 1974, с. 293–295]. Пример технических разработок русского логика и инженера интересен еще и тем, что исследование релейно-контактных схем он проводил практически с нуля. Когда Шестаков приступал к своей работе, то ничего не знал о предложениях П. Эренфеста [П. Эренфест, 1910] и о более поздних выводах Н.М. Герсеванова, касающихся использования логики в сфере строительных технологий. Когда Шестаков получил возможность узнать что-либо о разработках этих ученых, его логико-инженерная концепция в своих основных фрагментах уже была завершена. В чем она состоит? В.И. Шестаков предложил интерпретировать контакты релейной схемы вырожденного (А) класса как пропозициональные переменные. При этом последовательное соединение контактов-проводников интерпретировалось как конъюнкция, а параллельное их подключение — как дизъюнкция данных переменных. Помимо этих логических знаков теория релейно-контактных схем включает и отрицание. Оно соответствует замыканию размыкающего контакта и размыканию замыкающего контакта. На этой основе системы релейных контактов-переключателей стало возможным записывать в виде формул языка логики исчисления высказываний. Причем такая запись помогала оценивать их проводимость или непроводимость. Путем преобразования формул языка логики исчисления высказываний теория Шестакова дает возможность оптимизировать 77 релейно-контактные схемы и тем самым понизить вероятность их отказов [В.И. Шестаков, 1941; Он же, 1946]. Одним из достойных предшественников Виктора Ивановича был инженер-гидростроитель Н.М. Герсеванов, научному вкладу которого мы посвящаем настоящую статью. Отметим, что логические теории, созданные с целью дальнейшего применения в технике, предшествовали развитию кибернетики, составной частью которой стали данные теории. В этой связи один из авторов настоящей статьи еще в 1964 г. писал: «К моменту оформления кибернетики методы логики уже применялись не только при анализе математических доказательств и в изучении строения математических теорий, но также при анализе теорий и понятий физики и др. естественных наук. Ее технические приложения — сначала в форме возникшей до появления кибернетики теории контактных электрических схем (логико-математическая теория релейно-контактных схем), а затем в рамках теории математических машин и теории автоматов — уже получили соответствующее развитие» [Б.В. Бирюков, 1964, с. 44]. *** Отечественный инженер Николай Михайлович Герсеванов является первым исследователем, показавшим широкие возможности применения логических схем в технике и производстве. Логический поиск Герсеванова происходил приблизительно в то время, когда В.И. Шестаков трудился над созданием логики релейноконтактных схем. Инженер-строитель, специалист в области механики грунтов и фундаментостроения Герсеванов разрабатывал формально-логическую проблематику после более чем 20-летнего периода забвения данной дисциплины. Будучи сыном известного в позапрошлом столетии строителя и архитектора М.Н. Герсеванова, он не понаслышке знал, сколь необходимы при защите проектов сооружений схемы доказательств, правильность которых гарантирует успешный ход строительства и высокое качество воплощения архитектурного замысла. Правильная аргументация влияет на решение заказчика, что немаловажно. Деятельность Герсеванова-старшего как инженера-строителя широко известна [Н.М. Будтолаев, 1950]. Он участвовал в проектировании набережных Одессы, Николаева, Кронштадта, консультировал работы в Керченском порту, возводил фортификационные сооружения на южных рубежах. В 1868–1883 гг. был главным инженером гражданских сооружений на Кавказе. Достойный сын великого государства — Российской империи, этнический грузин, уроженец Харьковской губернии, считавший себя петербуржцем, М.Н. Герсеванов был настоящим 78 русским зодчим и внес неоценимый вклад в развитие строительных технологий и приемов градостроительства. Теоретическую область строительной механики развивал Герсеванов-младший, чья деятельность пришлась на не менее знаменательный и неизмеримо более трудный советский период нашей истории [см.: Б.В.Бирюков, З.А. Кузичева, 2008, с. 194–196]. Николай Михайлович родился в Тифлисе в 1879 г., где в то время служил его отец. Уже в Петербурге получил среднее образование, а затем учился в Институте инженеров путей сообщения. Работал на строительстве железных дорог, участвовал в постройке набережных в Петербурге, Нарве, Кронштадте. В 1903 г. началась его преподавательская деятельность: он приступает к чтению лекций в своей alma mather, а в 1907 г. становится преподавателем Петербургского политехнического института. Инновационным был предложенный Герсевановым в 1914 г. расчет конструкций на сваях с большой свободной линией, нашедший применение в строительстве портов. Особую известность получил труд «Основы динамики грунтовой массы» [Н.М. Герсеванов, 1937а], содержащий теоретические начала новой научной дисциплины о грунтах. После Октября 1917 г. он становится руководителем кафедры портовых сооружений Московского института инженеров путей сообщения. Герсеванов известен как бессменный директор и научный руководитель созданного им Научно-исследовательского института оснований и подземных сооружений. НИИ проводил большую подготовительную работу по проектированию Московского метро, завода «Запорожсталь», канала Москва–Волга, Кемеровского комбината и др. В 30–50-е гг. XX в. ученым был опубликован ряд теоретических работ, ставших продолжением его дореволюционных разработок ([Н.М. Герсеванов, 1889; 1904; 1910; 1915;1917;1937б]). Под редакцией Н.М. Герсеванова выходят сборники статей по строительной механике [Вопросы инженерно-геологических исследований в строительных целях, 1937]. *** Очертим исторический фон исследований Н.М. Герсеванова. Именно в конце 40-х гг. ХХ в. стали выходить учебники по классической логике, а в конце 50-х гг., после смерти И.В. Сталина, и математическая логика перестала третироваться как псевдонаука, выводы которой якобы не совместимы с марксистско-ленинской диалектикой. Ведь еще в начале 20-х гг. в рецензии на книгу С.И. Поварнина [С.И. Поварнин, 1921], посвященную логике отношений, психолог К.И. Сотонин предрекал гибель логики как самостоятельной системы знания. В частности, он писал: «Положение логики трагикомично. <…> Вместо логики приходится созидать “теорию 79 логики”, в которой логика стремится осознать себя или, говоря прямо, которая ставит своей задачей выдумать во что бы то ни стало такую науку и которую можно было бы назвать излюбленным словом “логика”» [К.И. Сотонин, 1922, с. 54]. В рецензии Сотонин писал о чисто литературном, а не научном характере работ, посвященных логике: они, по его убеждению, отличаются от исследований психологов «беспочвенным умствованием» [там же]. Положение Герсеванова выгодно отличалось от того, в котором находились философы, ведь логика традиционно относится к их ведомству. Логики-философы (к ним нужно присовокупить логиков-математиков) вели бесконечные и малоплодотворные, с точки зрения инженеров-практиков, споры о соотношении формальной логики и диалектики. Вместе с тем уже появились учебники В.Ф. Асмуса [В.Ф. Асмус, 1947], Э. Кольмана [Э. Кольман, 1944], позже была подготовлена к печати гимназическая «Логика» С.Н. Виноградова [С.Н. Виноградов, 1953]. Герсеванов к логической проблематике подходил как ученый-практик, мало заботясь о философском, если можно так сказать, обосновании данной науки. Побудительные причины обращения Герсеванова к инструментарию логики, судя по всему, связаны с отсутствием теоретических разработок в области проектирования сооружений. Последнее обстоятельство приводило и приводит в инженерном деле к созданию прикладных теорий ad hoc с введением большого числа коэффициентов, поправок и др. Методы одной только строительной механики, по убеждению Герсеванова, не гарантируют устойчивости зданий. Теории, учитывающие возможности логической формализации применительно к технике, тогда были недостаточно известны. Но, тем не менее, работа в этом направлении шла весьма активно. Приведем здесь в пример разработку релейных схем, состоящих из соединенных проводниками контактов-переключателей, сделанную В.И. Шестаковым [см.: В.И. Шестаков, 1941; Он же, 1946] и М.А. Гавриловым (на Западе таким первопроходцем был К. Шеннон [С. Shannon, 1938], на Востоке — А. Накашима [A. Nakasima, M. Hanzawa, 1938]). Другие же исследования в технико-математическом направлении (П.А. Флоренский) оказались к 50-м гг. XX в. прочно забыты. Идея Герсеванова, изложенная в его книге, — первая в этом ряду. Однако сама по себе мысль об использовании логики и даже риторики при анализе архитектурных композиций существовала давно. Она укоренена в традиции теории архитектуры, но в отношении строительной механики была применена впервые только Герсевановым. Считается, что еще средневековые зодчие принимали в расчет риторическую теорию соответствия между сюжетом 80 речи и стилем. Градация одной геометрической темы в больших и малых формах архитектуры храмов Сен-Дени и Сен-Жермен-деПре будто бы подтверждает это. Древняя эстетическая мысль не проводила строго различия между пространственными и временными видами искусства, не проводилась дистинкция между точным и интуитивным знанием. И это означало сближение архитектуры и риторики… А что же логика и строительная механика? Обращение к методам математической логики в проектировании зданий, на взгляд авторов настоящей статьи, выглядит гораздо более оправданным. В классической механике аргументы, основанные на законах логики, использовал ее создатель — Галилео Галилей. Поэтому плодотворность логической формализации при решении сложных задач механики, обосновании ее важнейших принципов тоже была осознана довольно давно. Обратимся к работе великого физика «Диалог о двух главнейших системах мира» [Галилео Галилей, 1948]. Для доказательства истинности тезиса, что ускорение свободно падающих тел не зависит от их масс, итальянский мыслитель использовал метод сведения к абсурду. Данный вид доказательства возникает у Галилея в рамках мысленного эксперимента. Допустим, рассуждает итальянский естествоиспытатель, что большой и маленький камень привязаны друг к другу. Будут ли они в связке лететь быстрее, чем один камень, так как вместе они будут тяжелее. Или маленький камень станет тормозить движение большого? Поскольку из тезиса о зависимости ускорения свободного падения от массы тел возможны оба противоречащих вывода, следует отказаться от самого тезиса. Умозаключение Галилея вписывается в схему: (X ⊃ (Ф& ← Ф)) ⊃ ← X, где ← — отрицание, ⊃ — импликация, X и Ф — любая правильно построенная формула. Даже обращаясь к данным опыта, Галилей не только использует метод измерения, столь востребованный в точных науках, но и прибегает к заключениям по аналогии, проводя параллель между Землей и движущимся по глади воды судном. Использование приемов логической аргументации, таким образом, настолько естественно, что невозможно обойтись без них при создании какой бы то ни было естественно-научной теории. Не обошелся без использования схем формальной логики и Галилей, создавая каркас для классической механики. Но если применение логики эффективно в механике, то в одном из ее разделов — строительной механике такое использование тоже возможно и желательно. Приблизительно тем же путем, как мы думаем, продвигалась мысль русского инженера Н.М. Герсеванова. 81 *** Н.М. Герсеванов сам признавал, что разработка им формальной логики находится несколько в стороне от тех тем, которые он затрагивал в последующих работах, вошедших в его сборник сочинений. Объясняя свое обращение к логическому аппарату, к алгебре логики, российский инженер приводил следующие доводы: «Применение этой дисциплины (математической логики. — Б.Б., И.П.) дает возможность рассчитывать сооружения на прочность и устойчивость в тех случаях, когда система не поддается расчету при помощи строительной механики. Результаты расчета в зависимости от примененной логической схемы могут быть получены с любым запасом устойчивости, почему такие расчеты мы называем условными» [Н.М. Герсеванов, 1948, с. 76]. Однако такие условные расчеты дают решения с избыточным запасом прочности. Инженер и теоретик, как мы видим, так или иначе вынужден был принять во внимание требования, которые предъявлялись эпохой ускоренного создания материальной базы советского государства. В чем же состоит основной тезис исследователя, служащий отправной точкой для решения прикладных логических задач? Целью, которую ставил перед собой русский ученый при использовании приемов формально-логической аргументации, был расчет надежности набережных и портовых сооружений. По Герсеванову, в практике архитектурного проектирования встречаются случаи, когда при таком расчете невозможно ограничиться применением строительной механики, и тогда на практике применяется прием, обходящий ее методы. Вводятся условия или гипотезы, подтверждающие устойчивость рассчитываемого сооружения. Далее, переходя уже к принципам применения логики к проектированию фундаментов в строительстве непосредственно, ученый пишет: «Расчет, имеющий целью подтвердить устойчивость сооружения, может достигнуть этого лишь образованием логической цепи умозаключений или суждений, а положения строительной механики привлекаются лишь как привходящий элемент, дающий материал для составления больших и малых посылок в образуемой цепи суждений наряду с включенными в расчет условными положениями» [там же, с. 129]. Развивая свой подход, Герсеванов приходит к выводу о недостаточности простейших формально-логических схем — схем, которыми оперирует классическая логика. Потребности проектирования настоятельно требуют обращения к алгебре логики. Инженер, тем не менее, предостерегал от излишнего доверия условным суждениям, лежащим в основе умозаключений. «В этих случаях, — объясняет Герсеванов, — легко впасть в ошибку, так как последо82 вательно включенные условные положения могут оказаться друг с другом в противоречии, или же можно незаметно для себя совершить логический круг в цепи последовательных умозаключений» [там же]. Обратим внимание на особенности формализованного языка, применяемого российским инженером, и на схемы доказательств, приведенные в его работе. Н.М. Герсеванов ссылается на алфавит алгебры логики Л. Кутюра. Он пользуется им как готовым аппаратом алгебры логики. Уже на основании этого можно говорить о широкой математической эрудиции Николая Михайловича, о его стремлении подойти к проблеме проектирования зданий и сооружений с разных сторон. Герсеванову, видимо, импонировало то, что с суждениями, записанными на языке буквенного исчисления, можно оперировать по правилам, весьма напоминающим правила элементарной алгебры. Вот алфавит его языка: 1. Знак < означает условную связь между связываемыми им суждениями. Он хотя и совпадает с материальной импликацией, но интерпретируется им как условная связь. Например, А < В означает, что В — необходимое условие для А, A — достаточное условие для B. Если А < В и В < А, то А и В эквивалентны (логик ставит здесь знак равенства). 2. Через условную связь между суждениями, используя знак, выражающий эту связь, Герсеванов вводит понятие логического нуля и логической единицы. X будет равен логическому нулю, если и только если 0 < X и X < 0. X равен логической единице, если и только если X > 1 и X < 1. Отметим, что знаки постоянных 0 и 1 как отсутствие и наличие некоторого качества были использованы, по убеждению историка логики Н.И. Стяжкина, уже немецким математиком И. Ламбертом. Затем их применяли Дж. Буль и А. де Морган. 3. Кроме знака условия используются знаки логического умножения и логического сложения. Логическое умножение (= конъюнкция) обозначается математическим знаком умножения, либо его пропуском. Логическое сложение (оно представляет собой операцию дизъюнкции) Герсеванов обозначает знаком «+». Инженер-строитель приводит пример: допустим, необходимо определить устойчивость фундамента, имеющего вес Q с площадью основания ω, опущенного в грунт на глубину h, при удельном весе Δ. Согласно механике грунтов вес основания здания должен быть меньше или равен произведению Δωh: Q < Δωh. Имеем импликацию, в которой консеквентом выступает суждение об устойчивости зданий, а антецедентом — суждение об усло83 виях такой устойчивости. Герсеванов анализирует суждение: если фундамент устойчив, то вес его фундамента меньше или равен произведению трех величин: площади основания ω, глубины основания h, опущенного в грунт, и значения удельного веса грунта Δ. Обозначив антецедент переменной A, консеквент как B., Герсеванов записывает данную импликацию так (обозначив ее как (2)): A > B. (2) Антецедент, в качестве которого выступает суждение A, есть достаточное условие для консеквента B, но B не есть необходимое условие по отношению A. Если условие B не выполнено, то это вовсе не повод считать фундамент неустойчивым. Рассуждение Герсеванова позволяет говорить о том, что для него был характерен не вполне формальный подход к логике, так как связь между суждениями A и B им мыслилась как условная, т.е. он трактовал знак > не совсем как материальную импликацию и тем более не как эквивалентность. Во всяком случае, выполнимость импликативного суждения A > B (формула (2)) не гарантирует того, что будет верно обратное B > A (1), ведь могут быть введены дополнительные механические параметры, которые обеспечат устойчивость фундамента. Перейдем к применению Герсевановым логической теории доказательств. Одни из приводимых Герсевановым прямых доказательств в качестве цели имеют определение необходимых и достаточных условий устойчивости зданий. Другие прямые доказательства предполагают использование хорошо известных теперь методов, в частности закона А.А = А, где «.» — знак конъюнкции. Закон идемпотентности (XX = X) был использован уже упомянутым нами И.Г. Ламбертом, в чем континентальный мыслитель предвосхитил британца — великого Дж. Буля, но у него это положение математической логики не имело, согласно выводу Н.И. Стяжкина, общезначимого характера [Н.И. Стяжкин, 1958, с. 96]. Именно данный закон, как мы видим, был использован Герсевановым в его прямых доказательствах. Прямым доказательствам противопоставляются косвенные. В логике такие доказательства называются апагогическими, которые в свою очередь делятся на условные и разделительные. Косвенное доказательство предполагает выдвижение антитезиса доказываемого положения. Обоснование проекта сооружения происходит путем установления ложности противоречащего допущения: данное сооружение не является устойчивым. Последнее суждение подвергается фальсификации, при этом работает схема отрицательного модуса условно-категорического умозаключения: 84 X ⊃ Ф, ← Ф след., ← X . Метод косвенных доказательств, приведения к абсурду, например, использовался уже в самом начале формирования механистической парадигмы в естествознании. Обратимся к упомянутым нами диалогам Галилея. В своем теоретико-физическом произведении итальянский физик устами коперниканца Сальвати опровергает аргумент Симпличио, отчаянно защищающего картину мира Аристотеля, о «рассеянии» тел (т.е. о падении их наклонно) в случае движения Земли. Аргументация сторонника гелиоцентризма представляет собой апагогическую аргументацию, а логическая схема, используемая при этом, есть схема условно категорического умозаключения отрицающего модуса. *** Именно Н.М. Герсевановым впервые в нашей стране была предпринята попытка использования математической логики в расчете устойчивости архитектурных сооружений. Его подход был не вполне классическим, в частности он имел признаки релевантной логики, так как им рассматривалась не операция импликации, а условное суждение вида «если X, то Y». Большое для истории отечественной науки значение имело то обстоятельство, что ведущую роль в возрождении логического исследования имели работы ученого-практика, которым и был этот известный российский инженер старой дореволюционной школы. Однако применение логики в сфере строительства, предложенное Герсевановым, оказалось только эпизодом в его научных изысканиях и не было подкреплено дальнейшими разработками. Негативен был и фон для логических исследований 40–50-х гг. XX в.: началась кампания против так называемой логистики, или математической логики, и разработки в этой области противопоставлялись классической логике. Но еще более негативно система идеологических установок, связанных с отвержением логического знания, проявилась в судьбе отечественного создателя логики релейно-контактных схем Виктора Ивановича Шестакова. Разработанная им область прикладной логики позже вошла составной частью в теорию автоматов. Осмысление вклада этого ученого в решение практических задач науки и техники посредством аппарата формальной логики — тема отдельного исследования. Авторы настоящей статьи уже касались в других своих работах различных аспектов этой непростой историко-логической проблемы. Отметим в данной связи только один немаловажный факт: неумение отечественной научной общественности и властей предугадывать приоритеты в динамике 85 науки и техники — именно это, на взгляд авторов, определило торможение исследовательского поиска в логике, кибернетике. Именно эта неспособность и отчасти нежелание стали причиной заметного отставания отечественной науки в перспективных областях исследования. Перспективность применения логики в различных сферах техники была в полной мере оценена за океаном. И это, видимо, определило первенствующее положение, которое получили кибернетика и информатика в США во второй половине XX в. Не будем же мы слепы! Не будем забывать те вехи, которые прошла отечественная логика в XX в., яркими представителями которого были Н.М. Герсеванов и В.И. Шестаков. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ Асмус В.Ф. Логика. М., 1947. Бирюков Б.В. Логико-математические аспекты теории автоматов // Науч. доклады высшей школы // Философские науки. 1964. № 5. Бирюков Б.В., Борисова О.А. Левин В.И. О вкладе В.И. Шестакова в создание логической теории релейных схем // Вопросы философии. М., 2009. Бирюков Б.В., Кузичева З.А. Из истории приложения логики: О работе Герсеванова «Применение математической логики к расчету сооружений» // Современная логика: проблемы теории, истории и применения в науке: Материалы X Общероссийской научной конференции. 26–28 июня 2008 г. СПб., 2008. Бирюков Б.В., Шахов В.И. Первые приложения логики к технике. От приложения логики к расчету сооружений и релейным схемам к логической теории размерностей физических величин // Логические исследования. М., 2007. Вып.14. Будтолаев Н.М. Выдающийся теоретик портовой гидротехники М.Н. Герсеванов: очерк жизни и деятельности: К 120-летию со дня рождения. М., 1950. Виноградов С.Н., Кузьмин А.Ф. Учебник логики. Логика: Учебник для средней школы. М., 1953. Вопросы инженерно-геологических исследований в строительных целях: Сб. статей / Ред. Н.М. Герсеванова М.; Л., 1937. Галилео Галилей. Диалог о двух главнейших системах мира / Пер. А.И. Долгова. М.; Л., 1948. Герсеванов М.Н. Рисование как общеобразовательный предмет: Доклад XII секции Оргкомитета съезда по техническому образованию. СПб., 1889. Герсеванов М.Н. Воздушные замки в области гидротехники. СПб., 1904. Герсеванов Н.М. Общий метод решения упругого равновесия плоского изотропного тела и тонкой пластинки, ограниченных двумя кривыми линиями. СПб., 1910. Герсеванов Н.М. Расчет боковых стенок и сплошного каменного фундамента сухих доков по методе Франциуса. СПб., 1911. 86 Герсеванов Н.М. Постройка железобетонных опор для углеперегружателей в Петроградском порте. Петроград, 1915. Герсеванов Н.М. Об определении сопротивления свай по их отказу. Петроград, 1917. Герсеванов Н..М. Основы динамики грунтовой массы. М.; Л., 1937а. Герсеванов Н.М. Теории и построение инженерных номограмм. М.; Л., 1937б. Герсеванов Н.М. Применение математической логики к расчету сооружений // Герсеванов Н.М. Собр. соч.: В 2 т. М., 1948. Т.1. Карлик Л.Н. Франсуа Мажанди // Клиническая медицина. 1959. Т. 37. № 2. Кольман Э. Учебник логики. М., 1944. Левин В.И. Акира Накашима и логическое моделирование дискретных схем // Смирновские чтения по логике: 5-я конференция. 20—22 июня 2007 г. // Смирновские чтения. М., 2007. Николай Михайлович Герсеванов: К 70-летию со дня рождения и пятидесятилетию инженерной, научно-педагогической и общественной деятельности. М., 1946. Отзыв о работе аспиранта Шестакова за первое полугодие 1934–1935 гг. Проф. Горелик. 4.02.1935 г. // Архив В.И. Шестакова. Раздел «Учебные дела». Поварнин С.И. Введение в логику. Пг., 1921. Предисловие редакции // Тарский А. Введение в логику и методологию дедуктивных наук / Пер. с англ. и предисл. к рус. Пер. С.А. Яновской. М., 1948. Рогинский В.Н. Релейно-контактных схем теория // Энциклопедия кибернетики. Киев, 1974. Т. 2. Сотонин К. [Рецензия на книги Поварнина С.И. «Введение в логику», Лосского Н.О. «Логика. Часть I. Суждение»] // Казанский библиофил. Казань, 1922. № 3. Стяжкин Н.И. К характеристике ранней стадии в развитии идей математической логики // Философские науки. 1958. № 3. Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетики / Пер. Р.Л. Добрушкина и О.Б. Луганова. М., 1963. Шестаков В.И. Алгебра двупольных схем, построенных исключительно из двухполюсников (Алгебра А-схем) // Журнал теоретической физики. 1941. Т. 11. Вып. 6. Шестаков В.И. Представление характеристических функций предложений посредством выражений, реализуемых релейно-контактными схемами // Известия АН СССР. Сер. Математика. 1946. Вып. 10. Эренфест П. Рецензии на русский перевод кн. Л. Кутюра «Алгебра логики» // Журнал русского физико-химического общества. 1910. Т. 42. Отд. 2. Вып. 10. Nakasima A., Hanzawa M. Theory of equivalent transformation of simple partial paths of relay circuits // Nippon Electr. Commun. Engineering. 1938. N 9. Shannon C. Symbolic analysis of relay and switching circuits / Trans of Amer. Institute of Electr. Engineers. 1938. Vol. 57. 87 ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 7. ФИЛОСОФИЯ. 2014. № 2 ЭСТЕТИКА М.Н. Афасижев* НОВАЯ ИСТОРИЯ ЭСТЕТИКИ В статье рассматриваются последние достижения в исследовании и интерпретации истории эстетики от Античности и до нашего времени. Впервые комплексный подход к изучению философско-эстетических теорий искусства, представленных в небывалой для предыдущих зарубежных и отечественных историй эстетики полноте — от древневосточных до современных зарубежных и отечественных работ, находит свое последовательное применение. Общая картина современных исследований эстетики впечатляет разнообразием и богатством полученных результатов, в целом адекватно отражающих общие и специфические черты классического искусства прошлого, а также авангардных и постмодернистских направлений ХХ в. Ключевые слова: эстетика, прекрасное, возвышенное, искусство, творчество, восприятие, содержание, форма, романтизм, реализм, идеализм, позитивизм, феноменология, экзистенциализм, структурализм, катарсис, поэзия. M.N. A f a s i z h e v. The new history of aesthetics The article is devoted to the latest achievements in research and interpretation of the history of Aesthetics — from Classical Antiquity till these latter days. The consistent application of the complex method to the research of philosophical-aesthetical theories of art is presented with all-time completeness– from old eastern to contemporary Russian and foreign investigations — and can be seen as the modest feature of the article. The general picture of the contemporary researches in the field of aesthetics impresses with a variety and rich content of the results achieved. They adequately reflect main and special characteristics of classic art as well as the avant garde and postmodernistic tradition of XX. Key words: Aesthetics, the beautiful, the sublime, art, creativity, perception, content, form, romanticism, realism, idealism, positivism, phenomenology, existentialism, structuralism, catharsis, poetry. В последнее время вышло в свет несколько учебных пособий по эстетике, но только в прошлом году после долгого перерыва в Санкт-Петербурге была издана «История эстетики» (СПб., 2011), которая принципиально отличается от предыдущих эстетик как по методу исследования, так и по полноте представленного в ней материала по истории эстетики и теории искусства. ∗ Афасижев Марат Нурбиевич — доктор философских наук, профессор, тел.: 8 (495) 931-33-17; e-mail: estet@philos.msu.ru 88 Как заявлено во Введении, «в данном учебном пособии избран метод исторического подхода к теоретическому материалу, иначе говоря, дискурс современной эстетики выстраивается через ее историю. Исторический метод изложения отличается от систематического тем, что он показывает теорию не в устоявшемся виде, а в процессе ее становления» (с. 9). Эта особенность изложения материала определяет активность его восприятия, одновременно стимулируя интеллектуальный интерес к его содержанию и эстетические эмоции самим процессом его усвоения. И, по сравнению с «систематическими» историями, которые представляют собой лишь филиацию идей в отрыве от истории искусства и утомляют своим однообразием, чтение этого учебного пособия подобно увлекательному путешествию по знакомым странам, которые предстают в новом свете и побуждают вновь и вновь к ним возвращаться. Этот метод изложения помогает освоить довольно обширный по объему материал по истории эстетики от Античности до наших дней. Он состоит из трех разделов: «Предыстория философской эстетической мысли», «Классическая эстетики» и «Эстетика ХХ века». Не претендуя представить их содержание во всем разнообразии и полноте, обратим внимание лишь на особенности в изложении и интерпретации некоторых проблем истории эстетики. Первый раздел открывается кратким изложением специфики проявления эстетического в жизни и искусстве древних восточных культур Индии, Китая и Японии. Эти в прошлом замкнутые и недоступные для европейцев страны в процессе глобализации вошли в систему взаимоотношений с западной культурой и активно осваивают не только современные технологии, но и европейское искусство. Например, в исполнительском музыкальном искусстве они достигли впечатляющих успехов и нередко их представители занимают первые места на различных европейских конкурсах. Непреодолимым барьером пока остаются языки этих стран, но не для них, а для нас. Японцы и китайцы активно осваивают языки других стран и русский в том числе. Не пора ли и нам взяться за изучение японского и особенно китайского языков? Не помешает и знание арабского языка. Это поможет не только освоению их культуры и искусства, но и укреплению добрососедских отношений с ними. Далее следует параграф «Умопостигаемая красота античного мировосприятия», в котором представлено движение философской мысли от натурфилософов, пифагорейцев к философии искусства Сократа и Платона, которое завершается теорий искусства Аристотеля. При этом в качестве причины и активизации этого движения называются внутренняя конфликтность между философскими определениями красоты, гармонии и идеала и возможностями их 89 воплощения в искусстве или «излишняя концентрация на телесной красоте, формальном совершенстве, особенно ярко проявляющая себя в развитии искусства, с одной стороны, и радикальный протест против телесного, возвышение до сферы идеального, и даже протест против искусства в принципе, с другой…» (с. 56). По сути, эта внутренняя конфликтность относится к Платону, который в процессе своей эволюции объявлял, что «поэт — это существо легкое, крылатое и священное; и он может творить лишь тогда, когда сделается вдохновенным и исступленным и не будет в нем более рассудка…» («Ион», 534 a–b). А в последних диалогах он считал возможным и необходимым установить в созданном его воображением идеальном государстве строгую цензуру и побуждать и даже принуждать поэтов — этих исступленных и безрассудных! — к созданию произведений, полезных для воспитания юношества и простого народа («Государство», 387 a–c), поступая, по признанию Платона, не как поэт, а как законодатель, вынужденный избирательно относиться к творчеству Гомера и других поэтов, вычеркивая в их поэмах сцены раздоров, насилий, убийств и т.д. Отрицательно Платон относился и к изобразительному искусству, считая его вторичным отражением идеальных сущностей — Блага, Красоты, Истины и других, представляющих вечную надмировую реальность. Отмеченный в данной главе конфликт между идеальным и телесным в жизни и искусстве, впервые зафиксированный Платоном, будет иметь продолжение во всех последующих идеалистических и религиозных концепциях искусства. Но помимо него в античной эстетике завязалось и плодотворное взаимодействие между искусством и наукой, выразившееся в теоретическом и технологическом применении науки к проектированию и созданию произведений изобразительного и музыкального искусства. И если рождение философии связывается с трудами натурфилософов, то начало науки неотделимо от имени Пифагора — создателя математики, впервые применившего ее к исследованию музыкальной гармонии, побудившего скульптора Поликлета математически рассчитать модель гармонической фигуры человека и воплотить ее в скульптуре. Как установлено в данной главе, в философии Платона и Пифагора реализуется сходный принцип принижения чувственности как в познании мира, так и в искусстве в пользу умственного созерцания совершенных форм и идеальных сущностей. Но если в философии Пифагора этот принцип применяется последовательно при решении проблем космоса и искусства, то в диалогах Платона, по справедливому замечанию автора данной главы С.Б. Никоновой, «Платон оставался не только философом, но и художником, и его диалоги являются шедевром античной литературы» (с. 56). 90 И это наводит на следующую мысль: а не «уничтожает» ли Платон художественной формой своих диалогов свою же концепцию красоты и искусства как выражение сверхчувственных идей и форм? И не это ли является причиной колебаний философа, то принижающего чувственность, то признающего ее как едва ли не главную особенность искусства. И если в «Пире» он демонстрирует то, как происходит преодоление чувственного восприятия по мере восхождения к идее красоты самой по себе, то, например, в позднем диалоге «Законы» Платон, формулируя принципы оценки искусства, утверждает, что мерилом мусического искусства является чувственное удовольствие для всех граждан. Но далее он выделяет среди них наиболее достойных и добродетельных и утверждает: «Однако прекрасной я признаю ту Музу, что доставляет наслаждение не первым встречным, но людям наилучшим, получившим достаточно хорошее воспитание» («Законы», 658е). Это, пожалуй, первое в истории утверждение элитарности искусства, предназначенного для избранных, в данном случае — для аристократических слоев общества, к которым принадлежал по своему происхождению и сам Платон. Так что при увлекательном чтении художественно ярких диалогов Платона нередко сталкиваешься с двусмысленностью его суждений об искусстве. Далее в этой главе рассматриваются теория искусства и его функции в эстетике Аристотеля. Как справедливо указано в учебнике, в отличие от Платона, «для Аристотеля во всех сферах важнее реальное положение дел; то, что действительно есть, а не то, что должно быть» (курсив С.Б. Никоновой). Так что же есть у Аристотеля нового? И хотя вклад Аристотеля в теорию искусства в учебнике, в общем, показан репрезентативно, все же, как мне представляется, он нуждается в некотором дополнении, касающемся психологии художественного творчества и восприятия искусства в трудах Аристотеля. И, испытывая некоторую неловкость за нарушения принятого «формата» рецензий — писать о том, что есть, а не о том, чего нет, все же необходимо обратить внимание на самое важное достижение эстетики Аристотеля в области чувственности как основы художественного творчества и искусства. Тем более, если придерживаться заявленного во Введении учебника определения А.Ф. Лосева «эстетического как выразительной формы», характеризуя выразительность как «доступную чувственному восприятию ценность, которая образуется в результате синтеза двух планов — внешнего и внутреннего», то можно сказать, что эта формулировка в полной мере соответствует концепция искусства Аристотеля, которая основана на его теории души. Согласно Аристотелю, «душа необходимо есть сущность в смысле формы естественного тела, обладающего возможностью жизни. 91 Сущность же (как форма) есть энтелехия. Энтелехия имеет двоякий смысл или такой, как знание, или такой, как деятельность созерцания» («О душе», 412а, 20–25). То есть именно энтелехия как функция души определяет жизненные цели человека. Ибо «душа есть причина и в значении цели… Цель же понимается двояко: как то, ради чего, и как то, для кого» («О душе», 415а, 15–21). Учение Аристотеля о душе явилось величайшим достижением античной философии, положившим начало появлению научной психологии. По заключению отечественных психологов А.В. Петровского и М.Г. Ярошевского, «коренной поворот в познании этой области и работе по построению предмета психологии принадлежал Аристотелю… Грянула великая интеллектуальная революция, от которой следует вести счет новому воззрению на психику» [А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский, 1995, с. 62–63]. Как же учение о душе определило представление Аристотеля о причине и целях художественного творчества? Во-первых, он выделил художественное творчество из общего понятия «подражание», обозначавшего в Античности всякую целесообразную деятельность по созданию полезных вещей. В известной степени Аристотель художественное рассматривал как бескорыстную деятельность, в отличие от «искусства» создания утилитарных вещей. По его словам, «после того, как было открыто больше искусств, одни служили для удовлетворения необходимых потребностей, другие — для времяпрепровождения; изобретателей последних мы всегда считаем более мудрыми, нежели изобретателей первых, так как их знания были обращены не на получение выгоды», заключал он («Метафизика», 981b, 17–22). Так, впервые, по сути, задолго до Канта была определена неутилитарная функция эстетического как своего рода «необходимая потребность» для праздного времяпрепровождения. Аристотель в науке и искусстве решающее значение придавал не врожденному знанию, как Платон, а практике или опыту как причине возникновения всех форм творчества. «А наука и искусство возникают у людей через опыт», — заключал он («Метафизика», 981а, 2–30). Именно опыт необходим для изучения и овладения мастерством при создании произведений искусства. «Вообще все, что мы имеем от природы, — утверждал философ, — то мы первоначально получаем лишь в виде возможностей и впоследствии преобразуем их в действительности. Например, архитектор (научается своему искусству), строя дома, артист на кифаре, играя на кифаре» («Этика Никомаха», 11, 1). В итоге: «Искусство, — по его словам, — есть творческая привычка, следующая истинному разуму» («Этика Никомаха», V1, 4). И, как заключает Аристотель, источником творческого процесса 92 в искусстве являются побуждения художника к свободному проявлению его внутреннего мира. Ибо в искусстве «принцип создаваемого заключается в творящем лице, а не в творимом предмете, так как искусство касается не того, что существует и возникает по необходимости, а также не того, что существует от природы…» («Этика Никомаха», V1, 4). Однако не только импульсы, но и формы искусства, понимаемые как организация содержания художественного творчества, опосредуются внутренним миром художника. «А через искусство возникают те вещи, форма которых находится в душе (формой я называю суть бытия каждой вещи и ее первую сущность», — утверждал философ («Метафизика», 1032b, 1–3). То есть формы вещей, которые художник воплощает в искусстве, были им раннее усвоены на практике и в преобразованном, идеальном виде служат предметами его произведений. (Удивительно ли, что эту универсальную модель творчества в искусстве Н.В. Гоголь в повести «Портрет» почти дословно описал при характеристике картины петербургского художника, выставленной в Академии художеств: «Видно было, как все извлеченное из внешнего мира художник заключил сперва себе в душу и уж оттуда, из душевного родника, устремил его одной согласной, торжественной песнью» [Н.В. Гоголь, 1973, с. 299]. Таким образом, теория художественного творчества Аристотеля выходит за рамки трактовки искусства как пассивного «подражания» предметам действительности или абстрактным «идеям» Платона. Ибо художник на основе опыта познания предметов действительности преобразует их формы и воплощает в них различные цели или «энтелехии» и этим создает некое нейтральное — «возможное» или «вероятное» — бытие как особую идеализированную реальность. Это положение Аристотеля, как показано в главе 23 данного учебника, было через много столетий по достоинству оценено представителем феноменологии Р. Ингарденом (с. 616). Аристотель в своей теории художественного творчества, по сути, представил общую схему и этапы всякого технологического создания любых вещей, которому предшествуют идеальные образцы будущих изделий, являющихся обобщением предыдущего опыта их изобретения и создания. Таким образом, Аристотель впервые обосновал научную для своего времени теорию художественного творчества. Ее продолжением является его теория искусства в аспекте его воздействия на публику на примере античной трагедии как наиболее массового и актуального вида искусства своего времени. Этому посвящена его знаменитая «Поэтика», кратко, по сравнению с платоновской теорией искусства, представленная в данном учебнике. 93 Следует обратить внимание в «Поэтике» на то, что при определении содержания фабул трагедий, способных выполнять свои основные функции, Аристотель, по сути, формулирует эстетические принципы их организации — быть непредсказуемыми и неожиданными. Так, непременными свойствами сюжетной фабулы он называет «перипетии — перемены событий к противоположному по законам вероятности и необходимости», «узнавание — переход от незнания к знанию», ведущий или к дружбе или к вражде лиц, назначенных к счастью или к несчастью» («Поэтика», 52а, 22–30). Таким образом, драматический поэт, согласно общему заключению Аристотеля, «должен доставлять с помощью художественного изображения событий удовольствие, вытекающее из сострадания и страха» («Поэтика», 52b, 11–13). Этим достигается катарсис или очищение этих и им подобных чувств и страстей. И если, согласно высказыванию Гёте, критерием истинности теории является ее плодотворность, то из всех дошедших до нас из античного «далека» концепций искусства теория «катарсиса» Аристотеля до сих пор не только не предана забвению, но и получает различные интерпретации и развитие при анализе не только театрального искусства, но и литературы, музыки и даже живописи. Это очевидно на примере содержания книги «Катарсис: Метаморфозы трагического сознания» (СПб., 2005), в которой эта теория успешно применяется к теории искусства прошлого и современности. Таким образом, в античной Греции платоновская концепция искусства как выражение умопостигаемого идеала красоты и теория искусства Аристотеля как воплощение реальных чувственных и социокультурных потребностей человека образовали диалектический узел противоречий, которые по-разному, с различными вариациями разрешались в теории и истории европейского искусства. И в этот процесс уже с Античности вначале редко, а затем все более интенсивно вмешивается наука, апофеоз которой в создании новых — технических — видов искусства (кинематографа, телевидения и интернета) приходится на ХХ в. Далее в эллинизме, как установлено в книге, торжествует «платоновская концепция идеальной красоты… а понятие о специфическом художественном содержательном удовольствии, которое сформулировал Аристотель, из теории искусства исчезло» (с. 73). Эта же тенденция характерна и даже усилилась в эстетике Плотина, которая «во многом определила основы христианского взгляда на красоту и возможность выражения сверхчувственного» (с. 75). В третьей главе «Средневековая эстетика» кратко, но содержательно дана характеристика и эволюция средневековой культуры от Античности к эпохе Возрождения, которая наступила, по заключению ее автора А.Г. Погоняйло, в результате «распадения вер94 тикальной иерархии и ее преобразования в горизонтальный миркартину… Мир становился “разнообразным”» (с. 109). Именно «разнообразие» как общая характеристика эстетического становится главной доминантой материальной и духовной культуры Ренессанса. И не случайно именно изобразительное искусство наиболее наглядно и радостно выразило возрожденную на новой гуманистической основе античную гармонию идеальной и чувственной красоты Человека, философско-эстетической основой которой стало взаимопроникновение неоплатонизма и эстетики Аристотеля. Это символично выразилось во фреске Рафаэля «Афинская школа», в центре которой среди античных философов и ученых изображены дискутирующие фигуры Платона и Аристотеля. При этом ослабление влияния неоплатонизма, культивируемого в Платоновской академии, сказалось в антропоцентризме и признании ее членами не только духовной, но и телесной красоты человека. И не случайно по заказу члена академии Боттичелли изобразил в картине «Рождение Венеры» прекрасную богиню во всем блеске ее нагой красоты — недопустимая вольность в эпоху Средневековья! В то же время важную роль в культуре Ренессанса стала играть наука, и, как показано в данной главе, не случайно наряду с богословом Фомой Аквинским возникает и фигура немецкого теолога, а также астронома, математика и географа Николая Кузанского, который утверждал, что «бог пользовался при сотворении мира арифметикой, геометрией, музыкой и астрономией…» (с. 123). И многие поэты, архитекторы и художники, начиная с Данте, Петрарки, Джотто, Брунеллески, Леонардо да Винчи, Микеланджело, вовсе не стремились к иллюстрации в своем искусстве религиозных и философских учений, а сами разрабатывали теоретические основы и цели своего творчества, проверяя их на практике и совершенствуя в своем творческом развитии. И, как справедливо отметил А.Г. Погоняйло, начиная с «Божественной комедии» Данте Алигьери «Новое время тихо постучалось в дверь» и с этого времени «поэтический вымысел стал возвещать истину не хуже, а то и лучше богословского текста…» (с. 110). Как показано автором в данной главе, наряду с поэтическим вымыслом, характерным в основном для Данте, Петрарки, Боккаччо, архитекторы, скульпторы и художники в искусстве и в своем творчестве стремились к использованию математических наук для совершенства формы своих произведений. Так, например, Брунеллески открыл и впервые применил на практике перспективное построение пространства в архитектуре, а Альберти сформулировал теоретическое обоснование перспективы и содействовал ее внедрению в живописное искусство, которое получило метод 95 более масштабного и реалистического изображения действительности. Не случайно же Леонардо да Винчи живопись называл «наукой и законной дочерью природы» — в его время не было иного средства для изображения предметов научного исследования — для классификации растений, строения человеческого организма и для создания проектов различных механизмов и т.д. В целом чтение этой главы дает достаточно полное представление о теории и практике искусства Ренессанса, например, о поэзии Данте, Петрарки, о прозе Боккаччо, светской архитектуре — о дворцах и палаццо, круглой архитектуре, портрете, опере и т.д. Далее в параграфе «Искусство между воображением и рассудком. Эстетика ХVII века» ее автор Е.Н. Устюгова рассматривает ХVII в. как эпоху, внутри которой происходила смена парадигм искусства — от барокко до классицизма. «Барокко в большей степени выражало осмысление и переживание крушения старой картины мира, а классицизм — тенденцию сопротивления разрушению, но не ради консервации старого порядка, а ради стремления построить новую парадигму» (с. 152). В этих пределах эволюции теории и практики эпохи кратко, но доказательно и стилистически безупречно показано отличие этой эпохи от средневекового религиозного символизма и ренессансного антропологизма, что обусловило утверждение мировоззрения Нового времени и соответствующих ему теорий и практики искусства. Этот параграф, без сомнения, вносит ясность в не совсем четкое отличие искусства барокко от искусства классицизма, тем более что в эту «конкурентную борьбу» вмешалось реалистическое искусство, представленное голландской реалистической живописью — Я. Вермером, Ф. Хальсом и другими мастерами. Первый раздел завершается главой «ХVIII век — век Просвещения». Трудно в короткой рецензии даже бегло охватить временную и пространственную панораму этого века науки, разума, революций, и не только социальных, но и в области философии, теории и практики искусства. Именно тогда в работах А.Г. Баумгартена возникает философская категория — «эстетика», обобщающая различные аспекты искусствознания, из которых на первое место выдвигается чувственное познание как специфическая особенность искусства. Возможно, это в некоторой степени стимулировало и повышенное внимание французских и английских философов к проблеме вкуса, которую по-своему решали Вольтер, Монтескье, Шефтсбери, Д. Юм, Бёрк и Дидро в своих теоретических и критических статьях об искусстве живописи, литературы и театра. Последний особенно широко был популярен в европейских странах и этим вызывал пристальное внимание со стороны не только Дидро, но и Руссо, Лессинга и др. В России театр, возникший на исходе 96 эпохи Просвещения, стал пользоваться большим влиянием, а в следующем ХIХ в. на его сцене ставились такие шедевры, как «Ревизор» Гоголя, «Горе от ума» Грибоедова, пьесы Н. Островского и многие другие. В век Просвещения центр философских и эстетических дискуссий, возникновение новых концепций теории и практики искусства переносится в северную Европу и достигает России. В этом параграфе впервые в истории эстетики подробно охарактеризована деятельность русских просветителей — Ф. Прокоповича, А. Кантемира, М.В. Ломоносова и А.Н. Радищева. Раздел второй, обозначенный как «Классическая эстетика», открывается главой «Эстетика Канта: от метафизики красоты к аналитике вкуса». Ее автор Т.А. Акиндинова кратко и содержательно представила мотивы и новаторство Канта в трактовке красоты, искусства, художественного творчества, позволившей ему сделать парадоксальный вывод: эстетика не имеет особого объекта исследования наряду с природой и свободой и не может быть включена в систему доктринальной философии наряду с метафизикой природы и метафизикой нравов. Нет смысла пересказывать содержание кантовского подхода к эстетике, который все время находится в центре внимания тех, кто пишет не только о ее истории, но и о современных эстетических тенденциях. От многих ее описаний данный параграф отличается аналитическим характером в обосновании мотивов и следствий «коперниковского переворота», осуществленного Кантом, когда не предмет, а субъект с его способностями и потребностями определяет природу эстетического и искусства в их соотнесении с наукой о природе и свободой или нравственностью. И в характере решения этих вопросов остается все же много неясного и имеется много (диалектических?) противоречий. Особенно это относится к его теории художественного творчества и к определению гения в искусстве. Например, Кант утверждал: «…гений — это талант (природное дарование), который дает искусству правило». При этом он уточняет: «…в произведениях гения правила дает природа (субъекта), а не заранее обдуманная цель искусства (создать прекрасное)» [И. Кант, 1966, т. 5, с. 323, 364]. То есть не внешняя природа, которая окружает человека, а его внутренняя природа, которая в результате долгой эволюции образовала его нервную систему, мозг и органы восприятия. Не этот ли тезис стимулировал многочисленные исследования биопсихологических особенностей или «красоты мозга»? Кроме того, во многих исследованиях эстетики Канта осталась незамеченной его формулировка мотива и реальных функций эстетического и искусства в его время, когда труд становится при97 нудительным «искусством для заработка», а в противоположность ему «свободное» искусство становится «целесообразным как игра» [там же, с. 319]. И, несмотря на предельную изоляцию в своем образе жизни, Кант почувствовал тенденцию к разделению труда и сведению его к однообразной и монотонной деятельности в современном ему обществе первоначального накопления капитала, в котором, по его определению, «свобода представлена в большей мере в игре, чем при закономерном деле» [там же, с. 278]. Но, зафиксировав начало тенденции к эскапизму в жизни и искусстве, Кант не одобрял ее и в итоговом определении гения подчинил полет его воображения рассудку или вкусу, который должен принимать во внимание уровень культуры современного ему общества, идти на компромисс с ним. Как известно, Кант начал свою деятельность как ученый, но потом «застрял» в метафизике, и, может быть, стоит применить к его философии и эстетике современную науку и ясно определить, что же мы имеем в «остатке» от его сложных построений и противоречивых суждений. И что может послужить для решения проблем художественного творчества и «тайн» искусства гениев. Эти проблемы, как показано в главе 8, стремились во многом в духе кантовской эстетики решить в своих дискуссиях Ф. Шиллер и И.-В. Гёте. И если Гёте, уделявший изучению природы в ее разнообразных проявлениях не меньше времени, чем искусству, в противовес Канту обосновывал необходимость в художественном творчестве «верно и смиренно копировать природу», то Ф. Шиллер, гениальный поэт и друг Гёте, главным и наиболее ценным в эстетике Канта считал игру, посредством которой возможна полная изоляция от враждебной человеку действительности в «эстетической видимости» или в «эстетической свободе». Абсолютизация игры как главного свойства искусства откровенно выражена в ставшем знаменитым выражении Шиллера: «Человек играет только тогда, когда он в полном значении слова человек, и он бывает вполне человеком лишь тогда, когда играет» (с. 238). Таким образом, по Шиллеру, игра, которая у Канта служит лишь для активации познавательных способностей — воображения и рассудка, становится главной целью в жизни людей. И, тем не менее, поэт предугадал все возрастающую потребность в неутилитарных, игровых формах, которые в наше время заполонили все виды физической и духовной деятельности. Далее главы 9 и 10 посвящены искусству романтизма. В европейских странах романтизм проявился как продукт гения или как реализация творческих устремлений «романтической души в поисках формы» в разных видах искусства, главным образом, в поэзии и особенно в музыке, которая до сих представляет собой нетленную 98 художественную ценность. А в философии Ф. Шеллинга созидательная природа гения в искусстве получила обоснование в способе его активного творчества, в результате которого происходит соединение сознательной и бессознательной деятельности, необходимости и свободы, а, в конечном счете, по словам Шеллинга, приведенным в тексте главы, «конструирование искусства в целом и его особенных форм…» (с. 304). Следующие главы 11 и 12 посвящены эстетике Г.В.Ф. Гегеля и А. Шопенгауэра. Эстетика Гегеля представлена в ее непреходящей ценности и фундаментальности без набивших оскомину «критических» замечаний и особенно упреков в идеализме, как заключительный этап «мировой Одиссеи духа», воплотившийся в истории искусства, удивительно совпадающей с диалектическим развитием Абсолютного духа в направлении к все большему и большему одухотворению его в разных видах искусства — от архитектуры к музыке и поэзии. Эстетика Гегеля в его общей теории искусства, эволюция которого происходила во все исторические эпохи, является самой полной и концептуальной историей искусства, где его основные виды представлены во всем спектре их содержательных, формальных и стилистических особенностей. Прочитав главы «Системы отдельных искусств», поражаешься, с какой скрупулезностью и точностью проводится Гегелем искусствоведческий анализ архитектуры, скульптуры и живописи, и приходишь к выводу, что ими можно смело заменить любые справочники и путеводители при посещении Египта, Греции и других европейских стран. Например, в главе, посвященной живописи, находим общее определение ее содержания, чувственного материала и принцип его художественной обработки; затем рассматривается художественный замысел, композиция, историческое развитие живописи — византийской, итальянской, нидерландской и немецкой. То же характерно и для музыки, и для поэзии. Удивительно, почему искусствоведы мало обращаются к философски глубокой и энциклопедически полной в историческом освещении мирового искусства эстетике Гегеля. Так и хочется воззвать: «Читайте эстетику Гегеля!» Но читайте не с целью его разоблачить или проделать с ним «сальто-мортале» — поставить с головы на ноги, а оценить его по достоинству. И, как справедливо отмечено автором данной главы В.В. Прозерским, «несмотря на то, что Гегель традиционно подвергался критике и “справа”, и “слева”, многие положения его эстетики оказались настолько бесспорными, что неоднократно повторялись, потеряв авторство, в последующих трудах теоретиков различных позиций и мнений» (с. 340). Не этим ли объясняется отсутствие в нашей литературе монографии, посвященной эстетике Гегеля. Ведь обос99 нованно критиковать ее почти невозможно, а излагать — бессмысленно, ибо лучше самого Гегеля этого никто сделать не сможет. После Гегеля Шопенгауэр представляется мне компиляцией идей Канта, Гегеля с примесью мистики и физиологического натурализма. Последнее выразилось в том, что гений в искусстве представлен им как «чудовищное исключение», поскольку его мозг больше, чем у обычных людей изолирован от его тела — этого вместилища воли и инстинктов — и «имеет необыкновенное развитие и величину — особенно в ширину и высоту» (т. II, с. 404). В главе 15, посвященной эстетике Ницше, анализируются этапы его творческой эволюции начиная с его сочинения «Рождение трагедии из духа музыки», в котором он по-новому представил культуру Древней Греции, выделив в ней два противоположных начала: аполлоническое — воплощение красоты порядка и дионисическое — воплощение беспорядка и хаоса. Ницше представлен как «философ жизни», что определило различные аспекты его биографии и творчества — этические, эстетические, религиозные, метафизические и гносеологические, оказавшие огромное влияние на европейскую эстетику и искусство. В главе 13 представлены отечественные эстетики, теоретики и критики искусства. Невозможно в краткой рецензии не только осветить, но даже перечислить их. Особенно впечатляет тот факт, что уже с начала ХIХ в. эстетика преподавалась в учебных заведениях России. Как показано в данной главе, в Царскосельском лицее ее преподавал П.Е. Георгиевский, в Петербурге — А. Галич, в Московском университете А.Ф. Мерзляков, в Харьковском — Л. Якоб. Кроме того, в Московском университете в 30-е гг. проблемы философии и эстетики активно обсуждались в кружках Н.В. Станкевича и А.И. Герцена, куда входили В.Г. Белинский, К.С. Аксаков, Т.Н. Грановский, К.Д. Кавелин и др. Затем на смену им в 50–60-е гг. пришли Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, народники — М.Л. Лавров и Н.К. Михайловский, а позже и марксист Г.В. Плеханов. Далее, в главе 14, главах 18–20 впервые последовательно и интересно, с научных позиций представлено движение эстетики в России — «от утилитаризма к символизму» во второй половине ХIХ и к «символизму в русской эстетике Серебряного века», а далее — от «формальной школы к структурному анализу текста» — к «полифонии и диалогизму» в эстетике М.М. Бахтина. Затем в главе 21 «Эстетика марксизма: революционное искусство и революция в искусстве» кратко, но содержательно представлены эстетические идеи К. Маркса и их развитие и трансформация в трудах Г. Лукача и В. Беньямина. Б. Брехта, а также и представителей Франкфуртской школы — Т. Адорно, Г. Маркузе. 100 И наконец, в главе 22 «Судьбы марксистской эстетики в России. Постмарксистская эстетика 90-х годов ХХ века» показано, как завершается эпопея российской эстетики, тесно связанной с идеологией марксизма. Марксистская эстетика рассматривается, начиная с ее возникновения и заканчивая современными исследованиями. В ней много нового материала, раннее или не публиковавшегося, или представленного в идеологически искаженном виде. В отличие от имеющего место неполного освещения истории отечественной эстетики, авторы данного учебника придерживаются последовательного объективного изложения идей и положений таких эстетиков и теоретиков искусства, как А.В. Луначарский, А.А. Богданов, Л. Троцкий, В. Фриче и др., которые в свое время подвергались беспощадной критике и осуждению за «отступление» от линии партии и обвинялись в других «грехах» подобного рода. Например, была резко пресечена попытка А.В. Луначарского применить к искусству современные ему психологические теории, осуществленная в его статье «Основы позитивной эстетики», в которой он обобщил идеи английских позитивистов Г. Алена, Г. Спенсера, Ф. Ницше и А.А. Богданова. В ней во многом было предугадано и сформулировано положение, подтвержденное наукой (И.П. Павлов, М. Бунге, Д.Н. Узнадзе, П.К. Анохин, А.Н. Леонтьев и др.), о необходимости развития различных игровых форм удовлетворения потребности в деятельности. Задолго до появления первых работ на эту тему (Д.Н. Узнадзе) Луначарский написал: «В игре органы проявляют себя, то есть так, как для них наиболее естественно, в наибольшем соответствии со своей структурой; отсюда особенное наслаждение от игры, чувство свободы (почти по Канту!), отличающее ее; в игре организм живет наиболее правильной жизнью: он расходует энергию в той мере, в какой это нужно, и таким образом, как это доставляет наибольшее удовольствие, повинуясь лишь себе, т.е. своей организации» [А.В. Луначарский, 1904, с. 39]. Данное утверждение — сугубо научное, без всякого политического пафоса, оно подтверждено в современной психологии, социологии и даже в теории информации (по признанию А. Моля, который в своей концепции кибернетического искусства руководствуется положением Канта об игровой природе эстетического). Такая же судьба постигла и философского оппонента В.И. Ленина — А.А. Богданова, который механической и пассивной, по существу, ленинской «теории отражения» в искусстве противопоставил активную и творчески плодотворную «теорию деятельности». По справедливому заключению автора данной главы В.В. Прозерского, в настоящее время в «“Организационной науке” (“Тектологии”) А. Богданова находят много конструктивных идей (в частности предвосхищение системного метода, кибернетики)» (с. 583). Впоследствии обоснование 101 и развитие системного подхода к искусству осуществились в работах М.С. Кагана. Далее впервые в истории эстетики в учебнике показана борьба художественных группировок 20-х гг. ХХ в. — «Перевала», ориентирующегося на классическое наследие русской литературы, руководил которым А. Воронский, и «Российской ассоциации пролетарских писателей» (РАПП), руководители которой А. Фадеев и Л. Авербах яростно нападали не только на теоретиков «Перевала», но и на писателей-попутчиков, в число которых они включали не только таких писателей, как И. Бунин и А. Куприн, но даже М. Горького! Радикальное отрицание традиционного искусства и пропаганда нового революционного искусства были характерны для представителей «Левого фронта искусства» (ЛЕФ), члены которого В. Маяковский, Н. Асеев, А. Родченко и сочувствующие им С. Эйзенштейн, Дзига Вертов и др. выступали и как теоретики, и как творцы его новых форм искусства. В данной главе показано, что не только применение научных методов в исследовании искусства было приостановлено в советской эстетике 20-х гг., фактически под запретом оказалась социология искусства, которую начали развивать В. Фриче, И. Иоффе, Г. Поспелов и др. В 30-е гг. «социологические трактовки были отброшены», а все их авторы объявлены представителями «вульгарной социологии». Насколько несправедливыми были обвинения этих ученых, можно понять, например, при чтении книги В. Фриче «Социология искусства», вышедшей четвертым изданием в 2003 г. Социологии искусства усилиями Г. Лукача и М. Лифшица — сотрудников журнала «Литературный критик» была противопоставлена теория реализма, основанная на сугубо гносеологическом подходе к искусству, которое в этом смысле отличалось от науки лишь своей образной формой. Эту, по сути, одностороннюю теорию искусства М. Лифшиц пытался обосновать двумя «библиями»: «ветхозаветной» — «К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве» и «новозаветной» — «В.И. Ленин о литературе и искусстве». И если высказывания Маркса и Энгельса лишь с большой натяжкой можно было представить как обоснование гносеологического реализма, то Ленин на примере творчества Л. Толстого действительно развивал теорию искусства как «зеркала» революции. Идеями теории «гносеологического реализма» руководствовался и Н.С. Хрущев, устроивший на выставке современной живописи в Манеже разнос художникам за то, что они искажают правду жизни. В эпоху так называемой «хрущевской оттепели» подобные фарисейские обвинения в искажении реальности были предъявлены другим представителям «нежелательного» реализма — И. Солженицыну, Б. Пастернаку и др. И это в то время, когда власти призывали к критике 102 недостатков в социалистическом обществе. Лицемерный характер такого призыва породил популярный в то время анекдот: «Нам нужны Щедрины и Гоголи, но чтобы они нас не трогали». Далее, в работе показано, что в 50–60-е гг. ХХ в. эстетика постепенно стала ставить и решать новые проблемы и осваивать новые методы исследования искусства. Это проявилось в жарких дискуссиях о природе эстетического (впервые без идеологических санкций), в применении к искусству системного и аксиологического подходов (М. Каган, Л. Столович и др.), психологии (Л. Выготский, А. Леонтьев), семиотики (Ю. Лотман, Е.Я. Басин), социологии (Ю. Давыдов, С. Плотников, А. Вахеметса, Ю.У. Фохт-Бабушкин, В.М. Петров и др.). Глава 23 вновь возвращает нас к зарубежной эстетике. В ней дается содержательный анализ феноменологической эстетики Р. Ингардена и Н. Гартмана, а в следующей главе 24 анализируется философия и теория искусства в трудах основных представителей экзистенциализма — Ж.-П. Сартра, М. Хайдеггера и К. Ясперса. Особенно впечатляет краткий, но глубокий анализ творчества Сартра в его сложном сочетании философии, психологии и литературы. И, как справедливо, заключает автор данной главы Э.П. Юровская, «эстетические идеи не только рассмотрены Сартром теоретически, но и воплощены им в его разнообразном художественном творчестве. Влияние Сартра, дополненное и политической активностью, на умы в 40–70-е гг. было очень велико» (с. 647). Хотелось бы более значимо воздать должное Сартру не только как философу и писателю, но и как смелому и принципиальному борцу против всякого тоталитаризма за свободу, отстаивающему не только в своих произведениях, но в реальной жизни идеи демократии, лишь при которой, по его убеждению, возможно писать для свободных граждан. И если демократию «не всегда можно защитить пером», то «приходит день, когда перо откладывается и писатель берется за оружие» [J.-P. Sartre, 1947, p. 113]. Какие прекрасные и гордые слова! И это были не пустые заверения. Вся политическая, гражданская и писательская деятельность Сартра подтверждает готовность всеми средствами бороться против несвободы и рабства. Даже убедившись в последний период своей жизни, что и в условиях демократии искусство не может гарантировать свободу, Сартр, прекратив заниматься художественным творчеством, в своих выступлениях в периодической печати подвергал критике искусство как бесполезное в борьбе за свободу в современном ему обществе. И как разительно от Сартра отличаются немецкие экзистенциалисты — М. Хайдеггер и К. Ясперс. Например, Хайдеггер исследовал не реальное искусство, а онтологию, или суть искусства, вне 103 современной ему художественной культуры, привлекая для обоснования своих идей искусство Древней Греции или поэтов прошлого вроде Ф. Гёльдерлина, Ш. Георге, Р. Рильке, Г. Тракля. Хайдеггер использовал при этом не традиционные философские понятия, а им придуманные: например, язык поэзии им обозначается то как «сказ», то как «показ», а бытие человека в мире, по его определению, является как «присутствующим в мире», как Dasein, или «здесь бытие», и т. д. — понятия, которые не получили в современной эстетике инструментальных функций при анализе искусства. К. Ясперс свои философские построения основывал на теории «Осевого времени», которое, по его убеждению, начинается в античной трагедии и с перерывами продолжается в эпоху итальянского Ренессанса и немецкой Реформации и завершается в искусстве Западной Европы. Как справедливо заключается в итоге рассмотрения немецких философов, Хайдеггер был озабочен проблемой истины бытия человека, а Ясперс сосредоточился на уникальности человеческой личности. И оба философа, «с одной стороны, в рамках европейской мысли проявляли сильный интерес к проблемам герменевтики, а с другой, сближались с традиционной философией Востока (даосизма, буддизма)» (с. 659). Далее, в главе 25 «Психологическая эстетика» кратко, но вполне репрезентативно показаны эстетика «вчувствования» (Т. Липпс, И. Фольклет, К. Гроос), психоаналитическая эстетика (З. Фрейд, К. Юнг, Ж. Лакан, Ю. Кристева) и психологическая эстетика Л.С. Выготского. И если основная задача психологической эстетики, по определению К. Грооса, состоит в том, чтобы «поставить ее в одинаковое положение со всеми другими науками… превратить ее из области философского знания в специальную науку» (с. 663), то предоставим самим читателям определить, насколько это удалось психологам указанных направлений, между которыми и внутри которых дискуссии не прекращаются с начала появления психологических эстетик и в наше время. Единственное замечание: куда делся «комплекс Эдипа», играющий важную роль в психоаналитической интерпретации искусства, начало которой положил сам Фрейд, сравнив трагедии Софокла «Царь Эдип» и «Гамлет» У. Шекспира, тем самым определив характер проявления этого комплекса в искусстве в процессе исторического развития культуры, сдерживающей открытое проявление агрессивных и сексуальных влечений личности? В следующих главах (26–28) представлен процесс наполнения и даже вытеснения философской эстетики различными методами исследования искусства, которые претендуют на статус научной эстетики после неудачи феноменологии, пытавшейся превратить 104 философию в «строгую науку». Например, итальянский эстетик и писатель У. Эко к обычной в традиционной эстетике паре «автор– произведение искусства» прибавляет реципиента искусства и вводит понятие «художественный треугольник», что особенно актуально при восприятии разного рода абстрактного искусства, «открытого» для его свободной интерпретации и даже творческого отношения к нему в процессе наделения его каким-либо воображаемым смыслом. Повышение роли субъекта в искусстве парадоксальным образом проявилось в «институциональной теории искусства» американского эстетика А. Данто, согласно которой искусством может быть любой, даже самый утилитарный предмет, который признан таковым «миром искусства» — критиками, арт-дилерами и помещен в музей или галерею современного искусства. Эта теория пыталась теоретически обосновать произведения дадаизма, поп-арта и им подобные. Например, «Писсуар», «Сушилка для бутылок» Дюшана, «Консервные банки» Уорхола или различные объекты Раушенберга. Противовесом капитуляции американской эстетики перед наводнением искусства банальными объектами — этими «иконами» потребительного общества была эстетика структурализма, очень точно обозначенная в начале главы 28, как «идео-логика» в ее разнообразной эволюции. Как показано здесь, теоретики структурализма сосредоточились в основном на анализе структуры и смысловом значении знаковой природы искусства, а затем приблизились к «глобальной семиологии» Р. Барта, в которой анализируется произведение искусства как текст — носитель смысловых значений, реализуемых в процессе индивидуального восприятия его реципиентами в социокультурном контексте того или иного общества. Последняя, итоговая глава учебного пособия представлена как «Эстетика в искусственном мире: от постструктурализма к современной “теории”». Заключение теории в кавычки, очевидно, выражает некоторое сомнение в том, что эстетика в результате многовекового развития пришла к единой или универсальной теории, способной охватить и историю эстетики, и ее современное состояние. Как справедливо отмечено автором данной главы А.М. Сидоровым, такая теория в принципе невозможна и, как свидетельствует история эстетики и ее современное состояние, «теория бесконечна» и адекватна искусству в его непрекращающемся развитии и многообразии. И поскольку эстетика по мере своего развития включала в исследование искусства все возрастающий комплекс гуманитарных и естественных наук, то возникла необходимость создания современной теории, обобщившей основные фундаментальные достижения предыдущей эстетики и теорий искусства. 105 И на этой основе потребовалось выработать методологию критического пересмотра традиционных теорий искусства и создать методологию, адекватную современному состоянию различных — традиционных и авангардных — художественных практик. На эту роль, по заключению автора главы, более всего подходят постструктуралистские теории Ж. Деррида, Р. Барта, Ю. Кристевой, Ж. Бодрийара, Ж.-Ф. Лиотара. Но все же и они не приходят к единому знаменателю в своих интерпретациях различных аспектов современных артефактов. Итак, бесконечность «теорий» продолжается и, очевидно, несть им конца. В итоге «вместо заключения» кратко представлена «Российская эстетика ХХI века». В ней по темам сгруппированы многие авторы современной российской эстетики и их достижения в исследовании истории и актуальных проблем эстетики, социологии и психологии искусства. Осветим вкратце работы различных авторов, особо отмеченные в данном разделе учебника, так как невозможно представить во всем объеме современные исследования различных проблем эстетики и теории искусства учеными Санкт-Петербурга, Москвы и других городов России, для которых характерна определенная тематическая специализация. Например, ученые СанктПетербурга сосредоточились на исследовании теории и истории эстетики, свидетелем чего является данный учебник — «История эстетики». А в Москве за последнее десятилетие вышло в свет немало книг по эстетике, теории, истории и социологии искусства. Например, «Эстетика» В.В. Бычкова, «Эстетика» О.А. Кривцуна, «Эстетика — наука философская» Н. Киященко, «История эстетических учений» и «История истории искусства: от Плиния и до наших дней» В.П. Шестакова. Под редакцией Н.А. Хренова и А.С. Мигунова были изданы учебные пособия «Эстетика и теория искусства ХХ века» (М., 2005) и «Эстетика и теория искусства ХХ века: Хрестоматия» (М., 2008), в которой представлены тексты многих западных эстетиков. В Государственном институте искусствознания наряду с исследованиями теории и истории различных видов искусства активно разрабатываются проблемы культурологи и социологии искусства. Например, коллектив авторов института (Е.В. Дуков, В.С. Жидков, Ю.В. Осокин, К.Б. Соколов и Н. А. Хренов) создали одно из первых учебных пособий по социологии искусства: «Введение в социологию искусства» (СПб, 2001). Социологии посвящены и отдельные монографии Н.А. Хренова «Социальная психология искусства: Теории. Методология. История» (М., 1998), «Социальная психология искусства: переходная эпоха» (М., 2005), «Мифология досуга» (М., 1998). Вообще, как отмечено в заключительном разделе, «исследовательские проекты 106 Н.А. Хренова носят междисциплинарный характер, что позволяет их автору приходить к выводам высокого уровня теоретического обобщения с опорой на разнообразный конкретный материал» (с. 798). Приводимый «разнообразный материал» впечатляет: за последнее десятилетие Н.А.Хренов кроме выше названных написал и издал следующие работы: «Культура в эпоху социального хаоса» (М., 2002), «Человек играющий “в русской культуре”» (М., 2005), «Зрелище в эпоху восстания масс» (М., 2006); «Воля к сакральному» (М., 2006); «Кино: реабилитация архетипической реальности» (М., 2006); «Русский Протей» (СПб., 2007) и другие! Под редакцией Н.А. Хренова регулярно выходят культурологические сборники, например, «Циклические ритмы в истории, культуре, искусстве» (М., 2004), «Поколение в социокультурном контексте ХХ века» (М., 2005) и др. Так и хочется воскликнуть: «Есть у нас “русский Протей”»! На это звание, пожалуй, мог бы претендовать и заведующий сектором Института философии РАН В.В. Бычков. Его капитальные труды по истории христианской культуры, «где с эциклопедической полнотой представлены категории и формы выражения христианской эстетической мысли», могли бы сами по себе про(во)славить его имя. Но, провозгласив смерть основанных на христианской религии культуры и искусства, В.В. Бычков, вместо того чтобы подвергнуть остракизму (или предать анафеме?), с удивительной творческой и организаторской энергией стал исследовать эту падшую в грехах нонклассику и, кажется, увлекся ею не на шутку. Удивительная штука эта нонклассика! Даже марксистский ортодокс Мих. Лифшиц, популярно объяснив, почему он не модернист, в то же время тщательно и со знанием дела ее изучал и классифицировал. Ах, эта нонклассика! Она влечет к себе, как запретный плод, как демоническая красавица и опасная соблазнительница. И вот создается группа по неклассической эстетике, которая, в отличие от богословской, устремленной в святое небо, представлена как подземное, бесструктурное и хаотическое «КорневиЩе». А введение в эстетику постмодернизма представлено как путешествие в «Париж со змеями». (Кто захотел бы жить в таком Париже — разве что в нем от страха умереть?) И вот растет и разрастается «КорневиЩе, или «Ризома», ядовитые цветы которой расцветают в оранжереях нон-классики, отравляя воздух «бесконечным шизопотоком», подрывая корни «Древесного дерева» — символа прекрасного классического искусства. Но если врага нужно знать, чтоб с ним бороться, то лучшим способом В.В. Бычков и его команда избрали весьма перспективный в этом смысле метод, издав «Лексикон нонклассики», который по своей полноте и качеству изложения и внешнему эстетическому 107 великолепию вполне может служить современной «небиблией» художественно-эстетической культуры ХХ в. Культуры, символы которой на обложке представлены в невероятном — посмодернистском! — сочетании изображений двух женских «портретов» Пикассо и Уорхола и… писсуара Дюшана. Ничего не поделаешь — таковы проявления ризомы. Далее, в учебнике отмечены и высоко оценены исследования коллектива отдела эстетики и теории искусства НИИ РАХ, возглавляемого О.А. Кривцуном, в составе О.В. Беспалова, В.Е. Завязкина, Е.А. Кондратьева, М.А. Петрова, С.С. Ступина, работы которых отличаются и оригинальной тематикой, и высоким стилистическим уровнем письма, адекватного предметам их исследования. Отмечается, что «своеобразие исследовательского подхода, реализуемого в трудах сотрудников этого отдела, заключается в совмещении эстетики и искусствознания, помогающем понять процессы формообразования в новейшем искусстве» (с. 798). Так, если в своих работах О.А. Кривцун сосредоточился на проблемах эволюции художественных форм, «метаморфозах» и психологии художественного сознания, то, например, Е.А. Кондратьев большее внимание уделил структурным и историческим вариациям в изобразительном искусстве авангарда и постмодернизма, О.В. Беспалов — выявлению «символического и дословного» в искусстве ХХ в. и т.д. Впечатляет и художественно-эстетический уровень изданий этого института, чем достигается определенное соответствие содержания книг и форм их воплощений. Примером может служить сборник, вышедший под редакцией О.А Кривцуна «Феномен артистизма в современном искусстве» ( М., 2008). Вместе с тем некоторое недоумение вызывает то, что в учебнике мало внимания уделено работам по теории информации и кибернетике, в общем, по применению в современном искусстве точных наук, продолжающих «линию Пифагора» в исследовании искусства. И если в Древней Греции, руководствуясь математической теорией Пифагора, скульптор Поликлет создал скульптуру копьеносца, то в современной практике результаты внедрения цифровой технологии в сферу информационных и коммуникационных систем наглядно представлены и в искусстве, например, в цифровом телевидении и кинематографе (см., например: Волошинов А.В. Математика и искусство (М., 2000); Мигунов А.С., Ерохин С.В. Алгоритмическая эстетика (СПб., 2010); Ерохин С.В. Эстетика цифрового изобразительного искусства (СПб., 2010); Харуто А.В. Музыкальная информатика: творческие основы (М., 2008) и др.). Кроме того, отелось бы привлечь внимание наших питерских коллег к последним работам В.И. Тасалова «Светоэнергетика ис108 кусства: Очерки теоретического искусствознания» (М., 2004) и «Человек — Вселенная: Эстетика “антропного принципа” на стыках искусств, религии и искусствознания» (М., 2007), названия которых свидетельствуют о масштабном и даже о глобальном подходе к обоснованию неразрывной связи Человека, Природы и Космоса, основанном на новейших достижениях науки и этим продолжающем традиции античных натурфилософов рассматривать Человека и Природу или Микро- и Макрокосмос в их непрерывном взаимодействии. Сознавая, что в данной статье удалось лишь вкратце обозначить ход многовекового развития эстетики и теории искусства, трудно удержаться от восклицания: «Господи, как талантливо человечество, создавшее такое многообразие видов искусства и гениальных произведений, которые как духовные маяки освещают не только прошлое, но и зовут в будущее!» И как мудры и конгениальны этому искусству многие философы и эстетики в своих попытках постичь тайны искусства, а через него — смысл и цели человеческой жизнедеятельности и многое другое. И спасибо славной когорте ученых Северной Пальмиры, которые впервые с такой научной объективностью и нравственной честностью создали труд, который может многих просветить и избавить от тех ложных идеологических налетов, которые искажали и мировую эстетику, и искусство. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ Гоголь Н.В. Портрет // Повести. М., 1973. С. 229. Кант И. Соч.: В 6 т. М., 1966. Т. 5. Луначарский А.В. Основы позитивной эстетики // Очерки реалистического мировоззрения. М., 1904. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. История и теория психологии: В 2 т. Ростов н/Д, 1996. Т. 1. Sartre J.-P. Qu’est-ce que la littérature? P., 1947. 109 ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 7. ФИЛОСОФИЯ. 2014. № 2 РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ И.П. Давыдов* ИКОНА И РИТУАЛ (СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ) Как показывает функциональный анализ, ритуалу присущи 36 функций, а иконе — 21 функция, причем сравнительный анализ этих рядов функций позволяет сделать вывод, что 2/3 функций иконы как культового предмета детерминированы ритуалом. Это подтверждает точку зрения А.Л. Топоркова на ритуальную функцию как на «функцию структуры функций» (в терминах П.Г. Богатырева). Функциональная структура ритуала такова, что образует очень сильный, пусть и не всегда осознаваемый и артикулируемый «детерминатив», задающий сакральность культового предмета в различных модусах и топосах его пребывания и бытования. Ключевые слова: ритуалистика, иконология, структурно-функциональный анализ, сравнительный анализ, функции ритуала, функции иконы. I.P. D a v y d o v. Icon and ritual (structural-functional analysis) Functional analysis shows that the ritual has 36 functions whereas the icon has 21. Comparative analysis of these series of functions shows that 2/3 of functions of the icons acting as a cult object are determined by ritual. This confirms A.L. Toporkov’s point of view on ritual function as “the function of the structure of functions” (according to P.G. Bogatyrev). The functional structure of the ritual is that it forms a very strong, though not always apprehended and articulated, “determinative”, that defines the sacral nature of religious object in various moduses and toposes of its existence. Key words: ritual studies, iconology, structural-functional analysis, comparative analysis, functions of ritual, functions of icon. Американская социальная психология на материале исследования современной религиозной ментальности ныне стремится вернуть в гуманитаристику авторитет функционального анализа [M. Zuckerman, J. Silberman, J.A. Hall, 2013, р. 25]. Возможно, недоверие к эвристике функционализма в США было отчасти связано с достаточно жесткой критикой этого подхода Дж.М. Йингером еще в конце 50-х — начале 60-х гг. прошлого века. Но еще в первой половине ХХ в. за рубежом публиковались новаторские труды по этносемиотике П.Г. Богатырева (в которых, помимо прочего, был ∗ Давыдов Иван Павлович — кандидат философских наук, доцент кафедры философии религии и религиоведения философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, тел.: 8 (495) 939-27-94; е-mail: ioasaph@yandex.ru 110 осуществлен функциональный анализ народного костюма [на рус. яз. см.: П.Г. Богатырев, 1971, с. 167–366; Он же, 2007, с. 21–130, 215–278]). Именно П.Г. Богатыреву принадлежат отмеченные позднее А.Л. Топорковым теоретическая предпосылка и методологическое требование последовательного выявления: (а) всех функций изучаемого культурного феномена; (б) структуры этих функций и ее трансформации; (в) синтетической (мета-) функции структуры функций [А.Л. Топорков, 1989, с. 92–93]. Позже сформировалась целая плеяда советских и российских исследователей, успешно применявших структурно-функциональный подход в этнографии, фольклористике, культурологии, ритуалистике (Вяч.Вс. Иванов, В.Н. Топоров, К.С. Сарингулян, А.К. Байбурин, А.Л. Топорков, Т.В. Цивьян, О.А. Седакова и др.), но почти никто из них не обращал внимание на тонкость методологии П.Г. Богатырева, касающейся структурного анализа результатов предварительно проведенного функционального анализа (одним из исключений являются труды А.Л. Топоркова). 1. Функциональный анализ ритуала Полемизируя с С.А. Токаревым и А.К. Байбуриным, А.Л. Топорков как фольклорист считает метафункцией ритуальную1 — с этим согласится любой ритуалист, а структуру конгломерата функций рассматривает вслед за Виктором Тэрнером в контексте «семантической двуполюсности/двунаправленности» [А.Л. Топорков, 1989, с. 97] сакрализованного предмета-медиатора. Следует подчеркнуть, что в силу своей «метафункциональности» ритуальная функция может рассматриваться как интеграл (сумма) множества конкретизующих, но не подменяющих ее и ей по отдельности не тождественных. На наш взгляд, абсолютно прав А.К. Байбурин, когда, пользуясь наработками К.С. Сарингуляна, эксплицирует 32 функции ритуала [А.К. Байбурин, 1993, с. 5–37, 183–223]. Следом за Э. Дюркгеймом, А.К. Байбурин рассматривает четыре наиболее значимых функции обряда/ритуала: 1) социализации индивида; 2) интегрирующую; 3) регенерирующую (воспроизводящую) и 4) психотерапевтическую (психологического комфорта)2. Далее он отмечает, что возможное количество функций и под1 Так как в народном религиозном сознании «формируется представление о сущности ритуального символа не как о сумме, или пучке абстрактных значений, или тексте, хранящем информацию о мифопоэтической картине мира, а, скорее, как о пространстве и инструменте семантических трансформаций, близкое к пониманию П.А. Флоренского и В. Тэрнера» [А.Л. Топорков, 1989, с. 96]. 2 Нумерации функций в цитируемых источниках нет. Она достаточно произвольна и введена нами в целях удобства учета и подсчета. Порядковые номера никакого отношения к иерархизации функций не имеют. 111 функций ритуала, частично перекрывающих друг друга, неуклонно растет с появлением все новых исследований. Так, Д. Томсоном, Р.Д. Абрахамсом, Р. Раппапортом, М. Элиаде, А.Р. Рэдклифф-Брауном, Р. Мареттом, К. Леви-Стросом, Х. Юбером, М. Моссом, Бр.К. Малиновским и др. в разное время уже были выделены: 5) функция «внесения порядка в беспорядок» (космизации?); 6) функция «поддержания существующих норм и ценностей» (регулятивная); 7) функция хаотизации — прокламации временного беспорядка (ради снятия социального напряжения в оргиях и т.п.); 8) функция «борьбы с профанным временем»; 9) дифференцирующая; 10) адаптационная; 11) функция обмена ценностями; 12) коммуникативная; 13) медиаторная; 14) аутокоммуникативная (единства адресата и адресанта); 15) компенсаторная; 16) функция «культового узаконения мифов» (легитимирующая?); 17) функция символизации; 18) функция «шаблонизации внешних форм поведения» [А.К. Байбурин, 1993, с. 30–34]. А.К. Байбурин соглашается с К.С. Сарингуляном в целесообразности группировки многочисленных функций обряда/ритуала в зависимости от их тенденции — дистанцирования либо аппроксимирования. К группе дистанцирования оба автора относят: 19) функцию стратификации (иерархизации); 20) функцию деонтизации (подавления индивидуальной импульсивности поведения и канализирования эмоций); 21) функцию хронометрии (различения и счисления временных промежутков); 22) функцию сублимации (социальной психогигиены). А к группе аппроксимирования принадлежат: 23) функция интериоризации; 24) солидаризующая (психологической интеграции); 25) сигнификационная (воспроизведения культурных значений); 26) мемориализационная (обеспечивающая память предков); 27) инициационная («закрепления за индивидом новых социальных ролей»); 28) функция аккультурации — «социального освоения пространственной среды» [А.К. Байбурин, 1993, с. 34–35]. Казалось бы, на фоне столь обширного и детального спектра сложно сказать что-то новое. Сам А.К. Байбурин склонен акцентировать внимание лишь на некоторых из названных выше функций, а именно на психотерапевтической, регенерирующей (реставрационной), функции аутокоммуникации (возвращения информационного послания к адресату через несколько передаточных звеньев), социализации, хронометрии, инкультурационной (сигнификационной) и функции символизации. Его личным вкладом в функциональный анализ обряда/ритуала можно считать описание еще четырех функций: 9) прогностической (скорее, мантической, поскольку речь идет не о пророчествах, а о предсказаниях методом гаданий и истолкований знамений); 30) объяснительной (миро112 воззренческой); 31) фатической (судьбоносной, когда слово не только запечатляет, но и «запечатывает»); 32) тестирующей (онтодиагностической, когда мир пробуется на вкус, на слух, на ощупь и т.д.) [А.К. Байбурин, 1993, с. 5–37, 183–223]. Остается удивляться тому, что религия наследует от обряда/ритуала не более половины функций, если учесть, что в религиозном обряде и религиозном ритуале (как видов и подвидов культовой практики) по умолчанию должны сохраняться и воспроизводиться характеристики рода, каковым выступает обряд, согласно взглядам В.Н. Топорова, А.К. Байбурина, Т.В. Цивьян и «ритуалистов» Кембриджской школы. Возможно, это связано со своеобразной «фильтрацией» достижений культурной антропологии социологией религии. Функциональный анализ ритуала В.Н. Топорова по сравнению с А.К. Байбуриным и К.С. Сарингуляном не столь результативен. В.Н. Топоров, вспоминая работы Ж. Дюмезиля, останавливается на трех важнейших функциях, подчеркнем, религиозного ритуала: 1) религиозно-правовой (разделяющейся на три подфункции: узаконивающую, упорядочивающую и морализующую); 2) функции безопасности коллектива («воинской») и 3) производственно-экономической. Все они, по мысли отечественного исследователя, восходят к недифференцированной «жизнестроительной» протофункции. Далее следуют: 4) интегративная; 5) аксиологическая и 6) функция социализации [В.Н. Топоров, 1988, с. 16–18, 31]. Заслугой В.Н. Топорова в ритуалистике следует считать, в первую очередь, тщательнейшее исследование этимологии слова «ритуал» и «обряд» [В.Н. Топоров, 1988, с. 23–27] (чего не встретишь, например, в четырехтомном «Этимологическом словаре русского языка» Макса Фасмера). И в функциональном анализе В.Н. Топоров смог сказать новое и весомое слово. Он эксплицировал оригинальные и неочевидные 7) глоттогенетическую и 8) «космокреативную» (творческую) функции ритуала [В.Н. Топоров, 1988, с. 21 и 29]. Если сопоставить набор функций ритуала у А.К. Байбурина (32 функции) и В.Н. Топорова (8 функций) и элиминировать дубликаты, в результате получим сводный перечень 36 неповторяющихся функций обряда/ритуала. 2. Функциональный анализ иконы Наиболее популярный в России, бесспорно культовый предмет — икона. Вообще сегодня в гуманитаристике достаточно подробно обсуждаются различные аспекты иконы, иконичности, иконологии, визуалистики, имагологии, иконики и т.п., что свидетельствует об актуальности данной тематики (достаточно упомянуть работы 113 Е.В. Батаевой, С.С. Ванеяна, Н.Ю. Раевской, И.А. Тульпе, сборники «Визуальный образ» 2008 г. и «Власть и образ: очерки потестарной имагологии» 2010 г. и др.)3. Поэтому целесообразно верифицировать утверждения А.Л. Топоркова на материале православной иконописи. Если сравнительный анализ функций ритуала и функций иконы продемонстрирует очевидную детерминированность иконы ритуалом, можно будет с большой долей вероятности утверждать, что ритуальная «метафункция» действительно присуща культовым предметам, входящим в «сферу притяжения» как минимум русской православной церковной и народной религиозности. Как известно, П.А. Флоренский по источнику возникновения разделял иконы на четыре типа: библейские; портретные; писанные по преданию, т.е. с опорой на чужой духовный опыт; явленные, в основе которых лежит собственный духовный опыт иконописца. Среди функций иконы можно выделить, в первую очередь: 1) иллюстративную или дидактически-информативную, поскольку икона способна изъяснять события библейской и церковной истории, служить своеобразным пособием для неграмотных, особенно это касается праздничных икон и икон с клеймами. На эту функцию указывали Нил Синайский (V в.), папа Григорий Великий (VI–VII вв.) и др. Однако, чтобы понять смысл иконописного изображения, необходимо овладеть языком символов иконописи (поэтому «неграмотность» в данном контексте относима лишь к навыку чтения и письма); 2) дисциплинирующую, поскольку зримый образ позволяет сосредоточиться во время молитвы, сконцентрировать внимание на предмете веры; 3) коммуникативную, поскольку икона призвана служить одним из связующих звеньев между горним и дольним мирами, помогать молящимся в общении со святыми заступниками; 4) компенсаторную, поскольку чудотворные иконы считаются проводниками благодати. Эктип (греч. отобраз, отображение) отделен от первообраза — архетипа, но «энергии» первообраза продолжают в нем реально присутствовать; 5) «напоминательную», поскольку икона способствует «припоминанию» (анамнесис), причем не только в плане субъективноассоциативном — она действительно побуждает человека к памятованию и почитанию, но и в плане объективно-онтологическом, т.е. явлению идеи; 6) анагогическую (возвышающую), поскольку, по определению VII Вселенского собора (787 г.), «…глазами взирая на образ, умом восходим к Первообразу»; 7) декоративную или эстетическую, на которую обращал внимание еще Иоанн Дамаскин (VIII в.). 3 Избранную библиографию на русском языке см.: [И.П. Давыдов, 2013, с. 9–19, 28–39]. 114 В.В. Лепахиным было выделено более двадцати функций иконы: 1) догматическая; 2) вероучительная; 3) познавательная; 4) свидетельская (удостоверяющая, но не мартирологическая); 5) проповедническая; 6) храмовая; 7) богослужебная; 8) антропологическая; 9) богословская; 10) историческая; 11) воинская; 12) напоминательная; 13) посредническая; 14) семейная (родовая); 15) хозяйственная; 16) прикладная; 17) священно-эмоциональная; 18) молитвенная; 19) чудотворная; 20) эстетическая; 21) литературная [В.В. Лепахин, 2002–2003, с. 511]. Интересный результат дает сравнительный анализ 36 функций ритуала, выявленных А.К. Байбуриным и В.Н. Топоровым (референтный список), и 21 функции православной иконы (согласно взглядам Валерия Лепахина). В форме таблицы он представлен ниже. Функции ритуала (по А.К. Байбурину и В.Н. Топорову) Функции иконы (по В.В. Лепахину) 1. Социализации индивида 2. Интегрирующая 3. Регенерирующая 7. Богослужебная 4. Психотерапевтическая 5. Космизации (упорядочивающая) 6. Регулятивная 7. Хаотизации 8. Функция «борьбы с профанным временем» 6. Храмовая 9. Дифференциации 10. Адаптации 11. Обмена ценностями (Аксиологическая) 12. Коммуникативная 18. Молитвенная 13. Медиаторная 13. Посредническая 14. Аутокоммуникативная 15. Компенсаторная 16. Легитимирующая (Религиозно-правовая) 17. Символизации 18. Шаблонирования форм поведения 19. Стратификации 20. Деонтизации (подавления эмоциональных всплесков) 17. Священно-эмоциональная 21. Хронометрии 115 Окончание табл. Функции ритуала (по А.К. Байбурину и В.Н. Топорову) 22. Сублимации Функции иконы (по В.В. Лепахину) 20. Эстетическая 23. Интериоризации 24. Психологической интеграции 14. Семейная 25. Сигнификационная 26. Мемориализационная 10. Историческая 27. Инициационная 28. Аккультурации рата4, а с другой — справедливость интерпретации А.Л. Топорковым ритуальной функции как «функции структуры функций»5 культового предмета. Функциональная структура ритуала такова, что образует очень сильный, пусть и не всегда осознаваемый и артикулируемый, «детерминатив», задающий сакральность культового предмета в различных модусах и топосах его пребывания и бытования (что легко можно показать на фактах включенности православной иконы в интерьер католических и лютеранских, а не только униатских храмов, а также ее присутствия в далеких от церковной ограды жилых помещениях и салонах автомобилей). В заключение хотелось бы высказать осторожное предположение, что метафункцией православной иконы (а также, вероятно, и ваджраянской тханки) является функция иконичности, но это тема дальнейшего исследования. 29. Прогностическая 30. Объяснительная 1. Догматическая 31. Фатическая (судьбоносная) 32. Онто-диагностическая 33. Воинская 11. Воинская 34. Производственно-экономическая 15. Хозяйственная и 16. Прикладная 35. Глоттогенетическая 21. Литературная 36. Творческая 19. Чудотворная 2. Вероучительная 3. Познавательная 4. Свидетельская 5. Проповедническая 8. Антропологическая СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре: Структурносемантический анализ восточнославянских обрядов. СПб., 1993. Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искусства. М., 1971. Богатырев П.Г. Народная культура славян. М., 2007. Давыдов И.П. Иконологические аспекты восточнохристианской иконографии и храмового зодчества. М., 2013а. Давыдов И.П. Эпистема мифоритуала: Монография. М., 2013б. Лепахин В.В. Значение и предназначение иконы: Икона в Церкви, в государственной и личной жизни — по богословским, искусствоведческим, историческим, этнографическим и литературно-художественным источникам. М., 2002–2003. Топорков А.Л. Символика и ритуальные функции предметов материальной культуры // Этнографическое изучение знаковых средств культуры. Л., 1989. Топоров В.Н. О ритуале. Введение в проблематику // Архаический ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках. М., 1988. Zuckerman M., Silberman J., Hall Ju.A. The Relation between intelligence and religiosity: A meta-analysis and some proposed explanations // Personality and Social Psychology Review. 2013. 6 Aug. N XX(X). 9. Богословская 12. Напоминательная Вывод. Заметны нестрогие соответствия (например, сублимация — эстетика), но в целом можно убедиться, что 2/3 (14 из 21) функций иконы имеют свой аналог в функциях ритуала. Эти данные подтверждают, с одной стороны, нашу гипотезу первичности обособления ритуала из архаичного мифоритуального конгломе116 4 Ритуалу присущи 36 функций, в то время как мифу — только 12 (соотношение 3:1). Из этих 48 отчасти дублирующих друг друга функций ритуала и мифа религия, возникающая позже мифа, наследует только половину (24 функции) и способствует вторичному синтезу мифа и ритуала в литургическом хронотопе. Что существенно, то же самое соотношение (3:1) сохраняется не только для «логоменальных» (гимнография на примере акафиста), но и для «дроменальных» (иконография на примере икон иконостаса, аналойных икон и выносных икон) аспектов мифоритуала — 2/3 функций гимнов и икон детерминированы ритуалом и только 1/3 — мифом (см. подробнее: [И.П. Давыдов, 2013a, c. 88–117]). 5 В терминах П.Г. Богатырева. 117 ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 7. ФИЛОСОФИЯ. 2014. № 2 Д.Г. Кичигин* О ПРОИСХОЖДЕНИИ МОНОФЕЛИТСТВА В статье рассматривается вопрос об основателях монофелитства. Излагаются основные точки зрения ученых на данную проблему, а также предлагается альтернативное мнение об основателях этого учения. Ключевые слова: монофелитство, основатели монофелитства, патриарх Сергий, император Ираклий, уния с монофизитами. D.G. K i c h i g i n. About origin of monothelitism In the article we retrace the line of founders of Monothelitism. The author states scientist’s basic points of view on the problem and suggests his alternative opinion on the founders of the doctrine. Key words: Monothelitism, the founders of Monothelitism, Patriarch Sergiy, Emperor Iracly, the union with monophysitists. Монофелитство (греч. μόνος — один, ϑέλημα — воля) — догматическое движение, возникшее в начале VII в. Согласно этому учению, в Иисусе Христе при наличии двух естеств — божественного и человеческого существует только одна воля. Первоначально монофелитство возникло в форме моноэнергизма, учившего, что во Христе существует одно действие, или энергия (греч. μία ἐνέργεια). Происхождение монофелитства до сих пор вызывает много вопросов, несмотря на то что оно изучалось в контексте исследований, связанных как с историей христианской Церкви, Вселенских соборов, Византии, так и с анализом философско-богословской системы Максима Исповедника. В статье мы попытаемся изложить основные версии возникновения данного учения, связанные с вопросом о его основателях и излагаемые в источниках и научной литературе. Для лучшего понимания материала мы дадим небольшую справку о политической и религиозной ситуации в Византийской империи данного исторического периода (начало VII в.). Политическая обстановка была следующей: велись военные действия с Персией, в которых византийская армия терпела поражение за поражением и теряла свои земли в Сирии и Палестине, Северной Африке и на Кавказе. Религиозная ситуация была также плачевной: империя была расколота на православие и монофизитство, причем послед* Кичигин Дмитрий Геннадиевич — аспирант кафедры философии религии и религиоведения философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, тел.: 8 (929) 978-79-10; e-mail: kichigin.dimitry@yandex.ru 118 нее концентрировалось преимущественно на периферии империи, а именно в Сирии, Египте, Армении, которые все больше теряли связь с центральной властью [Ф.И. Успенский, 1996, т. 1, с. 679–735]. То есть Византия была разделена не только политически, но и религиозно. И именно в этот сложный исторический период возникает монофелитство — доктрина, которая была попыткой объединить империю на религиозном начале. Исторические источники по указанному вопросу носят противоречивый характер и излагают свои версии событий, связанных с возникновением монофелитства. Один из них указывает на императора Ираклия, другой — на патриарха Сергия. При этом ни первый, ни второй нельзя назвать объективным, так как их авторы принадлежат к противоборствующим лагерям. В соответствии с источниками существует две версии по вопросу об основателе монофелитства. Первая, которую условно можно назвать официальной, высказана главой Церкви, патриархом Сергием Константинопольским. Патриарх является также современником событий и участником унии с монофизитами. Свою версию он излагает в послании к Гонорию, папе Римскому [Деяния Вселенских соборов, 1908, т. 6, с. 172– 176]. В этом послании Сергий пишет, что император во время войны с Персией прибыл в Армению, встречался там с главой монофизитской секты севериан Павлом Одноглазым и беседовал с ним о вероучении: «Его благочестивейшее императорское величество (так как вместе с прочими дарами Божиими он получил дар изобиловать знанием божественных догматов), обличивши и победивши его ложное нечестие, как истинный защитник святейшей нашей Церкви, противопоставил его низким злоухищрениям правые и непорочные догматы церковные, в числе которых упомянул и об одном действии Христа истинного Бога нашего» [там же, с. 172]. К сожалению, патриарх не упоминает о причинах состоявшейся беседы, но прямо говорит о том, что именно Ираклий употребляет понятие «единое действие», тем самым возлагая ответственность за рождение нового учения полностью на императора. Вторая версия, которую условно можно назвать неофициальной, высказана гонимым официальной Церковью и властью Максимом Исповедником. Он также является современником событий, но является не участником унии с монофизитами, а ее противником. Эта точка зрения излагается в его знаменитом диспуте с Пирром, бывшим патриархом Константинопольским (монофелит). В процессе дискуссии Пирр заметил, что спор о действиях был инициирован патриархом Софронием. Пирр указывает на него по причине того, что именно он, будучи еще монахом, просил Кира Александ119 рийского убрать моноэнергистскую формулу об одном богомужнем действии во Христе из униатского документа между Александрийской Церковью и монофизитами (так называемые «Девять глав»), а затем и в Константинополе у патриарха Сергия просил отказаться от учения о едином действии [В.В. Болотов, 2007, с. 533]. На это замечание Исповедник задал Пирру встречные вопросы о деятельности патриарха Сергия в зарождении ереси: «…где был Софроний тогда, когда Сергий писал Феодору Фаранскому то, что он называет посланием Мины… побуждая его высказать свое мнение об одном действии и об одной воле, которые были в послании, и тот написал в ответ, что принимает их? Или когда он писал в Феодосиополь бывшему северианину Павлу Одноглазому..? Или когда писал павлианисту Георгию по прозвищу Арсан, дабы тот послал ему выдержки об этом их одном действии, причем вставил в письмо и то, что он этим созидает единство Церкви с ними?» [Диспут с Пирром: Максим Исповедник и христологические споры VII столетия, 2004, с. 208–209]. То есть Максим Исповедник своими вопросами напрямую указывает, что патриарх Сергий задолго до патриарха Софрония вел активную политику в деле пропаганды и распространения нового учения и именно он является его основателем. В соответствии с источниками в российской и зарубежной научной литературе существует также две версии по вопросу об основателях монофелитства. Первую поддерживает известный историк христианства XIX в., профессор В.В. Болотов, указывая на то, что именно политические причины вынудили Ираклия возобновить опыты воссоединения монофизитов с официальной Церковью, а также на то, что «участие духовной власти было пассивным» [В.В. Болотов, 2007, с. 508]. Вторит данному мнению и историк Н.Д. Тальберг, также называя политические причины в действиях императора главенствующими: «Ересь монофелитов… вышла из стремления византийского правительства во что бы то ни стало присоединить монофизитов к Православной Церкви. Император Ираклий, один из лучших государей Византийской империи, хорошо понимая вред религиозного разделения, принял на себя задачу уничтожить это разделение» [Н.Д. Тальберг, 2008, с. 109]. Богослов и архиепископ Аверкий Таушев, соглашаясь с аргументами Тальберга, также считает, что «император, желавший упрочить единство империи на единении религиозном, хотел примирить православных и монофизитов. Достигнуть этого он думал через монофелитское учение, которое, несомненно, должно было явиться приемлемым» [Аверкий (Таушев), архиеп., 1996, с. 94–95.], как ему казалось, и для православных, и для монофелитов. 120 Однако нами была замечена одна интересная особенность, а именно то, что все высказывания авторов опираются исключительно на их личное представление об исторической обстановке в Византии того времени. Иными словами они утверждают, что Ираклий — основатель монофелитства, но не приводят никаких доказательств. А если это доподлинно не известно, так как не доказано, то как можно утверждать, что «участие власти было пассивным» или что только император «принял на себя задачу уничтожить это разделение»? По нашему мнению, такая позиция не выдерживает никакой критики. Второй версии придерживается исследователь XIX в. И.А. Орлов, говоря, что Сергию «принадлежит почин в деле осуществления унии на началах моноэнергизма» и что он «внушил императору согласительную формулу “μία ἐνέργεια”» [И.А. Орлов, 2010, с. 11–12]. Известный российский историк М.Э. Поснов также утверждает, что именно патриарх подготовил почву для переговоров императора Ираклия [М.Э. Поснов, 1964, с. 446]. Согласны с этим английский историк Д.С. Робертсон [Д.С. Робертсон, 1890, т. 1, с. 564], наш современник, доктор философских наук В.М. Лурье [В.М. Лурье, 2006, с. 292]. Доказывая свою позицию, Поснов, Лурье, Робертсон указывают на происхождение патриарха (он родился в монофизитской семье) как на главную причину, подвигшую его на создание монофелитства. Этот довод, по нашему мнению, не является убедительным, так как Сергий принял православие, а затем и монашеский постриг еще в молодости. Рукоположение в патриархи осуществляли также православные епископы. То есть Сергий в период своей жизни до патриаршества проявил себя ортодоксально мыслящим, и, соответственно, отказавшимся от ереси монофизитства, в противном случае в той исторической обстановке он просто не смог бы стать патриархом. Из этих фактических обстоятельств следует, что его монофизитское прошлое не играло никакого значения в возникновении монофелитства. Особняком стоит мнение Орлова, согласно уоторому патриарх приписывал создание монофелитства императору по одной причине — это «дело простого благоразумия и хитрой политики Сергия» [И.А. Орлов, 2010, с. 12]. Автор также не обосновывает свое утверждение ни историческими фактами, ни логическими рассуждениями, поэтому с научной точки зрения его позиция в отношении данного вопроса не является бесспорной. По нашему мнению, в определении основателей монофелитства все не так однозначно, как на то указывают исследователи. Исходя из приведенного фактического материала, представляется 121 более вероятным, что зарождалось учение не в одном источнике, а в нескольких, которыми являются и политическая власть, и церковная. Такое суждение сложилось на основании анализа совместной деятельности патриарха и императора. Так, во время войны с персами император руководит войсками, а патриарх Сергий и патрикий Боноз управляют столицей в его отсутствие [Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, 1900, т. ХХIХ А, с. 648–649]. Другим примером является второй брак Ираклия, который был заключен с его родной племянницей. Император советуется с Сергием и, когда патриарх показывает Ираклию отрицательные стороны такого брака, он просит: «Доселе ты действовал, как епископ; а теперь, как друг, исполни волю мою» [В.В. Болотов, 2007, с. 520]. Именно это Сергий и делает, благословляя его на брак. Вершиной же и апогеем их совместной деятельности служит издание Экфесиса. Данный документ был составлен патриархом Сергием, на что указывает сам Ираклий в письме к папе Иоанну IV: «Эктесис не мой: я не составлял его и не приказывал составлять. Сергий патриарх составил его…» [И.А. Орлов, 2010, с. 23–24]. Однако, несмотря на такой тон императора, он подписывает Эктесис и издает его как императорский указ (т.е. как государственный нормативноправовой акт), хотя мог не делать этого и посоветовать Сергию издать указанный документ так, как в 633 г. было издано предыдущее патриаршее постановление — Псифос. Таким образом, изложенные события указывают на то, что все действия как патриарха, так и императора носят согласованный характер. Кроме того, патриарху и императору их религиозная и политическая деятельность могла казаться претворением в жизнь идеала взаимоотношений государства и церкви (симфония властей), сформулированного в VI в. императором Юстинианом в шестой Новелле: «И если священство будет во всем благоустроено и угодно Богу, а государственная власть будет по правде управлять вверенным ей государством, то будет полное согласие между ними во всем, что служит на пользу и благо человеческого рода» [Правила Православной Церкви с толкованиями Никодима, епископа Далматинско-Истрийского, 1911, т. 1, с. 681–682]. Таким образом, если во всех вышеуказанных случаях оба этих лица действовали согласованно (о несогласованности их действия история не говорит вообще), то почему в таком важном деле, как уния с монофизитами, они должны были действовать разрозненно? Логичным ответом на поставленный вопрос будет вывод, что патриарх Сергий и император Ираклий совместно могут считаться основателями монофелитства. 122 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ Аверкий (Таушев), архиеп. Семь Вселенских Соборов. М.; СПб., 1996. Болотов В.В. История церкви в период вселенских соборов: История богословской мысли / Сост. Д.В. Шатов, В.В. Шатохин М., 2007. Деяния Вселенских соборов: В 7 т. Казань, 1908. Т. 6. Диспут с Пирром: Максим Исповедник и христологические споры VII столетия / Отв. ред. Д.А. Поспелов М., 2004. Лурье В.М. История Византийской философии: формативный период. СПб., 2006. Орлов И.А. Труды Максима Исповедника по раскрытию догматического учения о двух волях во Христе. Краснодар, 2010. Поснов М.Э. История Христианской Церкви. Брюссель, 1964. Правила Православной Церкви с толкованиями Никодима, епископа Далматинско-Истрийского. СПб., 1911. Т. 1. Робертсон Д.С. История христианской церкви: В 2 т. СПб., 1890. Т. 1. Тальберг Н.Д. История христианской церкви. М., 2008. Успенский Ф.И. История Византийской империи: В ? т. СПб., 1996. Т. 1. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1900. Т. ХХIХ А. 123