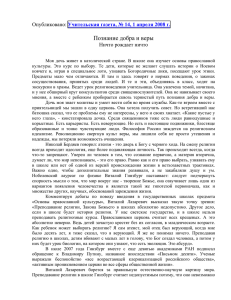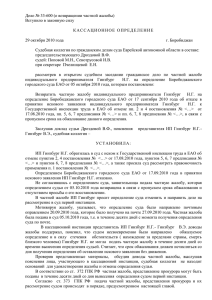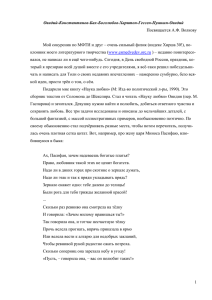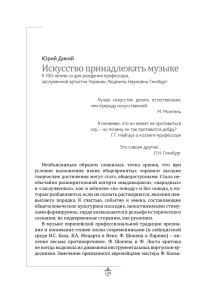РЕФЛЕКСИЯ КАК эТИЧЕСКАЯ цЕННОСТЬ (эПИЗОД
advertisement
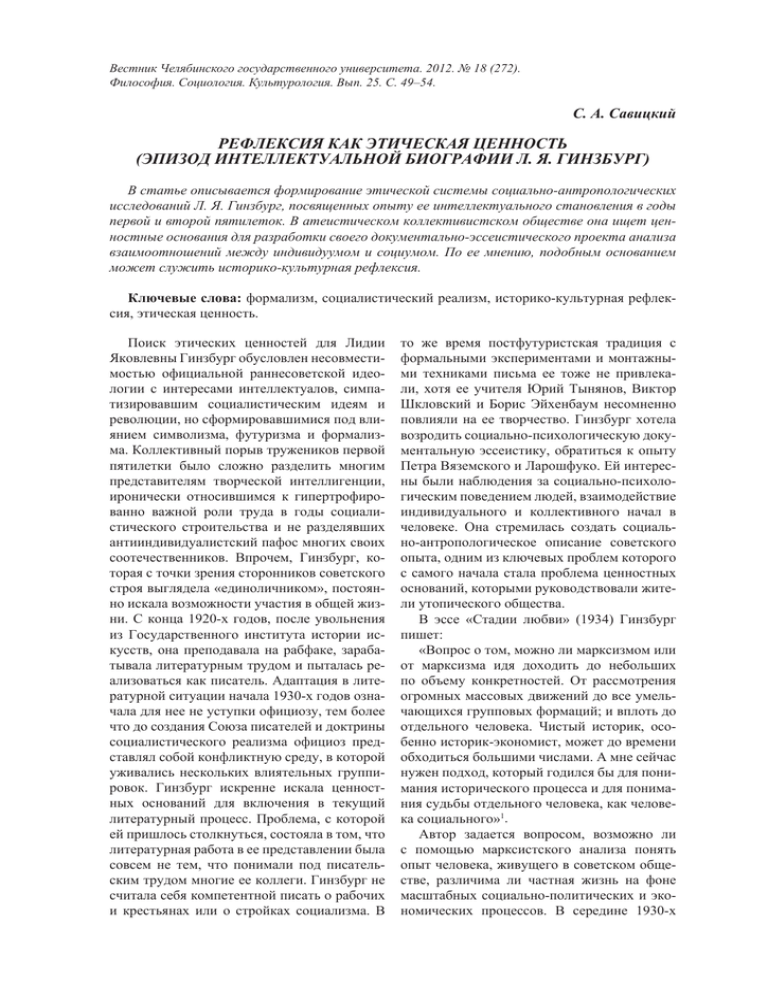
Вестник Челябинского государственного университета. 2012. № 18 (272). Философия. Социология. Культурология. Вып. 25. С. 49–54. С. А. Савицкий РЕФЛЕКСИЯ КАК ЭТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ (ЭПИЗОД ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ БИОГРАФИИ Л. Я. ГИНЗБУРГ) В статье описывается формирование этической системы социально-антропологических исследований Л. Я. Гинзбург, посвященных опыту ее интеллектуального становления в годы первой и второй пятилеток. В атеистическом коллективистском обществе она ищет ценностные основания для разработки своего документально-эссеистического проекта анализа взаимоотношений между индивидуумом и социумом. По ее мнению, подобным основанием может служить историко-культурная рефлексия. Ключевые слова: формализм, социалистический реализм, историко-культурная рефлексия, этическая ценность. Поиск этических ценностей для Лидии Яковлевны Гинзбург обусловлен несовместимостью официальной раннесоветской идеологии с интересами интеллектуалов, симпатизировавшим социалистическим идеям и революции, но сформировавшимися под влиянием символизма, футуризма и формализма. Коллективный порыв тружеников первой пятилетки было сложно разделить многим представителям творческой интеллигенции, иронически относившимся к гипертрофированно важной роли труда в годы социалистического строительства и не разделявших антииндивидуалистский пафос многих своих соотечественников. Впрочем, Гинзбург, которая с точки зрения сторонников советского строя выглядела «единоличником», постоянно искала возможности участия в общей жизни. С конца 1920-х годов, после увольнения из Государственного института истории искусств, она преподавала на рабфаке, зарабатывала литературным трудом и пыталась реализоваться как писатель. Адаптация в литературной ситуации начала 1930-х годов означала для нее не уступки официозу, тем более что до создания Союза писателей и доктрины социалистического реализма официоз представлял собой конфликтную среду, в которой уживались нескольких влиятельных группировок. Гинзбург искренне искала ценностных оснований для включения в текущий литературный процесс. Проблема, с которой ей пришлось столкнуться, состояла в том, что литературная работа в ее представлении была совсем не тем, что понимали под писательским трудом многие ее коллеги. Гинзбург не считала себя компетентной писать о рабочих и крестьянах или о стройках социализма. В то же время постфутуристская традиция с формальными экспериментами и монтажными техниками письма ее тоже не привлекали, хотя ее учителя Юрий Тынянов, Виктор Шкловский и Борис Эйхенбаум несомненно повлияли на ее творчество. Гинзбург хотела возродить социально-психологическую документальную эссеистику, обратиться к опыту Петра Вяземского и Ларошфуко. Ей интересны были наблюдения за социально-психологическим поведением людей, взаимодействие индивидуального и коллективного начал в человеке. Она стремилась создать социально-антропологическое описание советского опыта, одним из ключевых проблем которого с самого начала стала проблема ценностных оснований, которыми руководствовали жители утопического общества. В эссе «Стадии любви» (1934) Гинзбург пишет: «Вопрос о том, можно ли марксизмом или от марксизма идя доходить до небольших по объему конкретностей. От рассмотрения огромных массовых движений до все умельчающихся групповых формаций; и вплоть до отдельного человека. Чистый историк, особенно историк-экономист, может до времени обходиться большими числами. А мне сейчас нужен подход, который годился бы для понимания исторического процесса и для понимания судьбы отдельного человека, как человека социального»1. Автор задается вопросом, возможно ли с помощью марксистского анализа понять опыт человека, живущего в советском обществе, различима ли частная жизнь на фоне масштабных социально-политических и экономических процессов. В середине 1930-х 50 писательница работает над эссе, в которых ведется поиск нового литературного героя и новых этических ценностей. Три эссе – «Возвращение домой», «Мысль, описавшая круг» и «Заблуждение воли»,2 – известны нам в версиях, опубликованных в 1980-е годы. Многие другие заметки и записи, сделанные в это же время, не были подготовлены автором к печати. Некоторые до сих пор не опубликованы. В этой статье используются все перечисленные материалы. Увидевшие свет десятилетия спустя в отредактированной версии или не предназначавшиеся для печати, но сознательно сохраненные автором, они дополняют друг друга и помогают лучше понять ситуацию 1930-х годов. Герой Гинзбург – интеллигент, надеющийся согласовать народнические социалистические убеждения и эстетические взгляды, сформировавшиеся под влиянием символизма и футуризма. Едва ли интеллектуал с подобным двойным бэкграундом в поисках новых экзистенциальных и нравственных оснований смог бы ограничиться марксистским методом. По крайней мере, в приведенной цитате Гинзбург говорит об использовании марксизма с долей сомнения. Ее литературное творчество постепенно изолируется от работы литературоведа и халтуры. Для заработка она пишет приключенческий роман для юношества «Агентство Пинкертона»3. Параллельно идет работа над эссе – прозой для узкого круга знакомых. При этом филологическая карьера Гинзбург развивалась без осложнений. В середине 1930-х она сделала успешные доклады и публикации о Пушкине, Бенедиктове и Вяземском. Она продолжала заниматься поздними романтиками. «Возвращение домой» (1931) было определением идеологической позиции и заявлением о намерениях. В финале эссе декларировалась необходимость участия в жизни советского общества и готовность разделить со всеми опыт построения общего блага4. В двух других прозаических текстах «Мысль, описавшая круг» и «Заблуждение воли» формируется авторское сознание наблюдателя, анализирующего советскую жизнь. Чтобы увидеть происходящее адекватно, ученице формалистов необходимо еще раз вернуться к традиции, в рамках которой начиналась ее литературная карьера, и дать ей оценку в новой ситуации. Спор с учителями, формалистами5, с течением времени объединяет фор- С. А. Савицкий мализм и символизм в единый культурный проект, который теперь кажется уже окончательно завершенным. «Мысль, описавшая круг» начинается со смерти Михаила Кузмина, одного из наиболее ярких представителей дореволюционной культуры, от которой пытается отстраниться Гинзбург. «Прошлое, которое столько раз умирало – умерло еще раз», теперь «нелепо и горько»6. Раннее увлечение акмеизмом и футуризмом не исчезает бесследно, хотя во второй половине 1930-х эта эстетика и ее ценности выглядят анахронизмом: «До нас она дошла под видом формализма, – эта культура, в которой слова отражают слова, а ценности произвольны. <…> Ахматова, Шкловский и др. оставили нам проклятое наследство – самовитое слово, которым невозможно ныне писать, ничего, кроме исторических романов»7. Исторические романы с середины 1920-х годов пишет один из учителей Гинзбург Юрий Тынянов. О его прозе Гинзбург отзывается критически и после выхода «Смерти ВазирМухтара», и при обсуждении в Комитете современной литературы «Поручика Киже», и по прочтении «Восковой персоны». Его настойчивые попытки продолжать писать на языке «самовитого слова», по ее мнению, беспомощны. Воспринять в рамках символистского мировоззрения реальность 1930-х годов сложно, так как эта традиция, по мысли Гинзбург, основана на антиисторичности и нежелании участвовать в политической жизни. Футуризм не отличался принципиально от символизма, принадлежа к «той же культурно-мировоззренческой сфере», которую она определяет как «русский модернизм». Это явление «всегда имело за собой социальную безответственность и понимание искусства как отдельного участка жизни, где возможно социальное применение для тех, кто не может и в особенности не хочет найти его в других областях»8. Гинзбург не считает действенными в разгар социалистического строительства христианскую этику, этические представления Канта, Гегеля или символистов: «Мы же дети времени, склонного отрицать не только абсолюты классического идеализма, не только бессмертную душу положительных религий, но и самодовлеющую душу индивидуалистов, незаконно обойденную бессмертием»9. Рефлексия как этическая ценность... Атеизм делает эти учения и экзистенциальные позиции умозрительными конструктами, изолированными от происходящего в действительности. В 1934 году символизму и индивидуализму выносится окончательный приговор, и предлагается программа новой литературы: «Поднялись новые социальные силы. Образовалась принципиально новая идеологическая сфера, довольно неточно определяемая как марксизм. И все это никак не выразилось в искусстве. Русский модернизм упорно продолжается. <…> Модернизм должен кончиться. <…> Все это кончилось с мировой войной. Сознание человечества переродилось. Одни стали делать политику, у других появилось пассивное, но жадное любопытство к тому, что сделает с ними политика. Какой к черту модернизм сейчас в мире, выбирающем между реакцией и коммунизмом! У современной литературы может быть одна только задача – выразить судьбу человека как социально обусловленную. И выразить это в еще не бывшей степени понимания. Модернизм – со всеми его разделами – тут ни при чем. Натуралистический – психологический роман важен. Но тут надо одолеть свойственную натурализму грубую фикцию объективности изображаемого. Объективности ощущений, мыслительного процесса людей, которые садятся и встают со стула»10. Гинзбург считает, что происходящее в 1930-е годы не сводится к повсеместному насаждению марксистской идеологии. Это только одна сторона советской жизни. Суть же происходящего – социальный опыт людей, переживающих становление нового общества. О нем и должен рассказывать новый реализм. Реализм для нее подразумевает неорационалистскую прозу, ориентированную на социологию. Автобиографизм и интроспективный психологический самоанализ неуместны при описании строящегося коллективистского общества. В центре внимания должно быть описание нравов и наблюдение за социально-психологическим опытом. Новой прозе, претендующей на описание частной жизни в коллективистском обществе, необходимы новые ценности и установки. Гинзбург считает, что их надо искать, ставя вопрос об экзистенциальном пределе человека. Это позволит увидеть этические основания людей, живущих в СССР. Страх перед смертью, храбрость, достоинство – с 51 одной стороны, темы, заданные самой эпохой культурного перелома и «чисток». С другой стороны, эти «конечные» вопросы этической философии дают Гинзбург возможность сопоставлять ценностную систему советского человека с тем, как рассуждают о смерти Монтень, Паскаль, Ларошфуко, Сен-Симон или Пруст. Происходящее в СССР, таким образом, не сводится к идеологизации общества, это исторический эпизод, включенный в широкий историко-культурный контекст. Смерть Кузмина, с которой начинается «Мысль, описавшая круг», – это не только прощание с дореволюционной Россией, но и «опорный пункт в ряду впечатлений, который, все разрастаясь, прямо вел к <…> теме понимания смерти, – как необходимой для понимания, может быть для оправдания, жизни»11. Живя в советском атеистическом обществе, Гинзбург пытается найти ценности, позволяющие преодолеть страх перед конечностью человеческого существования. Во что верит теперь, после смерти прежней культуры, она сама и те, кто ее окружают? Едва ли они православные христиане или сохранили мистицизм символистской эпохи. На убежденных коммунистов они тоже мало похожи. Большинство интеллигентов и интеллектуалов 1930-х годов – атеисты. Каковы ценности этих людей, живущих новой жизнью нового общества? Рассуждения о смерти начинаются с личных впечатлений от гибели подруги. Смерть и похороны Н. В. Рыковой, первой жены Г. Гуковского, наводят Гинзбург на размышления о несовместимости театрализованного, обезличенного похоронного ритуала и мертвым телом в его конкретности и вещественности. Как атеисту ей безразличен ритуал похорон, но от этого факт несуществования не становится понятней. Тогда она предпринимает своеобразные полевые социально-антропологические исследования. Автор заводит разговоры со знакомыми об их отношении к смерти. В начале 1930-х она писала, что «разговаривать со знакомыми это сейчас исследовательская работа»12 – такими яркими и существенными казались ей изменения в сознании, поведении и речи людей, чьи привычки и представления были чужды новому обществу. Это следующий этап осознания смерти – анализ общих представлений и переживаний. Поводом для опроса послужила прочитанная в парикмахерской газетная заметка о профессоре Лон- 52 доне, пообещавшем продлить человеческую жизнь вдвое. Автор провоцирует знакомых на размышления об этом открытии. От разговора к разговору становится понятно, что большинство боится обсуждать это всерьез, – ктото из-за нежелания откровенничать, кто-то, как кажется интервьюеру, из-за собственного ничтожества или высокомерия. Беседы показывают, что чувственным людям страшно представить физическое умирание, интеллектуальным – бессознательное небытие. Автор приходит к выводу: бесстрашие перед смертью возможно благодаря воле и «жизненному напору»13. Иначе атеисту со склонностями к индивидуализму сложно преодолеть ужас перед конечностью существования. Советская культура не упраздняет традиционные суеверия и страх перед смертью. На атеистическом кладбище в Александро-Невской Лавре вместо крестов и склепов – обелиски со звездами, но могилы по старинке украшены портретами умерших, иконками и пошлыми эпитафиями. Созданный в середине 1930-х годов Некрополь и вовсе представляет собой странный музей, где могилы деятелей культуры превращены в экспонаты. И, тем не менее, именно эпитафия на надгробии академика Н. Я. Марра, похороненного на атеистическом кладбище в 1934 году, подсказывает автору «формулу преодоления смерти»: «На черном мраморе высечены слова: “Человек, умирая индивидуально, соматической смертью, не умирает общественно. Переливаясь своим поведением, делами и творчеством в живое окружение общества, он продолжает жить в тех, кто остается в живых, если жил при жизни и не был мертв. И коллектив живой воскрешает мертвых”». «Социальное бессмертие» кажется Гинзбург не позитивистской позицией советского лингвиста, но достоверной «необъяснимой и необходимой предпосылкой социальной жизни <…> Наше сознание содержит историю и культуру исчезнувших поколений, и в силу непреодолимых аналогий мы мыслим себя в чужих сознаниях, в бесконечной связи людей, вещей и поступков, в предметной действительности, возвращающей нам наш собственный образ»14. Культурная память, знание о многообразии экзистенциального и исторического опыта – это общность, обеспечивающая диалог с интеллектуалами разных эпох, актуальными для советской современности. Также, это вос- С. А. Савицкий крешение интеллектуала через «коллектив» и есть форма участия в жизни общества, «труда со всеми сообща»15, о необходимости которых говорилось в финале «Возвращения домой». В отличие от социалистов XIX века или Льва Толстого для Гинзбург разночинство и социалистические симпатии – не отвлеченные идеи, но социальная реальность. В XIX веке демократические мыслители были сословно обособлены от крестьян и рабочих, в то время как интеллигенция 1930-х годов живет с ними непосредственно в одной коммуналке. Гинзбург считает культуру не герметичной сферой для избранных, но пространством, открытым разным слоям общества. Неизбежная включенность в общую социальную жизнь – одна из особенностей советской коммунальности. Отстаивать независимость имманентного индивидуалистического сознания в этой ситуации означало бы игнорировать советское общество. Гинзбург же разрабатывает поэтику социального реализма. Соглашаясь с идеями, прозвучавшими в эпитафии Марру, она декларирует в качестве творческого принципа жизнь «в бесконечной связи людей, вещей и поступков», т. е. единство исторического, социального и экзистенциального опыта. Во «Фрагментах» (кон. 1930-х) она пишет: «…в книге о жизни должен быть принцип связи, в котором реализуется эмоциональность движущейся судьбы и обобщенность последнего творческого понимания»16. Для Гинзбург любая биография включена в коллективный опыт современников, и рассказ о частной жизни всегда рассказ об истории. Гинзбург считает необходимой соотнесенность индивидуального поступка с «бесконечным историческим рядом»: «общим бытием, любовью и творчеством, жалостью и виной»17. Похоронив индивидуалистскую культуру учителей, проанализировав свои личные переживания смерти, услышав много общих слов от знакомых и описав советские формы репрезентации смерти, рассказчик «Мысли» обращается к самому механизму «творческого понимания». Способом жизни и творчества в советском обществе, позволяющим оставаться вне советской системы, не избегая ее, должно стать дистанцированное наблюдение социальной и психологической жизни18. Для того, чтобы точно определить объект наблюдения, Гинзбург необходимо сконструировать советскую социально-психологическую личность, литературного ге- Рефлексия как этическая ценность... роя своих эссе. Она не пытается разделить опыт своих современников Густава Шпета или Михаила Бахтина, размышлявших о феноменологическом наблюдении и позиции вненаходимости. Любимый ею с юности за изощренный психологизм Лев Толстой тоже не берется в союзники. Гинзбург обращается к Ларошфуко. Его замечание о непостоянстве психологических состояний и зависимости от них отношения к смерти, формулирующие «за триста лет до психоанализа, до теорий подсознательного и бессознательного механику отвлечения и вытеснения»19, лежит в основе понимания Гинзбург душевной жизни и экзистенциального опыта. В конце 1930-х она пишет: «Психическое устройство многоэтажно. Внизу шевелится хаос. В верхнем этаже нередко самозащитная надстройка сознательной лжи и подтасовки для публики. А в промежутке – смена прояснений и затемнений для себя самого»20. Чтобы понять жизнь советского общества, Гинзбург ведет наблюдения за взаимодействием уровней психической жизни. Она описывает, как социальные роли совпадают или разнятся с подлинными намерениями людей, и как люди оценивают соотношение своих желаний и социальных масок, которые они носят. Гинзбург интересуют амбиции, их формы репрезентации, их самооценка и условия реализации21. По ее мнению, в 1930-е реальностью является не идеология, но социальная психология. Причем это социальная психология не специфически советская, ее законы стары, как мудрость Ларошфуко. В ее представлениях французский моралист – автор, чрезвычайно актуальный для второй пятилетки. В оценке статьи Маркса «Восемнадцатое Брюмера Луи Бонапарта», о которой Гинзбург писала не раз22, возникает интересное сращение «внутренних пружин (ressorts)» Ларошфуко и представлений о развитии истории в духе сен-симонизма Герцена (прогресса как борьбы старого и нового, исключающего утопическую телеологию). Свою альтернативу марксистской социологии она определяет как анализ «скрытых пружин исторического движения»23. Итак, применяя социальную психологию французских рационалистов к культуре, отказавшейся от символистского и футуристского наследия, она создает не только этическую основу для литературной работы. Это также и возможность увидеть советскую 53 реальность в перспективе истории культуры, обнаружение новой традиции, которая могла бы заменить неуместный, по ее мнению, в 1930-е символизм. Основания метода наблюдений над советской социальной реальностью открываются автору «Мысли, описавшей круг» во время прогулок по зимнему парку в Старом Петергофе24. Пейзаж бывшей императорской резиденции пустынен: заснеженная безжизненная природа, превратившийся в санаторий дворец, солдаты, которые кажутся автору «получившими предупреждение» о готовности в любой момент отдать свою жизнь. Сквозь этот «прозрачный» ландшафт Гинзбург отчетливо видит реальность осознаваемого. В этом условном ирреальном пространстве она формулирует свой метод рефлексии: «…принцип деятельности (творчества) в том, что я становлюсь вне себя находящимся. <…> мы делаем еще один шаг на пути объективации, колеблющийся шаг в историческое сознание. Творчество переживает творца <…>»25. Литературная работа, таким образом, не что иное, как осознание понимания социально-психологической реальности. Отстраненность по отношению к собственным размышлениям создает ясное представление о своей эпохе в широком историко-культурном контексте. Причем гегельянская и марксистская философия отступают здесь на второй план перед рефлексией, лежащей в основе литературного метода Пруста: «Мне дороги не вещи, а концепции вещей, процессы осознания (вот почему для меня самый важный писатель – Пруст). Все неосознанное для меня бессмысленно. Бессмысленно наслаждаться стихами, не понимая, чем и почему они хороши. <…> Отсюда прямой ход: от вещи к мысли, от мысли к слову <…>» (1930)26. Рефлексивность – это кредо Гинзбург. Наделение вещей смыслом, осознание действительности в «Мысли, описавшей круг» описывается как работа творческой памяти: «Творческая память для Пруста формообразующее начало не только искусства, но и жизни – потока, непрестанно ускользающего в щель между прошлым и настоящим. У Бергсона бессознательная память объемлет всю полноту пережитого и включается в мировую связь. Достаточно было, сохранив гегемонию памяти, лишить ее этой связности, чтобы получилось катастрофическое жизнеощущение С. А. Савицкий 54 Пруста. В отличие от органической памяти интеллектуальная память фрагментарна, и все ею не сбереженное, все невосстановимые куски жизни мучат тогда, как ноет колено целиком ампутированной ноги. В трудной борьбе с забвением творческая память превращает прошедшее в настоящее, переживаемое вечно»27. «Творческая память» или сознание – восприятие в историко-культурной перспективе становящейся реальности как социально-психологической – обеспечивает отстраненное наблюдение советского опыта. Эпопея «В поисках за утраченным временем», казалось бы, столь неуместная в советской литературной ситуации 1930-х, вдохновляет ленинградскую писательницу создать подобную картину жизни общества. Она убеждена в том, что способность к рефлексии освобождает от идеологического прессинга. Именно таким образом возможно участие в жизни СССР, которое не угрожает свободе личности. И именно через осознание современности в историко-культурном контексте преодолевается смерть: «Творящий работает на внеположную социальную действительность, даже не понимая ее объективности, в силу неутомимой воли к осуществлению своих возможностей в созидании и труде. <…> Для человека этого типа жизнь равна осознанию жизни и все неосознанное, как все забытое, падает в провал небытия. Единство сознания – для него это связь материалов творческой памяти в ее непрестанной борьбе со смертью, изнутри норовящей урвать еще и еще кусок действительности»28. «Мысль, описавшая круг» строится на повторе – постоянном возобновлении темы смерти. Вопрос о смерти обсуждается поступательно – от личного опыта, к общим представлениям и идеям через сопоставительный анализ собранных материалов к историческим обобщениям. Такой повтор продуктивен, но не тавтологичен. Размышление на заданную тему обращено на самое себя, являя собой рефлексию – мысль, возвращающуюся к самой себе, или, как значится в названии эссе, «Мысль, описавшую круг». Рефлексия предстает в этом эссе и способом рассуждения, и литературной формой, и этической ценностью. Такова альтернатива символизму, футуризму и марксистской социологии, обеспечивающая выход в историко-культурное пространство «социального бессмертия», о котором говорилось в эпитафии на надгробии Марра. Примечания Гинзбург, Л. Стадии любви // Гинзбург, Л. Критическая масса. М., 2002. С. 43–48. 2 Гинзбург, Л. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. СПб., 2002. 3 Гинзбург, Л. Агентство Пинкертона. Л., 1932. 4 Савицкий, С. Поезд революции и исторический опыт // Антропология революции : сб. ст. по материалам XVI Банных чтений. М., 2009. 5 Савицкий, С. Спор с учителем : начало исследовательского/литературного проекта Л. Гинзбург // Новое лит. обозрение. 2006. № 82. С. 129–154. 6 Гинзбург, Л. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. С. 543. 7 Гинзбург, Л. Из записных книжек (1925– 1934) // Звезда. 2002. № 3. С. 118. 8 Там же. С. 121. 9 Гинзбург, Л. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. С. 562. 10 Гинзбург, Л. Из записных книжек (1925– 1934). С. 122–123. 11 Гинзбург, Л. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. С. 543. 12 Там же. С. 104. 13 Там же. С. 554. 14 Там же. С. 560. 15 Цитата из стихотворения Б. Пастернака «Столетье с лишним – не вчера». 16 Гинзбург, Л. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. С. 141. 17 Там же. С. 610. 18 Ван Баскирк, Э. «Самоотстранение» как этический и эстетический принцип в прозе Л. Я. Гинзбург // Новое лит. обозрение. 2006. № 81. С. 261–281. 19 Гинзбург, Л. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. С. 563. 20 Там же. С. 132. 21 Зорин, А. Проза Л. Я. Гинзбург и гуманитарная мысль ХХ века // Новое лит. обозрение. 2006. № 76. С. 45–68. 22 Савицкий, С. Марксизм в «Записных книжках» и исследованиях Л. Гинзбург // История и повествование : сб. ст. М., 2006. С. 474–506. 23 Гинзбург, Л. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. С. 294. 24 Фонд 1337. ГПБ. 5 тетрадь. Дек. 1930. 25 Гинзбург, Л. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. С. 569. 26 Там же. С. 413. 27 Там же. С. 569–570. 28 Там же. С. 581. 1