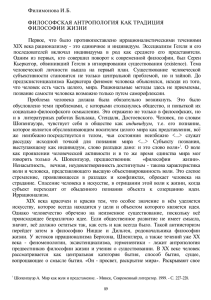Человеческая духовность: бытие и ценности. Монография. 2
advertisement
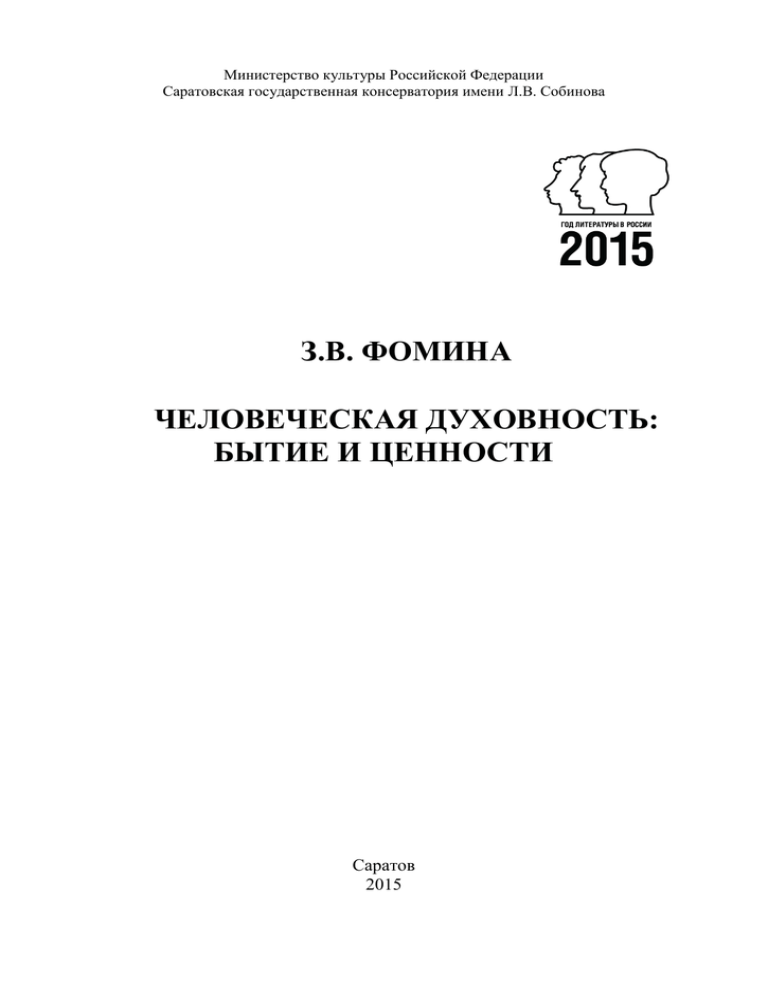
Министерство культуры Российской Федерации Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова З.В. ФОМИНА ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ДУХОВНОСТЬ: БЫТИЕ И ЦЕННОСТИ Саратов 2015 1 Печатается по решению Совета по НИР Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова ББК 71+87.3 Ф 76 Рецензенты: Р.Р. Измайлов – кандидат филологических наук, зав. кафедрой гуманитарных дисциплин СГК имени Л.В. Собинова В.П. Рожков – доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой теологии и религиоведения СГУ имени Н.Г. Чернышевского Ф 76 Фомина З.В. Человеческая духовность: бытие и ценности: монография. 2-е изд. перераб. – Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2015. – 232 с. ISBN 978-5-94841-199-6 Монография посвящена исследованию духовности как специфической характеристики человеческого бытия. Предлагается нетрадиционный подход к пониманию сущности духовности, которая рассматривается как преодоление человеком наличной действительности, обусловленное укорененностью духа в фундаментальных слоях бытия. Проводится соотносительный анализ систем духовных ценностей русской и западной философии. Для философов и социологов, а также всех интересующихся проблемами человека и его духовности. ББК 71+87.3 ISBN 978-5-94841-199-6 © Фомина З.В., 2015 © ФГБОУ ВО «Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова», 2015 2 ВВЕДЕНИЕ Человечество вступило в третье тысячелетие. Что можем мы сказать о себе, подводя итоги своей длительной истории – мы, люди, полагающие себя единственными носителями разума, ближе всех предстоящими Богу? Что принесли мы в этот мир, как использовали свое бесценное отличие – свою духовность? Как могло оказаться, что плоды сознательной преобразующей деятельности человека привели нас к черте, за которой угрожающе реальной становится гибель не только самого человечества, но и всей Земли? Что есть дух человеческий и не являются ли наши упования на его могущество лишь наивным самолюбованием крошечного «муравья», возомнившего себя способным перевернуть Вселенную? Размышления над этими вопросами побудили автора к написанию этой книги. Осуществившаяся в нашей стране в течение короткого с исторической точки зрения периода переоценка ценностей, резкое, до противоположности, изменение идеологических ориентиров не могли не произвести ошеломляющего действия на современников и стали причиной и, одновременно, выражением глубокого духовного кризиса в обществе. Это заставляет задуматься о природе духовных ценностей и степени их сопряженности с человеком, укорененности в человеческом бытии. Многообразные проявления духовного упадка, обнаруживающиеся в современной жизни нашего общества, сопоставленные с аналогичными процессами в западных странах, наводят на мысль о глобальном духовном кризисе человечества и диктуют необходимость их теоретического осмысления с непременным исследованием самого феномена духовности. Думается, наиболее общей, фундаментальной причиной указанного кризиса является технократический характер современной цивилизации, ориентация человека главным образом на материальные факторы существования, в то время как духовности отводится роль эпифеномена материальных процессов. На рубеже третьего тысячелетия стало очевидно, что техногенная цивилизация, постулирующая всесилие материально-преобразующей деятельности рационально-организованного человека, исчерпала себя. Дальнейшее движение в этом направлении грозит не только 3 экологической и ядерной катастрофой, но и утратой человеком своей действительной сущности, превращением его в орудие бездушных анонимных сил, порожденных его собственной деятельностью. Человечество, озабоченное обеспечением своего непосредственного существования, все более заслоняющим другие – неутилитарные – цели и ценности и принимающим характер «вакханалии потребления», постепенно забыло о своей онтологической назначенности. Вместе с отрицанием Высших ценностей, свойственным прагматическому сознанию нововременного человека, оно утратило всякие духовные ориентиры. Однако, будучи отодвинутым на периферию, духовное начало в человеке все же заявляет о себе ощущением неудовлетворенности, бессмысленности жизни, о чем все чаще пишут исследователи1. И это не случайно, поскольку человек в силу своей незавершенности не может удовлетвориться простым наличным проживанием, но всегда стремится к запредельному, Абсолютному. Однако для того чтобы вновь обрести себя, осуществить свою действительную сущность, человек должен взращивать в себе духовность как единственную опору, которая поможет ему выбраться из бессмысленности материально-животного существования. Сложившаяся ситуация требует глубокого переосмысления места и роли человека в системе мироздания. Необходимо кардинальное изменение стратегии поведения человечества, его переориентация в направлении создания новой системы ценностей. Человечество обязано осуществить сознательный переход в новую фазу развития, где определяющим началом будут духовные факторы. Признание приоритета духовности является предпосылкой и одновременно свидетельством того, что человечество преодолело «полуживотную» стадию своего развития (ориентирующуюся главным образом на жизнеобеспечение) – стадию «пред-человечества» и, наконец, готово к осуществлению своей действительной сущности, в основе которой лежит духовность. Это дает основание поставить вопрос о статусе человеческой духовности. Во-первых, имеет место негативный опыт, связанный с исчерпанием возможностей техногенной цивилизации. Во-вторых, существует настоятельная необходимость этических (духовных) подходов к решению современных проблем челове1 См., напр.: Франкл В. Человек в поисках смысла. М.,1990. 4 чества, ибо опыт истории показывает, что никакие внешние (социальные, политические и т.п.) способы решения не могут устранить недуги человечества, поскольку оставляют неизменной внутреннюю природу человека. Возражая сторонникам объективно-детерминистского подхода к человеческой истории, К. Юнг восклицал: «Удивительно, как человек, этот бесспорный зачинщик и изобретатель, носитель всякого рода развития, источник всех суждений и решений и планировщик будущего, сам себя превращает в quantite negligeable (в величину, которой можно пренебречь)». Все это заставляет по-новому взглянуть на роль духовных начал в человеческой жизни и в структуре бытия в целом. Следует отметить, что упование на духовно-нравственные факторы – человеческую сознательность, нравственное самосовершенствование и т. п. – не раз подвергалось критике различными философскими учениями, в том числе марксизмом. Для соответствующего периода человеческой истории (индустриальное общество) это было отчасти справедливо. Ныне ситуация изменилась. Мы находимся на исходе того этапа человеческой истории, который определялся прежде всего материальными факторами и развитие которого подвело человечество к осознанию губительности утилитаристского отношения к миру. В поисках выхода из кризиса люди все чаще обращаются к скрытым возможностям человеческого духа. Необходимость серьезного теоретического исследования проблемы человеческой духовности обусловлена также появлением массы эмпирических материалов (данные парапсихологии, трансперсональной психологии и др.), заставляющих пересмотреть представления о природе духовности. К этому побуждают и некоторые тенденции в развитии современной науки, связанные с разработкой нетрадиционных концепций мироздания (квантоворелятивистская теория, синергетика и др.). Философское осмысление указанных явлений будет способствовать углублению и расширению научных представлений о фундаментальных основах бытия вообще и о природе человеческой духовности, в частности. 5 Раздел I. ОНТОЛОГИЯ ДУХОВНОСТИ Глава I. КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ 1. Духовность как характеристика человеческого бытия Духовность всегда рассматривалась как неотъемлемая и наиболее существенная характеристика человека, его differentia specifica. «Человек – это дух» – это афористичное высказывание Карла Ясперса могло бы стать эпиграфом к любому философскому учению о человеке, независимо от конкретной интерпретации последнего. Между тем категоричная недвусмысленность данного высказывания допустима лишь в аллегорическом смысле как художественный образ. В рамках строго философского исследования всякое определение человека как духовного существа должно использоваться с «оглядкой» на его двойственную природу, на его телесность. Дихотомия природного, материального и духовного, порождающая драматизм человеческого существования, на протяжении всей истории была стержнем философских раздумий о человеке – его месте и назначении в этом мире, его возможностях и смысле существования. Одновременное стояние человека как бы в двух мирах – материальном и духовном – породило проблему приоритета одного из указанных начал человеческой природы, проблему, спор о которой не закончен и сегодня – уже после того как весь арсенал естественно-научного познания с его теоретической точностью и экспериментальной убедительностью был привлечен для обоснования материалистической трактовки человека и утверждения о вторичности, производности всех его духовных проявлений. Несмотря на скрупулезность естественно-научного исследования человека, несмотря на впечатляющие успехи в познании сложнейших механизмов деятельности мозга и внутриклеточных процессов, человек по-прежнему остается для себя проблемой – и именно потому, что в своей действительной сущности – как особый принцип существования в космосе, как специфический вид бытия он никогда не исчерпывается своей биологической природой, а есть надприродное существо. Эта «надприродность» и со6 ставляет существо человеческой духовности. В отличие от биологических аспектов человеческой жизнедеятельности, которые легко поддаются естественно-научному исследованию и теоретическому выражению, феномен духовности содержит в себе значительные трудности для строгой научной экспликации. Это связано, прежде всего, с таким «неудобным» для науки свойством, как нередуцируемость духовных феноменов. Всякое внешнее, предметное, знаковое и т. п. их выражение всегда есть лишь приближение к ним, которое с неизбежностью останавливается перед определенным пределом, границей, преодолеть которую привычными средствами объективного анализа в принципе невозможно. Ибо всякое схваченное содержание, всякое понимание, как только оно объективируется, облекается в ощутимые формы, утрачивает свою непосредственность, бытийственность, перестает быть жизнью духа и является лишь ее приблизительным выражением. Соответствие указанных форм объективации действительному содержанию духовных феноменов не может быть охарактеризовано с достаточной степенью убедительности не только как отношение тождества, но и как изоморфизм. Исследователи даже высказывают предположение, что всякая предметная форма есть не что иное, как символ, символическое выражение некоторых имплицитных значений и смыслов. Поэтому содержание духовных феноменов никогда не может быть полностью, адекватно воспринято, оно может лишь приоткрыться, обнаружиться в процессе интуитивного схватывания, угадывания и, следовательно, предполагает применение особых методов познания, в которых решающая роль принадлежит воспринимающему субъекту. Если важнейшее открытие философской мысли последнего столетия – утверждение о невозможности элиминации человеческой субъективности из результатов научного исследования – справедливо для феноменов вещного мира, то, тем более, это относится к явлениям духовного порядка, о существовании которых мы вообще можем знать только исходя из собственного внутреннего опыта, точнее – в результате экстраполяции последнего на внутреннюю, духовную жизнь других людей. Таким образом, вырисовывается поразительная картина, точнее – складывается поразительная ситуация: вся духовная жизнь человечества предстает как гигантская мистификация, само существование ко7 торой обусловлено трансцендирующей способностью одного воспринимающего субъекта – моего собственного Я. Никто и никогда не узнает действительного, точного содержания моих мыслей, не переживет моего ощущения именно этого запаха, именно этого цвета, не испытает мучающей меня в этот момент боли. Соответственно и я знаю о существовании всех этих феноменов во внутренней жизни другого, только предположив, что его восприятия и переживания аналогичны моим собственным. Я доверяю тому, что сообщено мне другим во внешней – предметной или знаковой – форме: слову, мимике, жесту и т. п., приняв эти условные обозначения, достраиваю их своим воображением, наполняю материалом, обусловленным моим собственным опытом, взятым из моего собственного «багажа», и потому всякое утверждение об объективности человеческого познания вызывает сомнение. Изложенные рассуждения несут в себе значительный налет солипсизма. Однако, несмотря на их логическую последовательность и убедительность (солипсизм, как известно, вообще трудно опровергнуть логически), рискнем осуществить некую познавательную операцию, противоположную гуссерлевскому «эпохе» – «заключим в скобки» человеческую субъективность и предпримем «якобы» объективное исследование человеческой духовности, то есть исследование, осуществляемое в рамках рационально-логического познания и соответствующих ему средств выражения. Ведь, как это ни парадоксально, несмотря на все утверждения об ограниченности рационально-логического дискурса (которые имеют место и в данной работе), о необходимости иных познавательных средств, все без исключения философы, тем не менее, вынуждены пользоваться все теми же понятийными формами выражения, какие бы попытки обновления (даже деконструкции) языка они ни предпринимали. Разница состоит лишь в том, к какому опыту апеллирует тот или иной исследователь, насколько адекватно этот опыт выражается в философском дискурсе: обладает ли данный опыт свойствами повторяемости, воспроизводимости, фиксированности приборами и т. д. – всем тем, что обычно считается гарантом объективности и общезначимости знания. И, наконец, неопровержимая на первый взгляд убедительность солипсизма (или даже просто субъективизма) строится на одной единственной посылке – невозможности выхода за пре8 делы субъективного восприятия. Но, возможно, эта посылка должна быть подвергнута сомнению и осмыслению в свете новых эмпирических данных. Может быть, наше исследование приведет к каким-то новым взглядам на эту проблему (исключительной субъективности духовного)?.. Начнем с традиционного категориального анализа проблемы. Как определить духовность: как принадлежность духу, как бытие духа или здесь необходим еще какой-то другой термин, выражающий отношение человека и духа? Очевидно, ответ на эти вопросы зависит от того, какое содержание вкладывается в понятие «дух». Первым теоретическим осознанием данного феномена было понимание духа как разума, сформулированное в античной философии. Но можно ли однозначно утверждать, что рациональность вообще была первой формой осознания своей духовности? Думается, нет. Греческая философия представляет собой рациональную попытку осмысления человеком своего бытия и окружающего мира в целом. Она стала возможной потому, что ко времени ее возникновения рациональное мышление уже в основном сложилось, сформировалось как особый способ познания. Развитие античной философии существенно повлияло на процесс совершенствования, укрепления этой формы мышления, постепенно утвердив, узаконив (особенно после создания логики Аристотеля) рационально-логическую форму мышления как единственно верную, способствующую достижению истинного знания. Теперь, когда мы осознали ограниченность этой формы познания, и наука устремилась к поиску ее альтернатив, имеет смысл обратиться к ее истокам – к периоду, когда рациональное мышление еще не было господствующим и определяющим. В какой форме осознавалась и пребывала духовность древнего человека? Об этом свидетельствует мифология, точнее, метод ее построения. Древний человек одухотворяет природу. Но, как известно, мифологическое объяснение мира строится по антропоморфному принципу. Следовательно, предметам и явлениям окружающего мира, природы приписывается свойство (одухотворенность), которое известно человеку, переживается, осознается им в себе самом. Но что представляет собой эта одухотворенность? Скорее всего, здесь имеется в виду не рациональность, не способность к абстрактному мышлению, а иррацио9 нальные – эмоциональные и волевые побуждения. Не случайно, что даже более «зрелые» древнегреческие боги проявляют себя чаще всего не как трезво, холодно и расчетливо мыслящие, а как чувствующие, волнующиеся, переживающие существа, вступающие с людьми (и между собой) в эмоционально-пристрастные отношения. Гром и молнии – свидетельства гнева Зевса: бог сердится и т. п. Такое превалирование эмоционально-чувственных компонентов в отношении человека к миру имеет глубокий смысл. Свободный от принудительности разделяющей дискретности абстрактно-логического мышления, древний человек живет в атмосфере целостности, единства мира, выступающего как одухотворенный живой Космос. Он представляет собой его органичную часть. Единство, слитность со всем остальным миром переживается, ощущается человеком непосредственно, а не в виде абстрактного, отвлеченного образа и тем более понятия. Как свидетельствуют современные исследования психологии и сознания туземцев, находящихся на стадии первобытного развития, представители этих племен буквально кожей чувствуют свою связь с окружающим их миром. Так, один из охотников пояснил, что он чует присутствие скрытого в зарослях оленя: это выражается в ощущении, что на его боках как бы прорастает грубая оленья шерсть. А приближение своей жены, возвращающейся из соседней деревни, он переживает как ощущение тяжести от лямок давящего на ее плечи груза2. Эти потрясающие воображение современного человека феномены являются свидетельством утраченной, но, тем не менее, вероятно присущей нам изначально, способности ощущать единство со всем окружающим миром и подтверждают тезис о неединственности, односторонности и ограниченности рационально-логического метода познания, который канализировал познавательные способности человека в направлении абстрактного, отвлеченного, разделяющего мышления. Очевидно, на ранних этапах человеческого существования еще не было развитой способности к абстрагированию, способности, которая лежит в основе всей преобразовательной деятельности, обеспечившей человеку возможность целенаправленного воздействия на окружающую среду. С возникновением и разви2 См.: Бескова И.А. О природе трансперсонального опыта // Вопросы философии. 1994. № 2. С. 41. 10 тием способности к абстрагированию и связанного с ней рационального мышления в природе, бывшей до этого гармоничной замкнутой системой, формируется новый принцип существования – свободная творческая деятельность человека, – который из органичной части природы постепенно превращается в самостоятельную систему, противостоящую породившей ее природе. Отныне именно это противостояние будет определять все мировое развитие – как эволюцию природы, так и изменение самого человека. Последнее касается не только внешней – приспособительнопреобразовательной – деятельности человека, но и формирования его собственной сущности. Заслуженно оценив возможности рационального мышления, разума, человек возвышает, обожествляет его, передав ему функцию управления всем сущим. По аналогии с человеком, чья жизнь отныне подчинена контролю разума, весь Космос мыслится античными философами как живой организм, головой, управляющим центром которого является высший космический разум: анаксагоров нус, гераклитов логос. Поэтому в сложившейся, зрелой античной философии дух выступает как разумное начало всего сущего и практически тождествен уму, разуму, мышлению. Эта линия получила развитие в философии Платона и его последователей. Нетрудно видеть, что при таком – рационалистическом – понимании духа последний рассматривается как принцип организации природного, материального мира и в этом смысле «слит» со всем действительным миром, находится с ним в отношении соответствия, тождества. При всем противопоставлении Платоном мира идей и мира вещей, как подлинного и неподлинного, в его учении провозглашается единство и взаимообусловленность этих двух противоположностей. Вещи существуют, поскольку они причастны идее. Тем более это справедливо по отношению к гегелевской диалектике: «Все действительно разумно, все разумное действительно». Подобное понимание взаимосвязи духа как мышления и бытия как реальной жизни можно встретить и в современной литературе. Латышский философ Карл Рутманис, утверждая приоритет осмысления при характеристике духовности, подчеркивает справедливость принципа тождества 11 бытия и мышления: «Возможно, в мысли есть все, что может быть; мысль, быть может, и есть все»3. Несмотря на указанную «слитность» с миром, рационалистически трактуемый дух не может выступать целостной характеристикой бытия, ведь разуму присуща отвлеченность, абстрактность. Он не способен выразить полноту жизни со всеми ее неправильностями и заинтересованностями. Он всегда есть лишь частичное (пусть даже и существенное) выражение жизни. Гегелевский Абсолютный дух холоден и бесстрастен, ему нет дела до человека, он абсолютно самодостаточен и прокладывает себе путь с необходимостью, превращающей человека (даже целые народы) в бессильную песчинку, единственной усладой которой может быть лишь познание этой необходимости и подчинение ей. Однако в истории человеческой культуры сложился и другой подход к пониманию духа – он восходит к религиозной традиции и связан с определением духа как высшего трансцендентного начала. Дух выступает здесь как средоточие высших, надприродных сил, всего того, что не может быть достигнуто, реализовано в обыденной земной жизни, то есть как совершенное идеальное начало и, одновременно, предмет человеческих стремлений. «Дух живет повсюду, где появляется или переживается людьми – совершенство...» – писал Иван Ильин4. В такой интерпретации дух противостоит действительному миру с его приземленностью, бескрылостью и мелочной меркантильностью – в нем есть все то, чего недостает в этом мире, но что, тем не менее, улавливается, интуитивно схватывается и переживается человеком как восполнение его недостаточной жизни, как высший смысл и истина человеческого существования. Именно такое понимание духа представляется нам наиболее адекватным и будет использоваться в качестве отправной точки всего нашего исследования духовности. В известной мере оно перекликается с кантовским трансцендентализмом и позволяет квалифицировать дух как трансцендентальное существование, которое «не имеет признаков бытия в мире, и в этом смысле оно есть небытие мира»5. Дух выступает здесь не как категория тео3 Рутманис К. Разорванность человеческого существования // Человек и духовность. Рига, 1990. С.36. 4 Ильин И.А. Путь к очевидности. М., 1993. С.307. 5 См.: Невважай И.Д. Свобода и знание. Саратов, 1995. С. 138. 12 ретического разума, а как идея чистого практического разума, которая не имеет денотата в эмпирической действительности, а возникает a priori из стремления человека к совершенству, отсутствующему в реальной жизни, и способна (идея) внести в нее смысл и нравственный порядок6. Итак, интуиция духа возникает как восполнение ощущения недостаточности этого мира, как несогласие принять его ограниченность. Но недоставать чего-либо может только кому-то. Поэтому в понятие духа невольно прокрадывается присутствие человека и само существование духа связывается с человеком, вытекает из его сущности. С тех пор дух выступает в качестве спутника человека, формы бытийствования человечности в человеке. Эта мысль четко сформулирована в монографии «Человек и духовность». «Но дух странствует не в одиночестве, – пишет Байба Петерсоне, – его спутник – человек. Возможность человеческого обращения к духу одновременно есть и единственная возможность бытия самого духа, ибо только глазами человека смотрит дух на мир и на себя...»7. Такое «очеловечивание» духа характерно для русской философии. Николай Бердяев прямо заявлял: «Внечеловеческое идеальное бытие бессмысленно. Неверно сказать, что бытию, понятому объективно, принадлежит примат над человеком, наоборот, человеку принадлежит примат над бытием, ибо бытие раскрывается только в человеке, из человека, через человека. И только тогда раскрывается дух...»8. Идея слитности, неразделенности духа и человека пронизывает произведения даже тех русских философов, которые убеждены в объективном существовании Высшего Духа. «Божественное бытие, – писал Семён Франк, – становится нам доступным потому, что мы откликаемся на него, воспринимаем его тем, что божественно в нас самих. Последняя глубина нашей личности осознается сама нами как нечто высшее, священное, богоподобное – выражаясь в принятых философских терминах, не как «душевное», а как «дух». И далее, говоря о душе: «... и там, в этой глубине, не только открыта и соприкасается с Богом и даже не только впитывает его в себя, раскрываясь ему 6 См.: Кант И. Основы метафизики нравственности // Кант И. Соч.: В 6 т. М., 1965. Т. 4, ч.1. С.246. 7 Петерсоне Б. Этическая духовность // Человек и духовность. С. 109. 8 Бердяев Н.А. О назначении человека. Опыт парадоксальной этики // Бердяев Н.А. О назначении человека. М. 1993. С.25–26. 13 навстречу, но даже живет некой общей жизнью, находится с Ним в таком общении, что Он переливается в нее и она – в Него»9. В этом же духе высказывается и И. Ильин: «...говоря о духовности или о духе, не следует представлять себе какую-то непроглядную метафизику или запутанно-непостижимую философию. Дух есть нечто, что каждый из нас переживал в своем опыте и что нам всем доступно... Дух не есть ни приведение, ни иллюзия. Он есть подлинная реальность»10. В таком – сопряженном с человеком – понимании дух утрачивает характер чистой рациональности и обретает черты, свойственные человеческому бытию. Речь идет, разумеется, о собственно человеческом бытии, отличном от его существования как биологического индивида и представляющем собой особый принцип бытия. Как утверждает Макс Шелер, то, что делает человека человеком, есть принцип, противоположный всей жизни вообще. Этот принцип восходит, по его мнению, к некоей высшей основе всех вещей, которую греки называли разумом и которую М. Шелер трактует более широко: «Мы хотели бы употребить для обозначения этого Х более широкое по смыслу слово, слово, которое заключает в себе и понятие разума, но наряду с мышлением в идеях охватывает и определенный род созерцания, созерцание первофеноменов или сущностных содержаний, далее определенный класс эмоциональных и волевых актов, которые еще предстоит охарактеризовать, например, доброту, любовь, раскаяние, почитание и т. д. – слово дух»11. Итак, перед нами два различных подхода к пониманию духа: объективно-рационалистический, рассматривающий дух как проявление высшего, абсолютного разума, частицей, отражением которого выступает человеческий мыслящий дух; и антропологический, в котором дух выступает как интуиция Абсолюта, с непосредственной очевидностью открывающегося человеку в глубинах его собственного внутреннего мира. Имманентность человека понятию духа не обязательно означает его субъективноидеалистическое понимание. Хотя истоки духа, точнее, человеческой духовности, обнаруживаются в самых потаенных, неиспове9 Франк С.Л. Духовные основы общества // Франк С.Л. Духовные основы общества. М. 1992. С.242. 10 Ильин И.А. О духовности инстинкта // Ильин И.А. Путь к очевидности. С.307. 11 Шелер М. Положение человека в космосе // Проблема человека в западной философии. М., 1988. С. 53. 14 димых глубинах человеческой души, индивидуально-личностное, внутреннее бытие духа всегда переживается, ощущается как присутствие Духа, как соединение с ним, приобщение к Высшему. Такое единение с духом является результатом преодоления человеком своей ограниченности, выходом за пределы собственного Я, а никак не его порождением. В рамках антропологической трактовки понятия «дух» сложился и еще один – третий подход, связанный с пониманием духа как сферы человеческих интенций – «царства ценностей». Основоположником его является М. Шелер, провозгласивший, что в основе человеческого существования, в том числе его познавательной деятельности, лежит ordo amoris – порядок любви, определяющий заинтересованное, эмоционально-ценностное отношение человека к миру. Трактовка понятия «дух» в философии М. Шелера на протяжении ее развития менялась. Если первоначально дух рассматривался им как самостоятельная сущность, субстанция, содержащая в себе источник своей активности, то позднее он становится лишь одним из атрибутов – ens per se – субстанции. Очевидно под влиянием «философии жизни» автор приходит к выводу о первоначальном бессилии духа12, который вследствие этого нуждается в снабжении энергией. Последнюю он обретает, благодаря соединению с мощным, всесильным жизненным «порывом», который, будучи вторым атрибутом субстанции, тем самым составляет необходимое условие всякого действительного бытия. Применительно к человеку указанное соединение разворачивается как процесс одухотворения инстинктов и влечений, присущих индивиду от природы (этот процесс сходен с описанным З. Фрейдом механизмом сублимации, переводящим дремлющую в вытесненных влечениях энергию в духовную деятельность). Итак, дух обретает опору в человеке, точнее – в конкретном человеческом индивиде. Поэтому взгляды позднего М. Шелера эволюционируют в направлении личностного измерения духа, который теперь ограничивается конечной, человеческой сферой бытия. Соответственно и человек, будучи носителем духа, превращается из части мира в соразмерное всему сущему 12 Шелер ссылается на учение Н. Гартмана, в соответствии с которым высшие формы бытия и ценности являются изначально более слабыми, а низшее, наоборот, изначально более мощно. 15 бытие, участвующее в процессе «творения» и наделяющее весь окружающий мир смыслом, «сопричастное творению смыслов». «Прежняя философия идей, – писал М. Шелер, – допускала “idee ante re”, “предвидение”, план творения мира. Но идеи существуют не до вещей, не в них, и не после них, но вместе с ними и производятся лишь в акте постоянной реализации мира (creatio continua), в вечном духе. Поэтому и наше соучастие в этих актах, поскольку мы мыслим “идеи”, не есть простое отыскание или открытие уже независимо от нас сущего и бывшего, но истинное со-порождение идей и сопровождающих вечную любовь ценностей из первоистока самих вещей»13. В современной отечественной литературе аксиологический подход к пониманию духа также нашел свое место. Еще в 1985 г. М. Каган настаивал на необходимости введения в философский оборот понятия «дух» для фиксации человеческой деятельности в ее целостности. По его мнению, понятие духа несет в себе некое специфическое содержание, невыразимое никакими другими психологическими и философскими терминами. Это – ценностноориентационная деятельность, отличающая дух и от животного интеллекта и от интеллекта машин14. Аксиологические аспекты, несомненно, являются важнейшей составляющей исследования духовности. Рассмотрению их будет посвящен второй раздел данной работы. Здесь же отметим лишь принципиальную близость второго и третьего подходов, поскольку и в том, и в другом случае дух выступает как средоточие высших, надприродных ценностей. Изложенное позволяет высказать некоторые соображения относительно категории «дух» – ее статуса и субстанциональности. В принятом нами контексте дух выступает как понятие антропологическое – формирующееся в результате чисто человеческого осмысления мира и требующее для своего существования наличия человека. Вместе с тем правомерно, на наш взгляд, говорить об объективности духа – не в смысле вещности и даже не в смысле субстанциональности, а как о трансцендентальном существовании. Здесь уместно опереться на подход к определению 13 Шелер М. Указ. соч. С.61. См.: Каган М.С. О духовном (опыт категориального анализа) // Вопросы философии. 1995. № 9. С. 93–96. См. также: Погребняк А.И. Духовность – критерий мировоззрения // Русская философия и духовная культура современности. Иркутск, 1991. Кн. 1. С. 42– 43. 14 16 подобных существований, сформулированный И.Д. Невважаем применительно к исследованию знания. Из-за отсутствия предикатов бытия в мире эти существования относятся к небытию мира, утверждает автор. И тем не менее, «трансцендентальное существование есть некоторого рода присутствие в мире, образовавшееся на множестве предметов и явлений мира. Но это присутствие возникло не из этого множества, а независимо от него, и в этом смысле оно безусловно по отношению к элементам этого множества»15. Если попытаться определить теоретический статус понятия «дух», то последнее может рассматриваться не как обобщающая категория, а как символ. Интеллектуальная техника введения таких понятий раскрыта Мерабом Мамардашвили по аналогии с соответствующими процедурами, описанными Рене Декартом. Декарт на материале понятия «Я» и понятия Бога показывал, что сами эти понятия не имеют предмета, а есть проявления в человеке какого-то существования. Когда в философии говорят о Я, то имеется в виду не наше эмпирическое, психологическое Я, а некая конструкция, являющаяся сама продуктом некоторого усилия и существующая лишь благодаря поддерживающему усилию существа, думающего о Я. То есть сам предмет создается актом мышления о нем, и вне этого акта не существует. Точно также в поисках онтологических доказательств бытия Бога Декарт исходит из того, что такого предмета в реальной действительности нет, и сама мысль о нем ниоткуда не выводима, не может быть рассмотрена как продукт воздействия на нас каких-то эмпирических обстоятельств, которые содержали бы и передавали нам какую-то мысль об этом существе, а есть проявление нашей приобщенности к существованию некоторого сверхмощного божественного интеллекта16. Аналогично и понятие духа символически выражает ту реальность, которая обнаруживает себя в глубине человеческого внутреннего мира как приобщенность к высшему, надмирному бытию и переживается как ощущение неполноты своего собственного существования («нехватки бытия») и одновременно независимости от него, как ощущение потенциальной возможности иного бытия. 15 16 Невважай И.Д. Свобода и знание. С. 15. См.: Мамардашвили М.К. Философия и личность//Человек. 1994. № 5. С.8. 17 Утверждение о погруженности духа в глубины человеческой субъективности как будто дает повод для упреков в его солипсистской трактовке. Однако не будем делать поспешных выводов и попробуем порассуждать. Говоря о символическом характере определенных понятий, М. Мамардашвили подчеркивает их произвольный характер, а именно то, что сам факт их возникновения и существования прямо и непосредственно зависит от продуцирующей духовной деятельности субъекта, человека. Посредством этой деятельности человек создает мир, который только благодаря этому и может считаться собственно человеческим – отличным от вещной объективности природно-материального мира (то, что Э. Кассирер называет «символической системой»). Человек, в отличие, скажем, от животного, которому бытие просто дано, существует в качестве человека только в результате определенного усилия по воспроизводству своего, человеческого бытия, что и дало М. Мамардашвили основания определить человека как «искусственное бытие», а само бытие человека назвать «дырявым бытием» – спонтанно возникающим только в моменты творческого напряжения – духовного усилия. Это усилие, обычно называемое в философии трансцендированием, мыслитель считал проявлением силы, изначально присутствующей в человеке как некое объективное, независящее от нашей воли начало, единственной характеристикой которого является его безосновность, свобода. На вопрос же о том, в чем истоки этой активности (трансцендирования), философ отвечал, что речь должна идти не об истоках, ибо свобода по определению безосновна. По его мнению, мы можем только констатировать, что с появлением человека в составе космоса появляется новый принцип, а именно: свободное действие как таковое, в отличие от инстинкта и мышления17. Однако сам этот принцип, который можно эксплицировать как специфическую форму бытия, должен быть, вследствие этого, укоренен в фундаменте бытия как один из его модусов. Позволим себе продолжить рассуждения Мамардашвили и предположить, что указанное стремление к трансцендентному имеет своим истоком имплицитно присущую человеку интуицию единства сущего и вытекающее из нее стремление к единению с целым (вспомним платоновское стремление души к возвращению в «умный мир»), 17 Мамардашвили М.К. Философия и личность. С. 10. 18 которое в этом случае есть не просто субъективная направленность, интенция, но некоторая реальность, обнаруживающаяся в этой интуиции. Как отмечал И. Ильин, «духовность человека состоит прежде всего в уверенности, что в пределах его собственной души есть лучшее и худшее, на самом деле лучшее; такое качество и достоинство не зависит от человеческого произвола; такое, которое надлежит признать и перед которым подобает преклониться. К этому высшему и лучшему надо прислушиваться, сосредоточенно испытывать его, вникать в него, предаваться ему. И по мере того, как человек осуществляет это, он убеждается в том, что это высшее и лучшее совсем не исчерпывается его личными пределами, но является в нем самом как бы излучением и энергией действительно Высшего и Совершенного начала, которому он и предстоит на протяжении всей своей жизни»18. Обоснование этого утверждения будет дано в следующих разделах. Здесь лишь отметим, что утверждение об укорененности духа во внутреннем мире личности, его сопряженности с человеком не обязательно выражает солипсистский взгляд на мир. Оно допускает предположение о том, что в самом факте присутствия духа в человеке проявляется более глубокая, фундаментальная реальность, являющаяся основой всех проявлений сущего, в том числе объектов неживой природы и неразумных форм жизни, но доступной лишь человеческому постижению. В советской философской литературе проблема объективности духа не могла быть поставлена явно, однако, она все же пробивала себе дорогу, обнаруживаясь в некоторых оговорках, иносказаниях и т. п. В работах отечественных авторов в подавляющем большинстве дух выступает как совокупность актов психической деятельности человека либо как проявление его сознания19. При знакомстве с указанной литературой неявно ощущается недостаточность приведенных трактовок духа, неудовлетворенность самих авторов высказанными характеристиками, некоторая недоговоренность. Так, Алексей Лосев в своей энциклопедической статье, определяя дух как «совокупность и средоточие всех функций сознания, возникающих как отражение действительности, но сконцентрированных в единой индивидуальности», далее оговаривается, что дух меньше всего является понятием 18 19 Ильин И.А. О чувстве ответственности // Ильин И.А. Путь к очевидности. С. 301. См., напр.: Философская энциклопедия. М., 1962. Т. 2. С. 82. 19 психологическим, субъективным, указывающим на состояния или процессы индивидуального сознания20. К сожалению, какогонибудь развития и обоснования данная сентенция в силу понятных причин не получила. В этом же смысле можно понимать и широко известную трактовку идеального, предложенную Эвальдом Ильенковым, хотя и здесь дух как бы «застревает» в деятельности человека21. Если попытаться выявить наиболее существенную характеристику духа как реальности, то она обнаруживается в его принципиальной независимости от любых проявлений предметноматериального мира, в его противопоставленности последнему. Дух всегда раскрывается как нечто внеположенное наличной действительности, не подпадающее под ограничивающее действие ее законов, не включенное в сферу господства необходимости и потому выступающее как свободное существование. Дух – это бытие свободы. Именно эта особенность и имеет наиболее важное, определяющее значение для понимания человеческой духовности. В последнее время в литературе наметился явный интерес к проблеме человеческой духовности22. Это и понятно: ведь определить, что такое духовность, равносильно тому, чтобы ответить на вопрос «что такое человек в его высшем, специфическом смысле?». Естественно многообразие взглядов на духовность. Однако прежде чем рассматривать различные содержания, вкладываемые в это понятие, хочется обратить внимание на неодинаковость подходов к пониманию феномена духовности, точнее – ее статуса и места в структуре личности. 20 там же. См.: Ильенков Э.В. Идеальное // Философская энциклопедия. Т. 1. М., 1962; его же: Проблема идеального // Вопросы философии. 1979. № 6, 7. 22 Бабушкин В.У. Философия духа (Опыт интенционального анализа). М: 000 «РРН», 1995; Бондаренко И.А. Феноменология бытийствующего сознания. М: МГУК, 2000; Шатилов С.Ф. Онтологические особенности человеческой субъективности: Основания и модусы: Дисс. на соиск. учен. ст. канд. филос. наук. Омск, 2002; Токарева С.Б. Сущность и эволюция духовности: Дисс. на соиск. учен. ст. докт. филос. наук. Москва, 2005; Амирова А.Р. Трансцендирование как системообразующий элемент духовной деятельности: Дисс. на соиск. учен. ст. канд. филос. наук. Уфа, 2006; Игнатова А.А. Метатеоретический подход к анализу сознания: Дисс. на соиск. учен. ст. канд. филос. наук. Ростов-на-Дону, 2011; Калинин П.Е. Становление статико-динамичного и континуально-дискретного единства в деятельности сознания: Дисс. на соиск. учен. ст. канд. филос. наук. Иваново, 2011. 21 20 Совершенно неприемлемым представляется сведение духовности к социальному и рассмотрение ее лишь в контексте общественной жизни и с точки зрения общественной значимости23. Трудно согласиться и с таким пониманием духовности, когда последняя выступает как составная часть, элемент личностного бытия, наряду с другими формами человеческого существования. Так, например, П. Симонов и ряд его единомышленников рассматривают духовность как выражение специфически человеческих – социальных и идеальных потребностей в правде и добре, наряду с другими – витальными потребностями. Личность в их трактовке предстает как неповторимая композиция потребностей, только некоторые из которых (социальнозначимые, представляющие «неоспоримую социальную ценность») выражают духовные качества личности 24. К тому же при этом понятие духовности утрачивает свое эвристическое значение, превращаясь в эпифеномен потребностей. Иногда духовность рассматривается как сфера индивидуальной или общественной жизни, что находит выражение в выделении и противопоставлении материальной и духовной жизни человека, как, например, у В.Ф. Рябова, который утверждает, что «духовная жизнь – это составная часть общественной жизни, одна из ее сфер, наряду с материальной сферой»25. В более поздних работах, посвященных духовности, явно прослеживается желание авторов представить данное явление в целостности, в единстве всех его проявлений. В частности, многие авторы выступают против ограничения феномена духовности исключительно областью сознательных явлений, против отождествления духовности с рациональностью. Подчеркивается включенность неосознаваемых, подсознательных компонентов в характеристику духовности, а также огромная роль эмоциональных компонентов. Отсюда – особое внимание к соотношению понятий «духовность» и «душевность». При этом духовность чаще всего связывается с различными проявлениями сознания, а 23 См., напр.: Анисимов С.Ф. Духовные ценности: производство и потребление. М., 1988. 24 См.: Симонов и др. Происхождение духовности (Симонов П.В., Ершов П.М., Вяземский Ю.П.). – М., 1989. С. 17–20. 25 Рябов В.Ф. Наш духовный мир. Л., 1987. С. 6. 21 душевность – с эмоциональной жизнью индивида26. Нельзя не отметить, что в ряде работ понятия «дух» и «духовность» практически не различаются, что затрудняет их определение и, тем более, выявление их сущности. Так, С.А. Борчиков в статье «Универсальность духа» в одном и том же смысле употребляет термины «дух», «духовность», «духовная реальность»27. Существенным сдвигом в понимании и определении духовности представляются работы, авторы которых подчеркивают ее надприродную сущность. Так, К.В. Лемберг утверждает, что «человек становится духовным, когда у него появляются потребности, основанные на небиологических особенностях организма, то есть потребность в получении новых знаний, потребность эффективно эксплуатировать эти знания, потребность в общении с искусством, потребность в творчестве, в самоанализе, самосовершенствовании, в сопереживании и сочувствии к окружающим и многие другие»28. Анализ литературы позволяет зафиксировать следующее: в подавляющем большинстве работ, посвященных человеческой духовности, раскрываются различные стороны, грани этого явления, которое, однако, имеет целостный характер и должно быть понято в первую очередь, исходя из его сущностной природы. Между тем, духовность пронизывает все человеческое существование, представляет собой его определенный срез и потому не может быть понята через перечисление образующих ее элементов. Как целостная характеристика человека она не исчерпывается суммой черт и элементов человеческой психики (воля, мышление, чувства, направленность мысли и т. д.). Духовность представлена не в формах человеческой психики и сознания, а скорее в их содержании. Феноменология духовности раскрывается как процесс трансцендирования человеком ограничений природноматериального мира и носит интуитивный характер. Поскольку в окружающей человека действительности нет прямых указаний на 26 См.: БСЭ. 3-е изд. 1973. Т.8. С. 548; Кокшаров Н. К проблеме духовности // Русская философия и духовная культура современности. Кн. I. Иркутск, 1991. С. 73; Симонов П.В. и др. Происхождение духовности. С.20, 283. 27 Борчиков С.А. Универсальность духа // Размышления о...: Перекличка. Философский альманах. Выпуск 6. – М.: МАКС Пресс, 2003 http://philosophy.oti.ru/philosophy/index.htm 28 К.В. Лемберг. О понятии духовности // Размышления о... Выпуск 6. Перекличка. Философский альманах. М.: МАКС Пресс, 2003 http://philosophy.oti.ru/philosophy/ro6/dhvlemb_ro6.shtml 22 существование трансцендентного, понятие духа не может сложиться как абстрактная, обобщающая категория и является результатом обнаружения человеком присутствия духа в глубинах его собственного внутреннего мира. Духовность есть результат интуитивного постижения человеком иного – высшего, надприродного смысла. Она выступает как осознание и переживание человеком своей инаковости, противопоставленности всему остальному миру, но главное – как осознание своей неумещаемости в нем. Такое понимание духовности все более утверждается в современной отечественной литературе29. Как отмечает Л.П. Буева, «проблема духовности – это проблема выхода человека за рамки узко-эмпирического бытия, преодоления себя “вчерашнего” в процессе обновления и совершенствования, “восхождения” личности к своим идеалам, ценностям и реализации их в своем жизненном пути»30. Итак, духовность в принятом нами понимании есть осознание человеком недостаточности, неполноты материальноприродного мира, наличной действительности в целом, несогласие с их неправдой, конечностью и несовершенством и стремление к высшим, сверхэмпирическим смыслам и ценностям. И хотя человек никогда не достигнет того предощущаемого, чаямого, зовущего идеального, совершенного мира, ностальгия по которому (используя термин Хайдеггера – Новаллиса) составляет действительную сущность всякой духовной жизни – все-таки он никогда не смирится со своим действительным положением, со своей ограниченностью, никогда не будет чувствовать себя здесь «как дома», но всегда будет стремиться к своей «духовной родине» (С. Франк). Из этого рассуждения могут сделать вывод, что мы понимаем под духовностью нечто «не-от-мирное», что она предполагает пренебрежение земной жизнью. На самом деле это не так. Содержательное поле духовности формируется в недрах реальной – индивидуальной и общественной – жизни. Как бы высоко ни воспарил дух, содержанием его всегда остаются формы и ценности 29 См.: Губин В.Д. Проблема веры в религиозной философии С.Л. Франка // Русская философия и духовная культура современности. Кн. I. С. 42; Стрелков В.И. Духовность и творчество // Человек как философская проблема: восток – запад. М., 1991. С. 200. 30 Буева Л.П. Духовность и проблема нравственной культуры // Духовность, художественное творчество, нравственность (материалы «круглого стола») // Вопросы философии. 1996. № 2. С. 5. 23 человеческой жизни. Что образует конкретное содержание духовных интенций? Традиционные, обнаруженные еще античностью человеческие ценности: Истина, Добро, Красота. Да, в этом мире нет и не может быть абсолютного добра, но само по себе понятие добра возникло в реальной, земной общественной жизни индивида, и стремление к абсолютному, полному добру есть лишь попытка преодолеть неполноту, несовершенство реально существующего добра. То же самое можно сказать об истине, красоте и других ценностях духовного мира. В силу этого обстоятельства духовность как стремление к преодолению земного несовершенства часто принимают за стремление к материальному переустройству этого мира, к его усовершенствованию (на этом основаны все «утопии»). А это, в конечном счете, означает примирение с реальным миром, приспособление к нему, тщетность которого так глубоко и точно выражена в мудрости Екклезиаста. Такого рода деятельность, активность слишком напоминает суетливую деловитость муравья, занятого своим жизнеобеспечением, «обустройством». Но духовность – это нечто иное. Истинная духовность связана со стремлением вырваться за рамки обывательской озабоченности, преодолеть в себе «муравья», приобщиться к эмпирически недостижимому. Истинная духовность есть всегда неприятие только наличной действительности и стремление к высшему, есть всегда парение духа над миром с его жизнеустроением. В таком же смысле высказывается австрийский философ и теолог Эмерих Корет: «Лишь поскольку конечный дух сущностно – a priori – исполняет себя в горизонте бытия, он отнесен к абсолютному и бесконечному бытию, он всегда уже превышает обусловленное и конечное, устремляясь к безусловному и бесконечному»31. Изложенные требования к духу, могут показаться слишком завышенными. Но разве иной подход – компромиссы духа не дали нам сообщество «обезьян цивилизации», прекрасно приспособленных к жизни, но неспособных справиться с убийственной пустотой своего собственного внутреннего мира?32. 31 Эмерих Корет. Основы Метафизики http://philosophica.ru/koret/106.htm Свидетельством этой беспомощности современного человека является рост числа самоубийств среди внешне благополучных людей, о чем пишет в своем исследовании В. Франкл. См.: Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990. С. 26. 32 24 Рассматривая духовность как своеобразную надприродную сущность человека, необходимо соотносить ее не только с внешним миром, но и с материальной природой самого человека, с его телесностью. Выше уже подчеркивалось, что духовность является целостной, интегральной характеристикой человеческого существования. Как справедливо отмечает С. Крымский, «духовность противоположна не плоти, а хаосу возбужденных инстинктов, делающему человека “рабом во тьме стихий” (Гете)... Духовность – это не альтернатива телесности, а опосредствующее начало между интеллектом и инстинктом. Это всегда полнота бытия, противоположная любой абсолютизации какой-либо его подсистемы»33. Говоря об онтологическом статусе человеческой духовности, важно иметь в виду следующее: утверждение о всеобщем, онтологическом характере духовности, о пронизанности духом человеческого существования корректно только с учетом диалектики возможности и действительности. Духовность как сущностная черта, как способность человека к духовной жизни присуща всем без исключения человеческим индивидам. Однако эта способность заложена в человеке лишь в возможности, которая может быть реализована, превратиться в действительность, лишь благодаря усилиям самой личности. А может такая возможность и не реализоваться, остаться в зародышевом состоянии. Правомерно ли такое утверждение? Можно ли вообще, рассуждая об онтологическом характере духовности, рассматривать последнюю с точки зрения соотношения возможности и действительности? Думается, да: это связано со спецификой человеческого бытия как непрерывного процесса самосозидания, самотворчества. Это бытие, которое, по словам М. Мамардашвили, постоянно «запрашивает» человеческое усилие34, чтобы поддержать, воспроизвести то, что случилось, а могло бы и не случиться – явление человеческого духа. Здесь не имеют значения никакие объективные социальные предпосылки, которые сами по себе, без человеческого усилия никогда не приведут к возникновению собственно человеческого в человеке. Это – явление абсолютно ин33 Крымский С.Б. Контуры духовности. Новые контексты идентификации // Вопросы философии. 1992. № 12. С. 24. 34 См.: Мамардашвили М.К. Проблема человека в философии // О человеческом в человеке. М., 1991. С.11. 25 дивидуальное, исходящее исключительно от единичной – единственной, уникальной и неповторимой личности, которая именно в силу этой своей единственности может реализовать (или не реализовать) свое уникальное бытие и потому полностью ответственна за его «свершение», то есть за самоосуществление человека как свободного существа. Михаил Бахтин в своей «философии поступка» определяет эту незаменимость конкретной индивидуальности как «не-алиби в бытии», подчеркивая тем самым личную ответственность человека за событие своей жизни, наличие долженствования в человеческом бытии. «Только не-алиби в бытии, – пишет он, – превращает пустую возможность в ответственный действительный поступок»35. И далее: «Все содержательно-смысловое: бытие как некоторая содержательная определенность, ценность как в себе значимая, истина, добро и красота и пр. – все это только возможности, которые могут стать действительностью только в поступке на основе признания единственной причастности моей»36. Полностью соглашаясь с подходом М. Бахтина, можно утверждать, что и бытие духа как реальность индивидуального внутреннего мира также есть всегда результат собственного усилия личности, а именно: стремления преодолеть ограниченность наличной действительности, в том числе своего собственного природного бытия. С позиций изложенного здесь подхода к пониманию духа по-новому предстает и соотношение реальных и идеальных начал в человеческой духовности. Как понимать духовное «усилие»? Является ли бахтинский «поступок» (как осуществление человеческого, самоосуществление личности) поступком в обычном, «физическом» смысле? Как понимать истинную духовность: как правильное размышление, правильное стремление или правильное делание? Подавляющее большинство исследователей убеждены в необходимости практического выражения духовности. Так, например, Н. Шелковая утверждает, что «духовность личности – это социальное качество личности, ее неотъемлемый атрибут, заключающийся в экстериоризации активности духа, то есть воплощение ее в практическую деятельность, поступки, поведение. Лишь в практической деятельности, общении духовность 35 Бахтин М.М. К философии поступка // Философия и социология науки и техники. Ежегодник. 1984–1985. М., 1986. С. 113. 36 Там же. С.114. 26 личности превращается из «вещи в себе» в «вещь для нас»37. Разумеется, если речь идет о проявлениях духовности, о ее существовании в модусе «для нас», здесь не может быть никаких возражений. Но если мы пытаемся определить сущность духовности, а не ее проявления, описать феноменологию духовности, то такое ограничение ее, точнее – обусловливание практическим выражением, представляется спорным. Жизнь духа хотя и связана с реальным, земным существованием человека и только в нем обретает свое бытие, тем не менее, есть бытие в ином – надприродном мире и потому относительно самостоятельна. А следовательно, духовность не может оцениваться, исходя из критериев только реальной практической деятельности. Нам известно множество свидетельств человеческого духа, выраженных в творениях культуры – в произведениях искусства, литературы, в проповедях и воззваниях и т. п. Не менее известно также и то, что далеко не все создатели этих высокодуховных творений могли и в реальной человеческой жизни удержаться на провозглашенной ими высоте. В этом историческом явлении как нигде более сказывается противоречивость человеческого существования, его раздвоенность, разорванность. Невозможность полного единства, целостности личности, абсолютной гармонии желаемого и действительного, высших стремлений и реальных возможностей – заложена в сущности человека и, как это не странно звучит, является предпосылкой самой духовности как стремления к самопреодолению. Дух человеческий, не имея возможности полностью оторваться от своей природной основы, идеально – в воображении, в стремлениях, в мысли обретает свободу. Эта свободная, автономная жизнь духа может осуществиться, материализоваться в реальных человеческих поступках – в духовном делании, может выразиться в творениях культуры, а может ограничиться и просто душевным подъемом, ощущением, переживанием в себе присутствия духа – во всех этих случаях имеет место реальное бытие – бытийствование – духа. Оценка этих феноменов духовности с точки зрения их значимости – это уже другой вопрос. Она может осуществляться в различных аспектах: 1) с точки зрения общественной значимости указанных духовных феноменов; 2) в плане их значимости для 37 Шелковая Н.В. К определению духовности личности // Вестник Харьковского ун-та. № 354. 1991. С. 66. 27 характеристики личности и, наконец, 3) в контексте их внутренней ценности – самоценности для личности. Значение первого вида проявления духовности (осуществление в реальной практической деятельности) очевидно во всех трех указанных аспектах. Духовное делание – это то, чего ждет от личности общество, поскольку оно реально ощутимо и способствует «приращению духовности общества». Соответственно «практическая духовность» положительно характеризует личность в глазах общества и, вследствие этого, вызывает удовлетворение у самой личности. Во втором случае (духовность только «на словах» – в объективированных формах культуры) личность характеризуется обычно как противоречивая, иногда даже с негативной стороны, но общественная значимость ее творений, с точки зрения их воздействия на духовный мир других людей, духовную жизнь общества в целом, как правило, признается всеми (за исключением тоталитарных обществ, где личность и ее творения полностью отождествляются, и «творение» получает право на существование, «путевку в жизнь» только при условии официального признания его создателя). Что же касается третьего проявления духовности, то с точки зрения внутреннего опыта, «изнутри» человека указанные различения значения не являются столь же прямолинейными и однозначными. Для самого человека, для его внутренней жизни в феномене переживания духовности заключена самостоятельная ценность. Явления духа переживаются всякий раз по-разному, но здесь, в глубине внутреннего мира личности, в опыте переживания имеет значение не столько содержание духовной деятельности, сколько сам процесс ее переживания. Интересно мнение И. Ильина на этот счет, который писал, ссылаясь на Секста Проперция: «В великом и божественном – весит и желание»38. А если это так, то адекватное значение получает и сам человеческий опыт переживания духовности, ибо только в нем, в этом опыте бытийствует дух. Если принять кантовский тезис о самоценности человеческой личности и утверждение Бердяева о самостоятельном значении взгляда на мир из человека, через человека, то придется признать и равное значение любого проявления духовности – его самодовлеющую ценность. Еще раз заметим, что речь идет не о со38 Ильин И. О духовности инстинкта. С.308. 28 циальной значимости индивидуальных проявлений духовности, не об их оценке обществом, и даже не об объективнобесстрастном взгляде на них. Речь идет о феноменологии человеческой духовности. Независимо от ее оценки и общественной значимости духовность – даже когда она представляет собой лишь мимолетное устремление отдельной человеческой души – существует, бытийствует, она есть. И имеет внутренний, интимно-личностный смысл. И так ли уж бесполезны порывы «прекрасно-напрасного» духа, пребывающего лишь идеально, не реализованные на практике? Ведь у духа есть одно незаменимое свойство – он свободен. Будучи идеальным по самой своей сути, дух один может не считаться ни с какими внешними условиями и материальными ограничениями – и в этом смысле он абсолютно свободен. Древние говорили: «Можно заставить лошадь войти в воду, но нельзя заставить ее пить». Хотя эта аналогия достаточно груба, тем не менее она верно выражает отношения духа и материи. Перефразировав, получим: можно сделать физического человека рабом, подчинив его тело и даже поведение, но нельзя подчинить его дух, нельзя заставить его мыслить и чувствовать против его воли. Наличие, соприсутствие в человеке этих двух начал – подчиненного внешней необходимости тела и ничем не ограниченного, свободного духа и делает человеческую жизнь, внутренний мир личности противоречивыми. Именно потому, что дух может витать свободно, возможно сосуществование в одном человеке самых возвышенных духовных побуждений наряду с самыми заурядными, обывательскими и даже просто плотскими проявлениями. Стоит ли отвергать значение внутренней работы духа, его чисто идеальных проявлений, если учесть, что внутренняя жизнь в значительной мере конституирует поведение, всю жизнедеятельность личности? Именно эта свобода духа дает человеку возможность выжить, выстоять, сохраниться, когда возможности изменения внешних условий, переделывания мира «под себя» исчерпаны и человек остается перед выбором «быть или не быть?». Человеку не дано полностью подчинить себе внешние условия существования – и это делает его зависимым от них. Однако, не умея овладеть миром, земной жизнью, человек способен преодолеть их – преодолеть духовно, усилиями своего внутреннего мира – в себе и для себя. В своем внутреннем мире человек спо29 собен обрести гармонию с миром и смысл своего собственного существования. Способность к такому преодолению не обеспечивает ее обязательного осуществления, как уже отмечалось, она предполагает свободную деятельную активность отдельного, единичного человеческого существа. Необходимость духовного усилия не вытекает из естественно-природной жизни индивида и потому не является неизбежным атрибутом всякого человеческого существования. Иными словами, принадлежность к роду «homo sapiens» еще не гарантирует всякому его представителю статус духовного существа. Не является ли подобное утверждение оскорбительным для человека и не делит ли оно людей на духовную элиту («героев») и толпу? Думается, нет. Человеку многое дано: самый необразованный «дикарь» и самый отъявленный преступник – и те обладают высшими, исключительными дарами человека – сознанием, мышлением, душой, душевной жизнью. Другое дело – каково содержание этих феноменов с точки зрения их моральной оценки, уровня компетентности, степени самоосознания и т. д. Но сам факт наличия их во внутренней структуре личности любого индивида несомненен. Тем не менее, существование этих феноменов еще не обеспечивает однозначно того, что называется человечностью в человеке, того, что отличает человека как надприродное существо от чисто животного существования – то есть не означает всеобщей и обязательной духовности. Указанные «дары» могут быть использованы и утилитарно – для более успешного, чем у животных, приспособления к среде, вернее, для «подтягивания» внешних условий к потребностям своей животной природы. Для того чтобы выдвинутый нами тезис стал достаточно ясным и убедительным, необходимо понять различие между духовной и душевной жизнью личности. На необходимость такого различения указывает В. Федотова. Она, в частности, подчеркивает, что проблема формирования духовности оказалась тесно связанной с уровнем развития душевной жизни. В разработанной В. Федотовой классификации типов духовности (эстетизм, этизм, теоретизм)39, которая в целом не бесспорна, представлена интересная, на наш взгляд, взаимосвязь типов духовного и душевного и их соотношение с основами жизненных миров личности. В 39 См.: Федотова В. Духовное и душевное // Человек и духовность. С. 8. 30 частности, обращает на себя внимание то, что тип душевного склада, вырастающий из стремления к удовольствию как основы жизни («растительное существование») и тип душевного, складывающийся на основе чувства реальности («животное существование») – все то же «обустройство» жизни, приспособление к реальности, к этому миру – вообще не соотносятся ни с каким типом духовности40. Иными словами, утверждается возможность чисто растительного или животного существования человека, допустимость его бездуховности. В то время как в наличии душевных переживаний, душевной жизни нельзя отказать никому из человеческих индивидов. Осмысливать, эмоционально переживать свои отношения с окружающим миром – это неотъемлемое «право», атрибутивное свойство любого человека. Из сказанного видно, что душевная жизнь связана в первую очередь с переживанием человеком своего земного бытия и вследствие этого является существенной характеристикой личности как элемента социального целого, общества. Поэтому душа должна быть понята как регулятор взаимоотношений человека с окружающим его реальным миром – с природой, с другими людьми. Дух же – это голос другого мира и стремление подняться над действительностью, перерасти свою природу. Поэтому обязательное наличие душевной жизни у всех людей еще не обеспечивает всеобщей духовности. В этом же плане следует рассматривать и роль сознания, рационального мышления в определении человеческой духовности. 2. Разум в структуре духовной жизни личности Зададимся вопросом: является ли наличие рационального мышления достаточным основанием для утверждения о духовности личности? Выше уже упоминалась позиция авторов, критикующих сведение духовности исключительно к деятельности сознания. Характерно высказывание на этот счет И. Ильина, пытающегося осмыслить истоки человеческого поведения и человеческой духовности. «Не следует, – писал он, – сводить человека к его сознанию, мышлению, рассудку или “разуму”. Он больше всего этого... он есть бессознательный кладезь своих воззрений, 40 Там же. С. 20. 31 безмолвный источник своих слов и поступков; он есть подземный ручей своих пристрастий и отречений, своих мечтаний и страстей; он есть гармония и дисгармония своих “неодолимых” влечений. Именно поэтому сознательная жизнь не проникает до главных и глубоких корней человеческой личности; и голос разума так часто бывает подобен “гласу вопиющего в пустыне”; и потому образование не воспитывает человека, а полуобразованность прямо развращает людей»41. Из сказанного следует, что духовность не исчерпывается рациональностью и не должна отождествляться с рациональным мышлением. Она – нечто иное. Вместе с тем, думается, осознанность все же играет в ней существенную роль и не может отрицаться полностью и тем более противопоставляться духовности. Осуществляющаяся в современной отечественной литературе критика чрезмерной рационализации духовности нередко принимает крайний, односторонний характер; в результате духовность начинает трактоваться преимущественно как эмоциональное, душевное переживание. Стоит ли так резко отрицать роль сознательных компонентов в духовности человека? Ведь независимо от того, как, каким путем обнаруживает человек присутствие духа в своем внутреннем мире, результаты этого обнаружения с необходимостью становятся предметом рационального осмысления. Духовность, несомненно, выступает прежде всего как результат осознания человеком себя и своего места в мире, точнее – своей неумещаемости в нем. Это и стимулирует то, что называется духовной жизнью личности. Духовная жизнь есть, таким образом, непрерывный процесс сознательного преодоления личностью своей ограниченности и высвобождения из-под власти природного мира. Определяющую роль в этом процессе играет осмысление. Последнее является необходимым условием означенного выше преодоления или, другими словами, духовного совершенствования личности. Но что означает «осмысление»? Один из сторонников рационалистического подхода К. Рутманис, понимая духовность как осознание разорванности человеческого существования, подчеркивает, что «разорванность заключена в самой рациональности, ибо соизмерение человека с окружающим его миром предполагает вместе с тем и самообособление человека как сущего среди 41 Ильин И. О духовности инстинкта. С. 307. 32 сущего и одновременно отличного от сущего, к нему не сводимого»42. Заметим, что такой подход является односторонним, именно вследствие превалирования рациональности, которая в силу своего разделяющего, дискретного характера, в силу своей отвлеченности как раз и способна зафиксировать разорванность человеческого существования, но недостаточна для постижения целостности бытия. Именно поэтому рациональность, чистый интеллектуализм не являются еще достаточным условием духовности. Прав Н. Бердяев, когда он говорит: «Мы никогда не можем точно определить, где обнаруживается подлинная духовность, она может обнаружиться совсем не на вершинах цивилизации» 43. Правда и то, что простой, необразованный человек может оказаться носителем более высокой духовности, чем обладающий изощренным умом интеллектуал. И все же – «блаженны нищие духом» не может быть истолковано буквально. Стремление к добру при отсутствии знания того, что есть добро – тупиковый путь. Сократа можно упрекнуть в чрезмерном великодушии за его уверенность в благости знания как такового, но никак нельзя отрицать справедливости его убеждения в необходимости знания как условия добродетельности. Думается, христианство больше приобрело от обращения Блаженного Августина, много познавшего и сознательно пришедшего к Богу, чем от какого-нибудь невинного в своей интеллектуальной чистоте простолюдина, принявшего Христа по велению своей неискушенной души (к тому же, наверное, не без внешнего влияния, не полностью самостоятельно – самосознательно). Слышу множество возражений типа «Для Бога все равны». Признавая их справедливость, хочу, тем не менее, обратить внимание на один существенный момент. Разве знание, к которому человек пришел через сопоставление и преодоление множества иных точек зрения, не становится убеждением (здесь уместно вспомнить лютеровское «На том стою и не могу иначе!»), а это, в свою очередь, разве не является твердой опорой духовной деятельности – реального делания на поприще духа? Обратимся к тому же примеру: Аврелий Августин знал, какие трудности подстерегают человека на пути к Богу, и потому так яростно, актив42 Рутманис К. Разорванность человеческого существования. С. 33. Бердяев Н.А. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого // Бердяев Н.А. О назначении человека. С. 322. 43 33 но проповедовал уже обнаруженную им Истину, стремясь облегчить другим пройденный им самим с таким трудом путь духовных исканий. Конечно же, чистая рациональность и знания сами по себе еще не есть необходимое и достаточное свидетельство духовности. Поэтому, говоря о духовности, следует иметь в виду не сознание вообще, а его ценностный срез, на что обращают внимание многие авторы. «Введение понятия духовности, – замечает Л. Буева, – необходимо при определении не утилитарнопрагматических ценностей, мотивирующих поведение человека и его внутреннюю жизнь, а тех ценностей, на основе которых решаются смысложизненные проблемы... Духовность есть показатель существования определенной иерархии ценностей, целей и смыслов, в ней концентрируются проблемы, относяшиеся к высшему уровню духовного освоения мира человеком»44. Человек не просто осмысливает окружающий его мир, не просто холодно-бесстрастно наблюдает, но всегда эмоциональнозаинтересованно относится к нему, переживает свои отношения с миром. Причем это переживание существенно отличается от эмоций животного, которые стимулируют лишь животные потребности. Эмоции человека существуют не только как регулятор взаимодействия индивида с внешним природным миром в рамках отношений «полезное – вредное», «приятное – неприятное». Человеку свойственно также наиболее сильно переживать отношение к невидимому, чувственно невоспринимаемому, интуитивно угадываемому миру, искать смысла своего земного существования, который не исчерпывается животным проживанием среди природных вещей и поэтому должен уходить своими корнями в иные – надприродные сферы человеческого бытия. Поиск этого смысла является существенной составляющей духовной жизни личности. Можно сказать еще точнее: так или иначе понятый смысл жизни образует тот стержень, то основание, на котором строится и держится вся духовная (и не только духовная) жизнь личности. Противники отождествления разума с духовностью исходят из классического понимания racio как абстрактного, отвлеченного, «бездушного» ума, индифферентного к индивидуальному человеческому существованию. И это справедливо. Однако само 44 Буева Л.П. Духовность и проблема нравственной культуры. С. 4. 34 понятие разума, рассматриваемого как атрибут человека, homo sapiens, как элемент, составляющая его духовной жизни, должно быть переосмыслено. Попытку в этом направлении предпринимает Л. Роднов. Он обращается к мысли Блеза Паскаля, который различал понятия «ум» как направленность на внешний мир и познание природы в ее объективной значимости и «разум», который по его мнению обязан выражать нравственную сферу человеческой жизни – «порядок сердца». Сходное различение имеет место в кантовской философии, но там разум, будучи ответственным за нравственное поведение личности, все-таки остается холодно-бесстрастным, а «добрая воля» выражает трезвое следование идее, а не «порядок сердца»: «Воля есть способность выбирать только то, что разум независимо от склонностей признает практически необходимым, то есть добрым»45. Стремление последующих философов освободиться от «бессердечной безнравственности классического разума» привело, как известно, к иррационализму с его туманной неопределенностью. Понятие экзистенции, ставшее выражением личностного бытия, вместе с тем лишилось общезначимых опор. Попытку сохранить «разум» для «экзистенции» предпринял К. Ясперс. Будучи представителем экзистенциализма и, соответственно, рассматривая экзистенцию в качестве высшего уровня человеческого бытия, Ясперс, тем не менее, не склонен становиться на позиции крайнего субъективизма и иррационализма и потому даже в своей своеобразной концепции «философской веры» продолжает отстаивать значение рациональных начал. «Веру никоим образом не следует воспринимать как нечто иррациональное. Более того, полярность рационального и иррационального привносит затуманивание экзистенции... То, что дух сознательно остановился на иррациональном, было его концом. В дешевых нападках на все, в упорном отстаивании желаемого и признаваемого правильным содержания, в расточительном разбазаривании традиции, в несерьезной, кажущейся чем-то высшим свободе и в патетике ненадежного дух сгорал как фейерверк», – писал К. Ясперс46. И в другой работе: «Человек, для того, чтобы остаться человеком, дол45 Кант И. Основы метафизики нравственности // Кант И. Соч.: В 6 т. Т.4, ч. 2. С. 250. Ясперс К. Философская вера // Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991. С. 422. 46 35 жен пройти через осознание... Нельзя больше прибегать к маскировке посредством отказа от сознательности, не исключая себя из движения в истории человеческого бытия. Сознательность стала для нас в нашем существовании условием, при котором может прорваться подлинное, утвердиться безусловное, станет возможным тождество с собственной историчностью»47. В своей классификации форм сознания К. Ясперс оставил духовность, как определяемую разумной идейностью, за пределами экзистенции. И потому экзистенция остается у него не проясненной и предполагает существование «философской веры» в союзе со знанием. Но, как справедливо замечает Л. Роднов, научное знание есть «сознание вообще», а не разум, оно ориентировано на выживание в условиях наличного бытия. Л. Роднов предлагает свое понимание разума как характеристики духовного бытия человека, которое представляется нам заслуживающим внимания. Исходя из положения, что сознание всегда есть единство мышления и чувственности, философ делает вывод: «Определяющим сущность сознания выступает единство разумной деятельности мысли и нравственной деятельности чувства»48. Автор обнаруживает и предлагает «логическую форму мысли», в которой выражается нравственное чувство («Я есть Я и не-Я одновременно») и которая позволяет ему говорить о единстве разума и нравственности, о том, что «чистой» нравственности не бывает, поскольку в нее всегда вплетена разумно-действующая мысль мыслящего и одновременно чувствующего человека49. Мы позволили себе такой подробный разбор концепции Л. Роднова, поскольку его взгляды близки нашему пониманию и имеют существенное значение для дальнейшего изложения. В частности, в развиваемую нами концепцию духовности органично вписывается сформулированное Л. Родновым определение разума: «Разум – это идеальная способность человека усилием своей собственной воли выйти из своей “заброшенности в мир”, то есть выйти из “Я” в “не-Я” и, таким образом, влиться, слиться, отождествиться, раствориться в этом ином, что феноменологически и может привести к пониманию того, ради чего “Я” отказа47 Ясперс К. Духовная ситуация времени // Ясперс К. Смысл и назначение истории. С. 376. 48 Роднов Л.Н. Разум и нравственность в единстве сознания // Вестник Московского унта. Сер.7. Философия. 1996. № 3. С. 20. 49 Там же. 36 лось от себя»50. Такой подход находит все больше сторонников в отечественной философии. Так, В. Лекторский, выражая озабоченность прагматизмом современной технической цивилизации, говорит о необходимости ее трансформации в направлении духовности. Суть указанного процесса состоит, по его мнению, «в признании Иного, не подвластного мне ни посредством грубой силы, ни с помощью хитрых рациональных уловок: природной реальности, другого человека, иной культуры, прошлого... С Иным можно лишь вступить в коммуникацию, в диалог, в ходе которого меняется каждый его участник. Вот эта совокупность духовных ориентиров и выступает как система высших надындивидуальных ценностей, которым подчинены все остальные (в частности, утилитарные) ценности»51. В этом случае, заключает автор, лишается основания противопоставление духовности и рациональности, ибо сама рациональность начинает пониматься по-другому, как способность к диалогу, к взаимопониманию, то есть к нравственности. Итак, необходимой составляющей духовности является разум, понимаемый не в классически-рационалистическом смысле (как абстрактно-всеобщее racio), а в качестве основы нравственных интенций личности. Это обусловливает необходимость рассмотрения этических аспектов духовности. 3. Этические аспекты духовности Изложенные выше рассуждения дают основание говорить о невозможности элиминации нравственных интенций из понятия духовности, благодаря чему и сам процесс осмысления приобретает здесь нравственный контекст и предстает, говоря словами Паскаля, как способность «хорошо мыслить» (невольно возникает аналогия с одной из «восьмеричных истин» буддизма – «правильным размышлением»). В самом деле, одно только указание на способность к трансцендированию действительности еще не раскрывает всего содержания духовности, которая заключается не столько в отрицании наличного бытия, сколько в положитель50 Там же. С.21. Лекторский В.А. Духовность и рациональность // Духовность, художественное творчество, нравственность. С.34–35. 51 37 ном утверждении и стремлении к высшим, надприродным ценностям. Не случайно понимание духовности исключительно как «способности возвыситься над животной жизнью» приводит к утверждениям о существовании «злой духовности»52. «Советы духа – не добро само по себе – дух может быть и злым, и “нечистым духом”», – утверждает Б. Петерсоне. – Дух становится этическим, лишь становясь всецело человеческим, то есть приобретая возможность испытания жизнью»53. Как будто дух может быть бесчеловеческим, внечеловеческим – опять гегелевский Абсолютный Дух? Здесь, как видим, опять имеет место отождествление духовности с рациональностью, с абстрагирующей способностью разума. Дух как свободно и независимо от человека парящий интеллект – вот пафос такого понимания. Однако смысл духовного переживания заключается не только в трансцендировании пределов наличной действительности, не только в умении подняться над своей животной природой, но и в специфическом ощущении своей причастности иному – истинному и совершенному бытию, в ощущении своей связи, слитности с этим целым. Это ощущение и делает возможным преодоление индивидом своей частичности, неполноты, изолированности и сознательный, добровольный отказ от своего эгоистического Я, переход в Другое, слияние с ним. Здесь скрыта тайна самого удивительного и существенного проявления человеческого духа – любви. Вне этого не может быть понята духовность как специфически человеческая форма бытия. Речь идет именно не об отвлеченном холодно-бесстрастном размышлении о бренности и несовершенстве природного бытия, а о духовном переживании как «бытии-событии» (Бахтин), то есть о свершении человеческой духовности, совершаемом в индивидуальном человеческом бытии, которое не может быть незаинтересованным, но всегда деятельно-участно и, стало быть, находится в нравственном отношении к предмету своей интенции. Утверждение о нравственной детерминанте человеческого существования не ново. Оно четко сформулировано еще Имма52 См., напр.: Федотов Г.П. Esse Homo. О некоторых гонимых «измах» // Феномен человека: Антология. М., 1993. С. 84; Шердаков В.Н. О познавательном, нравственном и эстетическом отношении человека к действительности // Духовность, художественное творчество, нравственность. С. 27. 53 Петерсоне Б. Этическая духовность. С. 111. 38 нуилом Кантом. Нетрудно заметить, что приведенное выше определение разума, сформулированное Л. Родновым, функционально близко кантовскому понятию чистого практического разума. Но лишь функционально – с точки зрения признания роли разума основой нравственного поведения. По содержанию же эти понятия различны: кантовский практический разум руководствуется идеей блага и требует следования ей часто вопреки душевной склонности, в то время как развиваемый Родновым в традициях русского философствования подход неразрывно связывает деятельность разума с нравственным чувством («порядком сердца»), благодаря чему в акте духовного переживания, в духовном «событии» снимается противоположность чувства и долга. Думается, именно в таком направлении мыслил и М. Бахтин, несмотря на то, что он использовал кантовский термин «практический разум». Этот выдающийся мыслитель подчеркивал единственно-незаменимый, индивидуальный характер нравственного поступка. При этом личность, индивидуальность, будучи персонально причастной к реализации высших смыслов и ценностей, участвует в этом «событии», по мнению философа, всеми своими проявлениями: чувствами, желаниями, настроениями, мыслью, из которых и складывается активно-ответственный поступок54. «Все, взятое безотносительно к единственному ценностному центру исходящей ответственности поступка, деконкретизируется и дереализуется, теряет ценностный вес, эмоционально-волевую нудительность, становится пустой абстрактновсеобщей возможностью», – замечает он55. Поэтому критерием истинной нравственности – как проявления человеческой духовности – является наличие совести, как внутренней основы самоопределения личности, которая одна только и превращает то или иное моральное действие в нравственный поступок – индивидуально, личностно творимое «событие», свершение духа. Вместе с тем наличие эмоционально-оценочных моментов в духовном переживании нередко становится причиной смешения понятий душевной и духовной жизни, на что уже обращалось внимание выше. В данном случае нам важно подчеркнуть, что утверждение о возможности «отрицательной» духовности вытекает из аксиологического, оценочного понимания этого явления 54 55 Бахтин М.М. К философии поступка. С. 124. Там же. С. 126. 39 и, соответственно, из негативных характеристик личности, связанных с определенной ее душевной настроенностью. Человек, как социально-природное существо, движим в своем поведении потребностями – множеством, целой системой потребностей, включающей как биологические, «витальные», так и социальные виды. Удовлетворение либо не удовлетворенность потребностей вызывает у человека положительные либо отрицательные эмоции, которые, в свою очередь, стимулируют деятельность человека, направленную на достижение своих целей (удовлетворение потребностей), либо устранение препятствий для их достижения. Совокупность переживаний и эмоций, сопровождающих описанные процессы, и образует содержание душевной жизни. Приведенная схема предельно упрощена, можно даже сказать, что она примитивизирует такое сложное явление, как душевная жизнь. Однако мы намеренно предприняли данное упрощение с тем, чтобы наиболее ясно и четко выявить специфику духовной жизни. Из приведенной схемы взаимосвязи душевной жизни с фундирующими ее потребностями пока нельзя ничего сказать о личности с точки зрения оценки ее душевных и тем более духовных качеств. Поэтому, прежде всего, разберемся в системе потребностей личности. Оставив в стороне так называемые «витальные» потребности, связанные с жизнеобеспечением человека как природного, биологического существа, обратимся к подсистеме социальных потребностей. Последние связаны с социальной жизнедеятельностью личности как элемента общества и характеризуют человека как социальное существо. Если витальные потребности можно определить как потребности в самосохранении, то социальные – как потребности в самоутверждении. И вот почему. Цель человека как биологического существа – сохраниться, выжить в окружающих его природных условиях, которые уже даны ему изначально как данность. Иная ситуация в общественной жизни индивида. В обществе человек, несмотря на свою социальную сущность, не укоренен изначально так же органично и прочно, как в природе. Свою телесность человек «получает» от природы как данность, которая будет расти и развиваться независимо от его желания и активности в заданном генетически направлении (влияние самого человека здесь может быть только весьма поверхностным, «подправляющим»). 40 В обществе же человек может «закрепиться» как равноправный элемент социума, как социальный индивид только благодаря собственным усилиям. Социальным существом – личностью – человек делает себя сам. Общественная Среда выступает здесь как условие самосозидания личности. Отсюда – потребность в самоутверждении, которая формируется параллельно с процессом социализации личности. Потребность в самоутверждении является, таким образом, базовой, основополагающей для любой личности, и поэтому она не может служить основанием для дифференциации типов личности с точки зрения их духовности. В этой области – области социального общежития – цель (основополагающая, глубинная) любого ее члена одна – утвердиться, найти свое место. Различия касаются лишь средств, используемых для достижения этой цели, которые и характеризуют личность, ее направленность и специфику ее внутреннего мира. В стремлении к удовлетворению своих потребностей человек может переделывать мир «под себя». При этом и другие люди могут быть использованы как средство для достижения той или иной цели. Формы этого использования могут быть разными: от привлечения людей на свою сторону путем социальной мимикрии – корыстного, расчетливого следования принятым и одобряемым обществом образцам поведения – до откровенного насилия. Тогда в первом случае (социальная мимикрия, «изображение» добродетели) также традиционно одобряемые обществом качества, как вежливость, услужливость, даже благотворительность, будучи в основе своей корыстными, направленными на удовлетворение обывательских по своей сути потребностей (приспособиться к этому миру, извлечь из него наибольшую выгоду), не могут служить подтверждением духовности личности. Однако, будучи связанными с эмоциональными переживаниями, а также со всеми элементами специфически человеческой внутренней жизни (сознательным регулированием и планированием своего поведения, внутренней самооценкой и самоконтролем и т. п.), все взаимоотношения человека с другими людьми, с обществом с необходимостью сопровождаются душевными переживаниями и, следовательно, свидетельствуют о наличии у всякого социально активного индивида душевной жизни. Содержание последней, в зависимости от существующих в данном обществе норм и образцов, может быть как положитель41 ным, направленным на благо общества и других людей, на совершенствование самой личности, так и отрицательным. Человеческая душа может заключать в себе чувства добра, милосердия, справедливости и т. п., а может быть одержима злобой и ненавистью. Более того, она может носить в себе одновременно начала и добра, и зла – и именно это составляет действительность каждой конкретной человеческой души (как тут не вспомнить Ф. Достоевского: «Широк человек, слишком даже широк. Я бы сузил»). Все это характеризует сложный внутренний мир личности, мир ее души, но вовсе не обязательно является проявлением ее духовности. Духовность, как уже подчеркивалось выше, возникает, рождается лишь там и тогда, где и когда личность осознает недостаточность, неполноту своего существования и устремляется к иному, более совершенному бытию в попытках преодолеть в первую очередь себя, свою ограниченность, свою зависимость от этого мира путем внутреннего самосовершенствования, а не подтягивания внешних условий и других людей к своим потребностям. Поэтому духовность, в отличие от душевного строя личности, не может быть злой или отрицательной. Она всегда есть положительный процесс созидания человеком своей новой, более совершенной сущности. В обыденной, земной материальной жизни любое побуждение, любое действие человека корыстно – в том смысле, что оно направлено на достижение (если не непосредственно, то – в конечном счете) тех или иных личных целей, на удовлетворение индивидом своих потребностей. Здесь разум действует как рассудок – средство получше приспособиться к миру, извлечь из него наибольшую пользу, выгоду. Это те же заботы муравья, но лишь обладающего большими способностями, более совершенными способами «уживания» в мире. Поэтому любые, нередко даже моральные, действия приобретают здесь налет меркантилизма. В самом деле, в чем, в самом общем виде, заключается смысл моральных поучений? – «Ограничивай себя ради интересов других, общества, так как ты сам получаешь от общества, не можешь без него обойтись». Указанная суть морали многократно выражена в бесчисленных народных пословицах и поговорках: «Не тронь меня – не трону я тебя», «Как аукнется, так и откликнется», в циничном обывательском лозунге «Ты – мне, я – тебе», наконец, в известном «золотом правиле нравственности» и даже в 42 Священном Писании, где одна из главных моральных заповедей сформулирована следующим образом: «Возлюби ближнего своего и тогда Отец твой небесный также возлюбит тебя», а также «Чти отца своего и тогда Отец твой небесный также не оставит тебя», «Не судите да не судимы будете» и т. д. Здесь, как бы резко это ни звучало, происходит как бы распределение, раздел ощутимых материальных благ, которых не может доставать на всех и потому земные блага нуждаются в регламентации. Другое дело – сфера духа, духовная жизнь. Она не требует внешнего вмешательства и целиком основана на безграничности внутренних возможностей человека. Дух, пребывающий идеально, может принять в себя каждый отдельный индивид и одновременно все, и главное – полностью. Это некое благо, в котором нечего делить, но в котором все обретают единство. Поэтому духовность, рождающаяся из несогласия с ограниченностью этого мира (действительности вне и внутри человека), всегда бескорыстна, ей присущ альтруизм и сознательное, добровольное единение со всеми и всем. В то время как зло всегда эгоистично, сопряжено с животно-природным срезом человеческого существования и потому «принижает» его – возвращает назад, к до-духовному, животному существованию. Отмеченная сущность духовности отнюдь не означает ее полной элиминации из реальной земной жизни, ибо, как было подчеркнуто выше, только в социальном, человеческом измерении дух обретает свое бытие. Человек, обладающий духовностью, живет внешне той же жизнью, что и другие, производит те же действия, вступает в те же отношения. Но содержание этой жизнедеятельности существенно отлично: оно как бы пронизано светом духовности. Здесь тоже есть любовь, но любовь не как стремление к человеку, общение с которым приносит мне удовольствие и без которого поэтому я не могу и не хочу жить, а любовь как забывание себя в любимом, растворение себя в нем, страдание его страданиями и т. п. – то есть любовь к самому этому человеку, а не к моему удовольствию от общения с ним. В истинной духовности есть добродетель, благотворительность, но не ради рекламы для своего будущего процветания, не ради прощения моих грехов, не ради уважения и почета, а ради самих страждущих и нуждающихся. Конечно, такого рода духовность не может быть всеобщей или даже широко распространен43 ной. К тому же и в этом предельном выражении она не может быть полной, абсолютной – человек никогда не сможет полностью преодолеть свою животную природу и связанный с ней эгоизм. Дух всегда выступает как идеал, совершенство и вместе с тем цель, объект человеческих устремлений. Это именно то направление, в котором должно развиваться человечество. Ориентация на него только и может обеспечить становление и развертывание собственно человеческой сущности. Итак, в самом общем виде, духовность может быть определена как способность человека к трансцендированию наличной действительности и стремление к трансцендентным ценностям и смыслам. Это представляется наиболее существенным в определении духовности, поскольку трансцендирование природного, материального мира имеет место во всех проявлениях человеческой духовности и выражает специфику человека как свободного, над-природного существа. Прежде всего, указанная характеристика проявляется в отмеченной выше неудовлетворенности человека своим наличным бытием, в свойственной человеку убежденности (или, может быть, корректнее – в предощущении), что этот мир не является последней и окончательной реальностью – свойстве, которое позволило Максу Шелеру назвать человека «вечным Фаустом»: «По сравнению с животным, которое всегда говорит «да» действительному бытию, даже если пугается и бежит, человек – это тот, кто может сказать «нет», «аскет жизни», вечный протестант против всякой только действительности»56. Ярким выражением указанного свойства является религиозность, которая должна рассматриваться не только как выражение беспомощности и одиночества человека, но и как безотчетное стремление к высшему и совершенному – к Абсолюту. Карл Юнг подчеркивал, что «религиозная вера как заботливое созерцание и учет определенных невидимых и неподконтрольных рассудку факторов принадлежит к разряду свойственных душе инстинктивных реакций, проявление которых можно проследить сквозь всю историю человеческого духа. Она совершенно очевидно служит задаче сохранения душевного равновесия, ибо человек от природы одарен стихийным пониманием того факта, что его сознательная деятельность в любой момент может быть нарушена в 56 Шелер М. Положение человека в космосе. С. 65. 44 результате вмешательства недоступных его контролю внешних или внутренних влияний»57. Это естественное, по мнению Юнга, свойство души не может быть устранено путем рационалистического просветительства. Было бы неправильным сводить человеческую духовность исключительно к религиозности58. Не менее существенна и такая форма ее проявления, как нравственность. Последняя имеет в своей основе все ту же способность к трансцендированию – в данном случае трансцендированию человеком своих природных, естественно-биологических потребностей и побуждений. Стимулы нравственного поведения могут быть различными. Это может быть рационально осмысленное чувство долга (кантовский «категорический императив») или интуитивное стремление к добру («духовность инстинкта» И. Ильина) – в любом случае нравственность означает победу человека над своей животной природой, преодоление меркантилизма обыденной жизни, своего собственного эгоизма и подчинение своего бытия достижению Высших ценностей и смыслов. Анализируя эту способность человеческого существования, М. Мамардашвили подчеркивал, что зло, нечестность всегда имеют причину, в то время как честность, добро и тому подобное безосновны, не имеют причин (в обыденной материальной жизни, добавим мы), а всегда есть свободные проявления действительной человеческой сущности, человеческого духа59. И, наконец, способность человека к познанию, к абстрактному мышлению есть проявление все того же свойства трансцендирования – способность отвлекаться от чувственно-конкретной непосредственности предметов и проникать в их скрытую сущность. «По крайней мере в лице нашего знания мы уже явно не принадлежим этому миру и не подчинены его бессмысленным силам, – писал С. Франк. – В нем открывается нам совершенно особое, сверхэмпирическое, и в то же время абсолютное бытие – ближайшим образом внутреннее бытие нас самих»60. Разработанное нами понимание духовности как трансцендирования человеком наличной действительности не противоречит существующим подходам, традиционно связывающим духов57 Юнг К. Современность и будущее. Минск, 1992. С. 15. Подробнее об этом см.: Мелетинский Е. К вопросу о современном понимании «духовности» // Звезда. 1995. № 8. С. 171–174. 59 См.: Мамардашвили М.К. Философия и личность. С. 8–10. 60 Франк С.Л. Духовные основы общества. С. 179–180. 58 45 ность с единством трех основополагающих ценностей человеческого бытия – Истины, Добра и Красоты и соответственно выделяющим три сферы духовной деятельности: познание (наука и философия), искусство и нравственность61. Однако, на наш взгляд, следует различать сущность духовности и ее проявления. Указанные виды духовной деятельности являются внешними проявлениями, осуществлением, реализацией духовности. Сущность же ее, обнаруживающаяся во всех этих проявлениях, заключается именно в процессе трансцендирования наличной действительности, в способности оторваться от пут осязаемого бытия и поступать (в бахтинском понимании поступка) соответственно своим – собственно человеческим – установлениям посредством свободной творческой деятельности – духовного усилия. При таком подходе традиционное понимание духовности как эпифеномена социальной деятельности индивида уже не может быть удовлетворительным. Невозможность, несмотря на осязаемую тяжесть действительности и торжество материалистического естествознания и техники, полностью «приземлить» сознание человека, исключить из него стремление к преодолению наличной действительности (которое должно быть понято как сущностная характеристика человека) дает основание говорить об онтологической укорененности человеческого духа, обнаруживающегося в духовных интенциях личности. Поэтому следующим шагом в исследовании избранной нами темы будет выяснение условий возможности свободы человеческого духа. Феноменология духовности, как это было показано выше, связана со специфическим ощущением человеком недостаточности своего обыденного существования и интуитивным стремлением к иному – высшему и совершенному бытию. Но откуда эта интуиция иного бытия? На чем основаны духовные интенции человека? Где черпает он уверенность (или веру?) в существование высших, надприродных начал и в свою причастность им? Для ответа на эти вопросы необходимо обратиться к исследованию внутреннего мира личности. 61 См., напр.: Федотова В. Духовное и душевное; Шердаков В.Н. О познавательном, нравственном и эстетическом отношении к действительности. 46 Глава II. ВНУТРЕННЕЕ БЫТИЕ ДУХОВНОСТИ 1. «Топология» человеческого духа Философское умозрение на протяжении всего своего развития интуитивно обнаруживает глубокую укорененность внутренней духовной жизни индивида в фундаментальных основах бытия, выступающих в философском дискурсе как область трансцендентного. Эти бытийные основы от века воспринимались человеком как некий Абсолют – невыразимый, но, тем не менее, властно, неодолимо притягивающий к себе человека, находящегося в вечном несогласии с несовершенством наличного бытия. Философские интуиции облекались в различные формы и наделялись различными именами – от идеального «умного» мира Платона до «точки Омега» Тейяра де Шардена и «Всеединства» Владимира Соловьева. Однако в основе всех их лежит убеждение в существовании некоего онтического единства всего сущего – одновременно сокрытого, непостижимого и вместе с тем открывающегося человеку в его духовных интенциях и именно посредством этого интендирования. Последнее дает основание говорить, что духовные интенции личности, будучи производными от более глубоких онтологических основ бытия, могут быть эксплицированы только в контексте принадлежности к внутреннему миру личности. Это и обусловливает необходимость его специального рассмотрения. Внутренний мир личности представляет собой более широкое по сравнению с духовным миром образование. Он включает в себя всю совокупность внутренней жизни индивида, то есть не только акты трансцендирования, но и все интенции, связанные с бытием-в-мире. Это – своеобразная «проекция» Бытия, причем проекция, осуществляющаяся не со стороны Бытия, как бы навязывающего человеку свое содержание, а как проекция личностная, включающая свободную конституирующую активность самого человека, создание им собственных смыслов. С этой точки зрения внутренний мир выступает как своеобразное, уникальное средоточие Бытия – своего рода монада, включающая в себя весь мир и связанная с любым из его элементов. 47 В философской литературе до последнего времени было широко распространено отождествление внутреннего мира человека с его сознанием. Это вполне понятно, поскольку мир, как внутренний, так и внешний, дан человеку лишь в его сознании, через посредство сознания. Однако указанная редукция представляется неоправданной, поскольку за пределами внимания оказывается огромный пласт бессознательных явлений, либо (при условии их учета) возникают трудности методологического характера, своего рода controdactio in adjecto, когда используется апофатический термин «бессознательное» при характеристике структуры сознания. В предлагаемом нами подходе внутренний мир выступает как явление более сложное и широкое, нежели жизнь сознания. Сказанное требует четкого определения самого понятия «сознание», выявления границ его содержания. Нет необходимости подробно излагать уже известные и общепризнанные изменения в представлениях о сознании, которые стали возможными, только благодаря формированию и развитию неклассической философии62. Отметим коротко наиболее существенные из них. Господствовавшее на протяжении всего развития классической философии понимание сознания как рациональнонго мышления, осуществляющегося по законам логики и выражающегося в четком и ясном дискурсе (парадигма cogito), было поколеблено и существенно расширено за счет включения в характеристику сознания иррациональных компонентов, которые отныне не только не считались второстепенными, побочными проявлениями сознания, но, напротив, выдвигались на первый план как определяющие начала человеческой жизни в целом. Начиная с философии «жизни», в исследованиях сознания, наряду с ясным, осознающим, рефлектирующим сознанием, выделяется особый – бытийный уровень, где сознание, не будучи явно отрефлектированным, выступает как нечто непосредственно схватывающее, понимающее, «знающее» само себя. На этом, втором, уровне сознание рассматривается не в качестве отраже62 См., напр: Зинченко В.П. Миры сознания и структура сознания // Вопросы психологии. 1991. № 2; Бондаренко И.А. Феноменология бытийствующего сознания. М: МГУК, 2000; Игнатова А.А. Метатеоретический подход к анализу сознания: Дисс. на соиск. учен. ст. канд. филос. наук. Ростов-на-Дону, 2011; Калинин П.Е. Становление статикодинамичного и континуально-дискретного единства в деятельности сознания: Дисс. на соиск. учен. ст. канд. филос. наук. Иваново, 2011. и др. 48 ния (сознание о действительности или сознание сознания), а как специфический вид бытия (сознание в действительности или бытие сознания), как некая спонтанная, самопроизвольная сила – «живое сознание» – в противоположность «неживому», уже объективированному в различных явлениях культуры, языка и т. п. сознанию. Интуитивные догадки С. Кьеркегора, А. Шопенгауэра и Ф. Ницше об иррациональных началах человеческой деятельности и бытия в целом получили концептуальное оформление в учении З. Фрейда о бессознательном. С этого времени стало очевидным наличие в сознании двух уровней: зоны ясного, рационального мышления, выступающего в четкой дискурсивной форме (рефлексивное сознание), и сферы неосознаваемых отчетливо, но, тем не менее, существующих – бытийствующих – содержаний, активно влияющих на поведение индивида и обнаруживающихся в образной, символической форме. Дальнейшие исследования в этом направлении привели к расширению и генерализации представлений об уровнях сознания, в результате чего бессознательное предстало не просто как область вытесненных побуждений (главным образом, витальных), а как нерефлексируемая сфера непосредственной жизни сознания, где формируются условия возможности осуществления рефлексивной установки сознания, всякого сознательного опыта вообще, включая его творческие акты. Для исследования внутреннего мира человека как «носителя» духовности изложенное понимание сознания (его двухуровневой структуры) оказывается весьма существенным, поскольку позволяет углубить представления о внутренней жизни личности и избежать редукции сознания к совокупности внешних, отраженных содержаний. В самом деле, трактовка сознания как исключительно рационального, самосознающего мышления с неизбежностью обедняет представления о внутреннем мире человека и сводит его к простой фиксации и, если так можно выразиться, индивидуальной «сортировке» внешних впечатлений – пресловутой интериоризации внешних воздействий. Заметим сразу, что возражение направлено здесь не против самого феномена интериоризации, а против его поверхностного, механистического толкования. Ведь если сознание является лишь регулятором внешних содержаний, то все утверждения о существовании человече49 ской субъективности остаются не более чем декларацией, поскольку указанный подход исключает наличие собственных, онтологических основ субъективности и тем самым превращает сознание, всю внутреннюю, духовную деятельность человека в эпифеномен. Существенным шагом в формировании представлений об онтическом характере сознания стала феноменология Э. Гуссерля, в частности, его концепция интенциональности сознания. В статье, написанной для Британской энциклопедии, Э. Гуссерль так излагает свое новое видение: «Мы привыкли сосредоточивать внимание на предметах, мыслях и ценностях, но не на психическом “акте переживания”, в котором они постигаются». В соответствии с новым подходом, продолжает автор, «вместо предметов, ценностей, целей, вспомогательных средств мы рассматриваем тот субъективный опыт, в котором они “являются”. Эти “явления” суть феномены, которые по своей природе должны быть “сознанием-о” их объектов, независимо от того, реальны ли сами объекты или нет»63. При этом философ считал необходимым отмежеваться от так называемого психологизма, считавшего всякое содержание сознания, всякую истину лишь порождением человеческой психики: «Мы допускаем факт, что логические понятия имеют психологическое происхождение, но мы отвергаем вывод, который из этого делают»64. Для Э. Гуссерля было очень важно доказать, что достоверность феноменологического опыта есть интуитивное схватывание абсолютного и безусловного содержания, есть обнаружение некоей смысловой формации – эйдоса вещи. Отсюда – главная задача, сформулированная в рамках феноменологии – схватить сам предмет (гуссерлевское требование «назад к самим предметам!»). Для этого необходимо осуществление особой методологической процедуры – феноменологической редукции, то есть отказа от всех истолкований предмета, использующих непроясненные предпосылки. Иными словами, необходимо произвести «эпохе» – заключить мир в скобки. «Наше универсальное эпохе заключает мир в скобки, – пишет Э. Гуссерль, – исключает мир (который 63 Гуссерль Э. Феноменология // Логос. 1991. № 1. С.13. Цит. по: Шестов Л. Памяти великого философа // Вопросы философии. 1989. № 1. С.149. 64 50 просто здесь есть) из поля субъекта, представляющего на его месте так-то и так-то переживаемый-воспринимаемый-вспоминаемый-выражаемый в суждении-мыслимый-оцениваемый и пр. мир как таковой, “заключенный в скобки” мир. Является не мир или часть его, но “смысл” мира»65. Приведенное высказывание ясно показывает, что, несмотря на стремление Э. Гуссерля преодолеть таящуюся в концепции интенциональности опасность солипсизма, он все-таки далек от утверждения о полной объективности мира, поскольку результатом феноменологической редукции является не сам мир, но его смысл. Способность построения смыслового горизонта предмета Э. Гуссерль называет трансцендентальной субъективностью, которая вследствие этого и выступает у него основанием всякого бытия предмета. «Любое объективное бытие, – пишет создатель феноменологии, – имеет в трансцендентальной субъективности основание для своего бытия; любая истина имеет в трансцендентальной субъективности основание для своего познания; и если истина касается самой трансцендентальной субъективности, оно имеет эти основания в трансцендентальной субъективности»66. Хотя Гуссерль настойчиво утверждает наличие в феноменах всеобщего, необходимого и безусловного содержания, тем не менее, пафос его философствования заключается в утверждении конституирующей роли человеческого сознания – и именно в этом состоит его особая роль в формировании новых представлений о сознании и даже шире – о мире в целом. В марксистской философской литературе в соответствии с традициями сложившейся еще в XIX веке эмпирической психологии исследование внутреннего мира личности (практически редуцированного к сознанию) осуществлялось как внешнее описание проявлений внутренней жизни. В результате последняя сводилась к совокупности и комбинациям ясно осознаваемых проявлений сознания: ощущений, восприятий, представлений, умозаключений, а также настроений и чувств. Внутренний мир личности представал, таким образом, как структура внешне выраженных, объективированных элементов, доступная внешнему наблюдению, но неспособная, однако, выразить, постичь внут65 Гуссерль Э. Феноменология. С.14. Цит. по: Проблема сознания в современной западной философии. М.,1989. С.110– 111. 66 51 ренний, личностный смысл отдельного человеческого существования. При таком подходе живой, бытийный характер человеческой субъективности растворялся во внешних предметных содержаниях, которые трактовались как извне детерминированные, навязанные субъекту непоколебимым в своей объективности и потому самозаконным внешним миром. Однако, как было показано выше, уже в XIX веке в рамках феноменологии было достигнуто понимание специфической самоценности и субстанциональной сущности внутренней жизни личности, понимание того, что все содержания сознания имеют интенциональный характер, проистекают из единого центра, каковым, по мнению Э. Гуссерля, является трансцендентальная субъективность. Все последующие исследования в области сознания, независимо от их отношения к учению Э. Гуссерля в целом, уже не могли игнорировать обнаруженного им явления интенциональности сознания. Тем самым было проведено четкое различение между внешне выраженными, осознаваемыми содержаниями сознания и тем глубинным уровнем бытия человеческой субъективности, на котором происходит рождение личностных смыслов и который образует основу внутреннего мира личности. Говоря о соотношении понятий «сознание» и «внутренний мир» человека, следует иметь в виду не только экстенсивные различия – несовпадение объемов данных понятий. Указанные дефиниции, будучи тесно взаимосвязанными и в определенном отношении пересекающимися, тем не менее, выражают разные аспекты рассмотрения внутренней жизни человека. Термин «сознание» призван отобразить человеческую субъективность со стороны ее содержаний. Иными словами, понятие сознания выражает структуру интенциональности субъекта, причем эти интенции могут быть как явными, осознанными, так и неявными, неотрефлексированными. Понятие внутреннего мира сформировалось в философии в процессе выявления специфики человеческого бытия и связано с попыткой представить мир человеческой субъективности как особую форму бытия, неразложимое единство процессов внутренней жизни индивида в их онтическом, бытийном проявлении – именно как индивидуально-личностное средоточие бытия, содержательно выраженное в сознании. В отличие от четко артикулированного содержания рефлексивного слоя сознания бытийный 52 уровень человеческой субъективности характеризуется специфической целостностью, нерасчлененностью и, главное, единством, взаимосвязью и взаимопроникнутостью всех его содержаний. Последние неосознанно, неявно определяют направленность личности, всякий раз обеспечивая целостность ее поведения, а в более широком плане – единство личности в целом. Эта целостность, единство всех проявлений личности так или иначе выражалась и подчеркивалась разными авторами, занимавшимися исследованием внутреннего мира человека67. Именно в этом направлении развивал свою теорию установки Д. Узнадзе. Руководствуясь в своих психологических исследованиях глубокими философскими побуждениями, он заинтересовался особой категорией явлений – актами адекватного поведения, не являющегося целесообразным, «разумным» приспособлением к ситуации и неанализируемого в терминах рационального мышления. К явлениям такого рода он и прилагал понятия «целого», «установки», «личностного единства» и т. п., рассматривая их как проявления глубокого бытийного (онтологического), а не психологического уровня. Психическим, по его мнению, был лишь материал, на котором обнаруживались проявления более глубокого – бытийного – уровня человеческой субъективности. Позиция Д. Узнадзе сопоставима с развиваемой в современной экспериментальной психологии трактовкой движений, образов, установок, представлений как функциональных органов человеческой индивидуальности, где каждый совершаемый акт является уникальным, то есть творческим, и ориентирован не извне, а изнутри. Речь идет о том, что любое личностное проявление есть функция какой-то скрытой единой основы, которая и обусловливает целостность внутренней жизни и поведения индивида68. Концепция целостности личности получила определенное обоснование в работах группы российских психологов под руководством Е. Артемьевой. Они, в частности, выдвинули идею о порождающей роли личностных смыслов в структуре внутреннего мира. В развитие ставшего уже общепризнанным подхода В. Зинченко, различающего два уровня в структуре сознания (бы67 См.: Франк С.Л. Душа человека. Опыт введения в философскую психологию. М.,1917; Зеньковский В.В. Единство личности и проблема перевоплощения // Человек. 1993. № 4 и др. 68 См.: Перлз Ф., Хеффермен Р., Гудмен П. Опыты психологии самопознания (практикум по гештальттерапии). М., 1993 и др. 53 тийный и рефлексивный)69, эти ученые предлагают трехуровневую структуру субъективного опыта, в которой наряду с отмеченными В. Зинченко слоями выделяется еще и третий – самый глубокий слой, несущий в себе «ядерные структуры представления мира», или «образ мира». Это не картина мира, не модель, а сам субъективный мир. Элементом его является, по мнению авторов, личностный смысл. «Образ мира, – пишут они, – не только фиксация следов деятельностей, это еще и порождающая категория. Образ мира порождает деятельность, которая строится на основе значений предметов»70 (в концепции В. Зинченко эта деятельность образует рефлексивный слой сознания). Поскольку «установка», или «образ мира» присутствуют в деятельности индивида скрытно, имплицитно, их теоретическая экспликация осуществляется в терминах бессознательного, однако уже в его современной, отличной от фрейдовской, интерпретации. Современное переосмысление категории «бессознательное» связано со стремлением выявить место и роль бессознательных процессов в структуре внутренней жизни индивида в целом, включая его высшие проявления и функции. В противовес сложившемуся представлению о бессознательном как о низшем этаже человеческой психики, своеобразной «яме для отходов» или, выражаясь словами М. Мамардашвили, «ящике Пандоры», хранящем в себе все социально-табуированные и отвергнутые сознанием человека – его высшей инстанцией – «сверх-Я», но вместе с тем всегда готовые прорваться в его поведение животные побуждения, современные исследователи рассматривают сферу бессознательного как онтологическую предпосылку и источник всякой сознательной деятельности, включая ее высшие проявления – творческие акты. В рамках психоаналитической трактовки бессознательное предстает как некая темная сила, скрытно управляющая поведением человека и детерминирующая его сознание, не подозревающее о принудительном воздействии чуждых ему природных, животных сил. Открытие, обнаружение этого бессознательного, несомненно, расширило представления о природе человеческого 69 См.: Зинченко В.П. Миры сознания и структура сознания. С.23. Артемьева Е.Ю., Стрелков Ю.К., Серкин В.П. Структура субъективного опыта: семантический слой и другие слои // Мышление и субъективный мир. Ярославль, 1991. С.13. 70 54 поведения, его движущих силах. Однако оно нимало не прибавило к характеристике человека как духовной сущности. Напротив, фрейдистская концепция представила человека как несвободное, рабски зависимое от своих инстинктов существо. Непосредственно связанный с категорией бессознательного термин «вытеснение» в его традиционной трактовке предполагал определенный автоматизм процессов функционирования бессознательного. Между тем, как отмечают исследователи, вытеснение – это не просто погружение недопустимых с социальной точки зрения содержаний человеческого сознания в некоторый более глубокий слой, а особая зашифровка этих содержаний, то есть особый деятельно-семиотический процесс, особая, хотя и не осознаваемая, психическая деятельность. Что или кто является субъектом этой деятельности? Этим вопросом задаются в своей совместной работе В. Зинченко и М. Мамардашвили. Анализируя ситуацию мгновенного (!) принятия единственно правильного решения в экстремальной ситуации, авторы определяют поведение человека как свободное действие или свободное явление, подчеркивая тем самым самодостаточность, самоопределяемость психологического акта, идущего не «извне», а «изнутри» и потому не выразимого в объективистских терминах. «Только здесь, – подчеркивают авторы, – мы и находимся впервые в области совершенно особых явлений в составе космоса, а именно – собственно психологических явлений, которые суть акты, а не факты... Иначе допущение этих явлений было бы излишним, избыточным в общей физической организации космоса»71. Наличие этой неконтролируемой сознанием реальности и обеспечивает, по мнению авторов, отмеченное «попадание в точку». Заметим, что на наш взгляд для характеристики описанных явлений более адекватным представляется определение не «психологические», а «человеческие». Итак, налицо, с одной стороны, неосознаваемые человеком (субъектом) процессы (акты), а с другой – их очевидная принадлежность психике человека. И если в рамках психоаналитической концепции указанные процессы были бы квалифицированы как автоматические, бессознательные, то В. Зинченко и М. Мамардашвили стремятся исключить апофатический термин «бессозна71 Зинченко В.П., Мамардашвили М.К. Изучение высших психических функций и категория бессознательного // Вопросы философии. 1991. № 10. С.37. 55 тельное» из рассуждений о сознании и рассматривают данный феномен как проявление неявного – бытийного, онтологического – уровня самого сознания. Но признание онтологического характера сознания означает, что само сознание уже не является только психологическим явлением, принадлежащим эмпирическому миру, а есть нечто вневременное и мета-психологическое, а именно: самосущее проявление того, что, как пишут авторы, раньше определялось как «Невидимое» или «Высшее»72. Новое в понимании бессознательного заключается, таким образом, в том, что последнее рассматривается как естественная основа для высших форм психической деятельности, в частности, творчества. Как известно, еще создатель психоанализа придавал этим вопросам большое значение, рассматривая творчество как результат сублимации вытесненных асоциальных влечений. Однако в трактовке Фрейда получалось, что всеми вершинами человеческого духа – произведениями искусства, науки и т. п. – мы обязаны существованию подавленных, загнанных в «подполье» животных побуждений. Такое понимание представляется довольно ограниченным и даже нелепым, ибо лучшие, высшие человеческие проявления предстают в этом свете как побочные, случайные эпифеноменальные явления, что противоречит сущностному определению человека как свободного, творческого, духовного существа. Значительная роль в формировании позитивного представления о бессознательном принадлежит Ж. Маритену. Французский философ развивает и обосновывает на примере художественного творчества мысль о существовании в нас бессознательной активности не животного, а духовного свойства. «Слово бессознательный, как я его употребляю, – пишет он, – не обязательно означает чисто бессознательную активность. Чаще всего оно означает первоначально бессознательную активность, вершина которой открывается сознанию. Поэтическая интуиция, например, рождается в глубинах бессознательного, но выходит на поверхность; она не остается неведомой поэту, наоборот, это его драгоценнейший светоч и первый закон присущей ему художнической способности. Но он познает ее “на закраине бессознательного”, как сказал бы 72 Там же. С.38. 56 Бергсон»73. Раскрывая механизм художественного творчества, Ж. Маритен обращает внимание на то, что современные великие художники, «стремясь обрести самих себя, в то же время покидают пределы естественных видимостей Вещей в отчаянных поисках неведомой им глубинной реальности, смутно обозначаемой вещами… И поскольку сама субъективность стала средством проникновения в объективный мир, то, чего она ищет в видимых Вещах, должно обладать такого же рода внутренней глубиной и такими же неисчерпаемыми возможностями откровения, как и Я художника. Вот почему современная живопись на высшей ступени своего развития … достигает своего рода онтологической широты и высочайшей, хотя и парадоксальной для логического разума, интеллектуальности»74. Речь идет о так называемом «просветленном интеллекте» – понятии, введенном Ж. Маритеном с целью подчеркнуть, акцентировать именно позитивную, «светлую» составляющую бессознательного. Итак, в современных исследованиях развивается мысль о творческом потенциале человеческой психики в ее высших, духовных проявлениях. При этом обнаруживаются любопытные факты, заставляющие менее оптимистично относиться к творческому потенциалу психопатологии. Так, в экспериментах по изучению сознания в измененных состояниях, проведенных под руководством известного ученого В. Налимова, было обнаружено, что тексты (описание пережитых в состоянии медитации впечатлений) испытуемых в группе психиатрических больных характеризуются амифологичностью, отсутствием образов и символов и представляют собой цепь рассуждений, оперирующих парадигматическими клише культуры, то есть в творческом плане они «анемичны»75. Примерно та же мысль звучит в упоминавшейся статье В. Зинченко и М. Мамардашвили. Говоря о целостности выражения личности в творчестве, черпающем свое содержание в глубинных онтологических слоях человеческого сознания, авторы подчеркивают, что «только в случае бессознательного, являющегося предметом психоанализа, мы имеем дело с неудачными 73 Маритен Ж. Творческая интуиция в искусстве и поэзии / Пер. с франц. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. С. 87. 74 Маритен Ж. Творческая интуиция в искусстве и поэзии. С. 28–29. 75 См.: Налимов В.В., Дрогалина Ж.А. Вероятностная модель бессознательного. Бессознательное как проявление семантической вселенной // Психологический журнал. 1984. № 6. Т.5. С.116. 57 “машинами” такого рода, оставляющими застойные следы своих неудачных сцеплений в психической жизни, следы, переозначенные эмпирическим сознанием и потому патогенные»76. Таким образом, осуществление человеком его действительной сущности, его назначения, того, что А. Павленко в своих философских эссе называет естеством или, используя древнегреческую терминологию, «энергейностью», предполагает некий прорыв, переход человека в иную по сравнению с животноприродной ипостась, а именно: становление человека как духовного (свободного и творческого) существа, черпающего силы для своих высших проявлений в глубинах своего собственного внутреннего мира. Мысль о том, что дух пребывает в человеке и только в глубинах его души, на самых потаенных этажах его внутреннего мира заключены истоки его духовных интенций, должна быть подчеркнута особо. Именно там формируется возможность «нового рождения» человека как существа, принадлежащего не только «царству необходимости», но и миру свободы. Реализовать эту возможность извне нельзя – действие внешних факторов и обстоятельств наталкивается на границу, за которой располагается область индивидуальных внутренних смыслов – «место» формирования целостных «образов мира» и «установок». Рождение, конституирование этих смыслов требует для своего «события» личностного усилия. Совершенно очевидно, что этот процесс «духовного рождения» носит иррациональный характер, он не может быть результатом трезвого рационального расчета (в таком случае человеческим поступкам можно придать только форму, воспроизвести, имитировать внешние проявления духовности) и в этом смысле сродни мистическому опыту. В философской литературе последних лет термин «мистический» заметно теряет свой негативный оттенок, относящий его в разряд заблуждений и невежества, и все более осмысливается как реальный способ интуитивного постижения бытия, когда, благодаря «слиянию» с миром, с целым, с Абсолютом, происходит не просто обретение готового «высшего знания», но процесс конституирования новых смыслов, рождения «нового мира». «Тот опыт души, который традиционно называется мистическим, – за76 Зинченко В.П., Мамардашвили М.К. Изучение высших психических функций и категория бессознательного. С. 39. 58 мечает в связи с этим И. Невважай, – есть по сути опыт ее пробуждения, рождения заново... Творческое познание сродни мистическому опыту: его можно повторить, но готовых правил для этого нет; душа, сознание рождаются каждый раз заново»77. Иными словами, речь идет о способности человека к... здесь очень трудно подобрать нужное слово, так как любое из слов сразу сориентирует рассуждение в определенном направлении, а это направление как раз и является пока проблематичным. Способность к схватыванию, интуитивному постижению неких непостижимых рационально содержаний и смыслов (того, что уже есть) или к порождению, творчеству новых содержаний (то есть выведению из небытия того, чего еще не было)? Иными словами, важнейшее значение приобретает вопрос об истоках творчества или об онтологических основаниях свободы. 2. Субстанциальные основы духовности Как возможно творчество? Н. Бердяев, больше всех занимавшийся этой проблемой, которая, по существу, была центральным стержнем всего его философствования, настаивает на абсолютной безосновности свободы, тем самым утверждая субстанциальность духовной сущности человека. В наше время эта проблема все более привлекает к себе внимание ученых. Так, М. Абрамов в своем исследовании категории свободы пытается обосновать онтологическую фундаментальность свободы. Ссылаясь на Эпикура, вопрошающего о том, что было до Хаоса, он утверждает: «В начале была Свобода... Она прародительница и богов, и миров, и людей»78. Эта позиция отличается от подхода И. Канта, впервые обосновавшего положение о свободе человека как его сущностной характеристике. Как отмечает Т. Ойзерман, Кант «решительно настаивает на том, что свобода – первое, довременное звено причинно-следственной цепи событий»79. Именно Канту принадлежит принятая и развиваемая в нашей работе мысль о том, что эмпирический субъект, полно77 Невважай И.Д. Свобода и знание. С.127. Абрамов М.Л. Неопределенность свободы // Вопросы философии. 1996. № 10. С.69. 79 Ойзерман Т.И. К характеристике трансцендентального идеализма И. Канта: метафизика свободы // Вопросы философии. 1996. № 6. С.66. 78 59 стью подвластный законам природы, не является действительным человеческим существом, личностью, подлинную сущность которой образует трансцендентальный субъект, и именно в силу этого он (человек) не подвержен необходимости, а, следовательно, свободен. Разъясняя свое понимание человеческой сущности, или природы, Кант писал: «Здесь под природой человека подразумевается только субъективное основание применения его свободы вообще (под властью объективных моральных законов), которые предшествуют всякому действию, воспринимаемому нашими чувствами»80 (курсив мой. – З.Ф.). Однако основанием свободы в кантовском понимании служит деятельность чистого разума с присущей ему способностью «самопроизвольно начинать ряд событий» (нравственных поступков). В то время как Н. Бердяев не считал возможным говорить о каких бы то ни было основаниях свободы, напротив, полагая последнюю источником всякого бытия. И именно эта позиция представляется нам сегодня более адекватной и эвристически плодотворной. Идея об изначальности свободы развивалась в творчестве М. Мамардашвили. В своих философских рассуждениях этот глубокий мыслитель никогда не имел в виду конкретного эмпирического индивида, закованного в «скорлупу» внешних, социально-культурных и прочих детерминаций, но всегда лишь возможного человека, который может лишь на мгновенье мелькнуть, сбыться – состояться как человек. Именно эти моменты и есть, по его мнению, выражение человеческой свободы, его способности к творчеству, к порождению новых смыслов, в контексте нашего исследования – моменты бытийствования духа. По убеждению М. Мамардашвили, эти смыслы, будучи запредельными наличному человеческому существованию, тем не менее не привносятся в сознание извне, а имманентны ему. В силу этого сознание и обладает самостоятельным статусом в космосе, является самодостаточным. М. Мамардашвили постоянно подчеркивает, что человеческое существование (в высшем, собственно человеческом смысле) не обладает стабильностью раз и навсегда данных вещей и требует для своего поддержания постоянного и непрерывного усилия – трансцендирования опыта, существующих порядков, существующих психических и биологических механизмов. Отсюда – утверждение об искусственности и безосновности фено80 Кант И. Основы метафизики нравственности. С.22. 60 мена человека, то есть о его свободе, и о существовании в человеке некоей природной (то есть онтически присущей человеку) силы, толкающей его к выходу за указанные пределы и трансцендированию. Но трансцендирование предполагает трансцендентное – то, что существует вне пределов чувственного бытия. Стало быть, Мамардашвили все-таки допускает существование иной – метафизической – реальности, тем более, если вспомнить приведенные выше ссылки на понятия «Невидимое», «Высшее». Однако это совсем не так. Вот любопытное и весьма замечательное по своей определенности рассуждение философа: «Трансцендирование к чему? А ни к чему. Есть трансцендирование, но нет трансцендентного; трансцендентных предметов нет... Есть символы, посредством которых мы обозначаем последствия действия какой-то силы в нас самих»81. Итак, в представленной концепции человек – в его не эмпирическом, а метафизическом понимании – выступает как самостоятельная, самодостаточная и самоценная форма бытия, с появлением которой в космосе «появляется новый принцип, и этим новым принципом является само свободное действие как таковое. В отличие от инстинкта и мышления»82. Этот новый принцип онтологически укоренен в бытийном (арефлексивном) слое человеческого сознания. К сожалению, соавтор М. Мамардашвили по упоминавшейся статье В. Зинченко, развивая идею двухуровневой структуры сознания несколько упростил (возможно, вследствие своей узконаучной, психологической, направленности) изложенное понимание сознания, по существу редуцировав его к чисто психологическим явлениям, и тем самым элиминировал ту недосказанность (невысказываемость) и, вместе с тем, то глубокое постижение действительной сущности сознания как безосновного свободного, действия, которое всегда сопровождало истинно философские рассуждения М. Мамардашвили. Действительно, психологическое исследование внутреннего мира личности не может обнаружить то, что проясняется только в процессе метафизического размышления, способного оперировать такими понятиями, которые не имеют предметного денотата и возникают лишь вследствие и по причине самого мышления 81 82 Мамардашвили М.К. Философия и личность. С.9. Там же. С.17. 61 как символ некоей обнаруживаемой только в трансценденции реальности. О существовании бытийных основ человеческой субъективности нельзя узнать в результате рациональных абстрактнологических рассуждений. Оно обнаруживается в непосредственном опыте индивидуальной внутренней жизни личности, который доступен только феноменологическому описанию и требует для своего постижения особых методологических приемов, таких как «вчувствование», «вживание» и т. п. На феноменологическом уровне внутренняя жизнь выступает как своеобразная слитность, целостность. Для обозначения указанной целостности представляется целесообразным принять то или иное (операциональное) понятие, которое выражало бы непосредственный опыт внутренней жизни и позволяло выявить специфику человеческой субъективности как своеобразной промежуточной формы бытия («стояния в просвете бытия»), связующей наличное бытие и область трансцендентного; земной, реальный мир и сферу Духа. Таковым, на наш взгляд, может быть понятие души. Проблема души была достаточно глубоко проработана в русской философии. С. Франк посвятил этому феномену специальную книгу. Автор настаивал на возможности и необходимости исследования души как феномена, явленного в опыте, однако требующего для своего познания специфических средств, прежде всего «опытного ее переживания», не исключающего, однако, дальнейшего теоретического осмысления. С. Франк подчеркивает именно феноменологический характер того явления, которое традиционно определяется понятием «душа». «Душа ... как единство или целостность душевной жизни, – пишет он, – вовсе не есть что-то таинственное, далекое, непостижимое для нас. Напротив, она есть самое близкое и доступное нам; в каждое мгновение нашей жизни мы сознаем ее, вернее сказать, мы есть она, хотя и редко замечаем и знаем ее. Душа есть наше собственное существо, каким мы ежемгновенно его переживаем»83. Из приведенного отрывка ясно, что речь идет о феномене человеческой субъективности во всей ее достоверной явленности, а не со стороны ее бытийных основ. Таким образом, душа есть средоточие, центр душевной жизни индивида, которая раскрывается как феноменология чело83 Франк С.Л. Душа человека. С.16. 62 веческой субъективности. Мысль об особой, даже решающей роли души как средоточия личностного отношения человека к миру характерна для русской философии. Г. Федотов в 1952 году писал: «По-видимому, эмоции, или чувства, или сердце, составляют самый корень человеческой душевности. Разум слишком объективен и связан с миром идеальным. Воля находится в тесном отношении к моторно-мускульной системе и через нее к миру энергий физического мира. Эмоциональное в человеке – самое душевное в нем и потому самое человеческое. Оно прежде всего отличает его от бездушных тел и, вероятно, от бестелесных духов»84. Как показывает обзор, предпринятый в первой главе, в современной отечественной литературе такой подход до сих пор сохраняет свое значение. Другой русский философ П. Юркевич в своей работе с характерным названием «Сердце и его значение в духовной жизни человека» выступает против утверждения о том, что сущность души есть мышление. «С этими определениями была бы совершенно несообразна мысль, что в самой душе есть нечто задушевное, есть такая глубокая существенность, которая никогда не исчерпывается мышлением», – замечает он85. Душевная жизнь в качестве жизни есть нечто отнюдь не тождественное сознанию, и сознание не есть ее отличительный признак. Скорее мы имеем в лице того и другого два разных начала, как бы материю и форму внутренней жизни человека. Сознание как ясная, отчетливая данность субъекту идеальных содержаний, как самопроникнутость, самоявственность – не субстанциально, а само есть принадлежность чему-то, некой реальности. Мы не только сознаем себя, но и существуем, и сознаем себя как нечто сущее, как реальность, не исчерпывающуюся этой своей сознанностью. Можно предположить, что указанная реальность – бытийная основа человеческой субъективности – есть субстанция душевной жизни, тогда как ее идеальная сторона («сознанность») есть атрибут этой субстанции. Что же это за субстанция? В чем состоит бытие душевной жизни? Отвечая на эти вопросы, С. Франк считал таковым переживание. «Это утверждение лишь указывает в самой общей и основной форме то убеждение в первичности иррационального в 84 Федотов Г.П. Esse homo. С.85. Юркевич П.Д. Сердце и его значение в духовной жизни человека // Юркевич П.Д. Философские произведения. М., 1990. С.77. 85 63 человеческой жизни, которое есть, может быть, главное завоевание современного понимания человека», – подчеркивал он86. Отмеченный сдвиг философского понимания в направлении иррациональности не мог не сказаться на характере философского дискурса и потребовал выработки соответствующих инструментов познания внутреннего мира человека. Феноменология человеческой субъективности не могла быть выражена в четко артикулированной, дискретной форме и все чаще представала как «поток сознания». Идея длительности, непрерывности и слитности внутренней жизни индивида была впервые четко сформулирована А. Бергсоном. «В области внутренней жизни, – писал он, – нет ни окоченелого, неподвижного субстрата, ни различных состояний, которые бы проходили по нему, как актеры по сцене. Есть просто непрерывная мелодия внутренней жизни, которая тянется как неделимая, от начала до конца нашего сознательного существования»87. Единство и непрерывность внутренней жизни не означает ее полной бесформенности, аморфности. Напротив, весь поток переживаний формируется вокруг одного единого центра – Я – и даже более того – является производным от него. Хотя наличие этого Я как центра внутренней жизни и носителя человеческой субъективности настолько очевидно и доступно каждому в его собственном опыте, что оно не может вызывать никаких возражений, вопрос о статусе, онтологическом основании этого феномена не так прост. Традиционно Я рассматривается как носитель самосознания личности. Современные исследования в этой области позволяют конкретизировать и углубить его характеристику. Прежде всего, следует различать сознательное Я как носитель самосознания, всегда знающее себя и отдающее отчет о всех своих содержаниях, и Я как не осознаваемую отчетливо интуицию бытия, вернее – как самобытие человеческой субъективности. Это – известная дихотомия внешнего и внутреннего Я, ставшая одной из важнейших тем антропологически ориентированной философии нынешнего столетия. Справедливости ради следует отметить, что полярность, внутренняя противоречивость человека всегда обращала на себя внимание мыслителей. Уже Аврелий Августин раз86 87 Франк С.Л. Душа человека. С.71. Бергсон А. Творческая эволюция // Бергсон А. Собр. соч.: В 4 т. М., 1992. Т.4. С.24. 64 личает «homo exterior» и «homo interior». «Homo exterior» (или «homo profanus») – это человек, погрязший в мирской суете, оторванный от своих сакральных онтологических истоков, предавший забвению внутренние, интимно-личностные цели своего бытия. Но здесь, как видим, различаются внешняя – мирская, обыденная и внутренняя – душевная – стороны жизни человека, в то время как в более поздней, экзистенциальной, философии исследованию и структурированию подвергается сам внутренний мир человека, его сознание. Как отмечалось выше, в рамках феноменологии было достигнуто понимание того, что сознание является не чем иным, как соотносительной точкой для интенциональности, и тем самым интенциональная структура сознания как бы «покрывает» собой все акты экстериоризации человеческой субъективности. Тем не менее, Э. Гуссерль понимал, что интенциональность, будучи выражением бытия-в-мире, не исчерпывает всей глубины человеческой сущности: «К душе относится нечто большее, чем только единство многообразия интенциональной жизни с ее нераздельными комплексами «смысловых единиц». Ибо от интенциональной жизни неотделим «эго-субъект», который сохраняется как идентичное, эго или «полюс», по отношению ко всем отдельным интенциям и формирующимся на их основе «склонностям»88. Бергсон также подчеркивает существенное различие внешнего Я, как бы распадающегося на отдельные элементы, соответствующие вещам внешнего мира, и слитного, нераздельного внутреннего Я. В силу своей скрытности, невыразимости глубинное Я обычно остается незамеченным, непродуманным и нетеоретизированным89, а вся структура человеческой субъективности отождествляется только с внешним, социализированным Я, фор88 Гуссерль Э. Феноменология. С.15. Обращает на себя внимание не характерное для Гуссерля использование термина «душа», что свидетельствует о своеобразной «перекличке» с идеями русской философии. 89 В редких случаях происходит намеренное самообнаружение собственного Я. Это оказывается возможным благодаря напряженной философской рефлексии над феноменом самосознания. Пример такого самообнаружения являет собой литературное эссе Х.Л. Борхеса «Борхес и Я», в котором с драматической напряженностью раскрывается противостояние социального – обусловленного обществом – и собственного, внутреннего Я. «Мне суждено оставаться Борхесом, а не мной (если я вообще есть)», – сокрушенно замечает автор, вместе с тем понимающий и принимающий неизбежность внешнего, отчужденного существования собственного Я: «И потому моя жизнь – бегство, и все для меня – утрата, и все достается забвению или ему, другому» (Борхес Х.Л. Проза разных лет. М., 1989. С. 234). 65 мирующимся в процессе интериоризации внешних содержаний, в частности, определенной системы ценностей. «Мы, – писал Бергсон, – по большей части довольствуемся первым “Я”, то есть тенью “Я”, отброшенной в пространство. Сознание, одержимое ненасытным желанием различать, заменяет реальность символом и видит ее лишь сквозь призму символов. Поскольку преломленное таким образом и разделенное на части “Я” гораздо лучше удовлетворяет требованиям социальной жизни в целом, и языка в частности, сознание его предпочитает, постепенно теряя из виду наше основное “Я”»90. Именно это основное, внутреннее «Я» является, по Бергсону, субъектом свободной деятельности личности, выражает ее истинное бытие. В русской философии эту мысль развивал В. Зеньковский, который также указывал на необходимость различения эмпирического и глубинного Я. По его мнению, эмпирическое Я несомненно «возникает», оно формируется в потоке психической жизни, но само возникновение эмпирического Я возможно потому, что в основе личности есть глубинное Я, которое не «возникает», а наоборот, предваряет все изменения, все процессы в душе. Эмпирическое Я есть функция глубинного Я. «В подлинном смысле, – пишет В. Зеньковский, – единство личности восходит лишь к глубинному “Я”, которым оно держится и определяется»91. Заметим, что под глубинным Я автор имеет в виду не что иное, как самосознание личности, понимаемое им как проявление духа, изначально присутствующего во внутреннем мире человека и определяющего всю его эмпирическую душевную жизнь. Поэтому, по мнению В. Зеньковского, самосознание как проявление глубинного Я «вообще не “возникает”, оно ни из чего не могло бы возникнуть, его надо признать изначальным и непосредственным фактом душевной жизни»92. Таким образом, речь идет о существовании глубокой внутренней основы личности, инвариантной к любым ее внешним проявлениям. Изложенное различение внешнего и внутреннего «Я» не только расширяет представление о внутреннем мире личности и ее детерминациях, но и дает основание задуматься о действи90 Бергсон А. Опыт о непосредственных данных сознания // Бергсон А. Собр. соч.: В 4 т. Т.1. С.105. 91 Зеньковский В.В. Единство личности и проблема перевоплощения. С.80. 92 Там же. 66 тельных основах человеческой субъективности. Отдельный индивид обычно идентифицирует себя с определенным телом, именем, социальным «лицом», наконец, с определенным временем и местом жительства93. Однако ни одна из этих характеристик не является сущностной, атрибутивной по отношению к данной личности и даже все они вместе взятые не выражают того, что мы имеем в виду под человеческой самостью, под Я. Это не означает, конечно, что указанные идентификации не имеют значения для характеристики личности. Напротив, они с трудом элиминируются самосознанием индивида. Тем не менее, в результате такой элиминации (разумеется, мысленной, предполагаемой) все-таки остается некий нередуцируемый «остаток», некоторое ни к чему не сводимое, «чистое» Я. Интересна в этом отношении феноменология сознания, находящегося под влиянием наркоза. Лишенное сенсорной информации, сознание представляет собой самоощущение почти «чистого» Я, которое, привыкшее к существованию в интенциональной «оболочке», оказавшись в «одиночестве», в страхе перед бесформенным бытием, панически ищет опоры во внешних принадлежностях. Образно говоря, самосознающее «чистое» Я, наподобие бесформенной жидкости, ищет емкости, в которой оно приобрело бы форму, законченность, определенность – оформленное бытие. Эта напряженность внутреннего Я проявляется в попытках сознания вспомнить свою внешнюю, оформленную ипостась, свои внешние характеристики: ответить на вопросы «кто я?», «где я?» и т. п. Естественно возникающий в этих условиях вопрос «существую ли я еще на этом свете?» или еще резче: «я – есть?» стимулирует поиски внешних предметных выражений, удостоверений в наличности именно этого, моего существования: попытки вспомнить свое имя, адрес, близких и т. п. Не удивительно поэтому, что нормальное, бодрствующее сознание, целиком находящееся под влиянием внешнего, социального контроля, полностью растворяется в своих внешних содержаниях, не отдавая себе отчета об их действительной природе. 93 Подробно о проблемах личностной идентификации см.: Гасилин В.Н. Становление человека и проблемы идентификации // Человек. Культура. История. Саратов, 1993; Его же: Онтологические проблемы сущностных свойств человека // Социодинамика культуры управления. Саратов, 1994. 67 Итак, в состоянии наркоза «чистое» Я панически пытается «удержать» себя, себетождественность – соотнести себя с чем-то еще, со своими конкретными индивидуальными признаками. Но в рассматриваемом аспекте важно то, что оно все-таки есть, существует и существовало бы даже в том случае, когда все конкретные идентификации были бы забыты и утрачены. Вариантов решения проблемы человеческого Я с позиций антифункционального подхода предложен в работе специалиста в области математики и кибернетики Б. Полосухина. В поисках субстанциональной основы человеческого Я автор соотносит сознание человека с кибернетической моделью. Пытаясь обнаружить причины самотождественности Я, независимого от какихлибо изменений идентичности личности, автор предполагает наличие некоей сущностной основы, которую он называет способностью к субъективному восприятию себя и внешнего мира (субъективное начало). Он далек от мысли о трансцендентной природе этой основы и убежден, что способность восприятия себя как данности есть внутреннее свойство человеческого организма и возникает «в результате действия каких-то имманентных человеческой природе механизмов»94. Рассматривая человеческий мозг как информационную систему, Б. Полосухин выделяет два качественно различных процесса, обусловливающих появление сознания. Один, связанный с рефлексией мозговых структур, способствует возникновению способности к возникновению субъективного начала, другой – как реализация этой способности – это сам механизм возникновения субъективного начала и все конкретные содержания сознания95. Первое звено в цепи возникновения сознания автор связывает с изначальной и постоянной сущностной частью человеческого «Я» – с тем, что в философии традиционно определяется как «чистое Я», «первичное Я» и т. п. Однако автора данной концепции (напомним, представителя «точных наук») не удовлетворяет абстрактность, бессодержательность этих понятий, которые, по его мнению, есть только названия, за которыми нет «конкретного, объективно зафиксированного содержания». В противовес «интроспекционистам», рассматривающим «Я» как непознавае94 Полосухин Б.М. Феномен вечного бытия. Некоторые итоги размышлений по поводу алгоритмической модели сознания. М. 1993. С.31. 95 Там же. С. 90. 68 мую первичную сущность, автор под субъективным началом понимает проявление вполне реального процесса, существующего в модели и являющегося отражением не менее реального процесса первичной рефлексии реального мозга96. Б. Полосухин утверждает, что хотя рефлексия (как свойство мозговых структур и выражение деятельности сознания) по своему внешнему проявлению выглядит как функциональное свойство, в ее основе лежит структурное образование, под каковым автор полагает структурные свойства рефлектирующего мозга. Проводя зрительную аналогию с образом прозрачной сферы (мыльного пузыря), отражающей окружающее пространство, но уже путем отражения самой себя – на другом, «своем» языке, обусловленном отражением света от поверхности с положительной кривизной, исследователь задается вопросом: не происходит ли нечто подобное и с рефлексирующим мозгом? Иными словами, речь идет о наличии особого объективного механизма возникновения человеческой субъективности, связанного с существованием структурных свойств мозга – своеобразного «эффекта сборки», когда на определенном уровне сложности системы у нее возникают свойства, не выводимые из свойств ее элементов. И хотя автор выдвигает тезис о соотносимости сознания и кибернетической модели самоприменимости, исследования в этом направлении приводят его к выводу о том, что человеческая субъективность в принципе не формализуема, что и обусловливает уникальность каждой человеческой личности, ее индивидуальность. «Часть процесса работы мозга, связанная с появлением сознания, – не алгоритмический процесс и, следовательно, для него в принципе не существует формального описания», – заключает Б. Полосухин97. Несмотря на абсолютную непохожесть, различие содержаний индивидуальных сознаний, форма их – «яйность», принадлежность Я – по его мнению, одинакова. Наличие под слоем сознания, субъективного восприятия неформализуемого субъективного начала, одинакового у всех людей вследствие своей бессодержательности (все то же «Ничто»! – З.Ф.) – некоего «чистого», «голого» Я, которое не исчезает вместе со смертью его носителя – конкретного человека – позволяет автору говорить о нем, как о «феномене вечного бытия». 96 97 Полосухин Б.М. Феномен вечного бытия. С.125. Там же. С.111. 69 При несомненной привлекательности изложенного, обращает на себя внимание некоторая методологическая непоследовательность, разорванность, отсутствие цельности в решении проблем. Думается, это связано с определенной осторожностью автора, опасением сделать следующий шаг – открыто поставить вопрос об онтологических основаниях человеческого Я. Ситуация не так проста. Действительно, в этой точке философского исследования (которую можно было бы условно назвать точкой «бифуркации») осуществляется своеобразный выбор, который определяет существо философского мировоззрения автора. Вопрос о существовании глубинного, внутреннего Я на сегодняшний день является практически бесспорным. А вот дальнейшее его разрешение – ответ на вопрос об онтологических предпосылках этого Я – остается проблематичным. Является ли глубинное, или «чистое» Я, последней инстанцией – вечной, самоопределяемой и самодостаточной сущностью – или оно есть проявление иной – более глубокой фундаментальной реальности? Прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо вернуться к структуре внутреннего мира личности. Понятия сознания и внутреннего мира представляют (как было показано выше) различные аспекты субъективной реальности. Сознание выражает последнюю со стороны ее содержаний, в то время как внутренний мир представляет собой своеобразное средоточие бытия, формой проявления которого является непосредственное переживание, сосредоточенное в Я как в своем центре. Последнее (бытийствование человеческой субъективности) может быть как ясным, отрефлексированным – самопредставленным, и тогда оно отдает себе отчет обо всех своих содержаниях, «внешних оболочках», так и неявным – смутным ощущением чистой субъективности, «яйности», заявляющим о себе лишь фактом своего существования, бытийствования. В изложенной концепции Б. Полосухина феномен Я выступает как чистая бессодержательная сущность, осознающая свое бытие как таковое, вне его конкретных взаимосвязей. Такое понимание в известной мере когерентно гуссерлевской концепции интенциональности, где «чистое» Я представляет собой не объект, а одно из субъективных условий познания, указывая на необходимость центрального звена всех представлений, которое не тождественно самим представлениям. Это «чистое» Я как 70 «направленность на...» всегда реализуется в определенном феномене посредством определенного акта познания. Последовательно философское описание «чистого сознания» как особой феноменальной данности предполагало, как отмечалось выше, осуществление нескольких этапов редукции. Гуссерль разъясняет, что мы можем редуцировать все психофизические определения человека, социальные, культурные и прочие его функции; мы не в состоянии отвлечься только от того, кто осуществляет саму эту редукцию – от трансцендентального «Я». Как видим, Гуссерль все-таки тяготел к классическому трансцендентализму декартовского типа с его рефлектирующим «cogito». Но является ли трансцендентальное Я последним основанием субъективной реальности? Очевидно, нет. Ведь оно само является продуктом рефлексии, а потому с неизбежностью предполагает арефлексивное сознание как свое изначальное условие. Открытие бытийного уровня сознания обнаружило несостоятельность эготических претензий на статус последней основы бытия. Отсюда понятно возражение Сартра, утверждавшего, что «чистое сознание» есть арефлексивное сознание, для которого понятие трансцендентального Я излишне и вредно. Речь идет, следовательно, о таком слое сознания, который, в отличие от рефлексивного сознания, предполагающего бинарность «Я» и «не-Я», имеет в себе некую неотличимую от себя самого данность. Инстанция Я как явный фрагмент сознания здесь отсутствует, точнее – пребывает в неявной форме, что и позволяет иногда определять ее как «неявную субъективность»98. Думается, какие бы термины ни применялись для характеристики арефлексивного слоя сознания – той области внутреннего мира, где содержания не осознаются, но бытийствуют, исследование этого трудноуловимого и невыразимого привычными рационально-логическими средствами феномена будет безрезультатно вращаться в одних и тех же рамках, пока не будет четко поставлен вопрос о его природе – об онтологических основаниях этого феномена и более широко – человеческого бытия вообще. 98 См.: Абрамов С.С. Неявная субъективность (Опыт философского исследования). Томск,1991. 71 Прежде, чем перейти к рассмотрению этих основ, отметим еще два момента, существенных для характеристики человека в рассматриваемом аспекте: 1) наличие бытийного слоя сознания, что позволяет рассматривать внутренний мир человека как особый регион бытия; 2) переживание этого бытия – состояние экзистенции – есть процесс трансцендирования, выхода за границы наличного, преодоление действительности, в том числе своих собственных пределов и выход к Иному – в сферу Высших смыслов и ценностей. Откуда это «знание», предощущение Иного, трансцендентного? Является ли оно эманацией собственной человеческой субъективности или же есть результат обнаружения иной – фундаментальной – реальности, дарующей человеку саму возможность бытия и его переживания? Последнее представляется более адекватным ответом на поставленный вопрос. Суть его – в преодолении односторонности крайнего субъективизма. Характерно, что, несмотря на антропологические прозрения неклассической философии XX века (понимание особого места человека в структуре бытия, преодоление дихотомии субъекта и объекта в познании), субъективизм в его крайней форме – как солипсизм – по существу никем не был осуществлен последовательно, до конца. Сама суть человека как незавершенного, неокончательного существа, никогда не удовлетворяющегося своим наличным бытием, существа, не признающего границ и интуитивно прозревающего наличие некоего Нечто (пусть даже оно выступает как Ничто) за пределами этого мира, – сама суть человека, вечно стремящегося превзойти самого себя, не позволяет ему замкнуться в рамках своей субъективности и обусловливает нескончаемые попытки человека установить, прояснить это Нечто, эту опору, из которой он в качестве экзистенции черпает свое бытие. Этого стремления к опоре не удалось избежать никому из представителей субъективной философии. С. Кьеркегор бросается в спасительные объятия Бога и самое экзистенцию рассматривает как «врастание» в божественное, трансцендентное, как жизнь перед лицом Бога. Для М. Хайдеггера само существование человека есть «дарение» Бытия. К. Ясперс также говорит о трансценденции, об «анонимном», незнание которого служит для него не опровержением, а основанием для философской веры в существование трансцендентного. Подчеркивая автономность 72 человека, К. Ясперс вместе с тем утверждает: «Тем, что он зависит от самого себя, он обязан непостижимой, ощутимой только в его свободе поддержке трансценденции»99. Интересна в этом отношении позиция российского философа А. Павленко, рассматривающего всякое конкретное бытие, в том числе человеческое, как результат «дара» – «давание», определяющее для каждой вещи «свое время». Выступая против эгоизма и самообожествления нововременного человека, уверенного в своем всемогуществе, автор пишет: «“Давание”, имеющее “свое время”, обернулось у человека в его сознании забвением источника давания, забвением того, что (или кто) может давать. Поэтому вопрос о человеческом измерении времени всего есть вопрос о сокрытости Могущества, его утаивания себя через истощение давания. Но в этом утаивании, что уже было понято М. Хайдеггером, оно открывается человеку...»100. Таким образом, в указанных подходах само состояние трансценденции рассматривается как свидетельство существования трансцендентного. В феноменологии Э. Гуссерля сознание впервые представлено в качестве фундаментального региона бытия, но природа феноменов, онтология сознания как сферы чистого самопроявления оказалась необъяснимой с феноменологических позиций. Решение этой задачи становится главной задачей философии М. Хайдеггера. Автор фундаментальной онтологии стремится выйти за рамки онтологии сознания и предпринимает попытку эксплицировать вопрос о бытии как таковом. Однако после открытий феноменологии последнее (бытие) уже не могло быть понято объективно, как существующее вне и независимо от субъекта, якобы извне, со стороны наблюдающего объект. В противовес классической метафизике фундаментальная онтология элиминирует противоположность субъекта и объекта и провозглашает взаимообусловленность проблемы человека и проблемы бытия. Бытие сознания, поскольку оно не может быть объектом, стало, поэтому, предметом не гносеологии, а онтологии. Человеческое сознание понимается здесь как особый тип реальности, в корне отличный от всего остального мира и требующий для своего философского осмысления специфических познавательных средств. 99 Ясперс К. Философская вера. С.450–451. Павленко А. Бытие у своего порога // Человек. 1993. № 5. С.32. 100 73 Постижение этого вида бытия, как это было показано на примере феноменологии Э. Гуссерля, возможно лишь как прояснение смысла на основе непосредственного «знания» человеком своих бытийных основ – как определенная интерпретация этого смысла. Это и означает онтологизацию сознания, поскольку такие термины, как «прояснение смысла», «интерпретация», «понимание» приобретают здесь онтологическое, а не эпистемологическое значение. «Понимание бытия, – подчеркивал М. Хайдеггер, – само есть определенность бытия Dasein»101. При попытке поставить вопрос о бытии и прояснить понятие бытия необходимо, по мнению М. Хайдеггера, указать на такое сущее, в котором бытие само себя обнаруживает. Этим сущим и являемся мы сами, вопрошающие о бытии. Для обозначения этого сущего Хайдеггер выбирает термин «Dasein». Заметим, что этим термином он определяет не всякое человеческое существование. Dasein – это граница экзистенциального и наличного способов существования, выражение постоянного процесса становления, выхождения за пределы наличности – экзистирования. В отличие от Э. Гуссерля, для которого сознание – это реальность, в которой нам дан мир, та первичная основа, в которой творятся и рождаются исходные смыслы, М. Хайдеггер утверждает, что не сознание раскрывает предмет как феномен, а само сущее – Dasein, вопрошающее о бытии и тем самым обладающее возможностью бытия, раскрывает себя в себе самом, непрерывно проявляет и обнаруживает себя, трансцендирует, то есть выходит за пределы несоизмеримого с Dasein сущего – наличного. Иными словами, Dasein есть субъективное бытие, сущность которого состоит в трансценденции. Хайдеггеровское понимание сущности человеческого бытия близко по содержанию развиваемому в данной работе понятию духовности, которая, на наш взгляд, и выражает действительную сущность человека – его способность к трансцендированию наличной действительности. По М. Хайдеггеру, субъект никогда не существует в качестве «субъекта», чтобы затем, в случае наличия объектов, также трансцендировать по отношению к ним, но субъектное бытие означает: быть сущим в трансценденции и в качестве трансценденции. Следовательно, в процессе трансцендирования мир пред101 Цит. по: Проблема сознания в современной западной философии. Критика некоторых концепций. М., 1989. С.112. 74 ставляет собой предпонимаемую целостность сущего, включенную в структуру Dasein. Сущее никогда не обнаруживает себя последнему как таковое, вне смысловой взаимосвязи в рамках целостности Dasein. Таким образом, в рамках неклассической философии было достигнуто понимание специфичности человеческого бытия, его несводимости ни к каким иным проявлениям сущего и его особого онтологического статуса как «стояния в просвете бытия», ибо в абсолютности трансценденции, характеризующей человеческое существование как экзистенцию, обнаруживает себя само Бытие. Идея слитности человека и Бытия характерна и для русской философии. Раскрывая смысл своего персоналистического мировоззрения, Н. Бердяев писал: «Философия видит мир из человека, и только в этом ее специфичность... Неверно сказать, что бытию, понятому объективно, принадлежит примат над человеком, наоборот, человеку принадлежит примат над бытием, ибо бытие раскрывается только в человеке, из человека, через человека... Человек бытийствен, в нем бытие, и он в бытии, но и бытие человечно, и потому только в нем я могу раскрыть смысл, соизмеримый со мной, с моим постижением»102. Приведенное высказывание вплотную подводит к вопросу о путях и формах постижения бытия, точнее, подчеркивает сопряженность этого постижения с человеческими смыслами. Последнее исключает возможность ясного и отчетливого знания, выраженного в жестких понятийных конструкциях и предполагает наличие некоего «остатка», невыразимого в дискурсе и требующего для своего постижения не рационально-логического мышления, а особого вчувствования, слияния с предметом, отказа от своего рефлектирующего Я и погружения в бездну интуитивно ощущаемого неизвестного. Если для Э. Гуссерля, все еще тяготеющего к принципам классического трансцендентализма, философия должна основываться на принципах ясности и очевидности, то М. Хайдеггер уже сознательно принимает в качестве предпосылки то, что одновременно выявлено и невыявлено – «смутное понимание бытия» и Dasein как бытие-в-мире. «Не познающий и осознающий самого себя субъект, а неизвестное, которое в самом себе себя раскрывает, – человек, раскрывающийся миру, и мир, раскрывающийся 102 Бердяев Н.А. О назначении человека. С.25. 75 человеку, – есть исходная тема хайдеггеровской онтологии»103, – замечает В. Молчанов. Вопрос о природе этого «неизвестного», об онтологических предпосылках и «гарантиях» достоверности феноменологического опыта волновал еще Э. Гуссерля. Весьма знаменательно, что по мере развития своих взглядов создатель феноменологии приходит к мысли о том, что процесс конституирования происходит не из собственной «силы» трансцендентальной субъективности, а как осуществление некоторой «милости», субъективность же постоянно находится в опасении, что ее лишат этой «милости», в результате чего не только мир растворится в хаосе ощущений, но и сама она (субъективность) разрушится104. Данность конституирования мира в сознании вообще есть, согласно Э. Гуссерлю, чудо. Это «чудо» непосредственной данности человеку бытия М. Хайдеггер определит впоследствии как «дарение». В конечном итоге Э. Гуссерль (в известном противоречии с установками его собственной феноменологической позиции) пришел к признанию некоторого абсолютного основания, лежащего «за» трансцендентальной субъективностью и выступающего своего рода гарантом целостности актуальной жизни сознания и основанием процесса конституирования. Это – по существу классическая идея «телоса» как изначальная уверенность в разумных основах мироздания105. У М. Хайдеггера, напротив, фундаментальная основа бытия иррациональна. Иррациональное для него – это корень рационального, тот самый глубинный, онтологический уровень сознания – сфера нерасчлененной целостности, – на котором бытие обнаруживает себя как данность. Поворот к бытию в «фундаментальной онтологии» – это поворот к иррациональному, на которое можно только косвенно указать и которое принципиально не может быть прояснено средствами рефлектирующего сознания, ибо иррациональное не отражается. Таким образом, осмысление человеческой субъективности, обнаруживающейся в феноменологии внутренней жизни личности, позволяет опровергнуть основные посылки субъективизма, 103 Молчанов В.И. Гуссерль и Хайдеггер: феномен, онтология, время // Проблема сознания в современной западной философии. С.116. 104 См.: Рубенис А.А. Телеологизм гуссерлевской концепции сознания // Проблема сознания в современной западной философии. С.106. 105 Там же. См. также: Шестов Л. Памяти великого философа (Эдмунд Гуссерль) // Вопросы философии. 1989. № 1. С.151, 159. 76 утверждающего субстанциональность отдельного человеческого Я, и постулировать наличие онтологической укорененности индивидуального человеческого духа в фундаментальных основах бытия. Утверждение о невозможности полной рационализации и дискурсивной экспликации бытийных основ человеческого существования, казавшееся вначале (по крайней мере, марксистам) лишь гносеологической несостоятельностью фундаментальной онтологии, со временем обнаружило свою адекватность и эвристичность и может вполне справедливо рассматриваться как шаг в направлении создания нового миропонимания. Необходимость последнего все более обнаруживает себя, причем не только в процессе движения философской мысли, но и в развитии «точных» наук. Глава III. ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУХОВНОСТИ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО ОСМЫСЛЕНИЯ РЕАЛЬНОСТИ Антропологический поворот в философии XX века имеет более глубокий смысл, нежели простое перемещение центра философствования к проблемам человека. В рамках новой – неклассической – философии складываются предпосылки для принципиально иного по сравнению с классической метафизикой осмысления проблем бытия в целом. Более того, современные исследования в области фундаментальных наук, прежде всего теоретической физики, и их философская интерпретация позволяют говорить о начале формирования новой парадигмы мышления, включающей в качестве существенной составляющей иррациональные компоненты. Размышления о месте и назначении человека в общей структуре бытия в контексте достижений антропологически ориентированной философии уходящего века заставляют по-новому взглянуть на окружающую нас реальность, и прежде всего на роль духовных основ в системе мироздания. Мировоззрение современного человека, имплицитно несущее в себе аксиоматические допущения механистической парадигмы, ставшее обыденным (а значит – бесспорно признанным) убеждение в незыблемо77 сти и определяющей роли материальных, чувственно осязаемых вещей и сил, столь многократно доказавших свою основательность и надежность, – с трудом воспринимает мысль о самостоятельной и тем более творящей силе духа. Между тем, на сегодняшний день не только абстрактные метафизические рассуждения философии, но и данные фундаментальных наук, казалось бы, весьма далеких от «туманных» философских умозрений и отличающихся столь уважаемыми в сциентистски ориентированном сознании точностью и конкретностью, дают основания для подобных предположений и выводов. В области исследования внутреннего мира человека также накоплен огромный экспериментальный материал, свидетельствующий о существовании и проявлении необычных феноменов человеческой психики, которые не укладываются в рамки существующих научных представлений и требуют разработки новых познавательных подходов. Нет необходимости излагать здесь общеизвестные положения об определяющей роли научной парадигмы в познании и об условности всякого знания, основанного на ее допущениях. Однако осведомленность ученых о существовании этого общепризнанного факта еще не означает их готовности и даже способности учитывать в процессе своих научных исследований указанную детерминацию, и тем более преодолеть ее – отказаться от привычных и удобных каналов мышления, сформированных господствующей парадигмой. А именно эта способность и требуется сегодня, когда, по убеждению многих выдающихся ученых нашего времени, наука приближается к сдвигу парадигмы невиданных размеров, в результате которого изменятся наши понятия о реальности и человеческой природе и который соединит концептуальным мостом древнюю мудрость и современную науку, примирит восточную духовность с западным прагматизмом. Наиболее отчетливо указанные тенденции проявились в развитии теоретической физики. С начала XX века физика преодолела механистическую точку зрения на мир и все базисные допущения ньютоно-картезианской парадигмы. В этой экстраординарной трансформации она становилась все более сложной, эзотеричной и непостижимой. Как отмечают современные авторы, Вселенная современной физики больше похожа на систему мыслительных процессов, нежели на гигантский часовой механизм. 78 Все чаще анализ новых научных открытий приводит к выводу о сопричастности сознания основам мироздания: «Не будет странным предположить, что связующим принципом в космической сети является сознание как первичный и нередуцируемый атрибут существования»106, – пишет С. Гроф. К этому склоняются и физики Ю. Вингер, Д. Бом, Дж. Чу, Ф. Капра, А. Янг, С.П. Сираг, Н. Херберт и другие. Теория относительности и квантовая механика поставили под сомнение представления ньютоновской механики об абсолютном характере пространства и времени, о твердых элементарных частицах, о строгой причинной обусловленности всех физических явлений и о возможности объективного описания природы. Развитие атомной и субатомной физики разрушило представление о твердой материи. Эксперименты последних десятилетий обнаружили динамическую сущность мира частиц. Любая частица может быть преобразована в другую; энергия может превращаться в частицы, и наоборот. Выяснилось, что у субатомных частиц очень абстрактные характеристики и парадоксальная двойственная природа. В зависимости от организации эксперимента они проявляют себя иногда как частицы, а иногда как волны. Согласно Н. Бору, это противоречие является результатом неконтролируемого взаимодействия между объектом наблюдения и наблюдательными средствами, что и позволило ученому сформулировать принцип дополнительности. «Противоречие между свойствами волн и частиц разрешилось совершенно непредвиденным образом, поставив под вопрос саму основу механистического мировоззрения – понятие реальности материи, – замечает в связи с этим известный американский физик Ф. Капра. – Внутри атома материя не существует в определенных местах, а скорее “может существовать”; атомные явления не происходят в определенных местах и определенным образом наверняка, а скорее “могут происходить”. Язык формальной математики квантовой теории называет эти возможности вероятностными и связывает их с математическими величинами, предстающими в виде волн»107. Вероятностный характер внутриатомных процессов объясняется не недостатком знаний, необходимых для полного описания и предсказания процесса, а 106 107 Гроф С. За пределами мозга. М.,1993. С.82. Капра Ф. Дао физики. СПб., 1994. С. 59–60. 79 связывается учеными с природой самих этих процессов: «В квантовой теории, – утверждает Капра, – вероятность следует воспринимать как основополагающее свойство атомной действительности, управляющее ходом всех процессов и даже существованием материи»108. Отсутствие четкой артикулированности в структуре материи на субатомном уровне свидетельствует о фундаментальной целостности мироздания, обнаруживая невозможность разложения мира на элементарные составляющие. Проникая в глубины вещества, физики обнаружили не самостоятельные компоненты, а сложную систему взаимоотношений между различными частями единого целого. В этих взаимоотношениях непременно фигурирует наблюдатель. Человек-наблюдатель представляет собой конечное звено в цепи процессов наблюдения, и потому следует воспринимать свойства любого объекта атомной действительности, обязательно учитывая взаимодействие последнего с наблюдателем. Таким образом, квантовая физика предложила научную модель Вселенной, резко контрастирующую с моделью классической физики. На субатомном уровне вместо твердых материальных объектов классической физики существуют волноподобные вероятностные модели, которые к тому же выражают вероятность существования не вещей, а, скорее, взаимосвязей. Более того, тщательный анализ процесса наблюдения показал, что субатомные частицы существуют не в виде самостоятельных единиц, но в качестве промежуточного звена между подготовкой эксперимента и последующими измерениями. Поразительным открытием атомной физики явилось то, что человек-исследователь необходим здесь не только для того, чтобы наблюдать свойства объекта, но и для того, чтобы дать определение самим этим свойствам. В атомной физике невозможно говорить о свойствах объекта как таковых. Они имеют значение только в контексте взаимодействия объекта с наблюдателем. По словам Гейзенберга, «то, с чем мы имеем дело при наблюдении, это не сама природа, но природа, доступная нашему методу задавать вопросы»109. 108 109 Там же. С.111. Гейзенберг В. Физика и философия. С.84. 80 Теория относительности Эйнштейна коренным образом изменила представления о пространстве и времени. Согласно теории гравитации и теории квантовых полей частицы неотделимы от пространства, которое их окружает. Они представляют собой не что иное, как энергетические узлы, «сгущение» непрерывного поля, присутствующего во всем пространстве110. Теория поля предполагает, что частицы поля могут спонтанно возникать из пустоты и снова исчезать в ней, что заставило существенно пересмотреть представления о вакууме как полной пустоте и говорить о динамическом качестве физического вакуума. Это означает, что вакуум находится в состоянии пустоты, ничтойности и, тем не менее, он потенциально содержит все формы мира частиц. Размышляя над открытиями квантовой физики, американский физик Дэвид Бом опускается ниже уровня вероятностей и исследует порядок, который внутренне присущ космической сети взаимоотношений на более глубоком уровне – уровне «непроявленности». Бом называет этот порядок «имплицитным», или «вложенным», имея в виду, что, по аналогии с голограммой, мир структурируется таким образом, что каждая существующая вещь в целом «вкладывается» в каждую из своих составных частей. В рамках этого порядка, утверждает он, взаимоотношения внутри целого не имеют ничего общего с локальностью во времени и пространстве. Мир, по мнению Бома, представляет собой бесконечный процесс холодвижения, выступающего скрытой основой всех материальных сущностей. Физика же исследует квазистатичные, квазиавтономные черты этого холодвижения. Явления, которые мы воспринимаем непосредственно нашими чувствами и при помощи научных инструментов, представляют лишь фрагмент реальности – «развернутый», или «эксплицитный» (явный) порядок. Это лишь одна из конкретных форм, источником и генерирующей матрицей которой является более фундаментальная всеобщность – свернутый, или имплицитный (неявный) порядок. В нем эта форма содержится и из него возникает. Переход к этому порядку и есть обнаружение более глубокой реальности, в нашем мире прямо не выявляемой, но проявляющейся на уровне наличия квантовых эффектов. Для понимания имплицитного порядка Д. Бом счел возможным рассматривать сознание как неотъемлемый компонент холодвижения и экс110 См.: Капра Ф. Дао физики. С.187. 81 плицитно включил его в свою теорию. Он считает, что сознание и материя взаимосвязаны и взаимозависимы, но между ними нет причинных связей. Они представляют собой вложенные друг в друга проекции более высокой реальности, которая не является ни материей, ни сознанием в чистом виде. Онтологическое противопоставление материального и духовного все более и более подвергается критике со стороны ученых – представителей квантовой физики111. Существенную роль в формировании новых немеханистических представлений сыграла и разработанная в 80-е годы И. Пригожиным теория синергетики, которая представляет собой попытку осмыслить единство мира в диалектическом переплетении тенденций хаоса и порядка. Основная новизна концепции Пригожина заключается в идее нестабильности, противостоящей механистическому представлению о мире как об устойчивой замкнутой системе, все элементы которой и их функции строго детерминированы и развиваются по однажды установленным законам в однозначно заданном направлении. Синергетика вводит новое понятие открытых, то есть взаимодействующих с внешней средой и потому неравновесных систем и изучает происходящие в них процессы самоогранизации (возникновения из хаоса) и самодезорганизации, приводящие к возникновению новых динамических структур. Это дало И. Пригожину возможность противопоставить теории тепловой смерти Вселенной концепцию бесконечного развития Вселенной. Закон энтропии, сформулированный в XIX веке, интерпретировался как закон роста беспорядка, поскольку исключал из научного описания возможность случайных – непредсказуемых, недетерминированных – изменений. «Сегодня мы знаем, – пишет Пригожин, – что увеличение энтропии отнюдь не сводится к увеличению беспорядка, ибо порядок и беспорядок возникают и существуют одновременно... один включает в себя другой»112. Всякий раз, когда какие-либо системы в любой области задыхаются от энтропийных отходов, они мутируют в направлении новых режимов. Одна и та же энергия и те же самые принципы обеспечивают эволюцию на всех уровнях, будь то материя, жизненные силы, информация или ментальные процессы. Микрокосм и мак111 112 См., напр.: Шредингер Э. Мое мировоззрение // Вопросы философии. 1994, № 9. Пригожин И. Философия нестабильности // Вопросы философии. 1991. № 6. С. 49. 82 рокосм являются двумя аспектами одной – единой и объединяющей – эволюции. Жизнь с этой точки зрения уже не представляется явлением, развертывающимся в неодушевленной вселенной. Напротив, сама вселенная становится все более и более живой113. Идея нестабильности позволила включить в поле зрения естествознания человеческую деятельность, которая, в отличие от строго детерминированной законами природы, характеризуется творчеством с его непредсказуемостью и случайностью. «Сегодня, когда физики пытаются конструктивно включить нестабильность в картину универсума, наблюдается сближение внутреннего и внешнего миров, что, возможно, является одним из важнейших культурных событий нашего времени»114, – замечает И. Пригожин. Попытка осмыслить эвристическую роль синергетики в социальном познании предпринята недавно авторами монографии «Волновые процессы в общественном развитии». Ученые высказывают убеждение в том, что под воздействием идей синергетики будет происходить «мировоззренческий сдвиг в обществознании – сдвиг в сторону понимания развития мира, общества как сложного, множественного, поливероятностного процесса, где не только царствуют глобальные детерминистские тенденции, но в которых содержится и значительный вероятностный элемент»115, а человек начнет воспринимать себя как существо, погруженное в единый мировой процесс самоорганизации, тем самым превращаясь «из зрителя в актера»116. Новые революционные открытия, не укладывающиеся в рамки механистической парадигмы, были сделаны также в области биологии. Английский биолог и химик Руперт Шелдрейк в своей книге «Новая наука жизни» (1981) высказал убеждение, что жизнь не может быть сведена к химическим реакциям и что живые организмы – это не просто сложные биологические машины. Форма, развитие и поведение организмов, по его мнению, определяются «морфогенетическими полями», которые в настоящее время не могут быть обнаружены, измерены или поняты физи113 См. об этом также теоретическое наследие В. Вернадского: Вернадский В.: Жизнеописание. Избранные труды. Воспоминания современников. Суждения потомков. М., 1993 и др. 114 Пригожин И. Философия нестабильности. С. 48. 115 Волновые процессы в общественном развитии (Васильков В.В., Яковлев И.П.,Барыгин И.Н. и др.). Новосибирск, 1992. С.58. 116 Там же. С.59. 83 кой. Эти поля создаются формой и поведением живших в прошлом организмов того же вида посредством прямой (!) связи сквозь пространство и время и обладают кумулятивными свойствами. Если у достаточного числа представителей вида развились какие-то организменные свойства или особые формы поведения, это автоматически передается другим особям, даже если между ними нет обычных форм контакта117. Таким образом, механистический образ Вселенной, созданный ньютоно-картезианской наукой, не может больше считаться точной и окончательно установленной моделью реальности. Понятие космоса как гигантской супермашины, собранной из бесчисленных отдельных объектов и существующей отдельно от наблюдателя, устарело. В контексте научных открытий двадцатого столетия Вселенная предстает единой и неделимой сетью событий и взаимосвязей, ее части представляют собой разные аспекты и паттерны одного интегрального процесса невообразимой сложности. Однако это положение требует специального рассмотрения. Как бы ни были значимы исследования фундаментальных наук, они лишь подготавливают почву для нового понимания места и роли человека, его сознания и духовности в системе мироздания. Духовный мир человека представляет собой более сложный уровень реальности и не может быть полностью, адекватно объяснен частными науками. Поэтому в контексте интересующих нас проблем наиболее значимы разработки, связанные с изучением непосредственно сознания, внутреннего мира человека. И здесь в последнее время получены любопытные результаты. Уже автор концепции «коллективного бессознательного» К. Юнг, пытаясь обнаружить в природе человека истоки его неистребимого стремления к трансцендентному, пришел к выводу о том, что для более глубокого понимания внутреннего мира человека необходимо изменение методологических подходов к его познанию. Точно так же, как когда-то наука освободилась от предрассудка геоцентричности в картине мира, сегодня, по мнению Юнга, необходимо изгнать из психологии предрассудочные мнения о том, будто душевная жизнь, с одной стороны, лишь эпифеномен биохимических процессов в мозгу, а с другой стороны – будто она ограничена рамками индивидуальной личности. 117 См.: Гроф С. За пределами мозга. С.47. 84 Связь души с мозгом очевидна, замечает ученый, «этот факт до такой степени впечатляющ, что эпифеноменальный характер психической жизни представляется чуть ли не неизбежным выводом. Парапсихологические явления, однако, заставляют и здесь соблюдать осторожность, указывая на релятивизацию времени и пространства психическими факторами и ставя под вопрос наши действующие ныне, несколько преждевременные и наивные объяснения психофизического параллелизма, в пользу которых, будь то из мировоззренческих соображений или по причине интеллектуальной лени, и происходит голое отрицание парапсихологического опыта. Это отрицание ни в коем случае, конечно, не может считаться научно обоснованным, хоть и представляет собой удобный выход из совершенно необычного затруднения мысли. Для суждения о психических явлениях мы должны ведь учитывать все относящиеся сюда данные, что делает невозможным создание общей науки о душе, не признающей существование бессознательного или исключающей парапсихологию»118. Мы позволили себе привести такую обширную цитату в силу ее исключительного значения для последующего изложения. В процессе исторического развития человечества накоплен огромный материал, свидетельствующий об экстраординарных возможностях человеческой психики и сознания, далеко выходящих за рамки обычных проявлений человеческого духа. Эти явления, чаще всего определяемые как паранормальные, не имеют теоретического объяснения в рамках существующей парадигмы и потому, как правило, отвергаются традиционно мыслящими учеными. Однако они все чаще обнаруживают себя в опыте, феномены которого столь очевидны и общеизвестны, что отрицать их может только откровенно предвзятый человек. К настоящему времени парапсихология сложилась как самостоятельная дисциплина, о чем свидетельствует развитие ее инфраструктуры. Достаточно сказать, что курсы по парапсихологии читаются в пятидесяти колледжах и университетах США, в том числе таких престижных, как Гарвардский, Принстонский, Калифорнийский, Стенфордский и др. В ряде университетов присуждаются ученые степени по парапсихологии. Созданы различные общества и ассоциации ученых, а также лаборатории, изуча118 Юнг К.Г. Современность и будущее. Минск, 1992. С.25. 85 ющие паранормальные явления. Издается огромное количество книг и журналов, в частности, в США с 1937 г. выходит «Журнал парапсихологии». Опубликованы монографии, подытоживающие развитие парапсихологии за рубежом. При Библиотеке Конгресса США создана исследовательская группа, по результатам деятельности которой в 1979 г. были организованы слушания, а в 1981 г. составлен документ под названием «Исследования в области физики сознания». Результаты парапсихологических исследований публикуются в таких хорошо известных и престижных американских научных журналах, как «Америкэн сайколоджист», «Бихейвиорал энд брейн сайенсез», «Фаундейшенз оф физик», «Сайколоджикал бюллетин» и «Статистикал сайенс». Симпозиумы по парапсихологии проводятся на ежегодных собраниях Американской ассоциации содействия развитию науки, Американской психологической ассоциации и Американской статистической ассоциации. Доклады о состоянии и результатах парапсихологических исследований были подготовлены под эгидой Исследовательской службы конгресса США, Военного исследовательского института, Национального совета по научным исследованиям, бывшего Управления по оценке технологий при конгрессе США и Американского института научных исследований. Активная разработка указанных проблем ведется и в нашей стране, особенно в последние годы119. С 1992 г. в России выходят журналы «Парапсихология и психофизика» и «Парапсихология в СССР», функционирует портал «Парапсихология в России»120. Постепенно начинают публиковаться монографии по проблемам, о которых раньше можно было прочесть только под грифом «Самиздат». Термин «парапсихология» вначале имел негативный оттенок и служил для обозначения области знания, считавшейся 119 Еще в 20–30-е гг. по заданию Наркомата обороны проводились исследования телепатии в рамках теории электро-магнитных колебаний: в Ленинградском институте мозга В.М. Бехтерева – под руководством Л.Л. Васильева; в Москве в лаборатории биофизики АН СССР – под руководством П.П. Лазарева и С. Я. Турлыгина. В 1965 г. в Москве при научно-техническом обществе радиотехники, электроники и связи была создана секция биоинформации, а в 1975 г. – секция биоэнергетики под руководством чл.-корр. АН СССР А.Г. Спиркина. С 1986 г. она возглавляется академиком АМН В.П. Казначеевым и называется «Секция физических полей живого вещества». В 1988 г. организован «Комитет «Биоэнергоинформатика», а в 1989 г. образована Ассоциация «ЭНИО». 120 http://www.parapsych.ru/blog/?id=1513&sa=view_post 86 неполноценной – около или даже противонаучной (от греч. para – около, возле, против), занимавшейся исследованием необычных проявлений психики и сознания, которые не могут быть объяснены средствами современного естествознания. Впоследствии этот негативный оттенок стал исчезать, и парапсихология постепенно занимает надлежащее место в системе современного знания. Некоторые исследователи, руководствуясь стремлением придать данной области познания статус науки и тем самым обеспечить ее признание, а значит и право на существование, настойчиво пытаются дать строго теоретическое объяснение парапсихологических феноменов, упорно доказывают возможность их естественнонаучной интерпретации121. Однако, как показывает развитие новейших теоретических исследований, проблема заключается как раз в том, что указанные явления не могут быть адекватно объяснены в рамках господствующей механистической парадигмы, на основе использования ее познавательных средств. Скорее наоборот – не паранормальные явления должны быть объяснены, исходя из законов современного естествознания, а сами эти законы и принципы должны быть пересмотрены и дополнены в силу несоответствия их накопившемуся эмпирическому материалу. В данной работе нет необходимости подробно излагать многочисленные случаи проявления пси-феноменов – они достаточно широко известны и описаны в литературе122. В плане нашего исследования представляют интерес, разумеется, не сами паранормальные явления, а их «второй план» – та непроявленная реальность, которая обнаруживается в этих феноменах, и факт ее очевидной связи с психикой человека. Значительное место в изучении этой реальности принадлежит разработке проблем бессознательного. Современные исследования бессознательного существенно расширили представления об этом скрытом уровне человеческой психики и, что более важно, позволили переосмыслить его онтологический статус. Можно предположить, что бессознательное представляет собой своеобразную форму бытия, присущую человеку и выступающую связующим звеном между сферой 121 См., напр., Дубров А.П., Пушкин В.Н. Парапсихология и современное естествознание. М., 1989. 122 См.: Геллер У., Плэйфайр Г. Моя история. Эффект Геллера. М. 1992; Мартынов А.В. Исповедимый путь. М., 1989; Феномен «Д» и другие. М., 1991. 87 трансцендентного – сферой чистых смыслов – и человеческим сознанием как явленностью этих смыслов, их индивидуальноличностным бытием. Именно через бытие бессознательного человек связан со всеми содержаниями некой духовной целостности, своеобразного «духовного космоса», который «питает» человеческий дух, благодаря чему человек выступает как органичная часть этого целого. Разработка указанных проблем связана с получившим в последнее время широкое распространение, особенно на Западе, так называемым трансперсональным движением123. Наиболее значительное место в нем принадлежит работам С. Грофа – создателя трансперсональной психологии. С. Гроф экспериментально подтвердил наличие в опыте испытуемых, находящихся в состоянии измененного сознания (состояния медитации, возникающие под воздействием ЛСД, а также и без применения психоделиков – в результате специальных дыхательных упражнений и других подготовительных процедур), содержаний и образов, которые не могли быть результатом не только индивидуального опыта испытуемого, но и человеческого опыта вообще. Традиционная психологическая модель психики строго персоналистична и биографична. Современные исследования открывают в ней новые уровни, сферы и измерения; показывают что человеческая психика соразмерна всей Вселенной и всему существующему124. Эмпирические данные, полученные в ходе экспериментов С. Грофа и его единомышленников, свидетельствуют о наличии в структуре внутреннего мира человека арефлексивного уровня, который связывает человека с неизвестной, рационально непостижимой реальностью и представляет собой не просто хранилище неосознаваемых содержаний, но и специфические способы обращения с этой информацией – способность подключения к ней и «оперирования» с ней. Способы этого «подключения» пока неизвестны. Поэтому дальнейшее изучение указанных явлений предполагает их философскую и научную интерпретацию. Накопившиеся эмпирические материалы, не укладывающиеся в рамки традиционной науки, привлекают внимание многих серьезных ученых. Их теоретическая интерпретация породила 123 См.: Налимов В.В., Дрогалина Ж.А. Трансперсональное движение: возникновение и перспектива развития // Психологический журнал. Т.13. 1992. № 3. 124 См.: Гроф С. За пределами мозга. 88 множество различных концепций. Настаивая на необходимости познавательных усилий в этом направлении, Д. Бом справедливо замечает, что «исследование духовного опыта необходимо осуществлять в соответствии с научным духом свободного признания любого факта или интерпретации. Независимо от того, нравится нам это или нет, мы должны рассмотреть факт, а не просто отвергнуть или отказаться от него, как сейчас делают многие»125. Не вдаваясь в подробное рассмотрение всех естественнонаучных концепций, связанных с необычными проявлениями сознания, попробуем в самых общих чертах осуществить попытку их философской интерпретации. Явления ясновидения, телепатии, трансперсональных переживаний и т. д. свидетельствуют о наличии у человека канала внесенсорного восприятия информации. Однако для нас важен вопрос о том, откуда черпается эта информация. Отметим то, что можно констатировать с очевидностью: 1) наличие глубинного уровня реальности, не воспринимаемого обычными органами чувств; 2) характер организации, структура этого уровня реальности существенно отличны от структуры окружающего нас вещественно-материального мира, фиксируемого обычным сознанием и подчиняющегося законам классической механики. Главное отличие, которое с очевидностью обнаруживается в указанных феноменах, – это отсутствие пространственно-временных ограничений, проявляющееся в способности мгновенно получать информацию об объектах, сколь угодно удаленных и отстоящих во времени; 3) сам процесс получения этой информации нерефлексируем и, следовательно, не укладывается в рамки рационально-логического мышления. Тем не менее, эта познавательная процедура все-таки осуществляется, причем не кем иным, как реальным субъектом, человеком и, стало быть, свидетельствует о наличии у человека соответствующих механизмов восприятия. Определенно можно сказать пока только то, что эти механизмы так или иначе связаны с арефлексивным, бытийным уровнем сознания, точнее – с бессознательными глубинами внутреннего мира личности. Некоторое прояснение представлений об указанных механизмах восприятия (внесенсорной информации) дает гипотеза о 125 Бом Д. Наука и духовность: необходимость изменений в культуре // Человек. 1993. № 1. С.12. 89 голографической природе сознания и разрабатываемый в современной науке холономный подход (от греч. holos – весь, полный). Данный подход представляет собой попытку выразить целостность, нерасчлененность мира и является альтернативой конвенциальному пониманию отношений целого и его частей. Открытие холономных принципов стало результатом исследований в области математики, лазерной технологии, голографии, квантоворелятивистской физики, а также в области исследования мозга, которые привели к изменению представлений о реальности. Заметим, что философским предшественником нового понимания мира явилась монадология Готфрида Лейбница. Интересно, что именно Лейбниц разработал математический аппарат, который теперь применяется в голографии. В отличие от механистической картины мира, в основе которой лежат понятия субстанции и взаимодействия, холономный подход выделяет информацию и интерференцию волновых паттернов. Новые объяснительные возможности холономного подхода хорошо видны на примере оптической голографии. Как известно, голография – это трехмерная безлинзовая фотография, способная воспроизводить реалистические образы материальных объектов. Изображение записывается на специальную пластинку в виде полос и пятен, не имеющих ничего общего с изображаемым объектом. Однако, если на пластинку направить под определенным углом луч лазера, то невдалеке от нее в пространстве появится объемное изображение объекта. Голографические изображения показывают подлинные пространственные характеристики, включая достоверный параллакс, то есть возможность изучения изображения под разными углами зрения, в процессе которых раскрываются и обнаруживаются ранее скрытые аспекты. Так, усовершенствованная техника голографии позволяет получить голограмму живого листа и, меняя фокусировку, изучать по ней клеточную структуру под микроскопом. Голография обладает невероятной способностью вмещать информацию. Несколько сотен изображений может быть записано на эмульсионной пленке, где при обычном способе фотографирования поместилась бы только одна картинка. Причем на одной и той же пленке можно получить изображение группы лиц последовательно, при проявлении же ее получается совмещенное изображение всей группы. Однако самое замечательное 90 свойство голографии – это возможность «запоминания» и воспроизведения информации. Оптическая голограмма имеет распределенную память. Это означает, что любая ее малая часть содержит информацию обо всем изображении в целом, то есть, если голографическую пластинку разломить пополам или даже отломить от нее маленький кусочек, то этого окажется достаточно, чтобы при наведении лазерного луча получить полное изображение объекта, хотя четкость изображения при этом снижается. Феномен дистрибутивной памяти имеет огромную значимость для понимания того факта, что у пациентов, находящихся в особых состояниях сознания, появляется доступ к информации практически о любом аспекте Вселенной. Голографический подход позволяет представить, как информация, опосредуемая мозгом, становится доступной каждой его клетке, как генетическая информация о целом организме содержится в каждой отдельной клетке тела. Голографический принцип содержит в себе огромные экспликативные возможности и может быть успешно применен для исследования феноменов человеческого сознания в контексте целостного представления о мире. В частности, он позволяет объяснить природу субъективных образов, возникающих в сознании, как под воздействием внешних предметов, так и в результате творческой деятельности воображения. Ряд ученых, исходя из упоминавшейся выше концепции волновой природы реальности, высказывают предположение, что образы человеческого сознания представляют собой своеобразные голограммы, возникающие в результате «настройки» сознания на тот или иной аспект реальности126. Голографический подход позволяет объяснить и такое потрясающее, несмотря на свою обыденность и привычность, явление, как мгновенное узнавание ранее виденного объекта. Ведь если исходить из традиционного представления о том, что кодирование информации осуществляется в ходе физико-химических процессов на молекулярном уровне, а мозг представляет собой множество системно организованных клеток, «работающих» по принципу специализации, то остается непонятным, почему в случае узнавания, например, знакомого человека, попавшее на сетчатку и в мозг впечатление от этого человека попало именно в ту ячейку памяти, в которой хранился его образ. Мгновенность 126 См. : Дубров А.П., Пушкин В.Н. Указ.соч. С.65–66. 91 узнавания исключает последовательный перебор ячеек памяти. Один из сторонников голографического подхода, известный исследователь парапсихологических явлений В. Пушкин заключает в связи с этим: «Феномен мгновенного узнавания подсказывает, что между той инстанцией, в которую пришло впечатление, и той, в которой хранился образ, существует такое взаимодействие, которое позволяет извлечь материал памяти без его последовательного поиска»127. Существование мгновенного внутримозгового взаимодействия подтверждается работами известного исследователя мозга К. Прибрама. Еще его учитель К. Лешли в экспериментах на крысах обнаружил, что воспоминания хранятся во всех частях коры, а их интенсивность зависит от общего числа ее активных клеток. Лешли высказал идею, что возбуждение миллионов нейронов мозга образует стабильные интерференционные паттерны, рассеянные по всей коре и представляющие базис для всей информации в системах восприятия и памяти. К. Прибрам, пытаясь концептуально объяснить это, пришел к выводу, что модель, основанная на голографических принципах, может объяснить многие из кажущихся таинственными свойств мозга – огромный объем памяти, дистрибутивность памяти, способность сенсорных систем к воображению и т. д.128. В контексте нашего исследования интерес представляет не сам факт обнаружения еще одного механизма внутримозговой структуры, а именно специфика, принцип действия этого механизма: «операции» с информацией осуществляются здесь не на основе механического взаимодействия, а на основе волновых процессов. Еще более существенно, что эти процессы имеют резонансный характер, то есть мозг человека отзывается на вибрации космоса, даже больше – сама активность человеческого мозга (мышление, воображение, интуиция) представляет собой одну из этих вибраций, ее конкретное, персонифицированное выражение. В этом контексте представляется чрезвычайно интересной и значимой выдвинутая А.А. Пелипенко гипотеза полевой природы культуры. «Культура вообще, и локальные культурные системы в частности, – пишет автор, – в глубинной своей онтологии представляют собой полевые образования (структуры) в числе 127 128 Там же. С. 104. См.: Гроф С. За пределами мозга. С. 104. 92 свойств которых – способность к нелокальным взаимодействиям»129. Отдавая себе отчет в том, что данная гипотеза еще недостаточно обоснована, Пелипенко, тем не менее, подчеркивает, что рассуждения о полевых свойствах культуры – не отвлеченная игра ума и схоластическое теоретизирование. «Они подводят нас, – замечает он, – если не к решению, то, по крайней мере, к гипотезе относительно двух исключительно важных проблем. Первая – прямое участие структур ментальности в формировании наличной реальности культуры, вторая – наличие нелокальных каналов трансляции смысловых субстратов культурного опыта. <…> Полумистические образы “духа народа” и т. п. давно не в моде, а разговоры о том, что квинтэссенция культурного опыта “оседает в генах”, не находя научного подтверждения и остаются необязательной метафорой. Обращение к юнговскому объяснению архетипа как результата бесконечно долгого повторения одинаковых мыслей и действий ничего, по сути, не проясняет: остаются неясными как причина, побуждающая человека к этим повторениям, так и “проклятый вопрос” о каналах трансляции. Подозреваю, что в рамках традиционного сциентистского подхода этот вопрос неразрешим вообще. Но, в любом случае, феномен трансперсональности концепт культурного поля прояснить способен»130. В контексте нашего исследования и в связи с предлагаемым здесь определением духовности представляет также интерес трактовка автором стремления человека к трансцендированию как следствие прямого участия в полевых процессах: «Все, что в широком смысле связывается с трансцендированием, имеет прямое отношение к фиксации ментальностью своей вовлеченности в культурно-полевые процессы»131. Заслуживает внимания и высказанная Е.И. Ивановым гипотеза квантовой природы сознания (субъективного), развиваемая им в работе «Материя и субъективность»132. Автор проводит аналогию между «актуально-потенциальной» структурой сферы субъективного и «актуально-потенциальным» бытием квантовых объектов133. В соответствии с этим подходом субъективность 129 Пелипенко А.А. Культура как полевое образование // Человек. 2014, № 2. С. 7. Пелипенко А.А. Культура как полевое образование. С. 12. 131 Пелипенко А.А. Культура как полевое образование. С. 13. 132 См.: Иванов Е.М. Материя и субъективность. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1998. 133 См. приведенные выше рассуждения Ф. Капры о вероятностном характере внутриатомных процессов. 130 93 предстает как целостность, характеризующаяся наличием «наблюдаемых» (актуально переживаемая чувственность) и квантовых («ненаблюдаемых») состояний, представляющих собой волновую функцию или «чистые потенции». «С этой точки зрения, – утверждает автор, – волновая функция, которая как раз и представляет собой описание “чистых потенций” (а также готовности этих потенций к актуализации), – это и есть изображение объективно существующего в природе “идеального” или “внечувственного” начала, аналогичного по своему онтологическому статусу “идеям” Платона»134. Поскольку волновые процессы, в соответствии с положениями квантовой физики, обладают свойством нелокальности (то есть отсутствием стабильной фиксации в одной определенной точке и одновременно присутствием во всех точках пространства), то и сознание человека, если оно обладает волновой природой, потенциально содержит в себе информацию обо всей Вселенной. Предположение об имплицитном присутствии знания о целом в каждой отдельной части, в частности, в сознании отдельной личности, не означает, конечно, что человек может в любой момент по своему желанию извлечь, раскодировать, осознать эту информацию. В подавляющем большинстве она не поддается волевому контролю. Более того, до сих пор не понятны причины и механизмы ее обнаружения в феноменах экстрасенсорного восприятия. И тем не менее, имеющиеся эмпирические материалы свидетельствуют о наличии в сознании человека информации, лежащей за пределами индивидуального человеческого опыта и о возможности ее экстериоризации. Утверждения о том, что каналы передачи этой информации лежат «за пределами мозга», высказываемое некоторыми авторами, является, может быть, не совсем корректными. Речь, очевидно, должна идти об иных – немеханистических способах ее восприятия, хранения и воспроизведения, но несомненно то, что эти процедуры осуществляются не без помощи мозга. Современные исследования деятельности мозга и новые открытия в области физики, биологии и психологии действительно дают основание для более умеренной оценки роли мозга, чем это принято считать. И вот почему. Связь между сознанием и физиологическими процессами в мозге очевидна и 134 Иванов Е.М. Материя и субъективность. С.101. 94 несомненна, однако из этого вовсе не следует, что сознание продуцируется мозгом. С. Гроф проводит удачную аналогию с работой телевизора. Известно, что качество изображения и звука строго зависит от правильной работы всех деталей телеприемника, а их неисправность ведет к искажениям. Тем не менее, никто из нас не увидит в этом научного доказательства того, что программа генерируется в телевизоре, замечает Гроф135. Речь, как видим, идет не об отрицании роли мозга, а о необходимости понимания включенности последнего в более общий, целостный процесс эволюции Вселенной – в противовес ограниченному представлению о мозге как относительно изолированном механизме высшей степени сложности. С этих позиций рассматривает природу деятельности мозга и В. Пушкин. Он выдвинул гипотезу о том, что кодирование отображаемого объекта в мозге осуществляется на волновом языке136, что побудило его обратиться к теории и практике голографии. Проводя аналогию между многослойным строением голографической пластинки и головного мозга, он высказал предположение о том, что построение пространственных свойств объекта при восприятии представляет собой процесс возникновения «некоторой стоячей волны», аналогичной лучу лазера. Следовательно, язык человеческой психики с физической точки зрения представляет собой язык стоячих волн, язык голограмм. «Если принять эту точку зрения, – пишет автор, – то информационные записи на соответствующих молекулах в нервных клетках целесообразно рассматривать как совокупность голограмм, каждая из которых, не будучи еще образом объекта, являет собой основу для возникновения образа: образ может возникнуть при прохождении через записиголограммы некоторого специального подсвечивания, подобно тому, как с помощью лазерного луча подсвечивается пластинка в оптической голографии»137. Однако что или кто осуществляет это «подсвечивание», остается в работе нераскрытым. Что дает нам голографическое понимание субъективных психических образов для объяснения человеческого сознания, и, в частности, для понимания таких его необычных проявлений, 135 Гроф С. За пределами мозга. С. 39. См.: Электропунктура и проблема информационно-энергетической регуляции деятельности человека. М., 1976. С. 170–171. 137 Дубров А.П., Пушкин В.Н. Указ. соч. С. 32–33. 136 95 как телепатия, ясновидение и т. п.? Представляется, что эвристическое значение указанной концепции состоит в том, что она дает возможность объяснить «механизм» передачи информации немеханическим, внесенсорным способом, выявить носитель, «переносчик» этой информации. Таковым и является голографический образ, или голограмма объекта. Поскольку голограмма имеет волновую структуру (образуется в результате интерференции волн), она с необходимостью обладает присущим волновым структурам свойством нелокальности. Реализуя принцип нелокальности в отношении психических образов как голограмм, можно утверждать, что в каждой точке пространства в латентном, скрытом виде присутствуют образы и мысли всех людей (может быть, расхожее выражение «мысль витала в воздухе» не столь аллегорично?). Восприятие этой рассеянной в пространстве информации и обеспечивает возможность ясновидения. Аналогично может быть объяснено и явление телепатии. Почему же эти мысли (содержания) не становятся достоянием всех? Потому что речь идет именно о скрытом, латентном (или, в терминологии Е.М. Иванова, потенциальном) их существовании. Форма их бытия в данном случае аналогична имплицитному порядку в модели Д. Бома, который, в отличие от эксплицитного (явного) порядка, не доступен рефлексивному мышлению и постигается лишь интуитивно, через неизвестные пока каналы восприятия. При этом еще раз подчеркнем, что на этом уровне («семантическая Вселенная») содержания выступают не в дискурсивной, а в континуальной, образной форме. Опыт исследования психики человека показывает, что эти содержания бессознательно воздействуют на поведение людей (коллективное бессознательное). Предположение о голографической природе психических образов и возможности их «выброса» за пределы мозга и человеческого организма вообще находит подтверждение в экспериментальных исследованиях. Врач-психиатр Г. Крохалев проводил экспериментальные исследования галлюцинаций у больных людей и обнаружил, что зрительные галлюцинации могут быть зарегистрированы на фото и кинопленке138. По мнению исследовате138 См.: Крохалев Г.П. Формирование глазом в пространстве зрительных галлюцинаций // Проблемы биоэнергетики организма и стимуляция лазерным излучением. Алма-Ата, 96 ля, глаз формирует в пространстве голографическое изображение образа, возникающего в мозге. Ученый считает, что при зрительных галлюцинациях происходит обратная передача информации от центра зрительного анализатора к периферии с проекцией зрительного образа у сетчатки глаз в пространство. Представляет интерес и зафиксированная учеными в экспериментальных условиях способность Ури Геллера «впечатывать» свое изображение на пленку полностью закрытого фотоаппарата139, а также засветка запечатанной фотопленки с помощью глаз, которая была зафиксирована у Нинель Кулагиной140. Этот необычный и необычайно трудный для понимания факт имеет значение не столько сам по себе, сколько в связи с решением более фундаментального вопроса – о соотношении, точнее, о взаимодействии, взаимозависимости материи и сознания. Зависимость сознания от материальных процессов, протекающих как в организме человека, прежде всего в нервной системе и в головном мозге, так и в окружающем человека предметном мире, очевидна. Но есть ли обратная зависимость? Может ли сознание, воздействуя на материю непосредственно, вызывать в ней соответствующие изменения? Традиционный (отрицательный) ответ на этот вопрос однозначен. В рамках господствующей материалистической парадигмы сознание рассматривается исключительно как эпифеномен нейрофизиологических процессов. Изложенные выше данные научных экспериментов, однако, заставляют подойти к этому вопросу осторожнее. Применение голографических принципов дает возможность так или иначе представить форму субъективных образов, механизм их возникновения, но не отвечает на вопрос о том, откуда эти образы черпают свое содержание. Ясно, что большую, подавляющую часть информации человек получает обычным способом – через сенсорное восприятие и каналы интеллектуального мышления, путем усвоения уже имеющихся в распоряжении общества знаний. Однако данные трансперсональной психологии не позволяют ограничиваться только указанными традиционными каналами познания и свидетельствуют о наличии иных, лежащих за пределами 1976. С. 27; Его же: Фотографирование зрительных галлюцинаций // Материалы 3-го конгресса по психотронике. Токио, 1977. С. 487–489. 139 См.: Геллер У., Плэйфайр Г. Моя история. Эффект Геллера. С. 7. 140 См.: Дубров А.П., Пушкин В.Н. Указ. соч. С. 40. 97 непосредственно воспринимаемого макромира источников информации – некоей скрытой реальности, лишь иногда заявляющей о себе в феноменах паранормальных явлений. Осознание несоразмерности ограниченных познавательных возможностей человеческого индивида и глубины и безмерности тайн, открываемых ему в познании, выразилось в представлениях о некоем Высшем источнике, питающем человеческое сознание и, более того, придающем смысл всему сущему. Они облекались в разную форму и выступали в истории философии в виде различных понятий – от анаксагоровского «нуса», гераклитовского «логоса», платоновского «мира идей» и гегелевского «саморазвивающегося духа» до «потоков сознания» Джемса и «космического сознания» Бёкка141. В современном научном познании эти представления трансформировались в ряде исследований в понятие «информационного поля». Так, секретарь секции общей физики и астрономии АН СССР академик М. Марков, выступая в 1982 г. на президиуме Академии, сказал: «Информационное поле Земли слоисто и структурно напоминает “матрешку”, причем каждый слой связан иерархически с более высокими слоями, вплоть до Абсолюта, и является кроме банка информации еще и регулятивным началом в судьбах людей и человечества»142. Понятие информационного поля весьма условно и не должно рассматриваться по аналогии с физическими полями. Информационное поле – это не хранилище информации, не резервуар, в котором в готовом, оформленном виде пребывают «чистые знания». Как показывают исследования, скрытый, внутренний слой бытия не раскрывается в четко артикулированной дискурсивной форме. Эта скрытая реальность носит континуальный характер и, равносильно тому, как в физической реальности пространство поля в любой своей точке содержит возможность возникновения частиц, реальность, образуемая семантическими полями, содержит в себе возможность понимания – интуитивного схватывания смысла, который лишь потом облекается в четкую дискурсивную форму, приобретает знаковую оболочку. Улавливание, постижение смысла возможно благодаря наличию во внутренней струк141 См.: Бёкк Р.М. Космическое сознание. Исследование эволюции человеческого разума / Перев. с фр. М.: ООО Издательство «София», 2008. 142 Цит. по: Мартынов А.В. Исповедимый путь. М., 1989. С.67. 98 туре личности арефлексивного слоя сознания. Но главное – это угадывание, схватывание неартикулированных, непроясненных содержаний непосредственно зависит от воспринимающего субъекта, предполагает его смыслотворческую деятельность. В отличие от известной принудительности рациональнологического мышления, на уровне интуитивного познания человек не просто усваивает внешне навязываемую ему информацию, но придает ей свой смысл, свое значение – в зависимости от уровня и характера своей собственной воспринимающей способности. Таким образом, прояснение смысла предполагает порождение смысла. Эти два момента, которые могут быть выделены только условно, взаимосвязаны, взаимообусловлены и образуют единство, которое в силу своей фундаментальности может быть понято как онтологическое основание человеческого бытия. Интересны в этом отношении исследования человеческого сознания (точнее, бессознательного), проводившиеся под руководством В. Налимова. Подчеркивая целостность и континуальность бессознательного, ученый предлагает рассматривать последнее как многомерное семантическое пространство – семантическую вселенную, конкретными проекциями которой являются семантические поля в их персонифицированном (связанном с отдельным человеком) проявлении143. Взаимодействие с глубинами сознания носило тематически направленный характер и имело целью выявление семантического потенциала таких экзистенциально значимых для человека слов, как «свобода», «рабство», «достоинство». Участникам эксперимента, достигшим состояния медитации, когда теряется ощущение внешнего мира, своей отдельности, отчужденности от целостности мира, предлагалось почувствовать, пережить, увидеть произнесенное экспериментатором слово – символ. По результатам эксперимента были построены семантические матрицы указанных выше слов, которые показали, что существует некий инвариант семантики предъявленного слова, модификациями которого являются полученные в эксперименте тексты. В большинстве текстов описан новый опыт, не связанный с непосредственным опытом парадигматического сознания нашей 143 См.: Налимов В.В., Дрогалина Ж.А. Вероятностная модель бессознательного. С. 117–118. 99 культуры. В них зафиксировано сознание глубокого прошлого, не выраженного явно в нашей культуре. Этот новый опыт, по мнению авторов эксперимента, носит характер коллективного бессознательного и представлен отчетливыми архетипическими символами. Многие тексты мифологичны. Последнее дало авторам основание предположить, что целевые слова триады – это не только кодовая запись определенный концепций нашей культуры, но также имя мифа, запечатленного в глубинах сознания. В эксперименте реальность мифа из потенциальной переходит в актуальную, становясь конкретно переживаемым опытом состояния сознания с соответствующими психо-соматическими проявлениями. Авторы эксперимента обращают внимание на то, что большинство испытуемых оказались способными к трансценденции. Человек, несмотря на свою погруженность в стереотипы концептуальных построений, оказался готовым к выходу за пределы обычных переживаний в область трансперсонального опыта. Отсюда делается вывод о том, что подобные состояния присущи человеку, хотя и скрыты за слоем парадигматических структур. Описанные опыты являются еще одним подтверждением существования во внутренней структуре человеческой психики содержаний и смыслов, которые, будучи проявлением бессознательного, обнаруживают себя в специфических состояниях сознания. Вместо апофатически звучащего понятия «бессознательное» В. Налимов и Ж. Дрогалина предлагают употреблять для их обозначения термин «семантические поля». «Накопленный сейчас опыт: похожесть измененных состояний сознания, общность символики, в которой отражаются семантические поля, глубокая их архаичность, инвариантность к проявлению культуры настоящего – все это позволяет утверждать, – пишут авторы, – что семантические поля, выступающие перед нами в их персонифицированном проявлении, связанном с каждым человеком в отдельности, оказываются сопричастны человечеству в целом. Углубляя эту мысль, можно прийти к представлению о реальном существовании семантической вселенной»144. Авторы данной концепции раскрывают и механизм взаимосвязи этой «вселенной» с человеческим сознанием. Учитывая, что слова нашего языка имеют две ипостаси: символическую, когда они являются ключами, открывающими вход в бессознатель144 Там же. 100 ное, и дискурсивную, когда они становятся элементами логических конструкций, ученые раскрывают процесс мышления через диалектическое противостояние дискретного и континуального. Все описание в целом дается через раскрытие мира в двух его началах – дискретном и континуальном, при этом полагается, что оба они есть только проявления на самом деле нечленимой семантической вселенной145. Мысль о единящей, конституирующей роли смысла как основы бытия высказал и Д. Бом: «Основной, глубинный источник смысла неуловим и не может быть проявлен, – пишет он. – Углубляя смыслы, мы приближаемся к духовности»146. С указанных позиций фундаментальные основы мироздания не обнаруживают себя в явной – четкой, артикулированной форме, а проявляются в виде индивидуально постигаемых смыслов, которые не могут быть выявлены посредством рефлексивного мышления. Для их постижения необходима особая форма познания – понимание, предполагающее не объективно-отстраненное созерцание внеположенной человеку действительности, а диалог сознаний, имеющий целью обретение единства на уровне бессознательного и достижение изначальной целостности бытия. Диалогичность понимания была замечена еще Эдмундом Гуссерлем147 и стала одним из важнейших «откровений» XX века. Первоначальное одиночество личности, замкнутой в пределах своей субъективности и противостоящей всему остальному миру, постепенно уступило место осознанию диалогичности человеческого существования, развертывающегося не в пустом, безлюдном пространстве эготического конституирования, а в пространстве «между» личностями. Утверждением этой идеи философия обязана, прежде всего, Мартину Буберу. «Человеческий мир, – писал автор диалогической концепции, – в первую очередь характеризуется, собственно, тем, что здесь между существом и существом происходит что-то такое, равное чему нельзя отыскать в природе. Язык для этого “что-то” – лишь знак и медиум. Через 145 Там же. С.120-121. Бом Д. Наука и духовность: необходимость изменений в культуре. С.9. 147 См.: Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология // Вопросы философии. 1992. № 7. 146 101 “что-то” вызывается к жизни всякое духовное деяние. Именно “что-то” делает человека человеком»148. Эта сфера общения между людьми, сфера «между», продолжает автор, является изначальной категорией человеческой действительности. «То, что здесь проявляется, есть нечто онтическое; оно не постигается с помощью психологических понятий, познается не из онтики личной экзистенции, а из того, что обнаруживает себя между двумя трансцендирующими личностями»149. Отмеченное Бубером онтическое начало диалогичности в современном познании приобретает научное обоснование и интерпретируется в различных концепциях бессознательного, одной из которых выступает отмеченная выше гипотеза семантической вселенной. Возможность человеческого понимания, которое, по мнению М. Мамардашвили, есть событие, не имеющее никакой внешней причины, которое может только «случиться»150, есть не просто объединение внешних друг другу жизненных миров. Она фундирована наличием изначального единства, нерасчлененной целостности сознания на дорефлексивном уровне, где субстанцией бытия выступает не разделяющий дискурс, но объединяющий смысл. Для постижения этого смысла оказываются недостаточными и даже несостоятельными традиционные рациональнологические методы, ориентированные на познание внешне наблюдаемого объекта. Ориентация традиционной науки, в том числе психологии, на те содержания и проявления человеческой психики, сознания, которые могут быть объективно зафиксированы приборами, дает в результате обедненный, механизированный образ человека. Что же касается сознания, то так называемые объективные методы его исследования позволяют выявить только его внешнюю форму, оболочку, но не само сознание и потому мало что прибавляют к пониманию действительной сущности человека, его внутреннего мира, его направленности. Как не раз подчеркивал М. Мамардашвили, сущностью сознания является свобода. А свободу нельзя определить внешним по отношению к ней об148 Бубер М. Проблема человека. Перспективы // Лабиринты одиночества. М., 1989., С. 94. 149 150 Бубер М. Проблема человека. Перспективы. С. 95–96. См.: Мамардашвили М.К. Проблема человека в философии. С. 15. 102 разом. Поэтому при объективном изучении сознания мы фактически исследуем границу, очерчиваемую и создающуюся взаимодействием исследователя с сознанием, то есть на самом деле мы исследуем возможное сознание. И что бы мы ни сказали о сознании – не исчерпывает его всего и никогда не есть это сознание, а всегда что-то еще. Сознание существует для объективного наблюдателя только на границе, но в смысловом, «внутреннем» аспекте оно предстает как чистый нуль151. Фундаментальные теоретические исследования в области физики и математики, с одной стороны, и современные исследования, связанные с деятельностью человеческой психики и мозга – с другой, обнаруживают поразительную корреляцию результатов, а именно: наличие в структуре внутреннего духовного мира человека некоего единого принципа, который условно можно было бы назвать принципом монадности, или целостности. Применительно к физической реальности он выражается в таком невероятном для механистического миропонимания свойстве, как нелокальность частиц, то есть способность пространства в любой его точке порождать (или выводить из небытия, точнее – из скрытого, неявного бытия) частицы и, как условие этого, наличие в каждой точке пространства информации о любой его части. Наглядным проявлением этой целостности является голограмма с ее характерным свойством распределенной памяти. Аналогичные свойства обнаруживаются и при исследовании человеческой психики. Результаты эмпирических наблюдений, как было показано выше, содержат многочисленные свидетельства наличия в психике индивида трансперсональных содержаний, включающих в предельном случае информацию обо всем Универсуме. Гипотеза о голографическом характере образов человеческого сознания довершает картину внутреннего единства, целостности мироздания. В свете всего сказанного основа этого единства уже не может мыслиться как вечная и неизменная сущность, материальная субстанция, порождающая все многообразие предметов и явлений чувственно-воспринимаемого мира, в том числе и сознание. По крайней мере, бесспорно, что обнаружение ее (основы единства) возможно только в процессе духовного постижения. Чело151 Мамардашвили М.К. Сознание – это парадоксальность, к которой невозможно привыкнуть //Вопросы философии. 1989. № 7. С.114. 103 век – вот бытие, которому дано обнаружить глубины, скрытые основы всего сущего, постигнуть его сокровенные смыслы. Это проникновение, осуществляющееся в процессе духовного трансцендирования, открывает ему факт поразительного сходства бытийных основ мироздания с его собственным внутренним, духовным миром, факт сопричастности человеческого духа к порождению смыслов бытия. Сказанное, конечно, еще не дает основания для утверждения о духовных основах бытия в целом, однако вполне допускает, и даже заставляет, по-новому осмыслить место и роль сознания, духа в организации Универсума. Во всяком случае, в свете имеющихся данных можно с достаточной долей уверенности утверждать, что традиционное разделение мира на материю и сознание уже не может считаться адекватным действительному положению вещей в мироздании. Сами основы материального мира оказываются лишенными стабильности и представляют собой лишь вероятностные процессы бесконечных взаимодействий и взаимопревращений, а сознание все чаще обнаруживает свою включенность в сеть этих взаимодействий. Однако ни с чем не сравнима роль сознания, духовности в конструировании собственно человеческого бытия, которое никогда не есть только пребывание в вещном мире, но всегда есть осуществление смысла, достигаемое в творческом усилии как ответ на зов трансценденции. Тяжесть, осязаемость и вещественность чувственно воспринимаемого мира, принудительность внеположенных человеку вещей и событий побудило человека признать их господство над собой, их приоритет и стали основанием для целого длительного этапа в эволюции человеческого сознания – этапа самоотчуждения и пленения духа, объективистского, материально-вещественного, механистического отчуждения человеком его собственной сущности (этап нововременного сознания и связанной с ним технократической практики), который на сегодняшний день исчерпал свои возможности. Развитие современного познания все более обнаруживает необходимость нового понимания реальности, диктует человеку необходимость нового самоосмысления. В этой связи уместно напомнить слова Вернера Гейзенберга: «С историческим развитием меняется и структура человеческого мышления. Науки идут вперед не только потому, что нам становятся 104 известны и понятны новые факты, но и потому, что мы все время заново учимся тому, что может означать слово “понимание”»152. Признавая правомерность расширения границ современного, в том числе научного, познания, подчеркнем необходимость осторожного, взвешенного подхода при решении с этих позиций конкретных исследовательских задач. В этом смысле представляется адекватной позиция Н. Мудрагей, которая предлагает различать в структуре рационального «еще-не-рациональное», которое со временем может быть теоретически эксплицировано, и «иррациональное-само-по-себе», которое «неопределимо и рационализировано быть не может». Единственное, что здесь возможно, замечает она, это интуитивное постижение и последующее изложение в понятийной форме, очень несовершенной, неадекватной, но носящей универсальный характер сообщаемости другому153. «Не следует, – пишет автор, – заменять хрустальный дворец разума мрачными подземельями бессознательного, но и не следует исключать иррациональные пласты бытия и человеческого бытия, чтобы не исказить знание о подлинном мире...»154. Утверждение о возможности указанного расширения границ познания не означает отказа от рационализма и тем более призыва к иррационализму. Речь идет лишь о различных типах рациональности155. Ибо, независимо от того, каков источник нашего знания, в конечном итоге – в результате процесса его осмысления – оно всегда представляется в ясно выраженной логической форме – в противном случае оно не могло бы быть сообщено, стать элементом общественного сознания и культуры в целом. Именно в таком виде нетрадиционное знание становится предметом философского осмысления, одна из попыток которого представлена в данной работе. 152 Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое. М.: Наука, 1990. С. 246. Мудрагей Н.С. Рациональное и иррациональное – философская проблема (читая А. Шопенгауэра) // Вопросы философии. 1994. № 9. С. 61. 154 Там же. С.65. 155 Подробнее об этом см.: Степин В.С. Научное познание и ценности техногенной цивилизации // Вопросы философии. 1989. № 10; Швырев В.С. Рациональность как ценность культуры // Вопросы философии. 1992, № 6; его же: Рациональность в современной культуре // Общественные науки и современность. 1997, № 1; его же: Человек и рациональность // Человек. 1997, № 6. 153 105 Осуществленное в первой части работы исследование дает основание для следующих итоговых утверждений. Духовность в самом общем виде, со стороны своей сущности, может быть определена как процесс трансцендирования человеком наличной действительности – непосредственных условий существования и своей собственной животной природы – и стремление к Иному, надприродному, понимаемому как Абслютное. Осуществление выхода за пределы наличного становится возможным, благодаря наличию у человека изначально присущей ему свободы, выступающей не только как специфическое свойство человека, его differentia specifica, но и как предпосылка собственно человеческого существования вообще. Именно наличие свободы обеспечивает человеку возможность состояться как духовное существо. Тесная увязка этих двух феноменов – свободы и духовности, – понимание духовности как способности к преодолению сдерживающих пут материально-природного бытия и вытекающее отсюда утверждение об относительной автономности, независимости духовной жизни индивида позволяют определить дух как бытие свободы. Это, в свою очередь, означает, что духовность как специфический вид существования, как собственно человеческое бытие, не может быть следствием внешних (социальных или иных) воздействий на личность, но всегда есть результат собственного индивидуального усилия. Духовность как актуальное переживание, бытийствование духа в его непосредственной, необъективированной данности обнаруживается только в феноменологии внутренней жизни индивида и требует для своего постижения соответствующих познавательных средств, отличных от методов объективного научного познания, обеспечивающих постижение глубинных уровней бытия. Возможность такого постижения, равно как и сам факт неистребимого стремления человека за пределы наличной действительности, к высшему, совершенному бытию, обусловлена наличием чувственно невоспринимаемой и рационально непостижимой фундаментальной общности, неразложимого единства, некоего «внутреннего порядка», выступающего онтологическим основанием человеческой духовности и обнаруживающегося в духовных интенциях личности. Поиски этого основания, сопровождающие философское познание на протяжении всего его развития, обретают реальную 106 опору в достижениях и открытиях современной науки, которая в своих наиболее фундаментальных выводах все более движется в направлении синтеза строго теоретического, рационального познания и интуитивного постижения мира. Анализ приведенных в работе современных концепций дает основание для предположения о включенности духовных компонент в структуру бытия на уровне его фундаментальных оснований. Важнейшим постулатом данной работы является утверждение о том, что в доступной нам части Универсума бытие духа обнаруживается в человеке и через человека, который в свете приведенных рассуждений выступает уже не просто вторичным, производным элементом социально-природного бытия, но самостоятельным, творящим началом, конституирующим мир в соответствии со своими, собственно человеческим устремлениями, посредством изначально присущей ему свободы. Но что представляют собой эти устремления? Каково содержание духовных интенций личности? Без ответа на эти вопросы характеристика человеческой духовности была бы абстрактной и неполной. Выяснение онтологических оснований человеческой духовности предполагает последующее рассмотрение ее аксиологических аспектов. 107 Раздел II. АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДУХОВНОСТИ Глава IV. ЦЕННОСТИ КАК СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДУХОВНОСТИ Изложенное выше понимание духовности выражает определенное мироощущение человека, его специфический способ выделения себя из окружающего мира, а именно: постоянное, неистребимое обнаружение им своей неумещаемости в мире, недостаточности своего обыденного существования в рамках наличной действительности. Духовность в этом смысле есть зов иного – Высшего, совершенного – мира, побуждающий человека непрестанно преодолевать собственные пределы и стремиться в неизведанное, к некоему Абсолюту. В такой трактовке понятие духовности имплицитно включает в себя оценочный компонент, выражающийся в заинтересованном, пристрастном отношении человека к миру. Ведь неприятие означает не что иное, как отрицание, точнее, неудовлетворенность ценностями этого (вещного, обыденного) мира. Замечательно в этом отношении высказывание Аврелия Августина, приведенное им в «Исповеди»: «Пришли мы к тому, – пишет он о беседе со своей набожной, благочестивой матерью, – что любое удовольствие, доставляемое телесными чувствами, осиянное любым земным светом, не достойно не только сравнения с радостями той жизни, но даже упоминания рядом с ними... Ничтожен за этой беседой показался нам этот мир со всеми его наслаждениями»156. Однако духовность есть не столько отрицание этого мира, сколько предвосхищение иной, более совершенной действительности и стремление к Высшим ценностям и смыслам. Поэтому духовность не может быть понята вне ее аксиологических характеристик, ибо конкретное содержание духовности, как процесса созидания человеком новой, надприродной реальности – собственно человеческого бытия – раскрывается в совокупности абсолютных ценностей, на которые ориентируется человек. Сказанное обуслов156 Августин Аврелий. Исповедь. М., 1992. С.123–124. 108 ливает необходимость рассмотрения исторически конкретных систем ценностей, ориентирующих духовные интенции личности, с тем, чтобы попытаться на этой основе выявить возможные направления духовного развития современного человека. Человек – единственное сущее, знающее о своем существовании и способное противопоставить себя всему остальному миру. В этом осознании противопоставленности он не может не задаваться вопросом: зачем я есть в этом мире, каков смысл моего существования? В зависимости от ответа на этот вопрос он воспринимает все окружающие его вещи – они приобретают для него значение как соучаствующие в реализации этого смысла, играющие в нем ту или иную – положительную или отрицательную – роль. А, стало быть, все, что происходит в этом осмысленном человеком, пронизанном человеческим смыслом существовании, имеет для него определенную ценность, предполагает эмоционально-заинтересованное отношение к миру. Слитность различных аспектов человеческого бытия – непосредственного существования, его осмысления и оценки – оказывается настолько прочной, что во внутреннем восприятии индивида ценности, то или иное ценностное выражение мира отождествляется с самим миром, так что элиминация его из бытийной структуры индивида оказывается практически невозможной. Именно поэтому крушение той или иной конкретной системы ценностей нередко воспринимается человеком как крах самого существования, «раскол» всего мира. Однако является ли указанная деконструкция смысла фатально безысходной? Прояснить данную ситуацию поможет выяснение вопроса о том, насколько существующие (конкретно-исторические) системы ценностей связаны с внутренней сущностью человека, насколько глубоко указанные ценности укоренены в структуре внутреннего мира личности и обусловливают существование последнего как самостоятельной сущности, как автономной сферы существования. Что представляют собой ценности как характеристика человеческого бытия? Можно ли говорить о ценностях «самих по себе», безотносительно к человеческому существованию? Вопрос можно сформулировать и в более общей форме: какова природа ценностей, обладают ли они субстанциональностью? Понятие ценности всегда рассматривалось как соотносительное с челове109 ком – как выражение значимости чего-либо для человека157. Этот подход получил убедительное обоснование в работе Н.Г. Козина, который подчеркивает, что «нечто приобретает ценностное содержание только по отношению к человеку, там и тогда, где и когда проявляет свое значение для его сущности и существования»158. В контексте нашего исследования важно выяснить также и то, чем определяется значение того или иного «нечто» для человека – является ли оно выражением исключительно внутреннего, субъективно ориентированного отношения человека к миру или же определяется некими сверхличностными смыслами? В истории философии можно выделить два подхода к пониманию ценностей. В классической метафизике в соответствии с ее методологическими установками (дихотомия субъекта и объекта, сущности и явления) ценности рассматривались как объективные сущности, выражающие собой предельную степень совершенства и служащие предметом и целью человеческих стремлений, однако существующие независимо от последних как некие высшие регулирующие принципы организации всего существующего в целом. Такова идея Блага в объективном идеализме Платона; понятия Истины, Добра и Красоты в этическом рационализме Сократа; Абсолютная Истина в панлогизме Гегеля. Онтологические и аксиологические аспекты здесь еще не расчленены, соответственно бытие и ценность выступали как тождественные. Платоновские идеи – это не только истинное бытие, но и высшая ценность. То же самое можно сказать о ценностях религии. Христианский Бог воплощает в себе одновременно Истину бытия и высшую ценность. Итак, в классических философских учениях ценностям придавалось значение объективных сущностей. При этом интерпретация их могла быть различной и даже противоположной. В рамках объективно-идеалистической традиции ценности выступают как самостоятельные идеальные начала, существующие независимо от природного, материального мира. В марксистской материалистической философии ценности, напротив, рассматриваются как объективно присутствующая в самих вещах значимость 157 См.: Философская энциклопедия. М., 1970. Т.5. С.462; Аскин Я.Ф., Миронова Р.Е. Проблема ценности в контексте культуры // Общественное сознание и мир человеческих ценностей. Саратов, 1993. С. 87–88 и др. 158 Козин Н.Г. Ценность человека как элемента универсума // Общественное сознание и мир человеческих ценностей. С. 71. 110 того или иного объекта для человека. «По существу все многообразие предметов человеческой деятельности, общественных отношений и включенных в их круг природных явлений может выступать в качестве “предметных ценностей”», – читаем мы в Философском энциклопедическом словаре159. Предметным ценностям противопоставляются в марксистской философии так называемые «субъективные ценности», или «ценности сознания», выражающие совокупность нормативных установок, ориентирующих деятельность человека в ее конкретно-исторических проявлениях. Последние носят, в соответствии с основными методологическими установками диалектического материализма, вторичный, производный характер и определяются объективным содержанием предметных ценностей. В неклассической философии сложился иной подход к пониманию ценностей. После создания Э. Гуссерлем концепции интенциональности стала очевидной опосредствующая роль человеческого сознания, человеческой субъективности в восприятии любого явления. Учитывая это обстоятельство, в понятии бытия стали выделять два элемента: реальность и ценность, что и послужило основанием для возникновения аксиологии как самостоятельной области философского исследования. Ценности стали рассматриваться как выражение направленности субъекта, его заинтересованного отношения к миру. Характеризуя учение Ф. Ницше, М. Хайдеггер писал: «Ценности – это отнюдь не нечто такое, что сначала существовало бы в себе и лишь затем могло бы при случае рассматриваться как точка зрения. Ценность – ценность, пока она признается и значима. А признана и значима она до тех пор, пока полагается как то, в чем все дело. Таким образом, она полагается усмотрением и смотрением на – смотрением на то, с чем приходится, с чем должно считаться»160. С позиций представления о невозможности полной элиминации человеческой субъективности из картины мира, и сам мир предстал как выражение чисто человеческого, оценочного восприятия, как мир человеческих смыслов – не объективно существующий «мир сам по себе», а «мир человека». «Целое сущего как такового... до дна испито людьми. Ибо человек восстав вовнутрь яйности, свойственной ego cogito. По мере восставания все сущее становится 159 160 Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 765. Хайдеггер М. Слова Ницше «Бог мертв» // Вопросы философии. 1990, № 7. С. 153. 111 представанием – предметом. До конца испитое, сущее опрокинуто теперь как объективное вовнутрь присущей субъективности имманентности. Теперь горизонт уже не светится сам собою. Теперь он лишь точка зрения, полагаемая ценностными полаганиями»161, – так характеризует этот подход М. Хайдеггер. После убийственного нигилизма Ницше стало очевидно, что общезначимые ценности перестали быть ориентиром человеческой деятельности – Бог умер! На их место заступает свобода самоопределения отдельной личности, рассматриваемой в аспекте не сущности, а существования. Отныне именно она «окрашивает» мир в свои тона и задает ему ценность и смысл, пользуясь своей неограниченной внутренней свободой. Реальная, непосредственная жизнь отдельного индивида получила в новой философии статус истинного бытия. «Пока вы не живете своей жизнью, – пишет в связи с этим Ж.-П. Сартр, – она ничего собой не представляет, вы сами должны придать ей смысл, а ценность есть не что иное, как этот выбираемый вами смысл»162. А. Камю не просто утверждает значимость для человека чисто человеческих ценностей и смыслов, доступных его пониманию и непосредственно ощутимых, но и провозглашает невозможность постижения какого-либо иного, внеположенного человеку смысла. «Не знаю, – категорично заявляет он, – есть ли у этого мира превосходящий его смысл. Знаю только, что он мне неизвестен, что в данный момент он для меня непостижим. Что может значить для меня значение, лежащее за пределами моего удела? Я способен к пониманию только в человеческих терминах»163. Как видим, для представителей субъективизма ценности есть исключительно выражение чисто человеческого, индивидуально-личностного отношения к миру и потому не имеют никакого объективного денотата, не обладают собственным бытием. Впервые эту мысль четко выразил Ф. Ницше, рассматривавший ценность как точку зрения условий сохранения и возрастания сложных образований с относительной длительностью жизни в пределах становления. С такой постановкой вопроса отчасти можно согласиться. Действительно, ценности есть выраже161 Там же. С.171. Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов. Ф. Ницше. З. Фрейд. Э. Фромм. А. Камю. Ж.-П. Сартр. М.,1989. С. 342. 163 Камю А. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде // Сумерки богов. С. 258. 162 112 ние определенной точки зрения. Можно согласиться и с тем, что это точка зрения условий сохранения и возрастания. Но сохранения и возрастания чего? У Ф. Ницше – это условия сохранения и возрастания жизни во всей совокупности ее животных проявлений. И именно потребность сохранения этих условий жизни побуждает всякое сущее установить господство над этими условиями, подчинить их своей власти. Отсюда – воля к власти как субстанциальная основа всего сущего. Но это – точка зрения человека, который, разуверившись в ценностях разума, отвергает и всю «сферу обитания» разума – область духовного. Ниспровергатель христианской и всякой вообще гуманистической морали знает и слышит только два голоса: голос разума и голос тела, природы, жизни. Разочаровавшись в неосуществимых, запредельных человеческому существованию потусторонних ценностях сверхчувственного мира, обожествляемых разумом, он с неизбежностью отдается мощным действительным, реально ощутимым потокам жизни, которая отныне становится для Ницше новым «местом обитания» ценностей. Таким образом, происходит не просто переоценка ценностей, но меняется сам принцип полагания ценностей, место их «пребывания». Однако в вопросе о природе ценностей позиции философов и здесь существенно различаются. Можно выделить два основных подхода. Первый основан на признании идеальной природы ценностей. Второй связывает понятие ценностей с реальными проявлениями человеческой жизнедеятельности – потребностями, интересами, целями. Так, баденская школа неокантианства (В. Виндельбанд, Г. Риккерт) исходит из признания объективности ценностей, которые хотя и не существуют, но «значат». С точки зрения представителей этого направления ценность – это идеальное бытие, бытие нормы. Будучи идеальными предметами, ценности не зависят от человеческих потребностей и желаний. Идеальность абсолютных ценностей провозглашается и в феноменологической аксиологии Макса Шелера. Ценности мыслятся здесь как объективные феномены, предписывающие человеку нормы долженствования и оценок и образующие особое царство вечных, неизменных и абсолютных сущностей, независимых от исторически изменчивой сферы нравственных явлений («ведь ценность дружбы сама по себе остается надвременной и неизменной, даже если друг оказывается предателем»). Однако 113 существование этих феноменов (ценностей) обнаруживается только в акте человеческого восприятия – эмоциональной интуиции. В этом – отличие аксиологии М. Шелера от изложенного выше подхода классической философии. Философ решительно отвергает взгляд, в соответствии с которым ценность – это только общее (логическое) понятие, результат рационального мышления. В работе «Формализм в этике и материальная этика ценностей» (1916) Шелер утверждал, что бытие какой-нибудь вещи как действительной ценности постигается в эмоциональном, а не в интеллектуальном акте164. В соответствии с установками неклассической философии Шелер противопоставил логике интеллекта логику чувства: место «рационального порядка» классической метафизики занимает у него ordo amoris – порядок любви. По его мнению, существует чистая априорная ценность (независимая от мышления), а также первичное чувство ценности, на котором основано сознание ценности. «Существует вид опыта, предметы которого закрыты для разума, в познании которых он слеп, подобно тому, как ухо или слух слепы для восприятия цвета; это такой вид опыта, в котором мы постигаем подлинно объективные предметы и их предвечный строй, как, например, ценности и их иерархию»165. Вместе с тем Шелер отвергает взгляд, будто ценности существуют лишь постольку, поскольку они чувствуются или могут чувствоваться. «В акте чувствования ценностей сама ценность дана как нечто совершенно отличное от чувствования, и потому исчезновение чувствования не затрагивает ее бытия»166. Сама ценность не есть закон или повеление и, хотя она и не является реальным образованием, все же представляет собой объективное и материальное167 по своему содержанию образование. Высшим проявлением ценностной интенции (направленности) выступает у Шелера любовь. Любовь – это акт восхождения, сопровождающийся мгновенным прозрением высшей ценности объекта. Спе164 Ср.: «Ценность – то, что чувства людей диктуют признать стоящим над всем и к чему можно стремиться, созерцать, относиться с уважением, признанием, почтением» // Краткая философская энциклопедия. М.,1994. С.507. 165 Шелер М. Формализм в этике и материальная этика ценностей // Шелер М. Избранные произведения. М.,1994. С. 343. 166 Там же. 167 Материальность в данном случае имеет значение не «вещности», а реальности эмоционального переживания ценности. 114 цифика любви в том, что она может быть направлена лишь на личность как носителя ценности, но не на ценность как таковую. Человек, по мнению Шелера, обладает неограниченной способностью чувствовать ценности, причем полнота мира его наличных ценностей зависит от развитости нашего чувствования. Причину убогости чувственного мира многих современных людей он видит в ущербности их мировоззрения, связанной с характером современной цивилизации, в ее бездуховности и практицизме, в отсутствии в ней морально-метафизического смысла. Призывая преодолеть узкие рамки структуры переживания ценностей у современного человека, Шелер предлагает положить в основу жизни не предпринимательство, конкуренцию и классовую вражду, а принцип солидарности, и оценивать блага в соответствии с этим принципом, считать наиболее ценными те естественные блага, которыми может пользоваться возможно большее число людей (например, свет и воздух, вода, земля). Философ предлагает и свою иерархию ценностей в порядке их возрастания: ценности приятного и неприятного (гедонистические ценности полезного), витальные ценности, духовные ценности (этические, эстетические и ценности познания), ценности святыни (религиозные ценности, главной среди которых выступает Бог). В философии экзистенциализма основополагающей категорией становится человеческое существование в единстве и целостности всех его проявлений. Антропологизм, даже антропоцентризм, является существенной характеристикой этой философии. Соответственно и критерии ценностей оказываются соразмерными человеческому существованию. Последнее в контексте нового подхода обладает значительной спецификой, отличающей его как от чисто духовного, идеального бытия, не знающего вожделений плоти и ошибок, так и от ничем не ограниченной витальности. Представители экзистенциализма, сделав единицей человеческого бытия непосредственное существование конкретного индивида, личности, вместе с тем преодолели «витализм» «философии жизни», продвинув представления о человеке до понятия экзистенции. Последняя раскрывается здесь как процесс трансцендирования – духовного преодоления условий и границ наличного бытия. Теперь духовность выступает уже в другом статусе – не как чистая рациональность, но как способность к трансценденции. Именно в трансценденции человек преодолева115 ет свою природную ограниченность и односторонность рациональности и оказывается способным постичь истину бытия, стоять «в просвете бытия» (Хайдеггер). Именно в этом стоянии, далеко не тождественном обыденному материально-вещному пребыванию, он способен обнаружить смысл бытия и свое собственное назначение. Поскольку бытие как экзистенция отличается от наличной действительности обыденного существования, система ценностей здесь не может быть задана точкой зрения условий сохранения и развития человека как материально-природного образования, а должна быть так или иначе связана со сферой трансцендентного, испытывать на себе свет открывающегося в состоянии экзистенции истинного бытия. Поэтому условием сохранения и развития человека, понимаемого как бытие экзистенции, является сам процесс трансцендирования, постоянного преодоления наличной действительности и своих собственных границ, а это, в соответствии с принятым нами определением, и есть условие и основная характеристика духовности. Следовательно, система ценностей, ориентирующих человеческое существование в его собственно человеческом – духовном – бытии не может быть «заземлена» – фундирована материально-природными потребностями, и так или иначе связана с областью трансцендентного. А это уже – шаг к новому пониманию и обретению Высших ценностей. Преодолев рационалистически ориентированное представление об объективном существовании надприродных ценностей, экзистенциальная философия не могла полностью элиминировать проблему высших ценностей. Признание интенциональной природы сознания и внутренней духовной жизни индивида в целом не означало фатальной замкнутости человеческого духа на самом себе, а в равной мере содержало возможность ориентации на запредельные реальному человеческому существованию сущности. В отечественной философской литературе все еще продолжают встречаться воззрения, по существу редуцирующие человеческое существование к простому проживанию жизни, а направленность человека – к стремлению к счастью, понимаемому как «осознанное удовлетворение от благой жизни»168. С этой точки зрения ценности могут пониматься только как условия достиже168 См.: Разин А.В. Ценностная ориентация и благо человека // Вестн. Моск. ун-та. Сер.7. Философия. 1996, № 1. С. 77. 116 ния человеком истинного блага. Сама постановка вопроса в целом не вызывает возражений. Однако смысл указанного подхода в значительной степени зависит от трактовки понятия «благо». Последнее же здесь понимается как удовольствие от жизни (как тут не вспомнить «абсолютно счастливого человека» из романа братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу»!). Автор приведенной концепции А. Разин вполне справедливо, на наш взгляд, выступает против объективации понятия ценности, которая, по его мнению, скорее свойственна естественнонаучным представлениям и не дает возможности понять ценностное отношение как субъективно интерпретированное. Однако его собственное решение не достигает поставленной цели: «Философское же представление о том, что есть ценность, по-существу возникает только тогда, когда ставится вопрос о том, потребление каких предметов (выделено мной. – З.Ф.) соответствует истинному назначению человека, отвечает его подлинному благу, природе»169, – пишет он. Точно так же определяет ценность как предмет потребностей В.Ф. Сержантов в работе с примечательным названием «Человек, его природа и смысл бытия»170. Остается только удивляться такому «заземлению» представлений о человеке и его устремлениях. Неужели ценности человека сопряжены только с потреблением, пусть даже соответствующим человеческой природе? Ценность не может быть отождествлена с объектом потребности. Будучи предметом человеческих стремлений, ценность не есть простое выражение необходимости в чем-либо. Понятие ценности выражает значимость для человека тех или иных феноменов действительности. Значимость для чего? Для его (человека) собственного самостояния, для осуществления своей собственной сущности, своего назначения, «назначенности» (А. Павленко). Что-то имеет для меня ценность как условие моего человеческого существования и именно в силу этого является предметом моих стремлений. Это не просто потребность как нудительная необходимость восполнить то, чего не достает, но осознанное оценочное отношение к тому, что значимо для меня как человека, как личности. Поэтому система ценностей личности не может быть отождествлена с системой потребностей и выступает как выражение духовной сущности человека. 169 170 Там же. Сержантов В.Ф. Человек, его природа и смысл бытия. Л.,1990. С. 24. 117 Это не значит, что предметы потребностей и сами потребности полностью исключаются из аксиологической характеристики личности, индифферентны к ней. Они имеют значение, но лишь в аксиологическом аспекте, проинтерпретированные с точки зрения ценностей собственно человеческого существования. Так, продукты питания, рассматриваемые как объект потребностей, вряд ли могут служить существенной характеристикой внутренней сущности индивида, тем более его духовности. Но, приобретая статус самостоятельной ценности, они как бы включаются в структуру внутреннего мира личности, становятся определенным выражением ее сущности. С этой точки зрения, даже простое гурманство – это уже не просто удовлетворение витальной потребности (в пище), но определенный жизненный принцип, сознательное взаимодействие с миром (использование его «даров» для собственного наслаждения) и тем самым декларирование своего отношения к миру («мир для меня – резервуар удовольствий») и, одновременно, определенная самоидентификация, утверждение своей особенности, своей самости, наконец. Однако если говорить о ценностях как специфической характеристике собственно человеческого бытия, то одной лишь аксиологической интерпретации потребностей личности оказывается недостаточно. В подходе А. Разина нет и речи об открытости человеческого существования, о вечной неуспокоенности человека, об ощущении им своей противопоставленности миру законченных предметностей, что и составляет действительную сущность человека, его отличительный признак – наличие духовности. В этом смысле более адекватной представляется концепция «гуманистической этики», создатели которой придают потребностям первостепенное значение в структуре личности. Гуманистическая этика исходит из признания равноправия материальных и духовных, природных и социальных начал в человеке, для нее характерно терпимое, доверительное отношение ко всем сторонам его жизнедеятельности. Так, Абрахам Маслоу строит иерархию потребностей, в которой различаются естественные, социальные и мета-потребности. Автор настаивает на том, что удовлетворение «низших» потребностей является необходимой предпосылкой формирования и удовлетворения более «высоких» потребностей. Реалистичность позиции Маслоу ни в коей мере не означает, что он недооценивает роли духовных детерминант че118 ловеческой деятельности. «Человеческому существу, – пишет он, – чтобы жить и постигать жизнь, необходимы система координат, философия жизни, религия (или заменитель религии), причем они нужны ему почти в той же мере, что и солнечный свет, кальций, любовь»171. Однако он пытается преодолеть абстрактность характерных для классической метафизики систем идеальных ценностей и построить «обоснованную, практически применимую систему именно человеческих ценностей, в которую мы можем верить и служению которой мы можем себя посвятить»172. Иерархия потребностей выстраивается Маслоу таким образом, что развитие личности предстает как последовательное движение от доминирования «низших» к «высшим» потребностям. Все основные потребности рассматриваются им как всего лишь ступени лестницы, ведущей к самоактуализации. Как видим, высшие ценности выступают в гуманистической этике не как внешне заданная, извне навязанная индивиду система, а как возможность осуществления естественной, изнутри самой личности вытекающей потребности в самореализации, в самовыражении внутренней природы человека, реализации его скрытых способностей и потенциальных возможностей. Развивая идеи гуманистической этики и психоанализа, представитель неофрейдизма Эрих Фромм выступает против утверждений об изначально злой, деструктивной природе человека. В частности, он не согласен с трактовкой Фрейдом бессознательного как исключительно негативного, антисоциального, антикультурного феномена, выражающего животную природу человека. Голод и секс принадлежат к сфере выживания, но у человека, утверждает Фромм, есть страсти специфически человеческие и превосходящие функцию выживания: «Таковы уж особенности человека, что его не удовлетворит бытие муравья, что помимо области биологического или материального выживания существует характерная для человека сфера, которую можно назвать превосходящей потребности простого выживания, или надутилитарной… Динамизм человеческой природы, насколько она человечна, изначально коренится скорее в потребности человека реализовать свои способности в отношении к миру, нежели в потребности использовать мир как средство для удовлетворения 171 172 Маслоу А. Психология бытия. М.,1997. С. 191. Там же. С. 250. 119 физиологически необходимого… Человеческие побуждения, насколько они выше утилитарных, представляют собой выражение фундаментальной, специфически человеческой потребности: потребности соотноситься с другим человеком и природой, утверждать себя в этой соотнесенности»173. Нельзя не видеть, что изложенная позиция ограничивается заключением человека в рамки природно-социального. Между тем, духовные ценности как наиболее адекватная характеристика личности всегда имеют трансцендентный характер – не в смысле потусторонности, объективной принадлежности сверхъестественному миру, а в плане внеположенности наличному бытию – как предмет внутренней духовной интенции личности. Духовность в аксиологическом плане обратно пропорциональна степени удовлетворенности человека своим наличным бытием. Она вырастает из осознания того, что ценности внешнего предметного мира не могут удовлетворить всех его притязаний и составить смысл его существования, а потому в своем постоянном и неистребимом стремлении превзойти действительность наличного бытия он интуитивно ориентируется на иные – надприродные духовные ценности, которые, будучи по существу излишеством применительно к обыденной растительно-животной жизни, составляют необходимую основу и стимул собственно человеческого существования. Указанный подход наиболее полно и рельефно выражен в русской религиозно-идеалистической философии, а также в ряде западных учений, в частности, в экзистенциализме. Анализу аксиологических аспектов этих учений, выяснению конкретного содержания, вкладываемого ими в понятие человеческой духовности, и будет посвящена следующая часть нашего исследования. 173 Фромм Э. Человек для самого себя // Психоанализ и этика. М., 1998. С. 382. 120 Глава V. ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ В ЗЕРКАЛЕ ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ Классическая теория ценностей достаточно подробно разработана, а потому основное внимание в нашем исследовании будет уделено аксиологическим аспектам духовности в философских концепциях, отрицающих существование высших, объективных ценностей. Возникает вопрос: можно ли говорить о ценностном отношении к миру применительно к учениям, ориентирующимся исключительно на внутренний мир человека и утверждающим субстанциональность субъекта? Что представляют собой ценности при таком подходе к пониманию мира и человека? Прежде чем ответить на эти вопросы, следует более обстоятельно разобраться в самом понятии субъективизма, точнее, в том, что связывается с этим течением в философии. На первый взгляд может показаться, что субъективизм полностью элиминировал проблему взаимоотношений субъекта и объекта, сохранив в качестве предмета философствования лишь сферу внутренних, субъективных переживаний личности. Однако это не так. Субъективизм вовсе не означает тотального замыкания всех проблем человеческого существования на внутренней жизни индивида. Любой из представителей субъективистской философии прекрасно отдает себе отчет в том, что его существование разворачивается в определенной реальности, которая так или иначе диктует ему свои условия, навязывает себя как данность. И потому экзистенциальные проблемы человека не могут быть решены одной лишь актуализацией внутреннего усилия, одним лишь внутренним изменением личности, самосовершенствованием. Окружающий человека мир, его давящая, принудительная необходимость слишком ощутимы и реальны, чтобы сомневаться в их существовании. «Действительность мира невозможно игнорировать», – констатирует К. Ясперс174. Другое дело – осознание зависимости феноменов этого мира от интенциональной направленности субъекта, от особенностей структуры его внутреннего мира. Осмысление отношений человека с внешним миром, точнее, причин их конфронтации, несовместимости в контексте его внут174 Ясперс К. Духовная ситуация времени // Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991. С. 400. 121 реннего, субъективного восприятия привело к обнаружению двух уровней человеческого существования – внешнего, социального бытия и внутреннего самобытия, представляющего действительную, неизменную основу личности. Внешнее, социальное бытие человека осуществляется в заранее заданных, «навязанных» ему условиях, а роль самого человека сводится здесь к множеству различных функций, каждая из которых есть лишь частичное, внешнее выражение собственной сущности человека, но никогда не есть она сама. Поэтому внешнее, социальное бытие характеризуется в философии экзистенциализма как неподлинное в силу того, что действительная сущность человека, его истинное Я скрыто здесь за внешними, социально обусловленными функциями личности; возможность для подлинного самовыражения человеческой индивидуальности постоянно минимизируются. Наряду с внешним бытием есть и другая форма человеческого существования – бытие собственного внутреннего Я – подлинное самобытие, или экзистенция. Трудности понимания (в том числе самопознания) человека связаны как раз с подавленным, скрытым существованием внутреннего Я. Большинство людей не могут устоять перед искусом анонимного существования, освобождающего человека от ответственности за собственное бытие, и отдаются во власть внешних условий и сил. Эти условия, однако, не будучи выражением действительной сущности человека, со временем обнаруживают свою враждебность, создают угрозу существованию человека как свободного, самоопределяющегося существа, что доказывает справедливость утверждений о том, что человек не есть производное от внешних условий, не исчерпывается своими социальными функциями и ролями, а есть некая уникальная, не сводимая ни к чему самость, ценности сохранения и развития которой и образуют смысл и назначение человеческого существования. Отсюда – идея о недопустимости поглощения личности внешними условиями и необходимости выработки адекватного отношения к миру. Особенно настойчиво ее отстаивал М. Хайдеггер. Как и большинство представителей экзистенциализма, он подвергает резкой критике современную западную цивилизацию с ее порабощающим господством техники и утратой человеком своих корней, своей укорененности в истине бытия. 122 Здесь уместно порассуждать о том, что представляет собой в данном случае «отказ от действительности». Негативизм в отношении к наличному бытию не означает полного отрицания действительности как таковой, как это имело место, например, в религиях, в практике отшельничества и полном презрении к мирской жизни. Более того, Хайдеггер не только различает две формы бытия – истинное и неистинное бытие, но и утверждает равное право обоих на существование. Его протест против техники и технической цивилизации не равнозначен призыву отказаться от ее использования. Философ лишь указывает на необходимость иного – «отрешенного» – отношения к техническим средствам, когда последние лишаются самодовлеющей ценности и рассматриваются как условие собственно человеческого существования. Выработка такого отношения невозможна, по его мнению, на основе рационального, машинного, «вычисляющего мышления», которое не связано с действительной сущностью человека, а само является следствием, выражением Постава (Ge-stell), то есть определенной ориентации человека на мир как нечто заранее исчислимое, причинно обусловленное, подконтрольное и подвластное рационалистической деятельности человека. Это новое отношение к миру современной техники, к «наличному состоянию» требует «осмысляющего раздумья». Страшно на самом деле не то, что мир становится полностью технизированным, подчеркивает М. Хайдеггер, гораздо более жутким является то, что человек не подготовлен к этому изменению мира, что мы еще не способны встретить осмысляюще то, что в сущности лишь начинается в этом веке атома175. В этих словах слышится надежда на возможность иного – нового – осуществления судьбы бытия, когда отстраненное отношение к вещам станет предпосылкой раскрытия и осуществления истинной – духовной – сущности человека. Отрицание внешнего мира в экзистенциализме – это отрицание его самодовлеющей ценности и утверждение ценности человеческого существования. Это признание неполноты и ограниченности любых ценностей природного, материального (в том числе социального) мира и требование свободы для самовыражения личности, никогда не укладывающейся в рамки наличной 175 См.: Хесле В. Философия техники М. Хайдеггера // Философия М. Хайдеггера и современность. М. 1991. С.141–145. 123 действительности. «Человек как отдельный индивид никогда не растворяется полностью в порядке существования, которое оставляет ему бытие только как функцию, необходимую для сохранения целого, – заявляет К. Ясперс. – Если же он хочет свое бытие, он сразу же оказывается в состоянии напряжения между собственным бытием и подлинным самобытием»176. К. Ясперс подчеркивает проблематичность, напряженность человеческого существования, его вынужденность, несмотря на невозможность полной совместимости, гармонии с внешним миром, постоянно совмещать две противоположности – свою собственную самость и бытие-в-мире, свою ничем не определимую свободу и границы «порядка существования». Следовательно, субъективизм в философии экзистенциализма инициирует не отрицание внешнего мира как такового, а более пристальное внимание к взаимоотношениям человека с этим миром, к субъективному бытию человека в мире, к «миру человека». Представители этого направления подчеркнули, что человек на разных уровнях своего бытия, на разных глубинах своего внутреннего мира по-разному связан с окружающей его внешней средой. Только внешней своей стороной, в актах экстериоризации своей субъективности он тесно связан с ней, зависит от нее, а потому выполняет диктуемые ей функции, в известном смысле мимикрирует соответственно задаваемым обществом требованиям и образцам и потому как бы растворяется во внешних условиях, теряет (или «забывает») свое собственное Я. Такой порядок существования до определенного времени может быть удобным, поскольку освобождает человека от ответственности и от необходимости поисков собственной идентичности. Вот почему большинство людей останавливаются на этом – социальном – уровне своей внутренней жизни, добровольно променяв свою единственность, неповторимость на принадлежность к сытому, бездумному большинству, безликому анонимному Мan. Но есть и другая сфера человеческого существования, не зависимая от каких бы то ни было внешних условий и воздействий и выражающая самую сокровенную сущность человеческого Я, его самость, то, что К. Ясперс называет «подлинным самобытием». Выявление, «выступание наружу» этой сокровенной части внутреннего мира не может быть постоянным, не может иметь 176 Ясперс К. Духовная ситуация времени. С. 323–324. 124 место в каждый актуальный момент человеческого существования. Оно обнаруживается в особых бытийных состояниях – в пограничных ситуациях, возникающих часто на грани жизни и смерти, когда человеку открывается жуткая истина о конечности и хрупкости его земного бытия, когда смысл индивидуального существования, его направленность высвечиваются с предельной ясностью, и личность, наконец, обретает самое себя. Это состояние экзистенции. Именно здесь обнаруживается самодостаточность собственно человеческого существования, задающего ценность и смысл всему происходящему в мире. Значение новой субъективистской философии в том, что она не просто осуществила пересмотр устоявшихся ценностей, но совершила коренной переворот – ввела новую «шкалу ценностей», точкой отсчета которой стал человек – отдельный человеческий индивид со всей неповторимой и уникальной значимостью его существования. Отныне достоинство человека стало определяться его способностью противопоставить внешнему миру нечто свое, только человеку присущее и представляющее для него наивысшую ценность – волю к власти, бунт, свой собственный проект бытия и т. д. Переходя к непосредственному рассмотрению ценностных ориентаций западной (экзистенциалистски направленной) философии, выскажем некоторые соображения относительно общей оценки состояния духовной культуры современной западной цивилизации, которая в сознании наших соотечественников нередко принимает односторонне отрицательную направленность. Думается, было бы несправедливо обвинять Запад в тотальной бездуховности. Достаточно остановиться на анализе западной философии, которая безусловно не может быть понята как самодостаточная, изолированная от менталитета общества система, и должна рассматриваться как выражение европейского сознания в целом. Даже беглый взгляд на западную философию обнаруживает, что она не менее, чем русская философия, занята напряженными духовными поисками и, главное, что ее пресловутый пессимизм и безысходность адресуется к обыденной материальной жизни, но никак не к человеческому существованию в целом. Западная философия в силу объективных исторических причин развивается, как правило, в условиях, опережающих развитие России, и потому имеет перед собой иной, только еще 125 предстоящий России, опыт – опыт развращения человека цивилизацией, не оставляющий места для инфантильного оптимизма. К тому же, философский пессимизм не мешает западному обществу создавать в реальной жизни условия, достойные человеческого существования, в то время, как оптимизм и духовность, «просветленность» русской философии от века существует на фоне унизительных и бесчеловечных условий земного прозябания, которые, очевидно, и питают этот оптимизм, так же как сытое, пресыщенное благополучие западного обывателя вызывает отчаяние и страх наиболее мыслящих людей «цивилизованного общества». 1. Одиночество «заброшенного» человека: субъективизм и индивидуализм экзистенциальной философии Так же как и в русской философии, понятие человеческой духовности формируется в результате поисков западными философами истинной сущности, специфики и назначения человека, из противопоставления человеческих устремлений миру обыденности и грубой действительности. «Человек – это дух», – заявляет К. Ясперс. Он подчеркивает способность человека к «парению» над действительностью, к существованию, пусть даже мысленному, в ином – духовном мире. На опосредствующую роль духовности в жизни человека и в восприятии им окружающего мира указывал Э. Кассирер. Систему культуры, порожденной активностью человеческого духа, он называет «символической системой», а человека определяет как Homo simbolicum. «Человек уже не противостоит реальности непосредственно, – замечает философ, – он не сталкивается с ней лицом к лицу. Физическая реальность как бы отдаляется по мере того, как растет символическая активность человека. Вместо того чтобы обратиться к самим вещам, человек постоянно обращен на самого себя. Он настолько погружен в лингвистические формы, художественные образы, мифические символы или религиозные ритуалы, что не может ничего видеть и знать без вмешательства этого искусственного посредника»177. Отсюда – характерный для современного философского самопознания акцент на духовную сущность 177 Кассирер Э. Опыт о человеке: Введение в философию человеческой культуры // Проблема человека в западной философии. С.28–29. 126 человека, с одной стороны, и негативизм в отношении к действительности – с другой. Предпочтение духовной – теоретической, умственной деятельности в противовес обыденной мирской жизни свойственно любой философии, является ее сущностной чертой. Однако характер взаимоотношений этих противоположностей различен. Если античная философия в лице Сократа и Платона, воспевая теоретическую, познавательную деятельность, еще надеется на ее благотворное влияние на общественную жизнь, а античные мудрецы считают возможным и необходимым улучшение действительности, ее приближение к идеальным образцам178, то в экзистенциальной философии XX века отчетливо обнаруживается ощущение безнадежности, полное разочарование в действительности. Единственной точкой опоры для человека, единственной достоверностью оказывается человеческая субъективность, неповторимый внутренний мир отдельной личности, на которую вследствие этого возлагается гигантский груз ответственности за все происходящее с ней – за весь мир в целом. Развитие западной философии в XX веке – это напряженные духовные искания в условиях нарастающей абсурдности человеческого бытия-в-мире. Гамлетовское «распалась связь времен» как нельзя лучше характеризует нарушение единства, связи, гармонии (хотя бы относительной, неполной) между человеком и миром. Это убаюкивающее, «материнское» единство уже не может быть отныне обеспечено ни согревающей общностью полиса (где Я – гражданин, часть целого – общества, государства, космоса), ни связующей горний и дольный миры ролью религии, отдающей человека под покровительство всемогущего Бога. Человек вдруг обнаруживает себя стоящим один на один перед лицом чуждого, непонятного («неразумного») – абсурдного – мира. «Аспект нашего мира в вынужденности его существования и отсутствия опоры в его духовной деятельности, не допускает больше бытия в умиротворенной связи с существующим, – констатирует К. Ясперс. – Человек зависит от себя как единичного в новом смысле: он должен сам помочь себе, если уж он не свободен посредством усвоения всепроникающей субстанции, а свободен в пустоте ничто»179. 178 Достаточно вспомнить неоднократные «опыты» Платона и активное, «уличное» философствование Сократа. 179 Ясперс К. Духовная ситуация времени. С. 377. 127 «Мы одиноки, и нам нет извинений, – вторит ему Ж.-П. Сартр. – Человек осужден быть свободным. Осужден, потому что не сам себя создал; и все-таки свободен, потому что, однажды брошенный в мир, отвечает за все, что делает»180. В отличие от русской философии, чье неприятие действительности основывается на вере в существование более совершенного бытия, в возможность единения с высшим трансцендентным началом – с Богом, европейская философия в поисках опоры для человеческого духа все более отступает в глубины индивидуального внутреннего мира, пока не провозглашает, наконец, отдельную личность, ее субъективность единственной реальностью – претендующим на истинность бытием. Здесь, в глубине человеческой субъективности сосредоточивается теперь весь мир, а также смысл и даже сама возможность существования личности. Но, добравшись до самых корней своего существования, человек с ужасом обнаружил свою единственность и осознал всю безмерность своего одиночества. Ощущение одиночества становится доминантой в мироощущении человека XX века. М. Бубер характеризует это состояние как «космическую и социальную бездомность». «Духовный человек» С. Кьеркегора, будучи включенным в общественную жизнь, ощущает свою субстанциональную «посторонность». Отныне духовность личности и даже сущность человека выступает как «способность вынести одиночество»: «Именно перед тем, кто оказался одинок, раскрывается во всей глубине вопрос о существе человека; именно человеку, который преодолевает свое одиночество и при этом не теряет к нему интереса, указывается путь к ответу на кантовский вопрос «Что есть человек?», – замечает М. Бубер181. Такое понимание характерно и для монологического хайдеггеровского существования (Dasein), и для бытийных конструкций Ж.-П. Сартра и других представителей экзистенциальной философии. Первым провозвестником индивидуализма стал С. Кьеркегор, более других испытавший на себе враждебную непреклонность действительности. То, что в рамках прежнего объективистского сознания представлялось как курьез (Кьеркегор свою «маленькую», личную беду превратил в мировую проблему), стало основополагающим принципом философствования и личностного 180 181 Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм. С. 327. См.: Бубер М. Проблема человека. С. 88–89. 128 миропонимания в XX веке. Полностью отчаявшись в возможности примирения с этим миром, Кьеркегор обращается в сферу духа. Только дух предстает у него уже не как разум, выражающий всеобщую объективную необходимость, а как вера в возможность превзойти действительность, ибо «для Бога все возможно». Эта вера не может быть навязана или подарена извне: источник ее в самом человеке, в глубине его внутреннего мира. Духовность отныне выступает не как область надмирных идеальных сущностей, постигаемых разумом и противостоящих наличному бытию. «Сфера обитания» духовности перемещается теперь «вовнутрь человеческой субъективности» (Хайдеггер), а феномен духовности интерпретируется как одинокое противостояние индивидуального человеческого духа окружающей его чуждой, враждебной действительности. Дух все чаще предстает в иррациональном обличье. Никто не выступает против самоочевидностей разума так резко, как одинокий датский философ. С присущей ему страстностью обрушивается он на провозглашаемую и обожествляемую разумом необходимость. Объективно нет никакой истины, утверждает Кьеркегор. «Мой тезис состоит в том, что субъективность, внутренняя направленность и есть истина... Истина есть страстная субъективность»182. Для Кьеркегора истина, существующая вне и помимо человека, холодно-бесстрастно витающая над конкретным живым индивидом, безразличная к его чувствам и устремлениям, есть не что иное, как чудовище, которое необходимо уничтожить, чудовище, не убив которое, человек не может жить, не может считаться свободным существом, не может осуществить себя. Солидаризируясь с датским философом, Лев Шестов писал: «Пониманием» человек жив не будет. «Понимание» – есть страшная bella, qua non occisa homo non potest vivere. В слезах и проклятьях человека рождается живая сила, которая рано или поздно поможет ему восторжествовать над ненавистным врагом... И это Кьеркегор называет экзистенциальной философией: «безумной борьбой веры за возможность»183. Более осторожный в оценке роли разума К. Ясперс также соглашается с тем, что «объ182 Цит. по: Чухина Л.А. Человек и его ценностный мир в религиозной философии. Рига, 1991. 183 ШестовЛ. Киргегард и экзистенциальная философия. М.,1992. С.103–104. 129 ективного знания всегда недостаточно, ибо оно становится осмысленным лишь посредством того, кто им обладает»184. Отвергая враждебную ему действительность с ее несовершенством и неистинностью, Кьеркегор устремляется внутрь своей собственной субъективности. Там, в ее глубинах, не путем холодного размышления, а страстным усилием веры надеется он обрести истину – подлинное бытие, свободное и ничем не ограниченное. Характеризуя эту сторону экзистенциальной философии, К. Ясперс писал: «Экзистенциальная философия есть использующее все объективное знание, но выходящее за его пределы мышление, посредством которого человек хочет стать самим собой. Это мышление не познает предметы, а проясняет и выявляет бытие в человеке, который так мыслит»185. 2. «Переоценка всех ценностей» Новая субъективистская философия бросает вызов бесчеловечной действительности и вместе с отрицанием объективной необходимости и разумности внешнего мира отказывает ему и в праве быть носителем ценностей, задающих ориентиры человеческой деятельности. «И этот мир, эту суматоху измученных и истерзанных существ, которые живут только тем, что пожирают друг друга; этот мир, где всякое хищное животное представляет собою могилу тысячи других и поддерживает свое существование целым рядом чужих мученических смертей; этот мир, где вместе с познанием возрастает и способность чувствовать горе, способность, которая поэтому в человеке достигает своей высшей степени, и тем высшей, чем он интеллигентнее, этот мир хотели приспособить к лейбницевской системе оптимизма и демонстрировать его как лучший из возможных миров. Нелепость вопиющая!..» – восклицает А. Шопенгауэр186 и противопоставляет оптимистическим утверждениям Г. Лейбница свой неутешительный вывод: «Этот мир – худший из возможных миров»187. 184 Ясперс К. Духовная ситуация времени. С. 386. Там же. С. 387. 186 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление // Избранные произведения. М.,1992. С. 72. 187 Там же. С. 75. 185 130 Индивидуально-личностный и нравственный негативизм в отношении к миру порождает теоретический нигилизм как отрицание всяких объективных, общезначимых ценностей и даже более того – реальности самого мира. Разочаровавшись в целесообразности активной человеческой деятельности и убедившись в недостижимости человеческих стремлений и идеалов, А. Шопенгауэр под влиянием восточной философии, прежде всего буддизма, объявляет материальный мир иллюзией. Действительной основой, субстанцией всего существующего, всех отвратительных проявлений столь ненавистного А. Шопенгауэру мира является, по его мнению, мировая воля – слепое, неразумное стремление, не знающее различия добра и зла и одержимое только одним – своим собственным волением. Но если мир иллюзорен, не стоит тратить усилия на бесплодные попытки его усовершенствования. «Теоретик вселенского пессимизма» призывает человека отказаться от каких бы то ни было побуждений и стремлений. А. Шопенгауэр смиряется под давлением чуждого, неразумного, несправедливого мира, и потому его позиция может характеризоваться как «отказ» – отказ от иллюзорных благ земной жизни, отказ от борьбы за их достижение, за переделывание мира «под себя». Тем не менее пассивный протест А. Шопенгауэра против действительности не означает призыва к полному бездействию, «неделанию»: если мир иллюзия – его невозможно переделать, но можно изменить того, кто предается иллюзиям. Отсюда – этика А. Шопенгауэра. Свое внимание он сосредотачивает на внутренней жизни личности, смысл и содержание которой должны составлять процессы нравственного самосовершенствования человека как единственного существа, осознающего проявления мировой воли и способного обуздать ее негативные воздействия, в предельном случае – убить волю. Протест против бесчеловечности, ханжества и лицемерия социальной жизни подхватывает Ф. Ницше. Но, в отличие от А. Шопенгауэра, он не готов смиряться, более того – он разрабатывает учение о «сверхчеловеке». Обывательскому, мещанскиблагополучному миру с его пошлостью, трусливо прикрывающейся формальным авторитетом Высших (христианских) ценностей, он противопоставил свободную активность сильной личности, определяемой в своем поведении исключительно своими собственными побуждениями – индивидуально выраженной во131 лей к власти, которая в концепции Ф. Ницше выступает субстанциальной основой не только человеческой деятельности, но и всего существующего в целом. Подчеркивая мнимость, иллюзорность изобретенных разумом высших ценностей надприродного мира, Ф. Ницше призывает людей обратить свои взоры на землю, к своей телесности и более широко – к своей самости. Отныне он хочет слышать голос только того бытия, которое достоверно и реально говорит о себе – голос человеческого Я. «Да, это Я и его противоречие и путаница говорит самым правдивым образом о своем бытии, это созидающее, хотящее и оценивающее Я, которое есть мера и ценность вещей. И это самое правдивое бытие – Я – говорит о теле и стремится к телу, даже когда оно творит и предается мечтам... Новой гордости научило меня мое Я, которой учу я людей: не прятать больше головы в песок небесных вещей, а гордо держать ее, земную голову, которая создает смысл земли!» – восклицает Ф. Ницше устами Заратустры188. Воспеваемая Ф. Ницше телесность – это, конечно, не просто чистая животность. Философ постоянно говорит о духе, подчеркивает духовность сверхчеловека. Обвиняя погрязшее в обыденном, животном существовании современное ему общество, он призывает тех немногих, кто еще способен сделать титаническое усилие, обратиться к вершинам Духа. Но дух выступает у него уже не в виде мирового абсолютного Духа, высшего, надмирного Разума, а в качестве атрибута всесильной субстанции – воли к власти – и ее носителя – человеческой телесности. «Пробудившийся, знающий говорит: я – тело, только тело и ничто больше; а душа есть только слово для чего-то в теле»189. «Созидающее тело создало себе дух как длань своей воли», – говорит Заратустра190. Таким образом, духовность у Ницше – это (аналогично воззрениям его предшественника Шопенгауэра) не отвлеченные представления о высших ценностях и смыслах, а способность «свободных умов» осознать субстанциональный характер воли к власти и строить свою жизнь соответственно ее велениям. «Зов» этой мировой субстанции он слышит не в велениях разума, а в настоятельных побуждениях телесности. 188 Ницше Ф. Так говорил Заратустра // Ницше Ф. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 22–23. Там же. С.24. 190 Там же. С.25. 189 132 В известном смысле принятое в данной работе понимание духовности не противоречит позиции Ф. Ницше, ибо для него духовность также вырастает из неприятия обыденной действительности и выражает стремление преодолеть последнюю («Человек есть нечто, что должно превзойти»191). Описывая странствования ставшего свободным ума, Ницше восклицает: «Как хорошо, что он не оставался, подобно изнеженному темному празднолюбцу, всегда «дома», «у себя». Он был вне себя – в этом нет сомнений»192. Философ подчеркивает чуждость, не-принадлежность человека миру только обыденных вещей, тому, что для самодовольного обывателя только и является «домом». Отрицание Высших ценностей, провозглашенное в философии Ф. Ницше, вовсе не было полным нигилизмом, то есть утверждением абсолютного Ничто. Невозможность полного нигилизма кроется в самой специфике человека как единственной формы бытия, способной вопрошать о смысле и соответственно этому смыслу оценивать все существующее. Ориентация на те или иные ценности имплицитно присутствует в любом акте человеческой деятельности. Поэтому место отринутых – оскверненных лживостью и лицемерием буржуазного общества – ценностей с неизбежностью должны были занять новые ценности. В концепции Ницше это ценности ничем не ограниченного в своем волении индивида – «сверхчеловека», «человекобога», который, освободившись от сдерживающих оков сверхчувственного мира и обретя свободу, «волит» одну только собственную волю к власти. Воля к власти и является для него единственным критерием ценности человеческого бытия. В ее непреодолимом стремлении несущественными становятся различия между добром и злом. Человекобог – это уже не античный герой, полубог, действующий в условиях гармоничного космоса и подчиняющийся неумолимому Року, который, будучи по отношению к отдельным людям и даже богам то добрым, то жестоким, в конце концов, все определяет к всеобщему Благу. Деятельность ницшеанского человекобога развертывается уже в условиях абсурдного мира, в котором отсутствует какой-либо высший смысл и общезначимые ценности. «Бог умер!» и стало быть «все дозволено». 191 192 Там же. С.8. Там же. 133 Абсурд равно допускает как добро, так и зло. Поэтому в сфере нравственных критериев философия Ницше маневрирует «на лезвии ножа» и допускает различные жизнеориентирующие выводы и толкования193. Разумеется, Ницше далек от призыва к аморализму. Глубинной основой его учения о сверхчеловеке является протест против «обмельчания» человека, против превращения его в слабое, рабски покорное, ищущее внешней поддержки существо. Отсюда – призыв к жизни с ее непреодолимым стремлением к самоутверждению. «Жизнь для меня тождественна инстинкту роста, власти, накопления сил, упрямого существования», – пишет Ницше194. Заметим еще раз, что в интерпретации Ницше жизнь не означает чистую животность. У Ницше не отрицание духа во имя плоти, но попытка возродить целостного человека во всей его полноте, включая жизненные проявления, очищенные от кастрирующего воздействия ханжеской морали. Речь идет о своеобразном взлете духа, о его способности возвыситься над «слишком человеческим» существованием, преодолеть в себе все мешающее самоосуществлению человека, непрерывному процессу его становления. Его учение о сверхчеловеке лишь на первый, поверхностный взгляд может показаться гимном ничем не ограниченной индивидуальной воле, вероломно подчиняющей своей власти всех и вся. «Повелевать труднее, чем повиноваться», – говорит философ. «Труднее» – стало быть сверхчеловеку приходится что-то преодолевать, быть определенным чем-то. Но это уже зависимость иного – более высокого порядка: «Наше назначение распоряжается нами», – утверждает Ницше195. Следовательно, действительная сущность ницшеанского сверхчеловека состоит в бесконечной цепи самоопределений. Но определение ее происходит теперь не извне, а изнутри – из глубины собственной субъективности человека. «Умерли все Боги, – завершает Ницше первую часть книги “Так говорил Заратустра”, – теперь мы хотим, чтобы жил сверхчеловек»196. По существу ницшеанский сверхчеловек – это человек, способный к полному 193 Развитие действительной истории, политические спекуляции вокруг философских идей Ницше подтвердили опасную двойственность такой позиции. 194 Ницше Ф. Так говорил Заратустра. С. 82. 195 Ницше Ф. Человеческое, слишком человеческое // Ницше Ф. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т.1. С. 237. 196 Ницше Ф. Так говорил Заратустра. С. 57. 134 самоопределению, что, безусловно, является высшей формой самовыражения и самопроявления сущего. Характеризуя эту сторону философии Ницше, М. Хайдеггер подчеркивал: «Сущность сверхчеловека – это не охранная грамота для буйствующего произвола. Это основанный в самом же бытии закон длинной цепи величайших самоопределений...»197. В самом деле, философия Ницше чудесным образом соединяет в себе страстные призывы к восстановлению утраченных прав жизненных, дионисийских начал в человеческом существовании с пафосом высокой духовности, свойственной тем, кто, преодолев в себе все «слишком человеческое», способен вынести груз неограниченной власти, ибо «повелевать труднее, чем повиноваться». Определяя человека как то, что следует преодолеть, Ницше вовсе не имеет в виду полную бесконтрольность и произвол сверхчеловека, отказ от каких бы то ни было ограничений, но призывает к достижению той «зрелой свободы духа, которая в одинаковой мере есть и самообладание, и дисциплина сердца...»198. Эта свободная воля как бы говорит человеку: «Ты должен был стать господином над собой, господином и над собственными добродетелями. Прежде они были твоими господами; но они могут быть только твоими орудиями наряду с другими орудиями. Ты должен был приобрести власть над своими “за” и “против” и научиться выдвигать и снова прятать их, смотря по твоей высшей цели»199. Такая высота доступна лишь немногим – отсюда крайний аристократизм ницшеанства, презрение к «толпе», а вслед за последней и неизменный спутник всех избранных – одиночество: одинокое противостояние всему привычному, общепризнанному, дозволенному. 3. Философия А. Камю: мужество бунтующего человека Нигилистический субъективизм Ницше подхвачен философами – экзистенциалистами. Для них также нет объективного, внечеловеческого мира, обладающего собственным, внеположен197 Хайдеггер М. Слова Ницше «Бог мертв». С. 167. Ницше Ф. Человеческое, слишком человеческое. С.235. 199 Там же. С.237. 198 135 ным человеку смыслом, нет Высших ценностей, есть только непосредственная достоверная реальность – человек, пребывающий, точнее, добровольно принимающий жизнь в этом мире (выбирающий существование) и потому самостоятельно устанавливающий ценности своего бытия. Очутившись в молчащей, пустой Вселенной, человек с ужасом осознал, что спасительная идея о временности и неокончательности земного пребывания человека и надежда на установление вечной гармонии, Высших, непреходящих ценностей, задающих смысл индивидуальной человеческой жизни, есть не что иное, как заблуждение, точнее, уловка хитроумного разума200 и в мире нет ничего, кроме этой молчащей пустоты и одиноко противостоящего ей человека. Ощущение абсурдности бытия становится определяющей чертой западноевропейского менталитета. В этих условиях философия ставит перед собой задачи, принципиально от тех, которые характерны для классической метафизики с ее стремлением объяснять, выявлять сущность вещей и бытия в целом. Представители философии экзистенциализма, напротив, главную свою цель видели в том, чтобы помочь реальному человеку выжить, сохранить свое Я, сориентироваться в условиях непонятного, абсурдного, бесчеловечного мира, обрести в нем свой, индивидуальный, смысл. Защищая правомерность нового подхода, Л. Шестов подчеркивает его действенность и гуманизм, противостоящий «рабской покорности» рационализма. «Умозрительная философия, – пишет он, – “объясняет” зло, но объясненное зло не только сохраняется, оно оправдывается в своей необходимости, приемлется и превращается в вечное начало. Экзистенциальная философия выходит за пределы “объяснений”, экзистенциальная философия в “объяснениях” видит своего злейшего врага. Зло нельзя объяснять, зло нельзя “принимать” и договариваться с ним, как нельзя принимать грех и договариваться с грехом: зло можно и должно только истреблять»201. Понятие духовности покидает абстрактно-безличные сферы надмирового духа и все больше сосредотачивается в глубинах человеческой индивидуальности, придавая одиноко пребывающему в чуждом мире человеческому духу характер страстной ве200 «Разум служит успокоительным средством для современной тревоги, воздвигая все те же декорации вечности», – замечает Камю (см.: Камю А. Миф о Сизифе. С. 256). 201 Шестов Л. Киргегард и экзистенциальная философия. С. 231. 136 ры в возможность победы в этом противостоянии. Вопреки всем упрекам в пессимизме и упадничестве западной философии, она сплошь пронизана мужественным упрямством одинокого, «заброшенного» человека, осознающего свою заброшенность и тем не менее готового вынести на себе гигантский груз бытия. «Ни с чем не сравнимо зрелище человеческой гордыни, – восхищенно восклицает А. Камю. – Понятно, почему всеобъясняющие доктрины ослабляют меня. Они снимают с меня груз моей собственной жизни: но я должен найти его в полном одиночестве»202. Центральной темой философского эссе А. Камю «Миф о Сизифе» становится проблема самоубийства: стоит ли жить в этом абсурдном мире, заранее зная, что все человеческие стремления имеют своим неизбежным концом исчезновение, гибель, небытие – смерть? В поисках ответа на этот вопрос автор подвергает тщательному исследованию абсурд как данность феноменологического опыта – со всей его ясностью и достоверностью. В соответствии с субъективистскими установками нового мировоззрения, понятие абсурда переносится из сферы объективного бытия мира в область взаимоотношений человека и мира, в структуру человеческого миропонимания. «Сам по себе мир, – утверждает А. Камю, – просто неразумен, и это все, что о нем можно сказать. Абсурдно столкновение между иррациональностью и исступленным желанием ясности, зов которого отдается в самых глубинах человеческой души»203. Но как показывает опыт, претензии разума на достижение вожделенной ясности несостоятельны, о чем и свидетельствует феноменологическая достоверность абсурда. Осознание этого обстоятельства заставляет Камю по-новому оценить возможности разума и соответственно определить границы возможностей человеческой деятельности. «Абсурд четко устанавливает свои пределы, – пишет он, – поскольку разум бессилен унять его тревогу. Абсурд – это ясный разум, осознающий свои пределы»204. Характеризуя эту новую позицию, Камю в афористичной форме поясняет, что человек до сих пор стремился излечиться от недуга (избавиться от чувства абсурда), в то время как более целесообразно для него научиться жить со своими болезнями. 202 Камю А. Миф о Сизифе. С. 260–261. Там же. С. 236. 204 Там же. С. 256. 203 137 Иными словами – признать неутешительную истину о конечности и бессмысленности человеческого существования. Величие человека, по мнению философа, как раз и заключается в том, что он сознательно принимает вызов абсурдной действительности и противопоставляет ее бессмысленности бунт как добровольное решение «жить не подлежащей обжалованию жизнью». Бунт трактуется здесь не в социальном смысле, как протест против бесчеловечных условий существования, а как феномен индивидуально-личностного опыта – как, несмотря на бессмысленность существования, «постоянная данность человека самому себе», «непрерывная конфронтация человека с таящимся в нем мраком». Этот бунт придает жизни цену. Становясь равным по длительности всему существованию, бунт восстанавливает его величие. Для человека без шор нет зрелища прекраснее, чем борьба интеллекта с превосходящей его реальностью. Сравнивая человеческую жизнь с деятельностью Сизифа, снова и снова предпринимающего попытки ценой невероятных усилий водрузить на вершину горы камень, который с неизбежностью свалится к подножью, Камю восторженно замечает: «Одной борьбы за вершину достаточно, чтобы заполнить сердце человека», – и делает парадоксальный, на первый взгляд, вывод: «Сизифа следует представлять себе счастливым»205. Налицо явная переоценка ценностей. В условиях абсурда с его иррациональностью и безразличием нет иной точки отсчета ценностей, кроме самого человека. Единственной целесообразностью является только само существование. Любые оценочные суждения, вследствие отсутствия единого общезначимого критерия (шкалы ценностей), теряют здесь свой смысл. «Что значит жить в такой вселенной? – задается вопросом Камю. – Ничего, кроме безразличия к будущему и желания исчерпать все, что дано». Настоящее – таков идеал абсурдного человека. Переживать свою жизнь, свой бунт, свою свободу как можно полнее, а потому «в счет идет не лучшая, а долгая жизнь. И мне безразлично, вульгарна эта жизнь или отвратительна, изящна или достойна сожаления. Такого рода ценностные суждения раз и навсегда устраняются, уступая место суждениям фактическим... Такую жизнь 205 Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство. М., 1990. С. 92. 138 считают несовместимой с правилами чести, но подлинная честность требует от меня бесчестия»206. Но отсюда только один шаг к пресловутому «все дозволено!». Отказ от общезначимых ценностей, вытекающий из рассуждений Камю об абсурде, приводит его, вслед за Ницше, к нравственному релятивизму («можно лечить от проказы, а можно сжигать в газовых камерах»). Осмысливая последствия такого подхода, Камю уже в другой своей работе вынужден констатировать, что из чувства абсурда невозможно извлечь никакого правила действия, даже убийство воспринимается здесь в лучшем случае безразлично и, следовательно, становится допустимым. Если ни во что не веришь, если ни в чем не видишь смысла и не можешь утверждать какую-либо ценность – все дозволено и не имеет значения. Нет доводов «за» и «против», и убийцу невозможно ни осудить, ни оправдать. Добродетель и злой умысел становятся делом случая или каприза. Подобные выводы могли бы быть допустимыми, если бы они оставались исключительно в области метафизических рассуждений. Но, независимо от позиции их автора, они проникают в реальную жизнь и, будучи идеологической основой практической деятельности, могут косвенно стать оправданием чудовищных преступлений против человека и человечности. Необходимо отметить, что весь философский нигилизм (точнее, его нравственная допустимость) держится на высоте нравственных и духовных позиций самих философствующих (кстати, это осознавалось авторами изложенных концепций, что выражалось в постоянном подчеркивании ими элитарности своих учений). Для Ницше неограниченность индивидуальной воли – это лишь способность к самоопределению и бремя повелевания. Для Камю этический релятивизм индивидуального человеческого существования не означает призыва к аморализму, а «оправдание», точнее, объяснение убийства не означает призыва убивать. Но действительная история (ужасы мировых войн, революций и т. д.) заставила многих философов переосмыслить основные посылки субъективизма в контексте взаимоотношений автора и его идей – возможности их политической интерпретации и практического осуществления. В годы второй мировой войны Томас Манн призывал интеллектуалов поставить крест на утонченном иммо206 Там же. С. 56–57. 139 рализме: «Время заострило нам совесть, показав, что у мысли есть обязательства перед жизнью и действительностью, обязательства, которые очень скверно исполняются, когда дух совершает харакири ради жизни... Дух явно вступает сегодня в нравственную эпоху, эпоху нового нравственного и религиозного различения добра и зла»207. Как справедливо заметил А. Руткевич, Ницше мог яростно обличать «каналью Сократа» в то время, когда Высшие ценности оторвались от жизни и были опошлены мещанским лицемерием. Но сегодня, когда эпоха угрожает отрицанием всякой культуры, именно эти ценности нуждаются в защите, а Ницше рискует обрести такую победу, какой он и сам не желал208. В отличие от Ф. Ницше, А. Камю был не пророком, а очевидцем той цивилизации, которая сделала ницшеанское «все дозволено» расхожей монетой. Это заставило Камю переосмыслить свои представления о смысле человеческого существования и сделать шаг в направлении преодоления первоначальной замкнутости, «герметичности» субъективизма с его этическим релятивизмом. В первый период своей деятельности, который можно назвать «философией абсурда», Камю, вдохновленный идеей неограниченной свободы индивида, мужественно противостоящего безнадежности своего конечного бытия, провозглашает только две ценности: ясность видения и полноту переживания. Любые утверждения о существовании трансцендентного порядка он называет «философским самоубийством» и характеризует их как «уклонение» – уклонение от страшной и жестокой истины о конечности человеческого существования. И потому он выдвигает требование ясности видения, которая означает для него честность человека перед самим собой, верность непосредственному опыту (очевидности абсурда), в который нельзя ничего привносить сверх данного. Предваряя свое «Эссе об абсурде», Камю замечает: «Здесь вы найдете только чистое описание болезни духа, к которому пока не примешаны ни метафизика, ни вера»209. Обращает на себя внимание слово «пока» – Камю уже тогда отдавал себе отчет в том, что человеческое существование не сводится к простому проживанию жизни, и потому задача фило207 Манн Г. Эпоха. Жизнь. Творчество. М., 1988. С. 330–331. Руткевич А. Философия А. Камю // Камю А. Бунтующий человек. С. 16. 209 Камю А. Миф о Сизифе. С. 222. 208 140 софии не исчерпывается феноменологической установкой, но прежде всего подразумевает отыскание смысла. И если «Миф о Сизифе» единственной ценностью, придающей смысл человеческому существованию, провозглашает полноту переживания, где качество жизни заменяется количеством индивидуального опыта, то под влиянием событий мировой истории XX века, прежде всего своего непосредственного участия в движении Сопротивления, он вынужден признать жизнеориентирующую роль общечеловеческих ценностей, ограничивающих субъективный произвол человека, и призывает «никогда больше не покоряться мечу, никогда более не признавать силу, которая не служит духу»210. В «Бунтующем человеке», основная проблема которого уже не самоубийство, а убийство, он утверждает, что абсурд запрещает не только самоубийство, но и убийство, поскольку покушение на себе подобного означает покушение на уникальный источник смысла, каковым является жизнь каждого человека. В «Мифе о Сизифе» бунт придавал цену индивидуальной жизни; в «Бунтующем человеке» из понятий абсурда и бунта рождается уже не индивидуалистический мятеж, а требование человеческой солидарности, общего для всех людей смысла существования. Заметим эту эволюцию – от индетерминированности одинокого индивидуального существования к солидарности и всеобщему смыслу. Наиболее рельефно указанные противоречия (между философскими принципами и задачами реальной социальной жизни индивида) проявились в позиции другого представителя экзистенциализма – Ж.-П. Сартра. 4. Свобода и ответственность в философии Ж.-П. Сартра Весь пафос сартровского экзистенциализма можно, не боясь преувеличения, выразить одним словом: «свобода». Никто так ясно и недвусмысленно, как Сартр, не заявляет об абсолютной свободе индивида, свободе, сохраняющейся во всех без исключения жизненных ситуациях, включая рабство, плен и даже осуждение на смерть. Так понимаемая свобода имеет своим теоретическим основанием тезис об онтологическом одиночестве человека и отсутствии каких бы то ни было внешних определений и 210 Руткевич А. Философия А. Камю. С. 24. 141 опор человеческой экзистенции. Этот неутешительный вывод не есть плод произвольных построений философа, но является результатом мучительных попыток постижения сущности и назначения человеческого существования в условиях разлада между миром и человеком, попыток обретения смысла бытия. В этих поисках Сартр стремится обнаружить опоры человеческого существования, на которых может быть построено здание истинного бытия. Сначала он обращается к теории интенциональности, которая привлекает его тем, что реабилитирует реальный мир. Но возвращение ощутимой реальности мира порождает новую проблему: растворившись в интенции, сознание, Я теряет свое содержание, основательность и предстает как абсолютно прозрачный светоносный «эфир», в котором и являет себя мир. Стремление обрести надежность «бытия-в-себе» оказывается для человеческой экзистенции «напрасной страстью», поскольку «для-себя» не может быть синтезировано с вещью, объектом, ибо в этом случае возможен только один результат – аннигиляция экзистенции как непрерывного процесса трансцендирования. Отсюда – конфликт как онтологическая характеристика отношений человека и мира. Сартр предпринимает еще одну попытку обрести бытийную основу человеческой экзистенции – путем введения модуса «бытия-для-другого». Но и она оканчивается безрезультатно. Наличие других экзистенций рассматривается Сартром в соответствии с его методологическими посылками как данность: «Другого встречают, его не конституируют». Присутствие этого другого обнаруживает пугающую для всякой субъективности возможность, а именно: превращение моего Я, моего существования в объект, в вещь. «Мною владеет другой, – обреченно замечает Сартр, – взгляд другого манипулирует моим телом в его обнаженности, заставляет его явиться на свет, вылепливает его, извлекает его из неопределенности, видит его так, как я его никогда не увижу. Другой владеет тайной: тайной того, чем я являюсь»211. И между тем философ отдает себе отчет в том, что экзистенция нуждается в этом взгляде со стороны, объективирующем неуловимость моей субъективности. Ибо другой – это не только «похи211 Сартр Ж.-П. Первичное отношение к другому: любовь, язык, мазохизм // Проблема человека в западной философии. С. 207. 142 титель моего бытия», но и тот, благодаря которому «имеется» мое бытие. Это приводит Сартра к ошеломляющему выводу: «Я ответственен за свое бытие-для-другого, но сам не являюсь его основой»212. Отношения между двумя экзистенциями конфликтны и противоречивы, поскольку, пытаясь отвоевать мое собственное бытие и поставить его на основание моей собственной свободы, я могу сделать это только путем присвоения свободы другого. Поэтому Сартр не допускает возможности полного единения с другим при сохранении инаковости обоих. Не является для него исключением и любовь. Желание быть любимым равносильно для Сартра «заражению» другого своей собственной фактичностью, равносильно желанию заставить его постоянно воссоздавать любимого как условие своей свободы, свободно подчиняющей и обязывающей себя. «Если бы такой результат мог бы быть достигнут, – замечет автор, – то я оказался бы прежде всего обеспечен со стороны сознания Другого, стал бы непревосходимым, т. е. оказался бы абсолютной целью и тем самым был бы спасен от употребимости»213. Но такое проецирование неизбежно ведет к конфликту, ибо любимый не склонен желать для себя влюбленности (пленения), он стремится лишь быть любимым. Отсюда – новое противоречие и новый конфликт: каждый из любящих – в полной мере пленник другого, поскольку захвачен желанием заставить его любить себя, отвергая всех прочих. «Проблема моего бытия-для-другого остается, поэтому, нерешенной, любящие остаются существовать каждый для себя в своей тотальной субъективности; ничто не приходит им на выручку, никто не избавляет их от обязанности поддерживать свое для-себя-бытие; ничто не снимает их случайности и не спасает их от фактичности»214. В этом исследовании самой сокровенной области человеческих отношений, таящей в себе наиболее существенные возможности для проявления человеческой сущности, Сартр в полном соответствии с его методологическими установками сохраняет тезис о безосновности экзистенции. Любовь, являющаяся для многих других единственной опорой человеческого существования, лишается в интерпретации 212 Там же. С.207–208. Там же. С.214. 214 Там же. С.224. 213 143 Сартра этой важнейшей функции: последовательно осуществленный теоретический субъективизм разрушил последний мираж на пути ищущего опоры одиночества. Отчаяние – единственное следствие такого подхода. Если индивид онтологически одинок, если на границе всех его стремлений оказывается лишь безмолвное Ничто, он обречен задыхаться в своей собственной субъективности, которая нигде, ни в чем, ни в ком не может найти опоры и смысла. Ибо даже самоутверждение человеческого Я осуществляется только через свое другое, через Другого. Но если этот Другой – такой же индивидуально-замкнутый, единственный субъект, однопорядковый моему Я, то он не может быть искомой, желанной основой моего самоутверждения. Он – такой же как я, ищущий опоры. Эта искомая опора может быть заключена только в ином, трансцендентном моему индивидуальному существованию, бытии, частицей которого ощущает себя всякий, открывший для себя это бытие и предугадывающий его смысл. Однако Сартр не слышит голоса трансценденции. Отсюда – его ощущение скорбного одиночества и покинутости, отсутствия каких бы то ни было опор и – обратная сторона одиночества – бремя неограниченной свободы и равной ей по величине ответственности за свое бытие и за все, что происходит в этом мире. Но раз так – что может быть ориентиром моей деятельности? Существуют ли такие ценности, которые я должен принять как абсолютные? Кто способен задать мне эти ценности? Вся логика экзистенциальной онтологии Сартра подводит к негативизму и нигилизму в отношении общезначимости морали и правомерности «Высших ценностей». В конце своего трактата «Бытие и Ничто» Сартр пишет: «Онтология и экзистенциальный психоанализ... должны открыть субъекту морали, что он и есть то бытие, посредством которого существуют ценности»215. Но субъективизм Сартра – особого рода. Он далек от того, чтобы редуцировать все многообразие мира к феноменам сознания, конституирующего мир изнутри своей собственной субстанциональности. Напротив, данность мира сознанию он рассматривает как навязываемую индивиду необходимость. Но вместе с тем он чувствует непреодолимую грань между миром вещей-в215 Цит. по: Рыкунов В.М. Свет и тень философии Сартра // Вестн. Моск. ун-та. Сер.7. Философия. 1990. № 6. С.45. 144 себе и бытием-для-себя, чуждость внешнего мира человеческой экзистенции. Поэтому ничто в мире не представляет для него ценности. Скорее наоборот, мир выступает у Сартра как липкая антиценность, навязывающая себя человеку и таящая в себе опасность поглощения, растворения индивида («прикасаться к липкому – это риск растворить себя в нем»). Единственной ценностью при таком подходе выступает свобода, бытие-для-себя, экзистенция. Своеобразно трактуя принцип интенциональности, Сартр, в отличие от Гуссерля, утверждавшего существование трансцендентальной субъективности как основы всякого интендирования, рассматривает субстанцию человеческого Я как начисто лишенную какого-либо содержания и потому выступающую как чистое Ничто. Единственной ее характеристикой является негативизм в отношении к вещам внешнего мира, к бытию-в-себе, которые своей законченностью и самодостаточностью вызывают у Сартра непреодолимое отвращение, «тошноту». Именно отсутствие заранее заданного содержания бытия-для-себя обусловливает абсолютную свободу экзистенции, суть которой состоит в возможности заполнить пустоту Ничто. Отсюда – основополагающий тезис Сартра: человек – проект своего бытия. Из онтологической негативности «для-себя» вытекает важнейший атрибут человеческой реальности – «нехватка бытия», стремление к полноте бытия, «проект быть в-себе-для-себя», то есть синтезировать признаки обоих противоположностей – свободы и автономности бытия-в-себе. «Вся человеческая реальность, – пишет Сартр, – есть страсть, проект потерять себя, чтобы обосновать бытие и тем самым конструировать В-себе, которое исключает случайность, будучи своим собственным основанием, Причиной самой себя, которую религии именуют Богом... Но идея Бога противоречива и мы теряем себя напрасно; человек есть тщетное влечение»216. Здесь выражена существенная особенность сартровского понимания человека. Собственно человеческое для него – это не столько констатация того, что есть, сколько его преодоление, трансцендирование (обратим внимание на сходство сартровского понимания с принятым в данной работе подходом к определению духовности). Но, повторим опять во216 Цит. по: Киссель М.А. Дороги свободы Ж.-П. Сартра // Вопросы философии. 1994, № 11. С. 177. 145 прос М. Мамардашвили, трансцендирование к чему? Для Сартра ответ на него однозначен: «Человек – это напрасная страсть» – и, следовательно, есть процесс трансцендирования, но нет трансцендентного. Есть только две реальности – реальность человеческой экзистенции с ее негацией в отношении к миру и сама принудительная данность этого мира, который не оставляет никакой надежды. Можно ли жить в таком мире при ясном свете онтологического самосознания? Этот вопрос, аналогично размышлениям Камю, приобрел для Сартра практическое жизненное значение. Однако при сходстве онтологических посылок (абсурдность всех человеческих предприятий) Сартр занимает несколько иную социальную позицию. Он выбирает борьбу за изменение ситуации. Отдавая себе отчет в том, что человек вынужден «действовать без надежды», что «никакой бог и никакое провидение не могут приспособить мир и его возможности к моей воле», философ, тем не менее, восклицает: «Значит ли это, что я должен предаться бездействию? Нет... Просто я, не питая иллюзий, буду делать то, что смогу»217. Как бы полемизируя с Камю, Сартр в одной из своих пьес пишет: «Мир несправедлив; раз ты его приемлешь – значит становишься сообщником, а захочешь изменить – станешь палачом»218. Сартр сделал выбор в пользу изменения мира. В открытом письме Камю в 1952 г. он заявил: «Наша свобода сегодня есть не что иное, как свободный выбор борьбы за то, чтобы стать свободным»219. В период своей философской деятельности до второй мировой войны Сартр придает свободе абсолютный характер, поскольку она понимается им исключительно как внутреннее, субъективное определение человека. Это не означает, что он не признает роли внешних условий в деятельности индивида. Напротив, свобода, по его мнению, имеет смысл только тогда, когда существуют ее ограничения, то есть в определенной ситуации, требующей преодоления. Однако ситуация служит для Сартра лишь условием осуществления свободы индивида: человек не в силах изменить ситуацию, но в его воле выработать свое отношение к ней и тем самым «выстроить» ситуацию в соответствии со своей 217 Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм. С. 331. Сартр Ж.-П. Пьесы. М.,1967. С. 240. 219 Цит.по: Киссель М.А. Дороги свободы Ж.-П. Сартра. С.177. 218 146 субъективной направленностью (рассматривать гору как препятствие или, взобравшись на нее, лучше осмотреть окрестности). Упоение свободой, свойственное этому периоду жизни философа, в немалой степени связано с умонастроениями предвоенного поколения. Сартр отчетливо осознавал свое неприятие современной ему действительности (Европа между двумя мировыми войнами) с ее поруганными ценностями и мелочностью интересов и устремлений. В своем нежелании подчиняться лицемерию и бездуховности буржуазной среды он открыто и безапелляционно провозглашает независимость отдельного индивида, его онтологическую свободу, не ограниченную никакими внешними рамками. Однако развитие конкретной истории, жизнь в оккупированной Франции и непосредственное участие Сартра в движении Сопротивления изменили представления философа о соотношении внутренней, личной и социальной жизни индивида. Его рассуждения принимают все более социально-направленный характер. Сартр проявляет живой интерес к марксизму, особенно к историческому материализму220. Все чаще подчеркивает он необходимость активной деятельности человека для достижения социальной справедливости и создания условий для свободного развития личности. По крайней мере, Сартр осознает невозможность реализации полной свободы индивида в социальных условиях, препятствующих разворачиванию его действительной сущности. «Теорема Маркса («Способ производства материальной жизни обусловливает социальные, политические и духовные процессы жизни вообще» – З.Ф. 221), – пишет он, – кажется мне непреодолимой очевидностью до тех пор, пока преобразование общественных отношений и прогресс техники не избавят человека от ига нужды..., как только за пределами производства жизни для всех появится возможность реальной свободы, – марксизм уйдет в прошлое и его место займет философия свободы»222. Свобода индивида те220 Здесь нет необходимости говорить о сходстве и различии экзистенциализма Сартра и материализма Маркса; достаточно лишь подчеркнуть смещение интереса Сартра в направлении социальной философии и особенно теории активной преобразующей деятельности человека. (см.: Сартр Ж.-П. Марксизм и экзистенциализм // Вестн. Моск. унта. Сер.7. Философия. 1990, № 6). 221 Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 13. С. 7. 222 Сартр Ж.-П. Марксизм и экзистенциализм. С. 63. 147 перь – это не только ничем не ограниченная субъективность, которая хотя и является абсолютной, однако не распространяется за пределы внутренней направленности личности. Оценки Сартра становятся более сдержанными. Перечитывая свое собственное высказывание: «При любых обстоятельствах и в любом месте человек всегда свободен решить – будет он предателем или нет», – он замечает: «Невероятно, но я действительно так думал». Не отказываясь от своей любимой идеи человеческой свободы, он, тем не менее, преодолел ее односторонность, признав определенную роль социальных условий в становлении личности, в осуществлении личностного проекта бытия. «Идея, которую я никогда не переставал развивать, в конечном счете заключается в следующем: каждый всегда отвечает за то, что из него сделали, даже если он не может ничего большего, как только взять на себя эту ответственность. Думаю, человек всегда в состоянии сделать что-нибудь из того, что сделали с ним. Сегодня я бы так определил свободу – это небольшое движение, превращающее тотально обусловленное социальное существо в личность, которая не воссоздает полностью тотальность того, что ее обусловило»223. Как видим, эволюция философских воззрений Сартра демонстрирует нам постепенный отход от позиций крайнего субъективизма и признание, хотя бы относительной, ценности бытия-человека-вмире как условия борьбы за действительную свободу личности. 5. Возвращение бытия: философия М. Хайдеггера Наиболее четко задача преодоления субъективизма провозглашена в философии М. Хайдеггера. Означает ли этот отход от субъективизма, что западная философия вновь возвращается к признанию высших, общезначимых ценностей? Отнюдь нет. Создание новой (фундаментальной) онтологии привело к новому переосмыслению понятия ценности. Если переворот, совершенный Ф. Ницше, состоял в кардинальном изменении «места пребывания» ценностей, то последующая философия лишает ценности (как оно понимались в традиционной метафизике) их основного, сущностного признака – полезности, способности быть условием существования. 223 Цит. по: Рыкунов В.М. Свет и тень философии Сартра. С. 52. 148 Что же представляет собой новое понимание ценностей? Хайдеггер отказывается от применения понятия ценности при разработке своей проблематики, однако аксиологический аспект имплицитно присутствует практически во всей ткани его философствования. В «Бытии и времени» Хайдеггер стремится осмыслить проблемы человеческого существования на более глубоком, фундаментальном уровне, чем уровень наличного социального бытия с его шкалой моральных ценностей. Тем не менее, в его учении с методическим постоянством четко и недвусмысленно различаются подлинное и неподлинное бытие, что носит ярко выраженный аксиологический характер. «Подлинность» и «неподлинность» в фундаментальной онтологии безусловно являются мерой оценки всякого существования и в своей значимости превосходят все другие ценности. Хайдеггер отвергает присущую классической метафизике иерархию ценностей, поскольку она не имеет отношения к характеристике экзистенции. Он определяет ценности как наличествующие определенности сущих, то есть как то, что имеет свои корни в предметной действительности и поэтому не может служить онтологически более основательному осмыслению экзистенции. «Мышление по мере ценностей заведомо не позволяет бытию бытийствовать в своей истине», – заявляет он224. И потому экзистенциальная онтология не решает вопрос, увяз ли человек в грехе или он непорочен (безупречен с точки зрения морали). Индифферентность по отношению к моральным ценностям, характерная для хайдеггеровского учения, равно как и для упоминавшихся выше концепций экзистенциализма, не могла не оказать шокирующего воздействия на сознание традиционно мыслящих людей. Поэтому Хайдеггер терпеливо разъясняет смысл своего подхода. Мысль, идущая наперекор «ценностям», подчеркивает он, не утверждает, что все объявляемое «ценностями» – культура, искусство, наука, человеческое достоинство, мир, Бог – никчемно. «Наоборот: пора понять, наконец, что именно характеристика чего-то как “ценности” лишает так оцененное его достоинства. Это значит: из-за оценки чего-либо как ценности оцениваемое начинает существовать только как предмет человеческой оценки... Всякое оценивание есть субъективация. Оно предоставляет сущему не быть, а, на правах объекта оценивания, всего 224 Хайдеггер М. Слова Ницше «Бог мертв». С. 172. 149 лишь – считаться... Мыслить против ценностей не значит поэтому выступать с барабанным боем за никчемность и ничтожество сущего, смысл здесь другой: сопротивляясь субъективации сущего до голого объекта, открыть для мысли просвет бытийной истины»225. Как видим, Хайдеггер не отрицает значения ценностей культуры, однако его интересует нечто более основательное, лежащее за пределами, в которых конкретные содержательные (в частности, нравственные) характеристики имеют существенное значение. Уже Ницше заявил претензии на познание человеческой сущности «по ту сторону добра и зла». Однако и он, несмотря на радикальность провозглашенного подхода, все-таки остается в рамках традиционного мышления, являясь его завершением, поскольку воля к власти как предельное целеполагание предполагает «стягивание» условий для ее осуществления, которые и представляют в контексте учения Ницше реальные ценности. Поэтому воля к власти есть воля к ценностному, что дает основание Хайдеггеру отнести учение Ницше к традиционной метафизике, ибо, по его мнению, метафизика и есть орган и отражение властвующей воли. Как мышление о ценностях, выражающее волю к власти над познанным, она (метафизика) умертвляет бытие в своих теориях радикально, признавая бытие только как ценность (то есть полезность для человека). Здесь мы подошли к очень важному месту в развитии экзистенциальной философии, а именно к созданию новой онтологии и выступанию Бытия как основного предмета и центра философствования. В этом проявляется постепенный отход от одностороннего субъективизма и антропоцентризма западной философии. Хайдеггер впервые поставил эту проблему открыто, усмотрев субъективизм не только в концепциях, явно ориентированных на внутренний мир человека, но и во всей предшествующей метафизике, ибо ориентация на те или иные – внутрисубъективные или Высшие – ценности в конечном счете означает антропоцентристский взгляд на мир как подлежащий человеческому присвоению, существующий для человека как условие и средство его, человеческого, существования. 225 Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Проблема человека в западной философии. С. 343–344. 150 Анализируя ницшеанский «пессимизм силы», Хайдеггер замечает, что более существенное осмысление этого учения свидетельствует о том, что в нем «довершается восстание человечества нового времени – оно восстает в безусловное господство субъективности в рамках субъектности сущего» (курсив мой. – З.Ф.)226. Преодолеть «субъектность сущего» как мироощущение классической эпохи – цель фундаментальной онтологии. В общем, подход М. Хайдеггера сходен с позицией Ж.-П. Сартра, рассматривающего человеческую экзистенцию как процесс трансцендирования, источником которого является неантизация наличной действительности. Хайдеггер согласен с тем, что человек – это никогда не завершенный проект «быть». Но является ли этот проект эманацией внутренней сущности человека (или даже простым самопреодолением Ничто) или же он фундирован более глубокой бытийной структурой – самим Бытием? Смысл своего философствования М. Хайдеггер видит в преодолении господствующего в сознании людей «забвения бытия». «Бытие светит человеку в экстатическом “проекте”, наброске мысли. Но более не создается этим проектом, – утверждает он, – сверх того, “проект”, набросок смысла, в своей сути “брошен” человеку. Бросающее в “проекте”, набрасывании смысла – не человек, а само Бытие»,227 а потому «человек не господин сущего. Человек пастух бытия»228. Соответственно этому разворачивается аксиологический срез хайдеггеровского учения. В стремлении обнаружить более глубокий, фундаментальный слой всякого сущего, Бытие как таковое, он отрицает значение любых форм категориального познания, раскрывающего предметности наличной действительности (к этому уровню принадлежат и все традиционно понимаемые ценности) и обращается к исследованию экзистенциального уровня бытия. Ценность той или иной формы бытия рассматривается им в той степени, в какой она способствует раскрытию и обнаружению истины Бытия229. Известное различение Хайдеггером подлинного и неподлинного бытия не может быть понято с 226 Хайдеггер М. Слова Ницше «Бог мертв». С. 151. Хайдеггер М. Письмо о гуманизме. С. 334. 228 Там же. С. 338. 229 Подробнее об этом см.: Маргвелашвили Г.Т. Аксиологическое значение различия между экзистенциальным и категориальным в хайдеггеровском онтологическом учении. Тбилиси,1979. 227 151 точки зрения обычного критерия ценности – как ценное и неценное бытие. И та, и другая формы существуют как равноправные модусы бытия. Г. Маргвелашвили подчеркивает, что термином «экзистенциальная неподлинность» не только не обозначается какой-либо недостаток в конституции Dasein, а, наоборот, он выражает ее первую, существенную характеристику230. Экзистенция всегда начинает существовать как подверженная нивелирующим нормам своей же экзистенциальной ежедневности. Для этой формы бытия характерна полная онтологическая нивелированность экзистенции (Man) – неличный способ экзистирования, бытие, над которым царит «никто», где экзистенция еще не нашла (не осознала) ни свое подлинное Я, ни подлинную самость других экзистенций. Однако неподлинное бытие является необходимой и неизбежной ступенью, отталкиваясь от которой только и может стать, сформироваться подлинное бытие. В пределах неистинной экзистенции подлинное бытие полностью не исчезает, а сохраняется как заслоненное модусом видимости. Следовательно, различие в смысле ценностного двух основных экзистенциальных модусов заключается в степени зримостности (феноменальности) подлинного бытия экзистенции. Таким образом, Хайдеггер оставляет каждому надежду на возможность и осуществимость подлинного бытия, которая, однако, должна быть реализована лишь при условии истинного самопознания экзистенции. Одним из проявлений такого самопознания выступает в фундаментальной онтологии феномен страха. Экзистенциальный страх не имеет ничего общего с психологическим чувством страха как боязни, свойственным бытию человека в мире обыденных вещей. В контексте хайдеггеровского учения это понятие выражает чрезмерную заботу экзистенции о своем подлинном (потенциальном) бытии, которое до этого было целиком подавлено ее неподлинным способом существования. В этом смысле страх открывает в самой экзистенции возможность быть подлинно. Экзистенция, одержимая таким страхом, замечает Хайдеггер, не страшится никакого внутренне-мирского сущего. Причина страха – это обнаружение Ничто. Экзистенциальный страх заставляет экзистенцию остро переживать свою никчемность, поскольку она обнаруживается как экзистенция почти утраченная, не использо230 См.: Маргвелашвили Г.Т. Указ.соч. С.52. 152 ванная, и одновременно вызывает заботу, стремление стать поистине содержательной, мобилизовать подлинные возможности, которые еще остались у экзистенции. Следовательно, экзистенциальная ценность страха заключается в том, что благодаря ему экзистенция начинает мобилизоваться для подлинного существования в мире. Отсюда и особая ценность Ничто, поскольку ощущение его возникает как порог в подлинное бытие экзистенции. Аналогично трактуется М. Хайдеггером и понятие смерти: сознание смерти порождает заботу о подлинном бытии. Характеризуя эту сторону хайдеггеровской философии, А. Камю подчеркивает основополагающую роль заботы в трактовке Хайдеггером смысла и перспектив человеческого существования и ее тесную связь с экзистенциальной смертью. «Сознание смерти является зовом заботы, – пишет он, – и экзистенция обращена тогда к самой себе в своем собственном зове посредством сознания. Это голос самой тревоги, заклинающей экзистенцию «вернуться к самой себе из потерянности в анонимном существовании»231. В понимании Хайдеггера смерть есть важнейшее событие в жизни человека, определяющее ее содержание и направленность, и потому правда об этом событии не должна укрываться от сознания индивида из ложных соображений гуманности. Мужество человека, по мнению философа, заключается в умении прямо смотреть в глаза смерти. Поэтому понятию смерти в фундаментальной онтологии принадлежит особое место. Проблема смерти всегда была одной из самых волнующих и сакраментальных загадок в человеческом познании. Пытаясь заглянуть за грань недоступного непосредственному опыту и рациональному постижению, того, что предназначено быть вечной тайной, философская рефлексия имела целью выработать соответствующие жизненные ориентиры, способные придать ценность и смысл конечному человеческому существованию. Именно на это нацелены и все мировые религии, в частности христианская эсхатология. Вряд ли можно согласиться с утверждением, что «рефлекс божественной вечности понижает ценность конечного человеческого существования»232. Думается, ориентация на 231 Камю А. Миф о Сизифе. С. 238. См.: Краснухина Е.К. О смысле конечного существования (проблема смерти в экзистенциализме М. Хайдеггера и Ж.-П. Сартра) // Вестн. Ленингр. ун-та. Сер. 6. Философия. Политология. Теория и история социализма. Социология. Психология. Право. 1991, № 1. С. 12. 232 153 божественную вечность имеет целью придать смысл земному существованию человека, подчеркнуть ее ценность и значимость, а также ответственность личности за свою жизнь. Вместе с тем представляется неоспоримым существенное изменение статуса смерти, которое мы наблюдаем в экзистенциальной философии, рассматривающей смерть как неизбежный финал конечного человеческого существования. В учении Хайдеггера смерть выступает как наиболее аутентичная возможность бытия человека. «Безусловный характер смерти, как обнаруживается в ее предвосхищении, индивидуализирует это бытие до его самости», – считает автор фундаментальной онтологии233. Экзистенциальная смерть вскрывается в значении самой последней и наиболее индивидуальной из всех возможностей, которые есть у человека. Как в основном потенциальное (финально открытое) существование экзистенция может быть и как бытие для своей собственной смерти, то есть она может понимать себя как отношение к своей последней возможности и жить (экзистировать) соответственно, а именно с опасностью для самой себя. Иной аксиологический характер приобретает смерть в концепции Ж.-П. Сартра, который отказывает смерти в каком-либо положительном, ценностном значении для человеческого существования. Напротив, Сартр подчеркивает, что смерть обладает всеми отрицательными характеристиками бытия-для-другого, поскольку человек никогда не переживает ее как свой собственный опыт: «Смертен всегда другой, а не Я»234, а потому смерть не может быть индивидуализирована, не может принадлежать экзистенции. «Смерть никогда не придает смысл жизни, – утверждает Сартр, – наоборот, она в принципе лишает ее всякого значения»235. Сартр провозглашает свободу человека от смерти, но не в смысле преодоления конечности человеческого существования, а как элиминацию ее из непосредственного опыта экзистенции и, вследствие этого, отрицание ее экзистенциальной значимости для человека. В известном смысле его позиция близка теории абсурда А. Камю. Однако автор «Мифа о Сизифе» все-таки несколько иначе оценивает значение смерти. Подчеркивая, что само поня233 Цит. по: Краснухина. О смысле конечного существования. С. 13. Там же. С. 13. 235 Там же. С. 12. 234 154 тие абсурда возникает из осознания неизбежности смерти, Камю рассматривает последнюю как важнейшее средство освобождения человека от иллюзий (бессмертия, всеобщего смысла и т. п.). Тем самым в интерпретации Камю смерть придает жизни ценность, точнее, ясное сознание своей неизбежной смерти позволяет индивиду ощутить ценность непосредственного переживания (проживания) жизни, независимо от ее содержания и тем более моральных (или любых идеологических) оценок. Отмеченные нюансы в аксиологической трактовке смерти указанными философами не случайны: они вытекают из особенностей их миропонимания в целом. Напряженность и осознанный трагизм бытия-к-смерти в учении Хайдеггера связаны с общей направленностью фундаментальной онтологии на выявление глубинных основ существования, прорыв к которым составляет смысл и назначение человеческой экзистенции. В свете этого и смерть – неизбежный конец индивидуального существования – обретает специфическое значение как событие, устанавливающее предел возможному движению к подлинному бытию, и тем самым актуализирующее прорыв экзистенции в Истину Бытия. В противовес этому философия Ж.-П. Сартра и А. Камю отрицает любые смыслы, превосходящие человеческое существование, всякое понятие трансцендентного, и потому сознание смерти в учениях этих авторов соотносится прежде всего с феноменом свободы как синонима экзистенции, индивидуального человеческого существования. «Абсурд развеял мои иллюзии: завтрашнего дня нет. И отныне это стало основанием моей свободы», – замечает Камю236. При этом нельзя не отметить различие указанных авторов в понимании свободы. Камю из понятия абсурда (или, что то же самое, из сознания смертности человека и, стало быть, бессмысленности всех его начинаний) выводит тезис о равноправности всякого проявления жизни («в счет идет не лучшая, а долгая жизнь»), следствием которого является неизбежное «все дозволено» и нравственный релятивизм. В сартровской же интерпретации свободы, понимаемой как субъективный феномен, акцент делается на экзистенциальном эквиваленте свободы – чувстве ответственности за судьбу экзистенции и за весь обусловленный моим отношением к нему мир. 236 Камю А. Миф о Сизифе. С. 269. 155 Несмотря на указанные различия, приведенные выше учения сходятся в одном пункте, существенном для нашего исследования: все философские проблемы концентрируются в них вокруг человека как средоточия бытия. Это специфическое бытие, обозначаемое понятием экзистенции, не равнозначно обыденному земному пребыванию человеческого индивида, но связано с его специфической – духовной – сущностью. Последняя выражается в противоречивых отношениях человека с окружающим миром. С одной стороны, это негативизм в отношении к наличной действительности (речь идет не только о законченности и «самодовольстве» предметного мира, но и о наличности ставшего уже оформленным и потому как бы объективированного, отчужденного собственного Я). Отсюда – постоянное стремление к преодолению действительности, «открытость» экзистенции. С другой стороны, сопряженность мира с бытием человека выступает для представителей экзистенциализма основанием для утверждения об ответственности человека за судьбу мироздания: хайдеггеровское «человек – пастух бытия». Именно «пастух», а не творец. Человек ответствен за мир, который не им создан, но предъявлен ему как данность. «Экзистенциализм, – писал Сартр, – отдает каждому человеку во владение его бытие и возлагает на него полную ответственность за существование»237. Отвергнув спасительную власть внешних сил, экзистенциальная философия провозгласила трагизм и величие человека, отдельного индивида. Можно даже утверждать, что новое (индивидуалистическое) мировоззрение – это мировоззрение титанов, ибо слишком велика взваливаемая на себя человеком ноша. Не случайно первые движения мысли в этом направлении привели к идее сверхчеловека. Рассуждая о зарождении этого образа у Ницше, М. Хайдеггер вопрошает: «Не созрел ли человек для того бытийствования, вовнутрь которого он ввергается изнутри самого бытия, не созрел ли он настолько, чтобы выстоять в такой своей судьбе на основе своей собственной сущности и без всякой мнимой подмоги чисто внешних мер»238. Ответственность, как она представлена в философии экзистенциализма, есть не что иное, как выражение человеческой духовности, ибо чувствовать ответственность, то есть субъективно, 237 238 Сартр Ж.-П. Экзистенциализм - это гуманизм. С.323. Хайдеггер М. Слова Ницше «Бог мертв». С.167. 156 внутренне переживать вину за все, что происходит в мире и осознавать свою возможность, способность воздействовать на мир, изменять свое бытие, – эта ответственность возможна только в том случае, когда человек (сущее) не отождествляет себя с окружающим миром, с внешними условиями, не укладывается в них, не останавливается на них, а интуитивно предвосхищает возможность иного, трансцендентного наличной действительности, бытия, которое зависит от трансцендирующей способности самого субъекта, человека. В противном случае он должен был бы смириться с неизбежностью объективной данности человеку мира, и чувство ответственности за эту навязываемую ему в каждый момент его существования действительность было бы излишним, неестественным, невозможным. 6. Духовность как зов трансценденции в философии Карла Ясперса В отличие от представителей атеистического экзистенциализма, К. Ясперс не отрицает существования трансцендентного. Напротив, именно в области трансценденции усматривает он основу экзистенции. «В качестве экзистенции я существую, зная, что я подарен себе трансценденцией», – заявляет он, – я не существую посредством самого себя в моем решении, но бытиепосредством-меня есть подаренное мне в моей свободе»239. К. Ясперс развивает мысль, все более и более утверждающую себя в философском самоосмыслении человечества, – мысль о том, что бытие есть дар, оно есть несомненная ценность, несмотря на драматизм и даже трагизм человеческого существования, вне зависимости от его конкретных содержаний. Только перед лицом небытия – в ситуации надвигающейся смерти, болезни, потери близких – может человек осознать всю неизмеримость и значение этого дара – быть. Вслед за этим пониманием приходит осознание дающего – того, благодаря чему осуществляется возможность быть. В концепции Хайдеггера это – само Бытие. В учении Ясперса – «анонимное» или трансценденция. Отношения трансценденции и экзистенции лишены характера причинно-следственных связей. Трансценденция не порож239 Ясперс К. Философская вера. С. 428. 157 дает экзистенцию, экзистенция не есть отражение трансценденции. Здесь связь более сложная. Ясперс исходит из представления о человеке как незавершенном бытии, вечно стремящемся к преодолению наличной действительности. В своей незавершенности он постоянно оказывается перед Ничто или перед непостижимой тайной, наличие и осознание которой понимается Ясперсом как обнаружение трансцендентного: «Незавершенность человеческого бытия ведет к границе: у края бездны познается Ничто или Бог»240. Трансцендентное непознаваемо, туманно и неопределимо, оно не может быть предметом объективного рационального познания, но оно обнаруживает себя в экзистенции посредством веры. Ясперс обращается к феномену веры с целью оградить свое понимание взаимосвязи экзистенции и трансценденции от крайностей ее объективистской и субъективистской трактовок. Первая пытается обосновать трансцендентное (Бога) рациональным путем (всевозможные доказательства бытия Бога, предпринятые в средневековой схоластике и в классической метафизике. Однако здесь никогда не может быть доказательства, замечает Ясперс) или в опоре на авторитет Священного писания. Вторая – субъективистская трактовка – выводит существование трансцендентного исключительно изнутри индивидуального опыта, рассматриваемого в качестве последней достоверной реальности, что по существу нивелирует само понятие трансценденции241. Ясперс же отказывается признать за трансценденцией статус постижимого какими-либо (безразлично – рациональными или интуитивными) средствами бытия. Он уверен лишь в одном – в существовании трансцендентного и в его абсолютной неопределимости. Однако рассматриваемое как основание человеческого самодвижения, постоянного стремления к преодолению неподлинного, трансцендентное, пусть даже в качестве Ничто, все-таки обнаруживает себя – не как объект познания, но как предмет веры, причем не религиозной, основанной на авторитете либо интуиции, а философской, предполагающей осмысление человеком своих внутренних интенций. Эта вера вносит позитивность в характеристику экзистенции и позволяет преодолеть нигилизм и ощущение покинутости человека. «Анонимное есть подлинное 240 Ясперс К. Философская вера. С. 435. См. упоминавшуюся в первом разделе позицию М. Мамардашвили: «Есть трансценденция, но нет трансцендентного». 241 158 бытие, открытость которому единственно и создает уверенность в том, что не существует ничто», – утверждает Ясперс242. Вера в существование трансцендентного, безусловно, сближает философию Ясперса с религиозным мышлением. Однако их подход к пониманию трансценденции различен. Понятие трансценденции в философии Ясперса не тождественно миру сверхъестественного, включающему раз и навсегда данные, установленные ценности, ориентирующие поведение человеческого индивида, которому отводится роль пассивного восприемника этих ценностей. Поэтому утверждение о том, что содержание «философской веры» имеет много общего с «вечными истинами, которые получены человечеством из «библейской религии», представляется несколько преувеличенным243. В учении Ясперса человек как свободное существо сам творит свой мир и утверждает свои ценности. Но не в смысле самоопределяемой воли, индивидуально-личностного произвола, а руководствуясь безусловным требованием, исходящим из экзистенции, обращенной к трансценденции. Ясперс упорно стремится отмежеваться от голого субъективизма с его неограниченным произволом. Так же как и Кант, он пытается выявить императивы человеческого поведения, следование которым сделало бы возможным подлинное бытие человека в мире других людей. С этой целью он и вводит понятие безусловного требования. Однако эта конструкция отличается от кантовского формального закона, определяющего поведение индивида по принципу долженствования. У Ясперса безусловность требования исходит не извне, а изнутри экзистенции. Истоки его «во мне, поскольку оно несет меня, – утверждает Ясперс. – Безусловное требование подступает ко мне во временности моей настоящей жизни как требование к моему наличному бытию, со стороны моей подлинной самости, требование того, что я как бы вечно есмь перед трансценденцией»244. Нетрудно видеть, что указанная безусловность представляет собой проявление необходимости – неприродную, неразумную (сверхразумную) необходимость, которая не может быть всеобщей и выступает для каждого индивида как его личная, экзистенциальная необходимость. Это позволяет некоторым авторам го242 Ясперс К. Духовная ситуация времени. С. 408. См.: Типсина А.Н. Немецкий экзистенциализм и религия. Л., 1990. С. 24. 244 Ясперс К. Философская вера. С. 436. 243 159 ворить о противоречивости концепции Ясперса, в частности об ограничении человеческой свободы, провозглашенной автором в качестве атрибута человеческой экзистенции245. Думается, это не совсем так, если не понимать свободу как произвол. Действительно, понятие свободы играет в учении Ясперса, как и во всей экзистенциальной философии, ключевую роль. Безусловное «вторгается из трансценденции в этот мир путем, который идет через нашу свободу», – подчеркивает философ246. Но что представляет собой в этом контексте свобода? В современной философии происходит переосмысление этого феномена247. Свобода все чаще понимается не как произвол, и даже не как возможность выбора из множества возможностей, но как добровольное следование (не в гносеологическом, а в онтологическом смысле) своему назначению. Свободное подчинение безусловному требованию, исходящему изнутри человеческой экзистенции и выступающему как ответ на зов трансценденции, не может быть понято как отрицание или даже ограничение свободы. Речь идет о более глубоком, экзистенциальном уровне свободы, не тождественном оперированию с вещами внешнего мира, но связанном с внутренним самоопределением личности. Это – свобода творить себя, погруженного в мир, руководствуясь изнутри идущим зовом трансценденции. Ясперс понимает трудность этого процесса, однако истинное бытие, если человек хочет обрести его, не допускает снисхождения и требует мужества. «В каждой безусловности, – подчеркивает он, – человек становится как бы неестественным в своей жесткости по отношению к себе; его подлинность бытия в исторической неповторимости связано с необоснованным стремлением не допускать, не желать и сдерживаться. Пусть человек, некогда определяемый принуждением и силой всеобщих авторитетов, теперь же возложенной на него самого в качестве его ответственности свободой, связан с насилием по отношению к самому себе, пафос которого создается возможностью подлинного выполнения поставленной задачи»248. 245 См.: Гайденко П.П. Человек и история в свете «философии коммуникации» К. Ясперса // Человек и его бытие как проблема современной философии. М., 1978. С. 107. 246 Ясперс К. Философская вера. С.436. 247 См., напр.: Павленко А.Н. Бытие у своего порога. 248 Ясперс К. Духовная ситуация времени. С. 405–406. Сравни: ницшеанское «Повелевать труднее, чем повиноваться». 160 Что представляет собой этот процесс внутреннего самоопределения содержательно? На что направлены усилия личности и что является предметом ее заботы? Для Ясперса характерно более пристальное, чем в других экзистенциальных учениях, внимание к действительному миру, подчеркивание важности и значимости связей человека с миром. При сохранении указанного выше основного тезиса о неумещаемости человека в мире («человек – это дух», истинная ситуация человека-в-мире – это его духовная ситуация) Ясперс подчеркивает, что «индивид выходит из мира, чтобы найти то, что он затем возвращает ему»249. Он осуждает субъективистское отстранение от мира, которое, по его мнению, только препятствует истинному обнаружению экзистенции. В субъективизме, замечает философ, «соблазняет двоякая возможность противопоставить себя миру. Однако действительно пойти на это может лишь тот, кто сам приговаривает себя к крушению всякого существования... Действительность мира невозможно игнорировать»250. Ощутить суровость действительности – единственный путь, который, по мнению Ясперса, ведет к себе. Мысль философа перекликается с хайдеггеровским тезисом о смерти, мужественное принятие которой способствует выявлению человеческой самости, реализации индивидуальных потенций. Но способы самореализации, построения человеком своего бытия-в-мире у философов различны. Мир Хайдеггера – это монологическое существование, странствие одинокого путника, немое пребывание человека один на один с бытием, «прислушивание» к бытию, забвение себя перед лицом бытия. Мир Ясперса – это мир коммуникации. Признавая принципиальную сокрытость и непостижимость Истины бытия, Ясперс, так же как и Хайдеггер, обращается к единственному бытию, через которое «проглядывает», говорит само Бытие – к человеку. Но Ясперсу недостаточно монологического голоса собственной экзистенции: в общении с другой экзистенцией он надеется обрести истину. Только через коммуникацию экзистенция может прийти к трансценденции. Более того, в процессе коммуникации проясняется и сама экзистенция, которая скрыта за мнимой деловитостью обыденного временного существования. «Поскольку во времени мы не можем объективно обладать истиной как единой и 249 250 Там же. С. 365. Ясперс К. Духовная ситуация времени. С. 400. 161 вечной и поскольку наличное бытие возможно только наряду с другим наличным бытием, экзистенция постигает себя лишь в сообществе с другой экзистенцией, коммуникация являет собой образ открытия истины во времени»251. В отличие от Хайдеггера, для которого ценностное содержание человеческой экзистенции определяется одним критерием – близостью к Бытию и в известной мере удаленностью от неподлинности наличного бытия, Ясперс придает важное значение существованию человека в мире, среди других людей. Здесь, в коммуникации, обретает индивид любовь, доверие, верность и т. п., которые открывают ему путь к подлинному бытию. К. Ясперс понимает духовность личности как противостояния миру обыденности с его забвением подлинного бытия. Однако, объявив о своем несовпадении с миром, он не призывает человека отказаться от мира полностью, что неизбежно привело бы к одиночеству индивида (как это имело место в философии Кьеркегора). Соблазн удалиться от людей в вере в Бога, оправдывая свое одиночество мнимым знанием абсолютной истины, в действительности есть, по его мнению, не что иное, как отсутствие любви252. Философ убежден, что истина есть то, что объединяет людей: человек находит в мире другого человека как единственную действительность, с которой он может объединиться в понимании и доверии. Вообще Ясперс, и в этом его учение перекликается с русской философией, придает большое значение ценностям человеческого общения, которые обеспечивают индивиду движение к подлинному бытию, прорыв в экзистенцию. Осмысливая бытие человека в мире, он использует символический образ «жизни в доме» или «жизни семьи». Только здесь, по его мнению, еще сохраняется человечность, в основе которой лежит любовь, которая вследствие этого должна рассматриваться как самоценность, а не с точки зрения ее социальных функций. Постоянно выступая против одностороннего субъективизма, принципиально отделяющего человека от мира, он отвергает тезис об онтологическом одиночестве личности и считает невозможным подлинное бытие человека вне его связей с миром. «Дистанциро251 Ясперс К. Философская вера. С. 442. Любопытно, что точно так же оценивает подобную – отшельническую – позицию и русский философ Г.П. Федотов, который определяет ее как «злую духовность». (см.: Федотов Г.П. Esse Homo. О некоторых гонимых «измах»). 252 162 вание от мира дает ему свободу, погружение в мир – его бытие, – утверждает Ясперс. – Дистанцирование мира дает внутреннее благородство; погружение в мир пробуждает человечность и самобытие. Первое требует самодисциплины, второе есть любовь»253. Итак, любовь – способ бытия-человека-в-мире и одновременно канал, обеспечивающий связь индивида с единым целым (в предельном случае – с трансценденцией). Этот процесс единения Ясперс определяет как «погружение в историю». Разумеется, речь идет не о конкретной истории в ее традиционном понимании, а о процессе установления индивидом бытийных связей, благодаря которому он обретает судьбу – индивидуально выраженное, неповторимое бытие. Философ имеет в виду не мимолетные связи, временно объединяющие людей в конгломерате функционально зависимых, взаимозаменяемых представителей массы, «толпы», а исторические связи (связь с традицией и т. п.), дающие человеку ощущение единения с фундаментальными основами бытия и одновременно позволяющие «прийти к себе», обрести самобытие. Уверенность в существовании таких связей Ясперс черпает из своей онтологии. Что, собственно, е с т ь? – задается вопросом философ. Ответ, по его мнению, может быть найден «посредством высветления модусов объемлющего» ..., но так как в основе всех этих способов лежит единое (курсив мой. – З.Ф.), то в конечном итоге ответ должен гласить: подлинное бытие есть трансценденция (или Бог)»254. Поскольку в основе всего сущего лежит единство трансценденции, отношения человека с миром в концепции Ясперса теряют характер случайности и обретают онтологический статус. Ясперс конкретизирует свою позицию, называя возможные способы «погружения в историю». Это и чувство почитания в отношении исторических авторитетов – личностей, являющихся примером исторического величия человека (обретение исторических корней255), и концентрация в профессиональном труде, и исключительность в эротической любви. Последнее заслуживает особого внимания, поскольку в этом пункте воззрения Ясперса 253 Ясперс К. Духовная ситуация времени. С. 404. Ясперс К. Философская вера. С. 433. 255 Сравни: понятие «укорененности» в философии М. Хайдеггера (см.: Хайдеггер М. Отрешенность // Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. М., 1991. С.106). 254 163 резко расходятся с изложенными выше взглядами на любовь Сартра. Ясперс, в отличие от своего оппонента, не только не отрицает возможности полного единения любящих, но и видит в этом единении средство движения человека к самому себе, а в конечном счете – к подлинному бытию, поскольку, как утверждает философ, указанная исключительность «без всякого обоснования (курсив мой. – З.Ф.) коренится в решении, которое связало самость верностью в то мгновение, когда она пришла к себе посредством другого»256. Это «без всякого обоснования» подчеркивает нелогичный, иррациональный характер любви, которая не имеет видимых причин и, именно в силу этого, очевидно коренится в более глубоких, фундаментальных основах человеческого бытия. Утверждение Ясперса о фундаментальности любви как способа «погружения в историю», обретения подлинности бытия столь же естественно вытекает из его онтологии, сколь отрицание полного единства любящих следует из сартровского постулата о безнадежном одиночестве индивида. Возможно, эти два экзистенциально мыслящих философа исходили из разного индивидуального опыта? Предвидя известные возражения, заметим, что оба учения логически выстроены и обладают необходимой рациональнологической аргументацией, что обусловливает научную ценность и соответствующую общезначимость их выводов и одновременно защищает их от обвинений в психологизме и субъективизме. Тем не менее, думается, индивидуальный внутренний опыт играет не последнюю роль в формировании мироощущения философа, влияя на характер решения им онтологических проблем. Редкость и даже исключительность проявлений подлинного бытия, в частности любви, в человеческой жизни очевидна для обоих мыслителей. Однако интерпретация ими феноменологического опыта все-таки различна. Сартр, так же как и Ясперс встречавший в окружающей его действительной жизни ложь, предательство, лицемерие, делает вывод о принципиальной невозможности единения людей, об отсутствии для этого каких бы то ни было онтологических оснований257, в то время как Ясперс уверен в существовании трансцендентного миру предметной дей256 Ясперс К. Духовная ситуация времени. С. 405. Однако сам Сартр своей активной общественно-политической деятельностью, продолжавшейся до конца его жизни, своими призывами (несмотря на безнадежность человеческого существования, делать все, что от тебя зависит, для всеобщего блага) как бы перечеркивает свой онтологический пессимизм. 257 164 ствительности бытия, интуитивно предвосхищаемого человеком и выражающегося в непреодолимом стремлении последнего за границы всего наличного. Разумеется, Ясперсу знакомо несовершенство реального мира, но он не согласен признать его окончательность и враждебность человеку, а многочисленные проявления, даже засилье неподлинного в человеческом существовании, интерпретирует как выражение духовного кризиса эпохи. Но кризис – временное состояние системы, содержащее в себе предпосылки для перехода в новое качество. Обнаружение этих предпосылок и является целью философского исследования Ясперса. Картину духовного кризиса как забвения подлинного бытия и преобладания различных проявлений неподлинного, Ясперс раскрывает в следующих словах: «В массе повсюду господствует заурядность..., жест заменяет бытие, многообразие – единство, разговорчивость – подлинное сообщение, переживание – экзистенцию; основным аспектом становится бесконечная мимикрия». «Всякая объективность, – пишет далее автор, – стала двусмысленной, истина как будто заключена в невозвратимо утраченном, субстанция – в беспомощности, действительность – в маскараде»258. Сущностным выражением описанных кризисных явлений выступает, по мнению Ясперса, недостаток доверия как характерная черта сознания современного человека. Истоки этого нигилизма восходят к XIX веку, к учениям Кьеркегора и Ницше. Однако к голосу этих одиноких мыслителей начинают прислушиваться именно в XX веке, в период между двумя мировыми войнами, когда в массовом масштабе распространяются настроения недоверия и нигилизма. С точки зрения человека, пережившего крушение самых возвышенных идей, разбившихся о грубость и жестокость реальной жизни, все в этом мире стало несостоятельным, ничто подлинное не подтверждается, нет ничего, что не вызывало бы сомнения, существует лишь бесконечный круговорот, состоящий во взаимном обмане и самообмане посредством идеологий. Вопиющее несоответствие рассуждений о духовном и нравственном прогрессе человечества, с одной стороны, и бесчеловечной действительности, обнаружившей себя в кошмарах мировых войн и революций, в нарастании меркантилизма и голого расчета в отношениях между людьми – с другой, не могло не породить 258 Ясперс К. Духовная ситуация времени. С. 337. 165 стремления отдельного индивида отгородиться от лжи и лицемерия, скрыться за спасительными пределами своего собственного внутреннего мира. В духовной атмосфере общества создаются условия, обеспечивающие утверждение и господство индивидуализма и субъективизма. «Сознание эпохи отделяется от всякого бытия и заменяется только самим собой», – констатирует Ясперс. Однако тот, кто рассматривает человеческое существование как пребывание перед Ничто, замечает философ, ощущает и самого себя как ничто. Его сознание конца, крушения всего истинного, вплоть до нивелирования Бытия как такового, есть одновременно сознание ничтожности его собственной сущности. В качестве основных, наиболее существенных причин указанного кризиса Ясперс называет развитие технической цивилизации (как выражение неподлинного бытия, когда человек растворяется в том, что должно быть лишь средством, а не целью) и то, что философ называет термином «разбожествление». Последнее трактуется им более широко, нежели просто неверие отдельных людей. Речь идет о своеобразном духовном следствии длительного господства рационализма, когда не просто была разрушена вера в христианского бога, но возникло убеждение во всесилии человека, не нуждающегося более в чьей-либо (в том числе божественной) поддержке. «То, что ни один бог за тысячелетие не сделал для человека, человек делает сам. Вероятно, он надеялся узреть в этой деятельности бытие, – рассуждает философ, – но, испуганный, оказался перед им самим созданной пустотой» 259. Осознание этой пустоты, «ничтойности» и порождает ощущение абсурда и вытекающие из него выводы. Однако Ясперс не согласен мириться с обессмысливанием человеческого существования. Причину ничтожествования он видит не только в мире, не соответствующем стремлениям человека, но и в самом человеке, в его внутреннем мире, оказавшемся опустошенным в результате столкновения с миром неподлинного. Для того чтобы быть самим собой, считает Ясперс, человек нуждается в позитивно наполненном мире. Если этот мир пришел в упадок, идеи кажутся умершими, то человек будет скрыт от себя до тех пор, пока он в своем созидании не обретет в мире вновь идущую ему навстречу идею. И потому единственным источником преодоления духовного кризиса он считает самого человека, 259 Ясперс К. Духовная ситуация времени. С. 229. 166 ибо характер бытия человека в его понимании – предпосылка всего. Только в нем дремлют потенции, которые, будучи актуализированы, позволят воссоздать разрушившуюся картину мира, его целостность, единство – уже в новом качестве. Когда в бездушном существовании мир как бы становится безнадежным, в человеке сохраняется то, что в данный момент вернулось к чистой возможности, замечает философ. Это дает ему основание для оптимистического взгляда на будущую судьбу человечества: «Если сегодня в отчаянии спрашивают, что же еще осталось в этом мире, то каждому следует ответить: то, что ты есть, потому что ты можешь. Духовная ситуация требует сегодня сознательной борьбы человека, каждого человека за его подлинную сущность»260. Обычно переходные, кризисные моменты в жизни общества принято считать неблагоприятными для развития духа. Это требует уточнения. Прежде всего следует различать дух как выражение общности духовной жизни целого народа, нации и т. п. – в том смысле, как понимал его Ясперс («идея, живущая во мне»), и дух, точнее, духовность как характеристику индивидуального бытия – то, что Ясперс называет экзистенцией. С точки зрения первого понимания, действительно можно говорить об упадке духа в кризисных ситуациях: старые идеи, долгое время стимулировавшие духовную жизнь людей, теряют свое влияние и руководящую силу, оставляя индивида в образовавшейся пустоте, которую он нередко воспринимает как крушение мира в целом. Лишившись привычных духовных опор, человек обнаруживает и внутри себя пустоту, которая грозит самоуничтожением личности, либо переходом в нигилизм. Однако применительно к внутренней жизни индивида ситуация духовного кризиса общества не означает однозначно угасания духовности. Напротив, именно в эти моменты и создаются условия для проявления действительной сущности человека, его самости. Будучи лишенным всяких внешних содержаний и опор, индивидуальное человеческое Я как раз в моменты ничтожествования всеобщего Духа обретает свободу – свободу творить мир «из ничего», точнее, исходя из своих собственных потенций. «Теряя в кризисе мир, человеку надлежит, исходя из имеющихся у него предпосылок, вновь создать свой мир из первоначала, – утверждает Ясперс. – Перед ним открывается высшая возмож260 Там же. С. 339. 167 ность его свободы; ему надлежит либо в невозможности ухватить ее, либо погрузиться в ничтожество...»261. Ничтожество в понимании Ясперса означает поглощение индивида пустотой и бессмысленностью вещного мира. Сознание же «нового мира» связывается философом с прорывом человека к трансценденции. Собственно человеческое («человек – это дух») Ясперс мыслит как способность к трансценденции, четко противопоставляя этой форме бытия наличное бытие-среди-вещей как не являющееся ни человеческим, ни животным. Но где черпает он силы для указанного противостояния? Говоря о постоянном стремлении человека к самопреодолению, неустанно повторяя, что человек не укладывается в рамки наличной действительности, Ясперс вместе с тем подчеркивает огромную сложность этого процесса, трудность постижения трансценденции. Напомним, что прорыв к истинному бытию – состоянию экзистенции – возможен, по его мнению, только в редкие моменты – в особых, пограничных ситуациях. Более того, философ выражает сомнение в том, что подобные состояния духовного напряжения обязательно присущи и доступны всем людям. Но главное даже не это. Так же как и Хайдеггер, Ясперс подчеркивает, что человечество в целом еще не подошло к подлинному познанию трансцендентного, которое выступает как принципиально анонимное и которое «бессловесно, бездоказательно, непритязательно. Оно – зародыш бытия, его невидимый образ, пока оно еще растет, и мир не может отозваться на него (курсив мой/ – З.Ф.)»262. Человечеству еще предстоит новое осмысление бытия. Правда, последнее никогда не было скрыто полностью, всякий раз обнаруживаясь в тех или иных конкретных формах, в том, что Хайдеггер называл «судьбой бытия». Одним из таких обнаружений трансцендентного является религиозная вера. Вот почему Ясперс признает значение религии, но лишь как определенного этапа на пути к трансценденции. Он убежден в необходимости философского осмысления последней и считает, что философская вера – единственно правильный путь в движении человека к подлинному бытию: «То, что тысячелетия показывали человеку в транс261 262 Ясперс К. Духовная ситуация времени. С. 339. Там же. С.395. 168 цендентности, может вновь заговорить, после того, как оно будет усвоено в измененном облике»263. Рассмотрение аксиологических аспектов человеческой духовности, как они представлены в западной философии, главным образом в экзистенциализме, позволяет выявить определенные тенденции в развитии философского самосознания человечества. Можно выделить два этапа философской рефлексии, связанной с выявлением места и роли человека в мироздании, с пониманием его специфики и сущности. Первый этап, соответствующий развитию метафизической философии (от греческой «классики» до рационализма Нового времени), может быть охарактеризован как период своеобразного самозабвения человека. Это звучит несколько странно, ведь проблема человека неизменно являлась предметом внимания философов на протяжении всего указанного периода. Именно этот период («осевая эпоха») Ясперс связывает с пробуждением человеческого духа. И все же, с точки зрения самоидентификации человеческого духа он все еще «скрыт» от себя, «теряет» себя в объективности, ибо человек осознает себя как часть объективного мира – специфическую, способную мысленно противостоять этому миру, но все-таки зависимую от него, принадлежащую ему. Вся метафизическая философия с ее рационализмом и вытекающим из него противопоставлением субъекта и объекта – это преобладание, господство объективизма, превращающего и человека в объект, в подлежащее, требующее для своего определения внешних, объективных характеристик. При таком понимании смысл человеческого существования оказывался внеположенным человеку. Соответственно и ценности, рассматриваемые как ориентиры движения к этому высшему смыслу, носили характер объективных (общезначимых) сущностей, независимых от человека вообще, и тем более от отдельного человеческого индивида в его конкретном существовании. Не случайно объективация человека со временем (а именно в период расцвета объективизма, полностью редуцировавшего человеческую сущность к феноменам объективного порядка – будь то гегелевский абсолютный Дух или марксистская «совокупность общественных отношений») приводит к резкому отрицанию всякой объективности, любых общезначимых ценностей – к полному нигилизму, а затем и к его логическому следствию – субъективизму. 263 Там же. С.389. 169 Утверждение субъективизма знаменовало собой антропологический поворот в философии и начало нового – второго этапа философской рефлексии. В этот период происходит осознание человеком своей действительной сущности, которая теперь рассматривается как средоточие бытия, как тот вид сущего, через который и благодаря которому обнаруживает себя внешний мир, Бытие как таковое. Появление новой онтологии не могло не вызвать изменений в понимании ценностей. Последние приобретают чисто субъективный характер и служат выражением стремления человека к осуществлению своей собственной самости. Отныне критерием ценности того или иного явления становится сопряженность с индивидуальным человеческим бытием, близость к экзистенции. Но такой подход, как было показано выше, обрекает человека на одинокое, «бездомное» существование – в аспекте его внутренней жизни, его самопознания – и способствует возникновению нравственного релятивизма – в аспекте социального бытия индивида. Вот почему дальнейшее развитие философской мысли связано с поисками фундаментальных основ бытия, с одной стороны, и с разработкой концепции диалогичности человеческого существования – с другой. Начиная с философии Хайдеггера, человеческое бытие все чаще рассматривается не как онтологически изолированное, замкнутое в рамках своей субъективности, а как проявление, обнаружение более глубоких слоев бытия. Сама возможность быть, «стоять в просвете бытия» осознается в новой онтологии как дар, с соответствующим переключением внимания на «дающего» – в область трансцендентного, лежащего за пределами человеческого познания, но заявляющего о себе самим фактом трансцендирования экзистенции. В силу особенностей взаимоотношений трансценденции и экзистенции (трансцендентное не доступно объективному познанию, но может быть прояснено в экзистенции) последняя является единственным каналом, приоткрывающим тайну Бытия, и потому постижение трансценденции возможно лишь в диалоге с другой экзистенцией. Постановка вопроса о диалогичности сознания свидетельствует о беспочвенности обвинений экзистенциальной философии в солипсизме. Экзистенция всегда существует наряду с другими экзистенциями. Отсюда – то важное место, которое занимает в рассмотренных учениях понятие «со-бытие», имплицитно 170 содержащее утверждение о том, что человеческое присутствие (Dasein) осуществляется не просто среди других сущих, выступающих по отношению к человеку как внешние предметности, к каковым относятся и другие личности. Бытие человека всегда есть со-бытие, то есть бытие рядом с другими такими же экзистенциями, с другими «мирами». Признание равноправия других экзистенций характерно для всех представителей экзистенциализма. Различна лишь трактовка их взаимоотношений. Сартр, понимая, что Другого не создают и не выбирают, а лишь принимают его как данность, считает, что взаимопроникновение, единство экзистенций невозможно, и каждый остается замкнутым в своей вселенной. Ясперс же, наоборот, убежден, что прорыв к истинному бытию, постижение трансценденции возможно только в коммуникации. Это понимание получило развитие в последующих учениях, в том числе и в отечественной философии264. Представление о совместности человеческого существования все более упрочивается в современном философском сознании. По мнению французского исследователя Ж.-Л. Нанси, это представление вытекает из самого факта существования философии как вопрошания о смысле бытия, ибо смысл существует только тогда, когда есть совместность. «Смысл разделяем, сообщаем, коммуницируем, по определению совместен», – утверждает автор265. Смысл составляет мое отношение к себе как соотнесенному с другим. Бытие без другого (друговости) не имело бы смысла, будучи лишь имманентностью собственного полагания, или, что то же самое, бесконечного допущения самого себя. «Смысл смысла... в том, чтобы подвергаться воздействию извне, а также в том, чтобы самому воздействовать на это внешнее. Смысл состоит в разделении этого «в-месте» (в «совместности»)266. Речь идет не о наличии единства человечества и о существовании всеобщего смысла. Наоборот, реальная разобщенность людей в современном мире свидетельствует об исчерпании общего смысла, об утрате субстанциальности. Поэтому на сегодняш264 См.: Диалог и коммуникация – философские проблемы (Материалы «Круглого стола») // Вопросы философии. 1989, № 7; Человек. Диалог. Понимание. Саратов, 1996 и др. 265 Нанси Ж.-Л. О со-бытии // Философия М. Хайдеггера и современность. М., 1991. С. 92. 266 Там же. 171 ний день можно констатировать лишь совместность бытия или «бытие-в-месте». Однако сокрытость истины бытия, утрата бытийных корней, «конец философии» и осознание границ познания – все эти откровения современной мысли, способные привести в отчаяние всякого, задумывающегося о смысле своего существования, не могут устранить одного единственного факта – непреодолимого стремления человека за пределы наличного, к тому, что, будучи неопределимо и невысказываемо, всегда будет стимулом движения человеческого духа. В этом стремлении заложена предпосылка того, что человеку всегда «есть куда идти». Утрата современным человечеством всеобщего смысла, «конец философии» означает лишь то, что философия подошла к пределу. Этот предел – ухватывание бытия как смысла и смысла как бытия. Ж.-Л. Нанси утверждает: «Философия, подошедшая к своему пределу, говорит нам, что существование (наличное бытие) не является самоконструированием смысла, но дает нам бытие, предшествующее смыслу или выходящее за его пределы, не совпадающее с ним и состоящее в этом несовпадении267. Что есть это бытие? Это всегда остается загадкой. Но именно эта тайна того, что, говоря словами Хайдеггера, укрыто и сохранено в несокрытости, есть «спасительное в нужде мировой ночи»: «То, что отсутствует в присутствии науки, что неисчислимо в исчислимом, со- и у-крыто в несокрытом, есть, возможно, – никому не дано это знать, и лишь некоторые предчувствуют и предвидят это – грядущий Бог»268. Пессимизм экзистенциальной философии, порожденный одиночеством человека, заброшенного в бытие неподлинного, как видим, не утратил надежды, которая, будучи неосознанной и невыразимой, все-таки заявляет о себе слабым светом, пробивающимся из глубин его собственного внутреннего мира и обретающим привычные символические очертания Бога. 267 Нанси Ж.-Л. О со-бытии. С. 96. Цит. по: Брункхорст Х. Эгоцентризм в эпоху картины мира. Хайдеггер. Вебер. Пиаже // Философия М. Хайдеггера и современность. С. 83. 268 172 Глава VI. ДУХОВНЫЕ ОРИЕНТИРЫ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ 1. Эвристические возможности русской философии в исследовании духовности Для исследующего проблему человеческой духовности русская философия представляет самый благодатный материал. Можно без преувеличения сказать, что вся русская философия – это философия Духа, это искание Духа, упование на грядущее царство Духа. И поэтому философское осмысление этого своеобразного феномена мировой культуры имеет огромное позитивное значение для понимания сущности духовности, ее содержательных характеристик. В данной работе не ставится цель осветить и проанализировать все направления русской философской мысли. При общей озабоченности русской интеллигенции судьбами народа, пути и средства достижения всеобщего блага понимались по-разному. Стремление к облегчению жизни народа, к всеобщему равенству и свободе легло в основу революционного направления русской мысли, связывавшего достижение указанных целей с преобразованием общественных отношений и созданием материальных условий для всеобщего процветания и благоденствия. Это направление, захватившее вначале огромные слои интеллигенции, со временем оформилось в русский марксизм и реализовалось в практике большевистской революции и реального социализма. Влияние экономического детерминизма на развитие русской мысли, озабоченной нуждами реальной жизни народа и исторической судьбой России, было столь значительным, что увлечение его идеями в той или иной степени не обошло ни одного крупного русского мыслителя. Достаточно назвать Владимира Соловьева, Сергея Булгакова, Николая Бердяева, Павла Флоренского. Но большая часть мыслящих людей довольно быстро осознала пагубность односторонней ориентации на материальноэкономические факторы развития общества и недооценки личностных начал человеческой жизни. Результатом эволюции сознания русской интеллигенции стал исторический сборник «Ве173 хи»269, прозвучавший как предостережение против возможных социальных катастроф, которое, однако, не было услышано и адекватно воспринято. Обнаружившиеся уже в революции 1905–1906 гг. пороки революционного пути способствовали резкой поляризации общественного сознания и обращению многих выдающихся мыслителей в русло религиозно-идеалистической философии. Последняя, в силу ее ярко выраженной обращенности к Духу, и представляет для нас непосредственный интерес. Русская мысль в известном смысле контрастирует с западной философией. Если западная философия по преимуществу теоретична, абстрактна и в этом смысле автономна, самодостаточна, то русская философия в своей основе «практична», она вся погружена в жизнь, озабочена чисто человеческим вопросом – как жить, чтобы соответствовать истинному назначению человека. Если поиски действительных оснований человеческой жизни привели западную философию к осознанию одиночества и заброшенности человеческого существования – к индивидуализму и субъективизму, то русская философия, базирующаяся на характерном для русского сознания стремлении к всеобщей справедливости, разрабатывает идею Всеединства, а отдельную личность мыслит в рамках соборности. Однако интересующее нас понимание духовности в своих сущностных характеристиках совпадает в русской и западной философии. Несмотря на различие указанных подходов, и в том, и в другом случае духовность выступает как способность человека к трансцендированию наличной действительности, к выходу за свои собственные пределы. Разница состоит лишь в том, что понимается под содержанием процесса трансцендирования, в отношении к трансцендентному. Для русской философии характерно убеждение в существовании высших трансцендентных начал, непостижимым, таинственным образом связанных с отдельной человеческой душой и направляющих, ориентирующих личность в ее реальном, земном существовании. Эта вера в существование высшего направляющего смысла свойственна не только тем концепциям и учениям, которые можно отнести к объективному идеализму, но и таким явно персоналистическим учениям, каковым является философия 269 См.: Вехи: Сборник статей о русской интеллигенции Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, М.О. Гершензона, А.С. Изгоева, Б.А. Кистяковского, П.Б. Струве, С.Л. Франка. – Репринтное издание 1909 г. М., 1990. 174 Н. Бердяева. Поэтому не случайно резкое неприятие русской философией агностицизма И. Канта, возвестившего невозможность для человека прорваться за границы явлений этого мира, к сущности вещей. Весь дух учения Канта (несмотря на его этическую направленность, что сближает его с русской мыслью) противоположен русской религиозно-идеалистической философии, которая устремлена за устанавливаемые Кантом пределы. «Там, где Канту видится ноуменальный мрак “вещи в себе”, русским мыслителям сияет свет откровенной истины, – подчеркивает А.В. Ахутин. – Там, где кантовский чистый (теоретический) разум как бы повисает в воздухе безосновности, русские мыслители обретают абсолютную сверхразумную основу и “припоминают”, что всегда уже на ней стояли»270. Термин «припоминание» отсылает нас к следующей существенной особенности русской философии. Речь идет о способе философствования. Негативное отношение к направленности и духу философии Канта не отменяло необходимости учитывать бесспорные выводы кантовского учения, которые обусловили переворот в гносеологии, а именно: установление границ рационального познания. После открытий кенигсбергского мыслителя стало ясно, что всякое рациональное обоснование существования высших трансцендентных начал ограниченно и условно. Именно в поисках этого обоснования русская религиозная философия приходит к интуитивизму как способу постижения трансцендентного. Отсюда – поворот к религии, к религиозным формам познания, к вере, к религиозному переживанию и, наконец, к отдельной человеческой личности как носителю интуитивно постигаемого знания о трансцендентном. Близость к религии, безусловно, ослабляет теоретический статус русской философии. Однако это «умаление» ее значимости справедливо лишь в том случае, если философия рассматривается исключительно как рациональная форма теоретического познания. Но данное утверждение проблематично. Взаимоотношения русской идеалистической философии с религией, в частности с христианской православной доктриной, требуют пояснения. Религиозная направленность, пронизанность этой философии религиозным содержанием бесспорны. Однако из этого не 270 Ахутин А.В. София и черт (Кант перед лицом русской религиозной метафизики) // Вопросы философии.1990, № 1. С. 64. 175 следует с необходимостью, что она носит теологический характер и не обладает самостоятельным философским значением. Как справедливо подчеркивает В.В. Зеньковский, религиозные догматы даже у тех русских философов, которые хотят быть религиозными, лишь поставляют материал для философских размышлений271. К тому же большинство русских мыслителей достаточно вольно обращались с православными канонами, за что подвергались осуждению и нападкам со стороны официальной церкви, а некоторые, например, Д. Мережковский, открыто провозглашали задачу формирования «нового религиозного сознания» (в этом «повинны» и более ортодоксальные, религиозные мыслители – Вл. Соловьев и П. Флоренский). Что касается религиозного опыта, на который часто ссылаются русские мыслители, то он имеет для них не религиозное, а философское значение. Вопрос о формах познания, как он представлен в русской религиозно-идеалистической философии, представляет для нашего исследования самый непосредственный интерес. В русской философии, как и в западной, была осознана и открыто провозглашена недостаточность рационального понятийного мышления для решения метафизических вопросов, ибо предметом философского познания является нечто, лежащее за пределами чувственного опыта и не подлежащее простому обобщению и систематизации – некая мета-реальность, область абсолютного. Недоступная рационально-логическому познанию, она, по убеждению русских мыслителей, открывается человеку в интуиции. Интуитивизм – одна из существенных особенностей русской философии, независимо от того, провозглашается ли он в качестве основного конструирующего принципа всего учения, как у Н. Лосского, или же выступает одним из познавательных средств в построении философской системы, как у Вл. Соловьева, П. Флоренского или С. Франка. Раскрывая суть своего подхода, Лосский писал, что интуитивизм – это «учение о том, что познанный объект, даже если он составляет часть внешнего мира, включается непосредственно сознанием познающего субъекта, так сказать, в личность и поэтому понимается как существующий независимо от акта познания. Подобного рода созерцание других сущностей такими, какими они являются сами по себе, возможно потому, что мир есть некоторое органичное целое, а познающий 271 См.: Зеньковский В.В. История русской философии. Л.,1991. Т.2, ч. 2. С. 189–190. 176 субъект, индивидуальное человеческое Я – некое сверхвременное и сверхпространственное бытие, тесно связанное с целым миром»272. Интуитивизм русской философии не носит самостоятельного, самодовлеющего характера. Он является следствием и выражением другой более важной составляющей русского сознания – стремления к целостности, органичности, единству. Не случайно именно тема всеединства становится одной из центральных для нашей философии и складывается в более или менее оформленную концепцию. Эта тенденция к целостности проявляется во всех областях философствования. Русские мыслители пытались преодолеть односторонность узко рационалистического подхода к познанию истины, открыто и резко противопоставляя себя абстрактному и отвлеченному западному типу философствования273. Как замечал Н. Бердяев, русская религиозная философия особенно настаивает на том, что философское познание есть познание совокупностью духовных сил – «целостным духом», в котором разум соединяется с волей и чувством и в котором нет рационалистической рассеченности274. В стремлении к целостному знанию Вл. Соловьев считал необходимым органично соединить достижения рационального познания с религиозным и мистическим знанием, постигаемым интуитивно, как «непосредственное ощущение абсолютной действительности». В «Философских началах цельного знания» он называет три источника познания: опыт, разум и «мистическую сферу», рассматривая мистицизм как основу истинной философии275. Таким же образом представляет себе структуру познания С. Франк. Он приходит к выводу об ограниченности применения логических законов, не пригодных для познания области металогического, сверхрационального знания – «непостижимого». Последнее доступно, по его мнению, только «первичному знанию», или непосредственному созерцанию, или интуиции276. 272 Лосский Н.О. История русской философии. М. 1991. С. 321. Обвинение западной философии в абстрактной отвлеченности и «рассеченности» – можно сказать, «общее место» в русской философии (см., напр., Соловьев В.С. Критика отвлеченных начал и др). 274 См.: Бердяев Н.А. Русская идея // Вопросы философии. 1990, №1. С. 103. 275 См.: Соловьев В.С. Философские начала цельного знания // Соловьев В.С. Соч.: В 2 т. М., 1988. Т. 2. С. 192. 276 См.: Франк С.Л. Непостижимое // Франк С.Л. Сочинения. М.,1990. С. 229. 273 177 П. Флоренский также считал, что для проникновения в область абсолютного «разум должен отрешиться от своей ограниченности в пределах рассудка»277 и выйти в сферу живого опыта. Основанием истинного познания должна стать поэтому «разумная интуиция». Термин «разумность» применяется к определению интуиции не случайно: интуитивизм как принцип философского познания отличается от чисто иррациональной мистической интуиции, имеющей исключительно образноэмоциональный характер. Русские философы постоянно подчеркивали интеллектуальный характер интуиции как элемента целостного знания, предполагающего осмысление данных непосредственного опыта сознания278. Интуитивное знание как непосредственное усмотрение трансцендентного содержания, скрытого от поверхностного рассудочно-эмпирического познания, рассматривалось большинством русских мыслителей как основа истинного философского знания. Это дало основание А.Ф. Лосеву утверждать, что русская философия носит до-логический, досистематический, точнее, сверх-логический, сверх-систематический характер279. «Она представляет собой чисто внутреннее, интуитивное, чисто мистическое познание сущего, его скрытых глубин, которые могут быть постигнуты не посредством сведения к логическим понятиям и определениям, а только в символе, в образе посредством силы воображения и внутренней жизненной подвижности», – пишет автор280. Таким образом, гносеология русской философии заметно отличается от западной, ибо наряду с рациональным познанием существенное место в ней занимает вера. Феномен веры в данном случае носит не религиозный, а философский характер. Вера как элемент познания не означает простой (основанной на авторитете) бездоказательной убежденности в существовании высших начал, но предстает как непосредственное, невыразимое рационально переживание связи с трансцендентным, исходящее из глубин внутреннего мира личности, как некое внутреннее состояние духа. В таком статусе вера рассматривается русскими философами как знание более высокого, по сравнению с рассудочным, 277 См.: Флоренский П.А. Столп и утверждение истины. М.,1990. Т.1. (1). С. 60. См., напр., Лосский Н.О. История русской философии. С. 323. 279 См.: Лосев А.Ф. Русская философия // Введенский А.И., Лосев А.Ф., Радлов Э.А., Шпет Г.Г.: Очерки истории русской философии. Свердловск, 1991. С. 67. 280 Там же. С. 71. 278 178 порядка, как способность человека шагнуть на следующую ступень познания, которая отделит его от простой принадлежности материально-вещному миру и тем самым обеспечит превращение его из объекта («вещи среди вещей») в субъекта своей собственной жизни, своих стремлений281. Франк также утверждал, что человек без веры является плоским, одномерным, неспособным к глубокому мышлению, творчеству. Осуществление веры, по его мнению, совпадает с понятием духовной жизни вообще. Оно означает работу по укоренению душевной жизни в просветляющем, богочеловеческом начале духа282. Интересно в этом отношении высказывание Л. Шестова, страстного защитника иррациональной природы взаимоотношений человека и мира, возвещавшего вслед за С. Кьеркегором (иногда преувеличенно, односторонне) всесилие веры: «Нет истины там, где царствует принуждение, – писал он, имея в виду необходимость объективных законов разума. – Не может быть, чтобы принудительная и ко всему безразличная истина определяла собой судьбы мироздания»283. И как итог этого: «Чтобы прийти в обетованную землю, не нужно знание, для знающего человека обетованная земля не существует. Обетованная земля там, куда пришел верующий, она стала обетованной, потому что туда пришел верующий»284 . Стремление русской философии к целостности выражается и в характерной для нее идее конкретности. Озабоченная вопросами практической жизни, русская философия в качестве отправной точки и одновременно цели своего познания полагает конкретную человеческую личность. Последняя выступает здесь не как абстракция человека, но в единстве и полноте всех ее жизненных проявлений. Ориентированная на познание сверхэмпирических, высших начал человеческой жизни, русская мысль никогда не переходила ту грань, за которой философия превращается в абстрактное теоретизирование. Она всегда держит в поле своего зрения реальную человеческую личность – не только обращен281 См.,напр.: Бердяев Н.А. Философия свободы // Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. М.,1989. С. 37, 52–53. 282 См.: Губин В.Д. Проблема веры в религиозной философии С.Л. Франка // Русская философия и духовная культура современности: Тезисы республ. науч.-теор. конф. Иркутск, 1991. Кн. I. С. 42–43. 283 Шестов Л. Киргегард и экзистенциальная философия. С. 228. 284 Шестов Л. Киргегард и экзистенциальная философия. С. 230. 179 ную к высшим, запредельным смыслам, но и стоящую на земле, принадлежащую природному миру. Средоточием целостности конкретного человеческого существования выступает, по мнению многих русских мыслителей, душевная жизнь индивида, его душа. В ней как бы происходит синтез многообразных отношений человека с миром: сливаются чувственное восприятие мира, голоса животной человеческой природы и рациональное, холодно-рассудочное, социальнонормированное мышление. Своеобразие их сплава, соединения и характеризует индивидуальность личности, ее душевный склад. Определяющим началом человечности в русском менталитете всегда выступала не разумность, не холодный, трезвый ум, а сердечность – способность к непосредственной эмоциональной реакции на окружающее. По мнению И. Ильина, человека ведет не мысль и не сознание, но любовь, и потому «человек определяется тем, что он любит и как он любит»285. Отсутствие живого чувства, односторонняя рассудочность вызывают у русского человека настороженность и осуждение. «Слишком глубокий теоретизм душевного склада потому, быть может, и вызывает неудовлетворенность, – рассуждает В. Розанов, – что всякого, кто имел несчастье дойти до него, он отделяет глубокою и уже никогда не преступаемою чертой от всего живого и единичного». Такое отстраненное противостояние миру, ведущее к одиночеству, рассматривается мыслителем как «поступок против собственной души» и как «неизбежная кара за нарушение гармонии в ее развитии» 286. Стоит ли удивляться резкому неприятию русской мыслью этики Канта с ее принципом долженствования? Возражая против рационалистической интерпретации нравственности, П.Д. Юркевич в своей статье «Сердце и его значение в духовной жизни человека» писал: «Нам врождены не правила, не мысли о нравственной деятельности, но самые влечения и стремления к ней»287. Выражением такого же подхода являются и рассуждения И. Ильина о духовности инстинкта. Наконец, подчеркивая вторичность рационального осмысления в нравственном поведении, В. Розанов замечает, что 285 Ильин И.А. О духовности инстинкта. С.307. Розанов В.В. Литературная личность Н.Н. Страхова // Феномен человека: Антология. М., 1993. С. 70. 287 Юркевич П.Д. Сердце и его значение в духовной жизни человека. С. 100. 286 180 «должное указывается умом и выполняется, когда более не подсказывается сердцем, и жизнь уже не творится, не играет, но только поддерживается»288. Характерно, что русские религиозные мыслители никогда не отвергали значения телесности, возможности ее одухотворения289. Так, в теории «общего дела» Н. Федорова телесное воскрешение рассматривалось как необходимый элемент торжества справедливости и гармонии мира. В философии Вл. Соловьева идея духовной телесности занимает одно из центральных мест. По мнению А.Ф. Лосева, из нее можно вывести все остальные идеи – идею Всеединства и Богочеловечества, идею преображения тела и духа, идею Церкви как Тела Христова. «Соловьев, – подчеркивает Лосев, – верит в святость, чистоту и красоту материи и тела»290. На значение идеи целостной жизни в русской философии и связанный с ней приоритет конкретного над отвлеченным, индивидуального над общим указывает Н. Лосский291. Ярко, в символической форме выразил идею целостности личности Е. Трубецкой. Критикуя односторонность натуралистического (греческого – «дионисийского») и «супранатуралистического» (древнеиндийского – буддийского, брахманистского) жизнепониманий, философ утверждает взаимосвязь, взаимоперекрещивание в человеческой жизни этих двух стремлений – горизонтального, ориентирующегося на земное проживание, и вертикального, восходящего к вершинам духа. Символом этого скрещения выступает у Е. Трубецкого крест 292. Интуитивные прозрения русских мыслителей находят обоснование в развитии современной науки. Разработки психологов, связанные с выявлением арефлексивного (бытийного) уровня сознания, открытия трансперсональной психологии, в частности опыты С. Грофа, свидетельствующие о связи глубинных слоев внутреннего мира человека со всей остальной Вселенной, фундаментальные физические исследования, позволяющие предполо288 Розанов В.В. Литературная личность Н.Н. Страхова. С. 70. См. также: Федотов Г.П. Esse Homo. О некоторых гонимых «измах». 289 Некоторые даже делают ее предметом специального рассмотрения. См. «философию пола» В. Розанова. 290 Лосев А.Ф. Русская философия. С. 83. 291 См.: Лосский Н.О. Идея конкретности в русской философии // Вопросы философии. 1991, № 2. С. 128. 292 Трубецкой Е. Смысл жизни // Смысл жизни: Антология. С. 291–292. 181 жить существование скрытого (неявного) уровня реальности, имплицитно несущего в себе возможность конституирования явных, оформленных миров (в том числе нашего пространственновременного континуума) и другие данные заставляют задуматься об эвристической роли идей, высказанных русскими философами задолго до появления указанных научных направлений. Две основные идеи важны для исследования рассматриваемой нами проблемы человеческой духовности: идея о существовании высших трансцендентных ценностей и мысль о человеке как носителе трансцендентных начал, связанном с миром трансцендентного посредством того «света», который обнаруживается в глубинах его внутреннего мира, в духовных интенциях личности. Даже беглое знакомство с русской религиозно-философской литературой позволяет утверждать, что эти идеи – вера в существование высшего смысла и опора на личность – выражают самую суть русской философии. Почему именно они стали господствующими в России? Как это возможно, что в конце XIX – начале XX века, в эпоху преобладающего влияния естественнонаучного материализма и философского позитивизма, на фоне утилитаристских политических и социальных движений возник такой своеобразный феномен культуры – русская философия, утверждающая существование высших трансцендентных начал и ценностей на основе сомнительных для сциентистски настроенного ума свидетельств хрупкой и непостоянной, неопределенной человеческой души, главным инструментом которой являются интуиция и вера? Объяснение, связанное с обвинением русской философии в неразвитости, «ненаучности», усугубляемое ее близостью к религии, не представляется достаточно убедительным и глубоким. Современный уровень развития познания позволяет считать, что научность (в смысле логико-рационалистической непротиворечивости) еще не является единственным и достаточным критерием истинности знания. Сегодня находится все больше оснований для подтверждения развитой в русской философии идеи целостности знания. Рискнем высказать свое объяснение. «Неразвитость» русской философии, в смысле отсутствия окончательной оформленности, систематизированности, характерных для западного теоретического мышления, может быть понята и как ее преимущество, а именно: как открытость русской мысли всех 182 «каналов» познания, включая интуитивный, основанный на ощущении непосредственной связи со всем окружающим миром. Западное мышление, со времен античности жестко сориентированное на рационально-логическое познание, утратило важнейшую способность, присущую, как показывают исследования, еще первобытному человеку, – способность интуитивного общения с миром и себе подобными и получения непосредственного (неопосредованного рационально-логическим мышлением) знания о мире. В результате человек западной цивилизации превратился в функцию разума, точнее – рационально-рассудочного мышления, и, утратив связь с природой, оказался заложником своего собственного творения – техники. Все более и более подчиняясь законам технического, машинного мышления, этот современный «разумный механизм» становится неспособным прислушиваться к голосу собственного внутреннего мира и не склонен доверять каким-либо утверждениям, не поддающимся исчислению и рациональному доказательству. И только все более частая несостыковка стандартных представлений о жизни и ее действительных проявлений заставляет современного «массового человека» обращаться к помощи бесчисленных психотерапевтов и психоаналитиков, что еще более подтверждает неспособность типичного представителя западной цивилизации самостоятельно разрешить возникающие перед ним вечные вопросы человеческого существования. В России же нравственный элемент всегда преобладал над интеллектуальным, как заметил еще Н. Бердяев293. Эту же мысль подтверждает А. Лосев: «Русская философия никогда не занималась чем-либо другим, помимо души, личности и внутреннего подвига»294. И дело здесь не просто в преобладании нравственной проблематики, но в особом видении мира, исходящем из человека, в доверии к индивидуальному духовному опыту личности. Конечно же, русская философия, развивавшаяся в рамках сложившейся рационалистической парадигмы, далека от безоговорочного принятия внутреннего интуитивного опыта, который с необходимостью должен быть рационально осмыслен и вписан в систему цельного знания. Но исходные интуиции русской философии все-таки носят иррациональный характер и связаны с ве293 294 См.: Бердяев Н.А. Русская идея. С. 86. Лосев А.Ф. Русская философия. С. 82. 183 рой как внутренним состоянием души. Это позволяет некоторым авторам говорить об особой, эмоционально-акцентированной гносеологии сердца, свойственной русской философии.295 Разумеется, указанные черты русской философии не могут служить для обоснования строго научных представлений о человеке и его внутреннем мире. Однако для философского осмысления природы человеческого духа, его онтологических оснований и ценностных ориентаций они имеют несомненное и исключительно важное значение. 2. Противоречивый диалог с действительностью: тяга к абсолютному Утверждение об особой эвристической роли русской философии в исследовании человеческой духовности требует дальнейшего обоснования. Прежде всего в плане раскрытия в ней тех сущностных характеристик духовности, которые были выявлены в первой главе данного исследования, а именно: понимания духовности как процесса трансцендирования наличной действительности, выражающегося в осознании человеком своей неумещаемости в мире и в его стремлении к преодолению ограниченности своего существования. Недостаточность, несовершенство реальной земной жизни всегда являлись стимулом всякого философствования – российская же действительность более других давала почву для таких философских вопрошаний и поисков. Как складывались взаимоотношения русской философии с действительностью? Что означает «отрицание действительности» в русской философии? Как увязывается негативизм в отношении к действительности с общеизвестной «практичностью» русской философии? Русская философия всегда была тесно связана с жизнью. Само философствование как особая форма мышления возникает здесь из практических задач – как размышление о судьбах России, о месте и роли интеллигенции в деле освобождения народа, наконец, о назначении человека в его земной жизни. Забота о благе народа и процветании России – вот движущая сила, иници295 См.: Громов М.Н. Вечные ценности русской культуры: к интерпретации отечественной философии // Вопросы философии. 1994, № 1. С. 60. 184 ирующая развитие русской мысли, которая всегда отличалась острой социальной направленностью. Истина сама по себе, безотносительно к реальной жизни, к конкретному человеческому индивиду, никогда не интересовала русских философов. Не случайно чисто эпистемологическое понятие «истина» нередко трансформируется здесь в труднопереводимое и трудновыразимое понятие «правда», которое несет на себе уже не столько гносеологический, сколько социально-этический смысл. Вместе с тем развивавшаяся в условиях вечной (почти фатально неустранимой) скудости материальной жизни, русская мысль никогда не ориентировалась на создание «земного рая» как последней цели человеческого существования. Русскому сознанию чуждо ограниченное по своей сути стремление к кропотливому будничному устроению жизни, к строгой упорядоченности земного существования, свойственное цивилизованному европейцу. Оно всегда направлено к запредельному, сверхобыденному, стремится к Высшему, Абсолютному. И, тем не менее, было бы несправедливым обвинять русскую философию в том, что она «витает в облаках», ориентируется на абстрактный, отвлеченный идеал аскетической духовности. Как раз наоборот. Будучи в оппозиции к «неподлинному» миру обыденности и филистерской озабоченности, она ищет реальных путей к осуществлению «подлинного бытия». В русской философии эта по существу экзистенциальная тема находит выражение в концепции «живой жизни», представляющей собой процесс духовного творчества человека на земле296. Как подчеркивал Н. Бердяев, «человек с сильно выраженной духовностью совсем не есть непременно человек, ушедший из мировой и исторической жизни. Это человек, пребывающий в мировой и исторической жизни и активный в ней, но свободный от ее власти и преображающий ее»297. В этом высказывании нашло выражение своеобразие подхода русской философии к пониманию духовности. Суть его заключается в твердом убеждении, что духовность, будучи обнаружением и проявлением выс- 296 См.: Океанский В.П. Истоки и типологические очертания духовности в русской религиозной философии // Русская философия и духовная культура современности. Иркутск, 1991. Кн. II. С. 30. 297 Бердяев Н.А. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого. С. 322. 185 шего, божественного бытия в человеке, должна не отрицать действительность, а преображать ее. Философия С. Булгакова, может быть, более других обращена к действительности, к миру. Не случайно в первый период своей деятельности он находился под влиянием экономического материализма. В творчестве Булгакова наглядно проявилась эволюция русской мысли – ее движение от идеалов социального равенства и революционности к познанию более глубоких основ человеческой жизни, ее сверхвременного, сверхэмпирического смысла. «Вопрос о социальном идеале все яснее формулировался как религиозно-метафизическая проблема», – писал он в своей работе «От марксизма к идеализму»298. Однако, как отмечает В. Зеньковский, «религиозный перелом не оторвал его от мира, а сам определился потребностью глубже понять мир и проникнуть в его сокровенную жизнь, сокровенный смысл».299 Булгаков был убежден, что христианский идеал не может быть осуществлен в пределах земной жизни. Он не приемлет высокомерие человека, который поддался «соблазну магизма», вознадеявшись овладеть миром при помощи внешних, недуховных средств. Но ему глубоко чужда и позиция неделания, отстраненного созерцания мира. Он разрабатывает своеобразную концепцию, в соответствии с которой разлад между миром и человеком вызывет необходимость труда и хозяйственной деятельности – серой магии, в которой неразделимо смешаны элементы магии белой и черной, силы света и тьмы, бытия и небытия300 . Вопиющие пороки и несовершенства российской действительности не позволяли предаться отвлеченному созерцанию и требовали реальных усилий по их устранению, искоренению. Отсюда и часто вменяемый в вину русскому сознанию максимализм – от ощущения невозможности вынести медленное, постепенное преобразование общественной жизни и стремление сейчас же, немедленно (неважно, каким путем и какими средствами) избавиться от ставшей уже невыносимой действительности. И может быть именно в силу этого максимализма русское сознание уже не останавливается на простом обустройстве сытой и довольной, добропорядочной жизни, а тяготеет к запредельному, к высшему, 298 Цит. по: Зеньковский В.В. История русской философии. Т. 2, ч. 2. С. 206. Там же. С. 207. 300 Булгаков С.Н. Философия хозяйства // Булгаков С.Н. Соч.: В 2 т. М.1993. Т.1. С.126. 299 186 к Абсолюту. Такова диалектика исключения промежуточности, взаимопревращения противоположностей, скачка от нищеты и убожества земного прозябания к свету и совершенству духовной жизни. Наиболее последовательным выражением противоречивого отношения к действительности явилась в русской философии концепция Всеединства. Смысл ее заключается в утверждении об единосущной природе всего существующего, причем не только тварного мира (космическое единство), но и его творца. Вот почему в философии всеединства важное место занимает учение о Софии. София – премудрость Божия и вместе с тем Душа мира – выступает необходимым опосредствующим звеном при переходе из области абсолютного с его атрибутами вечности, истинности и совершенства к тварному миру, который не только не обладает совершенством, но часто определяется как «лежащий во зле». В русской философии при всем ее негативизме в отношении мирового зла последовательно проводится мысль о сопричастности всего земного высшему, абсолютному началу, что и дает основание для оптимистической эсхатологии – веры в то, что в конце истории возможно преодоление всеобщей разобщенности, выступающей причиной всякого зла, и софийное преображение мира, становление Богочеловечества. Таким образом, отрицанию подлежит не сам мир как таковой, а лишь его отпавшая от Бога, стремящаяся к самоутверждению и потому противостоящая всему остальному злая самость – все, что стремится закрепиться в своей отдельности и потому сеет вражду и разобщенность. Как видим, в рамках концепции всеединства имеет место и отрицание наличной действительности как неистинной, лежащей во зле, и, одновременно, утверждение возможности преодоления ее несовершенства, коренящегося в изначальном единстве всего сущего и осуществляемого посредством любви. Итак, своеобразие русской мысли состоит в том, что, будучи озабоченной задачами практического улучшения жизни, она никогда не опускалась на уровень обывательской доктрины и свои представления о достижении всеобщей справедливости и благоденствия связывала с движением человечества к Высшим, Абсолютным ценностям, осуществляющимся в процессе духовного совершенствования личности. В отличие от западной философии, замкнувшей истинное бытие в границы человеческой субъектив187 ности (и даже в случае признания фундаментальности Бытия как такового оставляющая человека в пределах монологического существования), русская философия в человеке, в глубинах его внутреннего мира полагает основу для утверждения о существовании высших трансцендентных начал. Интуитивное обнаружение «нездешних корней нашего бытия»301, заявляющих о себе в духовных интенциях индивида, является для русских мыслителей свидетельством существования сверхэмпирической действительности, абсолютного бытия. В свете русской мысли индивидуализм и субъективизм как выражение разобщенности неистинного бытия не могут быть последним и окончательным уделом человеческого существования и должны быть преодолены – и преодолеваются – в процессе духовного трансцендирования. Подчеркивая укорененность человеческой самости в объективных слоях бытия, С. Франк писал: «Душа освобождает себя от самовольной, лишенной основания “субъективности” путем трансцендентности вовнутрь, в глубины, к духу, являющемуся “объективным бытием” не в смысле бытия объекта, но бытия актуальной, завершенной, устойчивой реальности, имеющей ценность в себе самой и, следовательно, придающей также смысл нашей психической жизни...».302 Позже, в своей итоговой работе он выскажется еще определеннее: «Душа не замкнута изнутри, не обособлена от всего иного; в направлении внутрь, в глубину “душа” не только не встречает нигде своего “конца”, какой-либо преграды, ее ограничивающей, но, напротив, расширяется, незаметно переходя в то, что уже не есть “она сама”, и сливаясь с ним»303. Непосредственное ощущение Абсолюта как данность внутреннего опыта – основная предпосылка философских рассуждений русских мыслителей о существовании высших трансцендентных начал. Глубже всякого определенного чувства, представления и воли лежит в нас непосредственное ощущение абсолютной действительности, – писал Вл. Соловьев304. При этом истинность (достоверность) этого мистического в своей основе акта познания не подвергается здесь сомнению, ибо подобного рода 301 См.: Булгаков С.Н. Свет невечерний // Булгаков С.Н. Соч.: В 2т. М.1993. Т.2. Франк С.Л. Душа человека. С.198. 303 Франк С.Л. Реальность и человек. Спб.,1997. С.56. 304 Соловьев В.С. Философские начала цельного знания. С.232. 302 188 знание в силу своего металогического характера не может быть верифицировано и является предметом интуиции или веры. Такое отсутствие строгости, повторимся, может быть недостаточно убедительным для научного, точнее, естественно-научного теоретического познания. Но для философского понимания особенностей человеческой души, ее направленности и ценностных содержаний (в смысле вдумчивого, глубинного постижения неформализуемых содержаний) интуитивный опыт представляет самый непосредственный интерес. Осмелимся высказать утверждение, что для философского постижения внутреннего, духовного мира человека понятия достоверности и строгой научности вообще не применимы. Здесь имеет значение сам факт внутреннего переживания (в данном случае связи с Абсолютом) в его неоспоримой достоверности. Для суждения о правомерности приведенных рассуждений важно еще раз подчеркнуть, что является предметом данного исследования. Следует подчеркнуть, что нас интересует не столько наличие абсолютной реальности и ее онтологическое обоснование (эти задачи играют здесь подчиненный, инструментальный характер), сколько присутствие ее в духовном опыте личности как элемента, определяющего содержание и направленность духовной жизни индивида. С этой точки зрения вера, интуитивные прозрения существенно значимы для внутренней жизни самого индивида и, более того, будучи включенными в мотивационную структуру личности, определяют ее бытие-в-мире, ее социальное поведение. В указанном контексте эвристической ценностью обладают и такие высказывания, которые с точки зрения «строгой науки» не обладают достаточной убедительностью. Вот, например, рассуждение П. Флоренского, представляющее собой вербализацию его интуиции Абсолюта: «Я не знаю, есть ли Истина, или нет ее. Но я всем нутром ощущаю, что не могу без нее... Может быть, нет ее; но я люблю ее, – люблю больше, нежели все существующее... Для нее я отказываюсь от всего – даже от своих вопросов и от своего сомнения ... Свою судьбу, свой разум, саму душу своего искания – требование достоверности я вручаю в руки самой Истины. Ради нее я отказываюсь от доказательства»305. Субъективная достовер305 Флоренский П.А. Столп и утверждение истины. 1 (1). С. 67–68. 189 ность духовной интенции автора описана столь убедительно, что вряд ли стоит сомневаться в ее определяющем воздействии на всю структуру его внутреннего мира, а соответственно и на формы ее экстериоризации – социальную деятельность личности. Это высказывание принадлежит не пребывающему в блаженном неведении обывателю или даже только о. Павлу Флоренскому, но человеку, долгие годы связанному с научной деятельностью, ученому-математику, имеющему представление о системе теоретических доказательств. Тем не менее, основой истинного познания он все-таки считает «духовное зрение», интуицию. В развиваемой здесь «апологии интуиции» речь, разумеется, идет не о познании предметного мира, а о его скрытых метафизических основах, лежащих за пределами возможностей теоретического разума, ибо уже Канту было очевидно, что метафизическое (Бог, мир, душа) не может быть однозначно встроено в «физическое». Метафизические идеи образуют горизонт теоретического разума, но «само» метафизическое остается за этим горизонтом306. И потому «неотменимая модальность умозрительного» (перефразируем сентенцию Дж. Джойса), возникающая в процессе развертывания сокровенных содержаний внутреннего мира личности, оказывается, пожалуй, единственным непосредственным свидетельством или, если угодно, непосредственным фактом обнаружения непостижимой реальности трансцендентного. Разумеется, речь идет о чисто человеческих восприятиях, чисто человеческих свидетельствах. Но знаем ли мы какие-либо другие свидетельства? И какие мы имеем основания претендовать на внечеловеческое, сверхчеловеческое знание? Невозможность для познания выйти за границы собственно человеческого сознания была ясно осознано представителями русской философской мысли. Характеризуя учение И. Ильина, В. Зеньковский замечает, что его философствование есть «обращение к метафизике в пределах имманентных данных сознания»307. Эта характеристика вполне применима и ко всей русской философии, ибо опытную основу ее рассуждений образуют имманентные содержания человеческого сознания. Итак, в духовных интенциях отдельной человеческой личности обнаруживается бытие трансцендентного. Но что пред306 307 См.: Ахутин А.В. София и черт. С. 66–67. См.: Зеньковский В.В. История русской философии. Т. 2, ч. 2. С. 133. 190 ставляет собой эта метафизическая, сверхэмпирическая реальность? В русской философии, в силу ее религиозноидеалистической направленности, она, как правило, выступает в облике божественного бытия, однако способы ее интерпретации носят здесь чисто философский характер, о чем говорилось выше. В существовании Абсолюта не сомневается никто из русских философов, но природа абсолютного трактуется ими по-разному. Можно выделить два основных подхода. В одном случае абсолютное выступает как критерий совершенства, совокупное выражение высших, абсолютных ценностей и соотносится с высшими человеческими стремлениями и интенциями, олицетворяет собой высший смысл человеческого существования. Таковы учения Вл. Соловьева, Е. Трубецкова, С. Трубецкова, Л. Карсавина, разрабатывающие концепцию Всеединства. В них принципиальное различие между Абсолютом (Творцом) и видимым (тварным) миром заметно стирается и все сущее оказывается в известной мере тождественным, единосущным. Так, в «Чтениях о Богочеловечестве» Вл. Соловьев развивает учение о том, что мир полагается Богом из самого себя как Его «другое». Вследствие этого природный мир есть только другое – недолжное – взаимодействие тех же самых элементов, которые образуют и бытие мира божественного. Поэтому Божественный и внебожественный мир «различаются между собой не по существу, а по положению»308. Метафизика «Другого» развивается и в учениях Л. Карсавина и С. Трубецкова309. Это дает основание исследователю русской философии В. Зеньковскому для обвинения сторонников концепции Всеединства в пантеизме. Конечно, замечает он, это не пантеизм в обычном смысле слова. Здесь нет отождествления или уравнивания Бога и мира, но здесь налицо такое их соотношение, при котором Абсолютное «соотносительно» миру, при котором оно немыслимо без мира: в Абсолютном нет свободы в отношении к миру310. С точки зрения концепции Всеединства для полноты своего бытия Абсолют нуждается в существовании своего Иного, прежде всего человека. Последний, будучи, как и все сотворенное, 308 Соловьев В.С. Чтения о Богочеловечестве // Соловьев В.С. Соч.: В 2 т. М., 1989. Т. 2. С. 123. 309 См.,напр., Трубецкой С.Н. Основания идеализма // Русские философы конца XIX – середины XX вв. М., 1994. С. 419. 310 См.: Зеньковский В.В. История русской философии. Т. 2, ч. 2. С. 151. 191 эманацией Абсолюта, тем не менее, обладает свободой воли, которая в своем стремлении к самоутверждению порождает зло – отпадение от изначального единства, разобщение и вражду. Поэтому в концепции Всеединства не только божественное проявляется в человеческом, но и человеческое (в частности, интересующие нас человеческие ценности) приобретает статус божественного. Отсюда – вера в божественную природу человека, в изначальность добра и в конечную победу Богочеловечества. Указанные концепции являются, как правило, рационалистическими (по форме, а не по исходной интуиции). Абсолют наделяется в них атрибутом разумности и выступает (в одной из своих ипостасей) то в качестве Логоса (у Вл. Соловьева), то в качестве «Вселенского сознания» (у С. Трубецкова) или «безусловного сознания» (у Е. Трубецкова). Данные концепции исходят из представления о предустановленной разумности и гармонии бытия. Человеку в этой системе мироздания отводится особая роль, поскольку благодаря наличию сознания ему дано постичь эту гармонию и стать первым тварным существом, способным преодолеть свою тварную природу и перешагнуть грань между неподлинным и подлинным бытием. Сама возможность человеческого сознания заключается в его связи с Божественным, Абсолютным сознанием, в сопричастности ему. «Всякое “отдельное” сознание обосновано в некоем “вселенском сознании”», – убежден С. Трубецкой311. По словам Е. Трубецкого, «Всеединый ум видит и знает, а мы, люди, через него видим и вместе с ним – со-знаем. По отношению к нам частица “со” в глаголе со-знавать выражает обусловленность нашего сознания, его зависимость от безусловного всевидения и всеведения»312. Совершенно естественно, что при таком понимании свобода человека может заключаться только в добровольном, осознанном следовании должному, а это в известной мере сужает, ограничивает ее возможности. В. Зеньковский замечает в связи с этим, что «Соловьев не отвергает свободы воли, но “добро” не является у него прямым предметом произвольного выбора»313. Итак, одна из трактовок Абсолюта, представленная в работах русских философов, исходит из его соотносительности миру, 311 Зеньковский В.В. История русской философии. Т. 2, ч. 2. С.98. Трубецкой Е.Н. Смысл жизни. С. 264. 313 Зеньковский В.В. История русской философии. Т. 2, ч. 2. С. 63. 312 192 а смысл человеческого существования видит в приобщении к вечным, предсуществующим ценностям, образующим содержание Абсолюта. Наряду с изложенным подходом, который назовем рационалистическим (условно, поскольку в нем присутствуют и элементы мистического познания)314, существовал и другой. Представители его исходили из принципиальной непостижимости, неопределимости трансцендентных основ бытия, в силу чего мистический элемент играет в этих учениях более заметную роль. Так, в персоналистической философии Н. Бердяева в качестве фундаментальной основы всякого бытия выступает «Ничто» – некий первичный хаос, не содержащий никакой дифференциации, никаких определений, кроме своей безосновности. Эти представления восходят к мистическому учению Я. Беме, который обозначал этот первичный принцип термином Ungrund. Замечательно, что при таком подходе не только мир, но и Бог является порождением изначального хаоса, что, по существу, лишает его бытие характера абсолютности. В соответствии с воззрениями Н. Бердяева, Бог является источником только добра. Зло же, как выражение стремления к самоутверждению и разобщенности, есть результат осуществления иррациональной свободы, коренящейся в «Ничто». Отсюда следует, что «Бог-создатель является всемогущим над бытием, над сотворенным миром, но у него нет власти над небытием, над несотворенной свободой»315. Сходные представления развивает и С. Франк. Анализируя процесс познания и соответствующие ему виды бытия, Франк приходит к выводу о существовании наряду с эмпирической и идеальной (образуемой понятиями) действительностью также области металогического, сверхрационального знания – области непостижимого. «Познаваемый мир со всех сторон окружен для нас темной бездной непостижимого, – замечает философ316. Он, как и Бердяев, подчеркивает недифференцированность этой первичной 314 Так, например, В. Зеньковский характеризует мировоззрение В. Розанова как «мистический рационализм». Будучи уверенным в рациональной «предустановленности» бытия, Розанов, по утверждению этого автора, глубже других чувствовал божественный свет в космосе. «Но тем ярче выступает перед нами мистицизм в мировоззрении Розанова с его постоянным ощущением того, как за прозрачной поверхностью «рационализма» начинается сфера трансцендентного» // Зеньковский В.В. История русской философии. Т. I, ч. 2. С. 227. 315 Цит. по: Зеньковский В.В. История русской философии. Т. 2, ч. 2. С. 84. 316 Франк С.Л. Непостижимое. С. 217. 193 основы, выступающей как «некая безусловно нераздельная сплошность, некое исконное первичное целое»317. Принципиальная неопределенность указанного целого не позволяет Франку использовать для ее характеристики даже классическое понятие субстанции. Он просто называет его «трансдефинитным» (тем, что выше всего «определенного»), но тут же вводит еще и понятие «трансфинитности». Трансдефинитно то, что стоит позади всего определенного, как «металогическое единство», как единство рационального и иррационального, трансфинитное же то, что стоит позади этого металогического единства, – «оно есть нечто большее и иное, чем все, что уже есть как бы в готовом, законченном виде», – и в этом смысле трансфинитное есть «потенциальность» – в нем есть «то, что будет или может быть»318. Эти философские рассуждения удивительно согласуются с современными научными концепциями, рассматривающими физическую реальность (пространственно-временной континуум), в которой разворачивается наше существование, в качестве осуществления, оформленности, материально-вещной выраженности одной из множества возможностей, потенциально содержащихся в некотором ином измерении – на металогическом уровне бытия319. В рамках второго подхода по-новому вырисовываются онтологические основания человеческого бытия. Вследствие наличия у человека таких сущностных характеристик, как сознание и духовность, и связанной с этим способности к трансцендированию, он, будучи элементом природного мира, принадлежит ему лишь отчасти. Детерминация со стороны естественных законов не носит здесь абсолютного характера, поскольку, будучи подчиненным телесно-природной необходимости, человек как духовное существо способен к трансцендированию наличной действительности и к свободному творчеству собственной жизни. Изложенное понимание общепризнанно, если не сказать тривиально. Разногласия возникают, лишь, когда тематизируется сам феномен человеческой свободы. Свобода по самому своему определению не может корениться ни в чем другом, не допускает никаких внешних детерминаций (будь то даже божественное 317 Франк С.Л. Непостижимое. С. 226. Там же. С. 243, 252. 319 См. Гл.I настоящей монографии. 318 194 определение). Она ощущается человеком как «шевеление хаоса» в его душе, в котором индифферентность к нравственным оценкам делает равно возможным порождение и добра, и зла. С. Франк замечал в связи с этим: «В живом опыте этот хаос дан мне как мое собственное Я, как бездонная глубина, которая соединяет меня с Богом и вместе с тем отдаляет меня от него»320. На безосновность свободы постоянно обращал внимание Н. Бердяев. И тем не менее он все-таки указывает «место обитания» свободы: ее истоки коренятся не в тех или иных видах бытия, а в небытии, в «Ничто» или, говоря языком науки, выступают как чистая потенциальность, некое до-мировое предсуществование, индифферентное к каким-либо определениям и различиям, свойственным действительному, ставшему миру, в том числе различию между добром и злом. Добро и зло есть характеристики человеческой деятельности, разворачивающейся как осуществление свободы, это характеристики действительного («посюстороннего») бытия человека. Поведение человека, реализующего свою свободу и избравшего один из возможных вариантов ее осуществления, уже определяется внешними по отношению к нему детерминантами: естественными законами, социальными нормами и высшими, духовными целями и ценностями, но сама свобода превосходит все эти ограничения и определенности – именно потому, что она коренится в Ничто, в лоне чистой потенциальности. Имеет ли различие указанных подходов существенное значение для понимания феномена человеческой духовности, особенно ее аксиологических аспектов? Думается, нет. И в том, и в другом случае духовность рассматривается как выражение стремления человека к высшим, надприродным ценностям. И в том, и в другом случае средоточием этих ценностей является некое совершенное божественное бытие. Разница состоит лишь в том, что при первом подходе Бог выступает как субстанциальное начало всего существующего, основа Всеединства, задающая смыслы и цели всякого, в том числе человеческого, существования. Поэтому любое отклонение от изначального единства, отпадение от божественной сущности есть зло, «грех самоутверждения», грозящий страданиями неподлинного, полного разобщенности и вражды существования. А стремление человека к едине320 Франк С.Л. Непостижимое. С. 492. 195 нию со всем сущим посредством любви и сознательного преодоления своего эгоизма обеспечивает, в конечном счете, слияние с Абсолютом и полноту бытия. Таким образом, с точки зрения данного подхода свобода человека распространяется только на выбор зла. Добро же изначально присутствует в человеке, который, как и все тварные существа, есть лишь инобытие божественной сущности. Поскольку все происходит от единого – причем благого и совершенного – корня, возможность благой жизни предопределена человеку, заложена в его природе. Человеческое существование с этой точки зрения «обеспечено» наличием высшего, всеблагого начала. Задача человека состоит лишь в преодолении центробежных стремлений, свойственных природному миру, и в следовании «должному»321. При этом «должное» считается доступным человеческому пониманию, рационализируемым и познаваемым. Знание о «должном» заключено в абсолютном, безусловном сознании, которое и есть Истина и которого ищет познающий ум. Указанные черты в известной мере сближают данное философское направление с объективным идеализмом гегелевского типа. Однако это сходство нельзя преувеличивать. Мы имеем дело со своеобразным «русским рационализмом», важным коррелятом которого являются эмоционально-нравственные составляющие. Духовность как выражение трансцендирования к Абсолюту, к высшему, совершенному бытию в русской философии всегда фундирована душевными интенциями, лежащими, по мнению русских философов, в основе нравственного поведения. Нравственная проблематика является здесь не просто предметом этики как узко специализированной области познания, но пронизывает всю ткань философствования и, можно сказать, образует его конечную цель. Не случайно в учении Вл. Соловьева – одного из самых значительных представителей этого подхода – процесс становления духовности личности характеризуется в нравствен321 Понятие «должного» в русской философии отличается от кантовской интерпретации последнего, поскольку следование должному рассматривается здесь не как результат умозаключений холодно-бесстрастного ума, а как осознанное следование велениям сердца. Изначальная интуитивная интенция к абсолютному свету и добру признается здесь определяющей. Выступая против бездушности чисто рационалистического нравственного поведения, В. Розанов замечает: «Должное указывается умом и выполняется, когда более не подсказывается сердцем...» (Розанов В.В. Литературная личность Н.Н. Страхова. С. 70). 196 ных категориях («стыд», «жалость», «благоговение»)322. Оценивая изложенное (рационалистическое) направление, можно заметить, что в нем обнаруживается некоторая предопределенность человеческого существования, а духовность выступает как трансцендирование к высшим, вневременным смыслам и ценностям, которые образуют сферу должного. Несколько иначе предстает человеческая деятельность у Н. Бердяева и ряда других русских философов. Важнейшей, существеннейшей характеристикой человеческого бытия здесь выступает свобода, которая уходит своими корнями в бездну иррационального, в непостижимое «Ничто», которое, будучи недифференцированной совокупностью «чистых» потенций, содержит в себе возможность бесконечного множества реализаций. В силу этого человеческое существование изначально не предопределено, оно есть непрерывный процесс свободного творчества, самосозидания и потому характеризуется принципиальной незавершенностью, открытостью. Человек в своих духовных интенциях не просто возвращается в изначальное единство со всем существующим, как бы заново «вспоминая», осознавая и реализуя то, что уже было заложено в его (единосущной Богу) природе, он по-настоящему заново творит свое собственное бытие, временами выступая в сотворчестве с Богом (в своих положительных интенциях), а временами – вопреки божественной воле, следуя побуждениям своего собственного самоутверждающегося «Я». Это и дает основание Бердяеву утверждать, что «человек есть дитя Божие, но и свободы, над которой бессилен Бог»323. Свобода охватывает весь спектр человеческой деятельности – и ее положительные, и отрицательные проявления. Таким образом разрушается ставшая уже традиционной дихотомия: добро в человеке от Бога, а зло – от дьявола, символизирующего человеческое своеволие. Или, иначе, свобода человека распространяется только на зло, в то время как добро в нем предопределено его божественной природой. Указанный подход, довольно прочно утвердившийся в философской литературе, снижает субстанци- 322 См.: Соловьев В.С. Оправдание добра // Соловьев В.С. Соч.: В 2 т. М., 1988. Т. I. С. 130. 323 Цит. по: Зеньковский В.В. История русской философии. Т. 2, ч. 2. С. 79. 197 альный статус личности, по существу лишая ее онтологической самостоятельности. Характерна в этом отношении эволюция взглядов на личность Вл. Соловьева. Выступая против метафизического плюрализма в антропологии, критикуя учение о личности как замкнутой, самодостаточной монаде, Вл. Соловьев постепенно становится на позиции имперсонализма. Для него истинное бытие целиком и полностью сосредоточено в сфере сверхличного. Отдельный же человек, «питаясь» из этой сферы, не представляет собой самостоятельной ценности, не обладает субстанциональностью. Если в «Чтениях о Богочеловечестве» Соловьев еще признавал реальность человеческой личности, то в его более поздних произведениях личность предстает не как субстанция, а как «ипостась» – «подставка». Философ высмеивает «испорченное Декартом», самоуверенное и недостоверное учение о субстанциональности Я. В статье о Спинозе он пишет: «То, что (обычно) называется душой, что мы называем нашим “Я” или нашей личностью, есть не замкнутый в себе и полный круг жизни, обладающий полным содержанием, сущностью или смыслом своего бытия, а только носитель или подставка (ипостась – hipostasis) чего-то другого, высшего»324. Вслед за Соловьевым Л. Карсавин, утверждавший, что тварь сама по себе, вне своего отношения к Богу, не обладает бытием и не является личностью, в своей теории «симфонических личностей» по существу редуцирует отдельную человеческую личность к проявлению, актуализации тех или иных сообществ, к которым она принадлежит (церкви, нации, обществу и т. д.)325. Несогласие с нивелированием личности выразил в своем историко-философском исследовании Н. Лосский. Возражая против имперсонализма создателя концепции Всеединства, он писал: «...Соловьев считал, что сложность человеческого я творится не богом, а является проявлением греха, Такая мысль могла возникнуть только у философа, отрицающего реальность человеческого я, то есть сверхвременную природу онтологического центра личности»326. 324 Зеньковский В.В. История русской философии. Т. 2, ч. 2. С. 52. См.: Карсавин Л.П. О личности // Карсавин Л. Религиозно-философские сочинения. М., 1992. Т.I. С.152–153. 326 Лосский Н.О. История русской философии. С. 170. 325 198 Характеризуя изложенный подход, современный исследователь русской философии С.С. Хоружий приходит к следующему выводу: «Если в метафизике Соловьева человека, допустимо сказать, нет вообще, ему не находится места в спекулятивной онтологии, так и не преодолевшей “отвлеченных начал”, то в метафизике Карсавина человек низведен до вторичного и лишен индивидуальной неповторимости»327. Не соглашаясь в целом с такой односторонней оценкой, заметим, что излишняя резкость приведенного высказывания, думается, вызвана свойственным русской философии неприятием какого бы то ни было «забвения», нивелирования человеческой личности, сведения ее к социальному. В свое время Розанов писал: «Личность всегда есть целое, по отношению к которому общество есть агрегат, но не организм, приспособляющий ее к себе как свою функцию или изменяемую часть. Это прямо вытекает из взгляда на первозданную природу человека как вечное зерно его необходимой деятельности»328. Почти буквально вторит ему Бердяев, расширяя статус личности до космических масштабов: «Личность есть спиритуалистическая, а не естественная категория; она не часть какого-либо целого; она не часть общества, напротив, общество – только часть или аспект личности. Личность – не часть космоса, напротив, космос – часть человеческой личности. Личность – не субстанция, она – творческий акт, она неизменна в процессе изменения. В личности целое предшествует частям»329. В философии Н. Бердяева, которую он сам характеризовал как персоналистическую, учение о самоценности отдельной человеческой личности выражено наиболее последовательно. Утверждение субстанциональности личности в русской философской мысли не означало перехода на позиции субъективизма и индивидуализма, как это имело место в западной философии. В интерпретации указанных авторов личность, будучи самостоятельной сущностью, не утрачивает своей связи с областью трансцендентного. Более того, ее бытие раскрывается в рамках диалогического понимания личности и учения о соборности. Излагая свое понимание личности, Бердяев писал: «Являясь духом, 327 Хоружий С.С. Философский процесс в России как встреча философии и православия // Вопросы философии. 1991, № 5. С. 45. 328 Розанов В.В. Цель человеческой жизни. С. 53. 329 Цит по: Лосский Н.О. История русской философии. С. 303. 199 личность не есть нечто самодовлеющее, она не эгоцентрична; она переходит в нечто другое, чем она сама, в некоторое «ты» и реализует всеобщее содержание, которое представляет собой нечто конкретное и отличается от абстрактных универсалий... Реализация личности означает восхождение от подсознательного через сознательное к сверхсознательному»330. Рассматриваемый процесс реализации личности есть процесс творческий. Это не просто разворачивание уже имеющихся содержаний, заложенных в природе человека, и не интериоризация внешних социальных воздействий, а самостоятельное созидание своей собственной сущности. Характеризуя этический персонализм Л. Лопатина, В. Зеньковский отмечает два исходных момента в его системе: убеждение в субстанциональной природе человеческого духа и учение о том, что свободная творческая деятельность предшествует в бытии всякой необходимости. Таким образом, пафос русского персонализма состоит не в абсолютизации человеческой индивидуальности, а в утверждении творческой активности человеческого духа. В развиваемом Бердяевым подходе свобода человека получает свое полное обоснование, если можно говорить об обосновании того, что по своему определению является безосновным. Правильнее было бы сказать, что свобода как принцип человеческого существования получает здесь наиболее последовательное осуществление, поскольку, будучи порождением «Ничто» и выражением чистой потенциальности, она лишается любых определений, в том числе божественных. Деятельность человека приобретает действительно свободный характер и выступает как процесс самотворчества. Разумеется, речь идет не о безграничном произволе человека, а лишь об истоках его творчества. Н. Бердяев различал три вида свободы: первичную иррациональную свободу, рациональную свободу и свободу, проникнутую любовью Бога. Специфику его понимания выражает первый вид свободы – иррациональная свобода, которая и выступает как ничем не ограниченная возможность произвола. Однако философ не ограничивается только этим видом, указывая также на существование рациональной свободы, проявляющейся в исполнении морального долга, и свободы, проникнутой любовью Бога. 330 Лосский Н.О. История русской философии. С. 303. 200 Рациональная свобода, оставаясь добровольным, свободным следованием требованиям морали, связана с целой сетью самоограничений личности и поэтому не может быть полной и абсолютной. Именно в этом заключается известная уязвимость рационалистических концепций свободы. Но русская философия никогда не останавливалась на этой ступени. Ее идеалом всегда была свобода, понимаемая как результат совпадения высшего, абсолютного блага и внутренних интенций личности – как следование голосу, идущему изнутри, из глубин индивидуального внутреннего мира, но имеющему своим действительным источником само Абсолютное, в лице человеческого духа взывающее к человеку и открывающее ему полноту истинного бытия. Именно этот вид Бердяев и называет «свободой, проникнутой любовью Бога». В философии Бердяева величие человека достигает своего высшего предела. Она (личность) обретает здесь характер самоценной, самоопределяющейся сущности, черпающей свое бытие из глубин своей собственной свободы. Но эта, ничем и никем (даже Богом!) не ограничиваемая свобода не становится основанием неконтролируемого произвола и разгула животных страстей. Говоря о полной и неограниченной свободе, Бердяев имеет в виду не эмпирического индивида, в его материально-телесной, вещной деятельности331, а личность как «категорию спиритуалистическую», то есть духовную жизнь личности, которая и составляет специфику собственно человеческого бытия. Кстати, в этом пункте все рассматриваемые здесь учения обнаруживают единство. Так, Вл. Соловьев, рассуждая о Богочеловечестве и возможности вечной жизни, также подчеркивает, что речь идет не об эмпирическом человечестве, а о некоем идеальном человеке. И все-таки философия Бердяева ближе к реальному человеческому индивиду, чем построения философии Всеединства, ориентирующиеся главным образом на процессы общеисторического и космического масштаба. В персонализме Бердяева индивидуальный человеческий дух, преодолевая несовершенство и зло материально-животного существования, творит свое собственное бытие, будучи не просто тенью, инобытием божественной сущности, долженствующей по достижении единства со своим ис331 В материальном, природном мире полное осуществление такого произвола и невозможно: оно всегда ограничено внешними условиями и, к тому же, встречает противодействие таких же самоутверждающихся воль (о чем писал еще А. Шопенгауэр). 201 ходным началом раствориться в нем, потерять себя («религиозное чувство не хочет иметь ничего своего вне Бога»332), но являясь сотворцом Бога. С точки зрения первого подхода, идущего от Вл. Соловьева, человек как бы «обеспечен» со стороны Бога в своем существовании. Из концепции Всеединства вырисовывается интересная картина диалектической сущности человека. В метафизическом смысле добро здесь есть сущностная характеристика человека (как эманации Абсолюта), зло же (как отпадение от изначального единства) не атрибутивно, выступает как возможность зла. В действительной жизни, напротив, зло как стремление индивидуальности к самоутверждению через отрицание других изначально заложено в человеческой животной природе, в то время как добро (способность к единению посредством преодоления своего эгоизма и любви) присутствует в нем лишь как возможность, как интуитивное стремление. Во втором подходе, развиваемом Бердяевым, вся ответственность за бытие индивида ложится на него самого. Изначальная индетерминированность человеческой свободы требует полного самоопределения личности. И даже согласившись с тем, что все добро в человеке от Бога, нельзя не признать, что принятие этого добра, ориентация на него есть добровольный акт свободного человеческого духа. Третий вид свободы Бердяева – «свобода, проникнутая любовью Бога» – все-таки остается свободой индивида как первичным, исходным началом человеческого существования, по отношению к которому даже любовь Бога выступает как внешнее, вторичное. Человек добровольно выбирает добро – и в этом его метафизическое значение, его особая роль в мироздании. Как замечает Лосский, для Бердяева творческая деятельность человека представляет собой дополнение к божественной жизни; поэтому она имеет некоторое теогоническое, а не только антропологическое значение. Существует вечная человечность в божестве, а это значит, что существует также божество в человеке333. Привлекательность данного подхода состоит в том, что свобода человека, будучи абсолютной и безосновной, проистекаю332 Высказывание Е. Трубецкого. Цит. по: Лосский Н.О. История русской философии. С. 171. 333 См.: Лосский Н.О. История русской философии. С. 303–304. 202 щей из глубин «Ничто», интерпретируется здесь как основание развития человеческого духа, его разворачивания в процессе движения от стадии иррационального произвола, свойственного бессознательным животным порывам, через сознательное самоограничение, выражающееся в моральных поступках, к свободному парению духа, «проникнутого любовью Бога». Речь идет не просто о слиянии с божеством, но о принципиальном совпадении ценностей, ориентирующих индивидуальный человеческий дух, и ценностей, интерпретируемых обычно как высшие трансцендентные ценности. Для Бердяева проблема соотношения этих систем ценностей не решается однозначно с позиций части и целого, копии и оригинала. Личность в качестве духовной субстанции выступает у него средоточием бытия (по крайней мере таковой является феноменология духовной жизни личности), и потому имманентное и трансцендентное сливаются в некое нерасторжимое единство – в этом, как нам представляется, и заключается смысл метафоры о сотворчестве Бога и человека. Как видим, в русской философии даже персоналистические учения не исключают существования высших, трансцендентных начал и ценностей, но лишь своеобразно интерпретируют их. Анализ философских воззрений русских мыслителей с точки зрения исследования онтологических и аксиологических аспектов духовности четко обнаруживает существенную особенность русской философской мысли – ее обращенность к высшим, трансцендентным сферам и ценностям, которые, независимо от их онтологического статуса, во всех рассмотренных учениях сохраняют свое значение как ориентиры человеческой деятельности, имеющие не внешний, а внутренний, имманентный личности характер. 3. Система Высших ценностей: смысл и предметное выражение Систему духовных ценностей в русской философии трудно определить однозначно. С одной стороны, русская мысль всегда обращена к трансцендентному, с другой – для нее характерна непосредственная близость к жизни, к реальному человеческому индивиду и нетерпимость к абстрактному, отвлеченному фило203 софствованию. Это противоречие разрешается в своеобразном (синкретичном) понимании человека как носителя духа, непосредственно ощущающего связь с трансцендентным. Поэтому духовные ценности предстают здесь не как результат абстрагирующей деятельности разума, но как предмет душевного влечения, а вся русская философия с этой точки зрения может быть охарактеризована как «философия сердца». Говоря о высших ценностях, русский философ никогда не имеет в виду нечто абсолютно отвлеченное, внеположенное этому миру, но всегда обнаруживает их сопряженность с реальным человеческим существованием, находит их проявление в духовной жизни индивида. Размышления о ценностях приобретают в русской философии характер вопрошания о Высшем смысле человеческого существования. Содержательно система высших ценностей не может существенно отличаться от ценностей непосредственной жизни индивида. Означает ли ориентация на абсолютные ценности, что человек должен вести какую-то особую духовную, внеприродную жизнь, так, чтобы ее особенность была видна со стороны? Очевидно, нет. Внешне человек, ориентированный духовно, совершает те же действия, что и остальные. Различие заключается лишь в их направленности, в том, что образует смысл жизни личности. Даже изощренная философская мысль не может выйти за рамки имманентного человеческого существования и дискурсивно выразить то, что трансцендентно этому существованию. Говоря о высших ценностях, она обращается все к тем же ценностям земного бытия, каковыми являются любовь, милосердие, добро, верность, преданность и т. д. и т. д. Вопрос заключается лишь в том, каково назначение указанных духовных интенций, ради чего, ради какой цели человек творит добро, проявляет милосердие и т. п. – служат ли они земному жизнеустроению или подчинены какому-то сверхэмпирическому смыслу. «Русский человек страдает от бессмыслицы жизни, – замечает Франк. – Он всем своим существом ощущает, что нужно не “просто жить”, а жить для чего-то»334. В этом высказывании выражена важнейшая особенность русской души – ее неспособность удовлетвориться наличной действительностью и вытекающее отсюда стремление к высшим, надэмпирическим смыслам и ценно334 Франк С.Л. Смысл жизни. С. 503. 204 стям. «Если только у жизни есть какой-нибудь смысл, – рассуждает А. Введенский, – то он состоит в назначении и в действительной пригодности жизни для осуществления такой цели, которая лежит вне жизни какого бы то ни было человека»335. Русскому человеку чуждо стремление к наслаждению как основной цели его жизни. Не только сибаритство, но и эпикурейство с его душевной умиротворенностью неприемлемо и непонятно вечно мятущейся русской душе336. Русский человек – крайний, противоречивый, способный на высшие проявления духа, на самоотречение и жертву и одновременно на самые грубые, неистовые проявления животности, – всегда несет в себе подспудное сознание своей греховности и готов пострадать за это. Своеобразная любовь к страданию, даже смакование страдания – характерная черта российского менталитета. Что это – выражение беспомощности, нежелания бороться, действовать, русская леность и вытекающая из нее покорность, склонность к подчинению – «вечно бабье» в русской душе, как нередко утверждают337, или здесь скрыты какие-то более глубинные причины? Не станем отрицать известной справедливости приведенной оценки: русскому народу в известной мере свойственны указанные черты. Однако, думается, подобная их интерпретация есть выражение поверхностного, не до конца продуманного понимания русского характера, в частности, его специфического отношения к действительности. Драматизм, даже трагизм этого отношения глубже всех постиг и выразил в своем творчестве Ф.М. Достоевский. Именно он, проникший в самые мрачные, отталкивающие и пугающие глубины человеческого «подполья» и выставивший их на всеобщее обозрение, возвестил миру истину о том, что в каждом человеке есть искра божественного света, каждый может преодолеть в себе зло, но путь к спасению лежит че335 Введенский А. Условия допустимости веры в смысл жизни // Смысл жизни: Антология. С.100. 336 Разумеется, такой подход не является тотальным. Речь идет лишь о преобладающей направленности русской философии. Существовали и другие мнения, но лишь как исключение. Так, например, М.А. Антонович полагал, что смысл жизни человека заключен в самой жизни, в удовольствии – не столько чувственном (материальном), сколько духовном, понимаемом в эпикурейском смысле – как внутреннее удовлетворение жизнью (см.: Антонович М.А. Единство физического и нравственного космоса // Феномен человека: Антология. С. 24–27). 337 См.: Бердяев Н.А. О «вечно бабьем» в русской душе // Розанов В. Pro et contra. Кн. II. СПб.,1995; Мамардашвили М.К. Жизнь шпиона // Искусство кино. 1995, № 5. С. 31. 205 рез страдание. Эта мысль не нова. И все же в творчестве русских писателей и философов она приобретает новый, дополнительный смысл. Русский человек «любит» страдание не потому, что оно приятно ему, доставляет ему удовольствие. Не совсем точно и слово «любит» – скорее, он принимает его. И опять-таки не смиряется, не покоряется давящей неизбежности страдания, а именно сознательно принимает его. В чем тут дело? Неизбежность страдания очевидна. Она познается в опыте непосредственной жизни. Но реакция на это неизбежное испытание человеческой личности может быть различной. Первое побуждение питается надеждой: избавиться от страдания, преодолеть препятствия на пути к спокойной, сытой, умиротворенной жизни. Возможно ли такое удовлетворение? Отчасти – да. При определенной направленности, заглушив в себе голос совести и отказавшись от заботы о судьбах мира, человек может построить себе «мирок», который на время оградит его от внешних и внутренних тревог и создаст ощущение удовлетворенности, – «растительное существование». Но тогда человек лишается своей специфической сущностной характеристики – духовности как ощущения недостаточности наличного бытия и стремления к высшим, запредельным смыслам. Заложенная в природе человека тяга к трансцендентному, неизбывная тоска по полноте жизни обусловливает невозможность полного удовлетворения любыми преходящими, ограниченными благами обыденного существования. И потому человек, осознавший свою духовную сущность, движимый стремлением к полноте и совершенству истинного бытия, должен принять неизбежность страдания как необходимой составляющей собственно человеческого бытия, как условия обретения смысла жизни. В русской философской мысли, и это недвусмысленно выражено в творчестве Ф. Достоевского,338 страдание выступает средством духовного очищения – своеобразного катарсиса. Несмотря на протест против жестокости и несовершенства действительности, несмотря на сочувствие и «жалость к земной жизни», 338 Как отмечает Н. Бердяев, у Достоевского было сложное отношение к злу: с одной стороны, зло есть зло и оно должно быть облечено и уничтожено. Но, с другой стороны, зло есть духовный опыт человека, путь человека. В своем пути человек может быть обогащен опытом зла. Но нужно это как следует понять, замечает Бердяев. Обогащает не самое зло, а та духовная сила, которая пробуждается для преодоления зла (см.: Бердяев Н.А. Русская идея. С. 142). 206 русская философия не только не отрицает, но и признает положительную роль страдания. Сказанное позволяет оттенить своеобразную направленность русского сознания – его незаземленность, безразличие к удовольствию и тяготение к высшим, надличностным, сверхэмпирическим смыслам. Н. Бердяев правильно замечает, что русские люди любят философствовать, рассуждать о высоком – о Боге, об Истине, о душе. Справедливо и то, что они часто безразличны к бытовым удобствам и не способны создать для себя «достойные человека условия существования». И все же, возьмем на себя смелость утверждать, что это безразличие – не от лености. При более внимательном рассмотрении оно предстает как выражение лежащего где-то в глубине русской души ощущения своей неумещаемости в этом мире, невозможности даже в условиях налаженного, благополучного быта заглушить тоску по иной – истинной и совершенной жизни. С точки зрения обыденного сознания этот довод покажется лишь бессодержательным философствованием, «метафизической отговоркой». Но для исследующего жизнь человеческого духа данное рассуждение имеет существенное значение. Если мы признаем специфику человека как духовного существа, мы должны равно признать и онтологический статус его духовной жизни как самостоятельной, самоценной формы бытия – безотносительно к материальным условиям, в которых она осуществляется. Конечно, материальная обустроенность и налаженность быта (свойственные западному миру) более явственно, ощутимо заявляют о себе своей вещной осязаемостью, а работа духа не всегда видна на поверхности, но от этого она не становится менее реальной и значимой339. Говоря о русской духовности, мы не утверждаем, что она с необходимостью присуща, «врождена» всем без исключения россиянам. Речь идет о фундаментальной характеристике российского менталитета, которая, не всегда выступая в явной форме, часто пребывая в зачаточном, потенциальном состоянии, тем не менее, подспудно проявляется в определенной жизненной направленно339 Интенсивность духовной жизни на российской почве имеет и предметное выражение. Это не только «серебряный век русской культуры», но и своеобразное культурное «донорство» России, представители которой оказали заметное влияние на развитие культуры западных стран. Выявление русских корней зарубежных культур могло бы стать предметом специального исследования. 207 сти. Озабоченность «вечными» проблемами при известном пренебрежении к бытовой стороне жизни, а также особенная склонность к душевному общению – это существенные черты, характеризующие российскую ментальность независимо от степени их индивидуального проявления. В то же время всеобщность и фундаментальность указанных характеристик, а равно и акцентирование русской духовности не означает, что русскому человеку полностью чужды чувственные удовольствия и радости материальной жизни. Однако за всеми жизненными проявлениями русской душе всегда видится некий иной план, не позволяющий остановиться на наличной действительности как на последней цели и побуждающий искать это неопределенное, но смутно улавливаемое нечто как безусловное и общезначимое, составляющее действительный смысл бытия. В этом, если угодно, выражается эсхатологичность русского сознания: его нацеленность в будущее, неумение жить настоящим и надежда на то, что нынешнему бессмысленному существованию придет конец и восторжествует новая, более совершенная жизнь. Не случайно русские позволили большевикам втянуть себя в гигантский исторический эксперимент, результаты которого обрисовывались весьма смутно. Только народ, обладающий эсхатологическим сознанием, может увлечься туманной идеей «светлого будущего всего человечества» при отсутствии ближайшей перспективы улучшения жизни и принять учение о бесполезности и вредности борьбы за реальное улучшение материального положения («борьбы за пятачок»), многие десятилетия жертвуя своей собственной жизнью и благополучием ради мифического счастья будущих поколений. Может быть, «миссия России», о которой так много говорили и продолжают говорить, состоит не в том, чтобы когда-нибудь, в будущем показать миру пример наиболее совершенной организации человеческого общества, а в том, чтобы самим своим существованием постоянно демонстрировать тщетность и бессмысленность всякого земного устроения жизни, которое только препятствует осуществлению главной миссии человека – его духовной эволюции, освобождению из плена материальности. С точки зрения русской философии жизнь как наслаждение, власть, богатство как упоенность миром и самим собой есть бессмыслица. Она приобретает подлинный смысл лишь в том слу208 чае, когда все ее проявления, вся мирская деятельность человека подчиняются служению высшим ценностям. Это ощущение назначенности, предстояния, необходимости служения, осуществления должного – устойчивый мотив русской философии. Искание смысла здесь – не просто выражение теоретического интереса. Оно имеет целью практически сориентировать жизнь личности, дать ответ на извечный вопрос «что делать?» Но понимание сути этого «дела» различно. Тяжесть и неприглядность российской действительности побуждали многих представителей русской интеллигенции искать путей ее преобразования, улучшения с целью достижения всеобщего счастья. Смысл отдельного человеческого существования сводился к необходимости участвовать в «общем деле» – в данном случае в деле создания «земного рая». Но тогда опятьтаки ценности земного существования приобретают самодовлеющее значение. Происходит лишь замена индивидуального смысла общественным, стремление к личному благополучию сменяется заботой о будущем счастье всего человечества. Достижение указанного «счастья» ставится в зависимость от разрешения чисто социальных вопросов – установления равенства, торжества справедливости и т. п. Наряду с этим направлением, а отчасти внутри него, сформировалось понимание того, что никакое устроение земной жизни не способно решить коренные проблемы индивидуальноличностного бытия, избавить человека от страданий и придать смысл его конечному, полному противоречий существованию. «Мысль человека об устроении своем на земле по принципу счастья ложна во всех своих частях, по всему строю, – утверждал В. Розанов. – От этого всякая попытка осуществить ее в личной жизни сопровождается страданием»340. Понятию наслаждения как цели земного существования следует, по его мнению, противопоставить понятие радости, которое как внутреннее ощущение, как покой совести возникает, «когда сделано все, что нужно». Духовная сущность человека, считает С. Франк, требует, чтобы он не служил миру, не любил мира и того, что в мире как последних самодовлеющих благ, а рассматривал свою мирскую жизнь как средство и орудие служения абсолютному добру и подлинной 340 Розанов В.В. Цель человеческой жизни С. 41. Сходные мысли высказывает и М. Тареев. См.: Смысл жизни: Антология. С. 134. 209 жизни. И тогда, подчеркивает он, каждое мнимое человеческое благо – любовь к женщине, богатство, власть, семья, родина – теряет свою суетность, свою иллюзорность и приобретает вечный, то есть подлинный смысл341. В чем же состоит это «служение», что «нужно» делать с точки зрения этого подхода? Франк отвечает на этот вопрос прямо и недвусмысленно: «...в подлинном, метафизическом смысле существует только одно-единственное дело... Это есть духовное дело – взращивание в себе субстанциального добра»342. Сферой приложения творческих усилий человека становится не область внешнего социального бытия, а собственный внутренний мир человека. Бессмысленность, хаос и зло эмпирического мира не могут быть преодолены – об этом свидетельствует весь опыт человеческой истории, в которой целенаправленные действия человека способствовали прогрессу знания и техники, но нисколько не уменьшили абсурдность человеческого существования, скорее наоборот – она возрастает пропорционально росту его технического могущества. Напротив, обращение в глубины своего собственного внутреннего мира, прислушивание к голосу духа, взывающему оттуда, позволяет человеку не просто встать на путь нравственного, духовного самосовершенствования, но и способствует своеобразному экзистенциальному пресуществлению, когда индивидуальный человеческий дух, преодолев осязаемую грубость материально-вещной действительности, способен ощутить дыхание вечности, полноту истинного бытия, почувствовать принадлежность к непостижимому всеохватному целому. Заметим, что с точки зрения сторонников этого подхода ориентация на внутреннюю, духовную жизнь индивида выступает не просто вынужденным средством, единственно доступным человеку после того, как он убедился в тщетности реального преобразования действительности («общего дела»). Бытие духа рассматривается здесь как единственная сфера, в которой человек обладает действительной свободой (в отличие от сковывающей его рамками необходимости материальной природы) и только посредством духа он может прорваться к истинному бытию. Будучи природно-духовным существом, человек не должен ограничивать свою жизнь только материальной деятельностью, расточительно 341 342 Франк С.Л. Духовные основы общества. С. 207–208. там же. С. 211. 210 используя возможности духа (точнее, одного из его проявлений – разума) для адаптации к наличной действительности. Человеку в лице его духа дано превозмогать сковывающую вещественность материи, касаться иных сфер бытия – и именно эта специфическая возможность человеческой сущности должна развиваться, если человек хочет соответствовать своему назначению, стремится преодолеть несовершенство своего обыденного земного бытия. Что представляет собой этот путь духовной эволюции личности? Является ли он освоением уже существующего или творчеством нового? Русская философская мысль предлагает два ответа на этот вопрос (соответствующие изложенным выше подходам к пониманию Абсолюта). Первый утверждает существование абсолютного и безусловного смысла, который пребывает вечно, неизменно (Е. Трубецкой, П. Карсавин и др.). Будучи содержанием абсолютного безусловного сознания, этот смысл и образующие его ценности может быть рационально усвоен индивидуальным человеческим сознанием, а назначение человека состоит в обнаружении и следовании этому заранее заданному, предсуществующему смыслу. Второй подход исходит из того, что высший смысл осуществляется в свободном творчестве индивидуального человеческого духа, интенции которого инициируются не столько рассуждениями разума, сколько иррациональным душевным влечением. Смысл не может быть привнесен в человеческую жизнь извне. Он всегда есть результат свободного осуществления человеком своего (им самим понятого) предназначения. Как утверждает Франк, смысл нельзя обрести в готовом виде, можно только добиваться его осуществления и потому смысл жизни не дан – он задан и следовательно он выступает не как конечная цель человеческих стремлений (при-общение к смыслу), а творится, осуществляется на протяжении всей человеческой жизни, каждое мгновение которой становится о-смысленным, приобретает смысл343. Каким образом различие в указанных подходах влияет на понимание ценностей? Ведь и то, и другое направление одинаково признают значение высших ценностей как ориентиров духовного совершенствования личности. И все-таки различия существуют. В соответствии с духом и направленностью первого под343 См.: Франк С.Л. Смысл жизни. С. 559. 211 хода высшие ценности как атрибуты вечного и совершенного начала предсуществуют всякому конкретному человеческому бытию, смысл которого, исходя из этого, состоит в приобщении к этим вечным ценностям. Значительно сложнее выстраивается система ценностей в учениях, утверждающих, что движение личности к высшим ценностям осуществляется в процессе ее свободной смыслотворческой деятельности. Так, философия Бердяева всем своим содержанием, всей своей направленностью утверждает приоритет свободы и творчества человеческой личности, тем самым придавая им статус высших ценностей, образующих смысл человеческого существования. Вместе с тем, пафос его учения (которое он сам называет профетическим) состоит в безграничной вере в то, результатом творческой деятельности человека станет царство Духа, в котором осуществятся Высшие Ценности, творцом которых является Бог. В рамках указанного подхода возникает проблема соотношения высших ценностей и ценностей индивидуального человеческого существования. Как известно, признание приоритета последних привело западную философию к субъективизму и к отрицанию высших ценностей («Я способен понимать только в человеческих терминах»344). Позиция Бердяева более сложная. Будучи убежденным сторонником персонализма, он тем не менее «балансирует» на грани между двумя указанными подходами. Его персонализм, возникнув на российской почве, вобрал в себя все характерные черты отечественной мысли и прежде всего ее веру в существование высших – абсолютных и совершенных начал, в сопричастности их индивидуальному человеческому духу: «Ценность личности есть высшая иерархическая ценность в мире, ценность духовного порядка. В учении о личности основным является то, что ценность личности предполагает существование сверхличных ценностей. Именно сверхличные ценности и созидают ценность личности»345. Как бы не была важна ему свобода, как бы не онтологизировал он творчество человеческого духа, главная цель этого процесса для него – все-таки не сама свобода, даже «проникнутая любовью Бога», а именно тот уро344 Камю А. Миф о Сизифе. С. 258. Бердяев Н.А. О назначении человека. Опыт парадоксальной этики. С. 62. Следует иметь в виду, что термином «личность» Бердяев обозначает не человеческого индивида как такового, а лишь его духовную составляющую, отличную от его биологической природы. 345 212 вень бытия, который достигается посредством свободного духовного творчества, где все сливается в единстве с Богом и где царствует даже не Бог, а любовь как высшая ценность и высшее проявление всеобщего единства, свободное от зла и разобщенности природного мира. Таким образом, персонализм Бердяева, резко выраженный, иногда граничащий с солипсизмом, причудливо сочетается с представлениями о реальности высших трансцендентных начал. Возможность такого синтеза кроется в характерной для русской философии вере в светлое начало в человеке, которое, вопреки доводам разума, фиксирующего и обобщающего негативный опыт истории человеческой вражды и раздоров, способно обуздать иррациональный произвол человеческого эгоизма и направить свободу индивида к духовному творчеству, к созиданию новой реальности, интуитивно угадываемой индивидуальным человеческим духом и взывающей из глубин внутренного мира личности. Эта вера в светлое начало в человеке выразилась и в учении Вл. Соловьева о Богочеловечестве, и в утверждениях И. Ильина о духовности инстинкта, скрытого в бессознательных глубинах человеческой души, и в понимании Франком веры как непосредственного ощущения человеком высшего абсолютного начала в недрах своего собственного внутреннего мира. «Вера, – писал Франк, – есть не что иное, как актуальность жизненных сил духа – самосознание, углубленное до восприятия последней глубины и абсолютной основы нашей внутренней жизни – горение сердца силой, которая по своей значимости и ценности с очевидностью воспринимается как нечто высшее и большее, чем я сам»346. Что же представляют собой высшие ценности, ориентирующие, с точки зрения русской философии, человеческое существование и придающее ему смысл? Думается, нет необходимости подробно перечислять все составляющие системы высших ценностей – все они укладываются в традиционную триаду, образующими которой являются Добро (или Благо), Истина, Красота. Эти три абсолютные ценности, по мнению Вл. Соловьева, соответствуют ипостасям Святой Троицы, которые в его философскорационалистической интерпретации предстают как Дух (субъект и носитель блага), Разум (как субъект и носитель истины) и Душа (как субъект чувства и носительница красоты). Так что в этом от346 Франк С.Л. Духовные основы общества. С. 247. 213 ношении русская философия не вносит ничего принципиально нового. И все же сама интерпретация указанных ценностей несет на себе отпечаток своеобразия русской мысли, в частности ее непосредственного, эмоционального отношения к действительности. Независимо от различий в понимании конкретного содержания высших ценностей, все русские философы демонстрируют удивительное единодушие в одном пункте – совокупным выражением этих ценностей они считают любовь. «Благо, истина и красота, – писал Вл. Соловьев, – суть различные образы или виды единства, под которыми для абсолютного является его содержание. Но, вообще говоря, всякое внутреннее единство, всякое извнутри идущее соединение многих есть любовь... В этом смысле благо, истина и красота являются лишь различными образами любви»347. Любовь как ценность занимает совершенно особое место в русской философии. Она имплицитно присутствует во всех рассуждениях об истинных началах бытия, обнаруживается во всех проявлениях человеческой духовности. Так, в концепции Всеединства любовь выступает как основополагающий принцип бытия. В соответствии с воззрениями Вл. Соловьева, все сущее возникает в результате эманации сверхсущего безусловного начала. Этот переход Абсолютного в свое другое и понимается Соловьевым как любовь. «Любовь есть самоотрицание существа, утверждение им другого...»348. Причем переход в другого предстает здесь не только как самоотрицание Абсолюта, но и как его высшее самоутверждение (поскольку если бы абсолютное оставалось только самим собой, исключая свое другое, то это другое было бы его отрицанием и, следовательно, оно само не было бы уже абсолютным 349). И в сфере человеческих отношений любовь понимается как переход в другого, как отказ от себя ради слияния с другим. Здесь также нет простого самоотрицания. Любящий не просто теряет себя, свою самость, но, напротив, в слиянии с другим обретает свою действительную сущность, раскрывается и самоутвержда347 Соловьев В.С. Кризис западной философии // Соловьев В.С. Соч.: В 2 т. М., 1989. Т. 2. С. 103. 348 Соловьев В.С. Философские начала цельного знания. С. 234. 349 Соловьев В.С. Критика отвлеченных начал. С. 704. 214 ется как духовное существо, носитель абсолютного начала, ибо, как утверждает П. Флоренский, «любить видимую тварь – это значит давать воспринятой Божественной энергии открываться, давать ей переходить на другого... Любя, мы любим Богом и в Боге»350. Если на уровне высшего, безусловного начала любовь есть переход в множественность конечных и несовершенных сущих, то в сфере человеческого бытия имеет место обратный процесс: здесь любовь выступает как движение от своей обособленности и эгоизма через самоотрицание к единству с другим и через него – к слиянию с Абсолютным. В смысловом поле русской философии любовь предстает не как субъективно-эмпирическое явление, а приобретает метафизический смысл. Для П. Флоренского любовь, ведущая к отождествлению двух существ, является не субъективным психическим процессом, а субстанциальным актом, онтологически преображающим любящих друг друга. «Любящий, – читаем мы в “Столпе”, – возродился или родился во второй раз – в новую жизнь; он сделался “чадом Божиим”, приобрел новое бытие и новую природу, был мертв и ожил для перехода в новое царство действительности... Пусть другим – людям с “окаменелым сердцем” – он продолжает казаться тем же, просто человеком. Но на деле в невидимых недрах его “блудной” души произошло таинственное пресуществление»351. В таком контексте сартровские, полные отчаяния и одиночества, рассуждения о принципиальной недостижимости любви вследствие невозможности присвоить себе другого – любимого, также желающего присвоения любящего, предстают как лишенная основания проблема. Вопрос о «присвоении» в любви не мог здесь даже возникнуть, ибо любовь безоговорочно и единодушно понимается всеми русскими философами как добровольный «переход в другого», взаимопроникновение любящих и формирование новой – третьей – сущности – их добровольного единства, причем не как простого соединения двух индивидуальностей, а как слияния, в результате которого обретается, постигается новый уровень бытия, происходит приобщение к истинному, абсолютному бытию. Ощущение единства со всем сущим, интуитивно прозреваемого за сетью многообразных индивидуальных явлений, лежит в 350 351 Флоренский П.А. Столп и утверждение Истины. I (1). С. 84. Флоренский П.А. Столп и утверждение Истины. I (1). С. 85. 215 основе любых проявлений любви и порождает стремление к другому как носителю этой скрытой формы истинного бытия, которая приоткрывается, обнаруживается в процессе глубинного межличностного общения. Характерная для русских склонность к глубинному общению, любовь к задушевным беседам, к предельным откровениям, имеющим исключительно метафизический, неутилитарный характер, обусловлена как раз наличием этой интуиции внеприродного, трансцендентного бытия и осознания его сопряженности с индивидуальным человеческим духом. Это предвосхищение сокровенных глубин человеческой души объясняет то, что русские люди, в отличие от западного типа формальной коммуникации, не допускающей никакого проникновения в интимные сферы личности, за социально-контролируемую оболочку, рассматривают глубинное общение, «разговор по душам» как величайшую, незаменимую ценность, утрата которой, например, в условиях эмиграции, порождает ощущение пустоты и бессмысленности существования и даже распад личности. Стремление к единству проявляется и в такой специфической черте русского сознания, как соборность. Соборность в русском менталитете – это не просто привычка к общению, склонность к коллективизму, порожденная утилитарными соображениями. Здесь выражается интуитивное стремление к единению, имеющее своей основой подсознательное ощущение единства всего сущего, понимание того, что истина (даже о самом себе) открывается только в процессе глубинного общения с другими и что обрести истинное бытие можно только совместно352. Каждый отвечает за свое спасение сам, но спастись можно только всем вместе. Невозможна полнота и удовлетворенность изолированного индивидуального бытия, поскольку именно эта изолированность и порождает разобщенность и зло всякого конечного, временного существования. Эта интуиция единства – настолько существенная черта русского сознания, что она присутствует даже в таких сугубо персоналистичеких учениях, как философия Бердяева. Говоря об одиночестве человека в объективированных условиях общества, русский предтеча экзистенциализма тем не менее убежден в возможности преодоления изоляции личности путем общения «я» и 352 См., напр.: Трубецкой С.Н. О природе человеческого сознания // Трубецкой С.Н. Соч. М., 1994. С. 498. 216 «ты» в непосредственном духовном опыте, который осуществляется посредством интуиции. Это духовное единство, возникающее на основе любви (как антипода эгоизму и индивидуализму) Бердяев называет «соборным единством». Понимание фундаментальной роли любви, ее метафизического смысла тем более характерно для философии С. Франка. В развиваемой им концепции всеединства любовь есть основа всей человеческой жизни, само ее существо. И если человек в обыденной жизни представляется себе оторванным и замкнутым в себе фрагментом бытия, который должен утверждать себя за счет чужих жизней, то человек, интуитивно обнаруживший свою сопричастность абсолютному целому, сознает, что вне любви нет жизни и что он сам тем более утверждает себя в своем подлинном существе, чем более он превозмогает свою призрачную замкнутость и укрепляется в ином. «Человеческая личность, – пишет Франк, – как бы снаружи замкнута и отделена от других существ; извнутри же, в своих глубинах она сообщается со всеми ими, слита с ними в первичном единстве»353. Остановившись на характеристике этого важнейшего для русской философии принципа миропонимания, попытаемся определить ее значимость в структуре ценностных ориентаций современного человека. Несмотря на отмеченные выше особенности, русская философия развивалась в направлении общих тенденций, характерных для европейской философии новейшего времени, а именно: в русле антропологизации философии, ее обращенности к проблемам человека. В этом смысле русская философия органично вписывается в мировой философский процесс: проблемы человеческого бытия всегда находились в центре ее размышлений. Здесь достаточно фундаментально проработаны и вопросы, связанные с исследованием объективно-исторической сущности человека (учение о Богочеловечестве Вл. Соловьева), и проблемы индивидуального человеческого бытия (персонализм Бердяева и Лопатина). В своей обращенности к человеку русская философия избежала искушения признать его точкой отсчета бытия, то есть никогда не доходила до откровенного и однозначного антропоцентризма. Точно также признание приоритета конкретной, живой личности не привело русских мыслителей к утверждению индиви353 Франк С.Л Смысл жизни. С. 565. 217 дуализма и субъективизма. Самонадеянности и самодовольству человека, питаемым рассуждениями абстрактного, отвлеченного разума, здесь противостоит интуитивное ощущение своей связанности с невидимыми, скрытыми основами бытия, присутствие которых непосредственно переживается в духовном опыте личности. Это ощущение «нездешних корней бытия» не только дает опору человеческому существованию, препятствует возникновению чувства покинутости и метафизического одиночества, но и ориентирует индивидуальный человеческий дух в направлении движения к этим высшим, абсолютным началам. Преодолев ограниченность узкорационалистического понимания мира сего детерминизмом и господством необходимости, русская философия провозгласила свободу человеческого духа, которая рассматривается здесь как атрибут собственно человеческого существования. Но само понятие свободы, преломленное в мыслительном поле, фундированном интуицией Абсолютного, приобретает в русской философии своеобразную трактовку. Свобода рассматривается здесь не с точки зрения возможности переделывания мира «под себя», не с точки зрения подчинения своей воле других людей, но с точки зрения независимости человеческого духа от внешних условий материального бытия. Выражением этой свободы на уровне индивидуального человеческого бытия является любовь как свободное, добровольное самоотречение индивидуального человеческого духа, переход в другого и слияние с ним, в предельном случае – ощущение полного единства со всем окружающим: «я – во всем и все – во мне». Это непосредственно из недр души идущее единение, осуществляющееся посредством любви, и рассматривается русской философией как проявление высшего, абсолютного Блага, той самой высшей Правды, поиски которой образуют содержательное поле русской мысли. Стремление к Добру как высшему Благу интерпретируется русской философией как выражение внутренней свободы индивида и выступает для русских мыслителей как существенная характеристика человеческого существования, атрибут собственно человеческого бытия. Как объяснить эту особенность философского мышления? Можно, конечно, искать (и найти) ее истоки в объективноисторических и социально-культурных предпосылках ее формирования. Но, думается, в рамках такого исследования невозможно 218 объяснить самую суть проблемы – наличие исходной интуиции абсолютного добра, занимающей важное место, как в индивидуальном духовном опыте русской души, так и в философских построениях подавляющего большинства русских мыслителей. Стремление к добру не может быть обосновано рациональнологически, оно есть реальность, обнаруживающаяся непосредственно в духовной жизни индивида как интуитивное влечение, интенция души. Рационализация этой важнейшей духовной интенции личности происходит уже потом, a posteriori, и тогда начинаются поиски ее оснований, попытки объяснить эту, по сути своей иррациональную, направленность личности, не вытекающую из непосредственных нужд и потребностей земного проживания индивида. Заметим, что речь идет не о соблюдении норм морали, которое, даже если оно вошло в привычку и стало естественной формой поведения, все-таки есть выражение внешней жизни индивида, его внешнего, социального Я и потому имеет внешний, принудительный характер. В этом случае возможна и социальная мимикрия – намеренное, продуманное изображение добродетельности. Но тогда вся внутренняя душевная жизнь личности принимает адаптивный характер и сводится к выработке рациональных (целесообразных) способов укоренения в действительности и вследствие этого теряет черты духовности. Истинное же проявление духовности – интуитивное стремление к добру, имплицитно содержащее уверенность человека в том, что именно это добро, а не индивидуально значимые блага и есть действительное, истинное Благо, к которому надо стремиться и которое следует развивать в себе. Конечно, на протяжении развития философской мысли постоянно предпринимались попытки рационального обоснования указанных духовных интенций, в том числе в русской философии – достаточно упомянуть попытку Вл. Соловьева «оправдать добро» в контексте стремления к всеединству. Но, повторимся, здесь имеют место рациональные интерпретации уже имеющегося опыта, нас же интересует само наличие этого опыта – интенция к добру как иррациональное стремление за пределы своей индивидуальности, за границу своего эгоистического интереса – к Другому, к высшему, к Абсолюту. Именно эта интенция и стала исходной интуицией русской религиозно-идеалистической философии. 219 Что означает обращенность русской философии к высшим ценностям? Что мы можем сказать о ней, исходя из этой существенной ее особенности? Прежде всего, здесь проявляется характерная для русской мысли целостность непосредственного отношения к миру в единстве его рациональных, эмоциональных и духовных составляющих. Последняя исключает разделение онтологических и аксиологических характеристик бытия. Рациональное осмысление, взятое само по себе, как одна из форм познания, связано с предметно-осязаемой действительностью, и даже в том случае, когда разум, предельно абстрагируясь, пытается осмыслить сущность этого мира, он все равно имеет целью организовать, упорядочить – рационализировать – земное бытие. Поэтому все рационалистические концепции бытия (в том числе объективно-идеалистические), исходящие из тождества бытия и мышления, сколько бы они ни толковали о трансцендентном, не выходят за рамки этого доступного человеческому осмыслению мира, ориентированы на него и в этом смысле прагматичны. В них все рассматривается с точки зрения целесообразности, которой, как известно, чужды всякие эмоции, любые оценочные суждения и отношения. На уровне рационального отношения к действительности происходит четкое различение, разграничение – разведение по разным сторонам – предметной и эмоционально-оценочной деятельности человека. Ценности как выражение эмоциональных отношений, не меняющих «сути дела», объективных обстоятельств, оттесняются в сферу вторичных, несущественных проявлений рационально понимаемого бытия, в котором господствуют «достоверные факты» и целесообразность оперирования с ними. Именно в этом разделяющем мышлении коренятся истоки западного прагматизма, элиминирующего реального, живого, чувствующего и переживающего человека, с его индивидуальными отклонениями и неправильностями, из структуры строго организованного, рационально-устроенного мира. Цель этого исключения – упорядочить отношения с миром, сделать их наиболее удобными, подконтрольными человеческому вмешательству. Грустная ирония истории, однако, состоит в том, что тот же самый прагматизм привел к прямо противоположному результату – к подпадению западной цивилизации под власть нечеловеческих (бесчеловечных) анонимных сил, лишающих человека возможно220 сти для свободного проявления его сущностных сил и влекущих человечество к самоуничтожению и гибели354. Несмотря на осознание губительности такого подхода, прагматизм как стиль мышления продолжает доминировать в западном сознании, более того, нередко его сторонники берут на себя роль своеобразных «философских мессионеров». Так, Дж.П. Скэнлан в дискуссии между российскими и американскими учеными рекомендует русским философам отказаться от особенностей национального философствования и развивать те взгляды, которые способствуют сближению с западным типом мышления. Ссылаясь на труды русского позитивиста В. Лесевича, он, в полном соответствии с установками прагматизма, призывает, следуя его примеру, «различать факты и ценности»355. Но позитивизм Лесевича не только не выражает существенных особенностей русской философии, но и в значительной мере «выпадает» из ее общей направленности. Высшие ценности в русской философии никогда не понимались как выражение исключительно субъективного, индивидуально-личностного отношения человека, а рассматривались в качестве атрибутов абсолютно-истинного бытия. Это бытие, будучи трансцендентным обыденному человеческому существованию, тем не менее не отделено, по их мнению, от реального человека. Оно обнаруживается в глубине его внутреннего мира, в духовных интенциях личности. Соответственно человеческое существование приобретает ценность как сопричастное высшему, абсолютному бытию, выступающему как высшая ценность. Вне этого соотношения, вне ценностной интерпретации сущего русская философия, как органичное, целостное, «живое знание», имеющее целью указать человеку смысл его существования, не мыслит себе бытие – будь то бытие безусловного и совершенного начала или бытие отдельной человеческой личности. Поэтому учения русских мыслителей с трудом подпадают под номинацию теоретичности, что в глазах западных исследова354 См.: Хайдеггер М. Отрешенность // Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. С. 107. 108; Хесле В. Философия техники М. Хайдеггера // Философия М. Хайдеггера и современность. М., 1991. С. 142–143. 355 Скэнлан Дж.П. Нужна ли России русская философия? // Вопросы философии.1994, № 1. С.65. 221 телей предстает как недостаток или даже недоразвитость. Так, например, американский философ А. Валицкий, выступая против акцентирования особенностей русской философии, апеллирует к опыту США и Европы, где философское наследие анализируется «с сугубо теоретической точки зрения, т. е. с точки зрения содержащегося в нем теоретического знания, а не культурнообусловленного сознания определенной коллективной личности»356. Вольно или невольно А. Валицкий подчеркнул существенное различие русской и западной философии. Однако вполне возможно, что характерная для русской философии целостность сознания, недостаточная обособленность в нем теоретического знания, кажущиеся американскому профессору бесспорным недостатком, может быть понята несколько иначе – как более полная, потенциально емкая форма постижения сущего, обеспечивающая учет человеческой компоненты бытия. Упомянутая дискуссия российских и американских ученых подводит нас к более общему вопросу, ответ на который имеет резюмирующее значение для всего осуществленного в этой главе исследования. Насколько созвучна русская философия сегодняшнему сознанию? Может ли она сыграть конструктивную роль в формировании ценностных ориентаций современного общества? Разумеется, в той форме, как она представлена соответственно периоду конца XIX – начала XX века, она не может быть принята полностью и безоговорочно. И дело здесь не только и не столько в откровенной религиозности. Направленность к сверхэмпирическим сферам продолжает оставаться привлекательной и сегодня, ибо она соответствует русскому менталитету на архетипическом уровне. К тому же господствовавшая на протяжении десятилетий социалистическая идеология с ее приземленностью, ориентацией на создание «земного рая» только обострила тоску по высшим, надприродным смыслам, о чем свидетельствует новый религиозный подъем, осуществляющийся в нашей стране в последнее время. Хотя, разумеется, нельзя отрицать и известной прагматизации сознания «советского человека». Возвращаясь к русской философской традиции, не следует забывать, что ее идеи теперь ложатся на иную историческую 356 Валицкий А. По поводу «русской идеи» в русской философии // Вопросы философии. 1994, № 1. С.69. 222 почву, функционируют в новом социально-культурном пространстве. Общая тенденция переоценки ценностей, отказ от высших ценностей коснулись и нашего общества. Этому в немалой степени способствовало лицемерие коммунистической идеологии, несоответствие практики социализма провозглашавшимся идеалам и ценностям. В результате отрицанию подверглись не только сами социалистические идеалы, но и всякие идеалы вообще, любые общезначимые ценности, внеположенные реальному человеческому существованию. Все это затрудняет процесс усвоения нашими соотечественниками своего утраченного исторического духовного наследия. Высшие ценности, вдохновлявшие русских философовидеалистов, представляются сегодняшнему сознанию чересчур «заоблачными», а сама ориентация на них – утопической. Само по себе несоответствие провозглашаемых ценностей реальному состоянию сознания и практике обыденной жизни еще не является достаточным основанием для непринятия развиваемого русской философией подхода, ведь в ней речь идет не о наличной действительности, а об ином уровне бытия – о сфере обитания смыслов. Однако эти надэмпирические смыслы, будучи облеченными в формы философского дискурса, приобретают четко артикулированный понятийный характер и выступают в виде нравственных категорий, которые и вызывают недоверие и даже неприятие. Нравственные категории выражают не столько внутренние духовные интенции личности, сколько социально-санкционированные формы поведения. Смысл и направленность нравственного поведения связаны главным образом с внешней социальной жизнью индивида и имеют целью оптимизацию форм человеческого общежития. Поэтому все нравственные установления предполагают существование некоего утилитарного смысла и в силу этого «заземляют» соответствующие побуждения личности. К тому же нравственные категории в силу своей формальности и абстрактности, свойственных любым рационально-логическим понятиям, выражают общезначимые нормы поведения; на индивидуально-личностном уровне они не обладают необходимостью и обязательностью, то есть не выражают с необходимостью непосредственных внутренних интенций личности, а лишь предписывают ей желательный (целесообразный для общественной жизни 223 индивида) образ поведения. В силу этого возможны, и в действительности часто имеют место, несовпадения внешней социальной формы поведения индивида и его внутренней направленности, то есть нравственное лицемерие. Именно это стало реальным историческим основанием для «переоценки ценностей», осуществленной в европейском сознании в новейшее время и выраженной в философии Ф. Ницше и его последователей. Именно это вызывает недоверие к традиционным нравственным ценностям и в современном сознании. Откровенная и прямолинейная проповедь русской философией добра в ментальном поле, где расхожий афоризм «благими намерениями устлана дорога в ад» приобрел значение аксиомы, кажется наивной именно в силу скомпроментированности «высших ценностей» в реальном историческом процессе. Последнее произошло потому, что высшие ценности как объект человеческих духовных стремлений были подвергнуты вербализации и по существу редуцированы к предметным формам реального человеческого существования. Поэтому всякая неудача в конкретном осуществлении нравственных принципов и норм экстраполировалась на область высших ценностей как таковых. Между тем неясная, неопределенная тоска по высшему смыслу, выступающая существенной характеристикой духовности, имеет своим «объектом» нечто, что не может иметь аналогов в реальной земной жизни индивида и поэтому принципиально не допускает опредмечивания. Дело здесь не только в невозможности адекватного дискурсивного выражения, а в принципиальной скрытости, невыразимости («непостижимое») трансцендентного. Трансцендентное не может быть выражено в формах имманентного человеческого существования. Опредмечивание высших ценностей «приземляет» их. Сразу обнаруживается несоответствие их содержания тому невыразимому, что вызывает смутные томления души, предвосхищение иного бытия. Отсюда и недоверие к разговорам о высших ценностях, о нравственном самосовершенствовании и т. п. В западном сознании это недоверие конституировалось в философский нигилизм, который в свою очередь привел к формированию и утверждению прагматизма, не знающего иных ценностей, кроме практической пользы. Отвергнув высшие, «надчеловеческие» ценности, западная философия переориентировалась 224 на развитие человека, который, став отправной точкой миропонимания в целом, приобретал в такой интерпретации характер сверхчеловека и даже человекобога. Но опыт истории показал, что в деятельности сверхчеловека слишком явно проглядывает звериная сущность357. Высоты духа не открываются и не покоряются суперзверю. Вот почему русская философия противопоставила ницшеанскому титанизму учение о Богочеловечестве. В ней также подчеркивается особая роль, особый статус человека в мироздании, но человек здесь обладает субстанциональной значимостью не сам по себе, а вследствие его приобщенности к высшему, абсолютному бытию – как носитель духа. Как показано выше, уверенность русских философов в существовании высших начал питается непосредственной интуицией абсолютного бытия, трансцендентного обыденному человеческому существованию. Однако эта интуиция, которая является скорее ощущением неполноты, неокончательности наличной действительности, ощущением недостаточности бытия, чем непосредственным представлением трансцендентного, того, к чему направлены духовные интенции личности, – эта интуиция неправомерно облекается в посюсторонние, доступные человеческому пониманию дискурсивные формы. Происходит своеобразная антропологизация трансцендентного. Человеческое сознание, не желающее погружаться в бесприютный хаос неизвестного, непостижимого трансцендентного, услужливо подсказывает идею тождества, соответствия высших, абсолютных и человеческих начал, благодаря чему человеческое бытие (с оговоркой «собственно человеческое» – духовное) приобретает статус абсолютного, а само абсолютное бытие оказывается соразмерным человеческому – привычным, устоявшимся человеческим ценностям (Добро, Истина, Красота). Таким образом, русская религиозно-идеалистическая философия как бы возводит над человеком спасительную «крышу», строит «дом», в котором при надлежащем стремлении он может обрести покой и гармонию. Но, как справедливо замечает А.В. Ахутин, в рамках русской мысли, в лице Ф.М. Достоевского, 357 Исторические проявления этой человеческой «гигантомахии» – ужасы нацизма и сталинизма, холокоста и Чернобыля – Л.А. Коган характеризует как «апокалипсис нашего времени» (см.: Коган Л.А. О будущем философии // Вопросы философии. 1996, № 7. С. 28). 225 уже было достигнуто понимание невозможности для человека «устроиться непротиворечиво»358. Это означает необходимость каждый раз самому, на свой страх и риск разрешать проблемы собственного бытия, строить свое бытие на основании своей собственной, ничем не определяемой и никем не ограничиваемой свободы. При этом вовсе не обязательно отрицать существование высших, абсолютных начал бытия и утверждать субстанциальное одиночество человека. Наличие в человеке «нездешних корней бытия», интуитивно улавливаемых и теоретически выраженных русской философией, сегодня может быть принято не только как возможное метафизическое допущение, но и как философский эквивалент современных научных представлений о духовных началах бытия и их проявленности в человеческом сознании. Человек не одинок – невидимыми нитями он связан с непостижимыми основами бытия, которые заявляют о себе в его неизбывной тоске по Иному. Эта сфера трансцендентного, стимулирующая духовные интенции личности, однако в силу своей инаковости, внеположенности обыденному человеческому существованию, принципиальной непостижимости, не может служить предметным ориентиром человеческой деятельности, указывать путь к истинному бытию. Вот почему человек должен принять неутешительную истину о том, что в своем жизненном творчестве, действительным источником которого является его собственная свобода, он не найдет никаких опор, кроме тех, которые воздвигнет он сам. Эти опоры находятся в самом человеке, в глубине его внутреннего мира. В разных философских интерпретациях они выступают то как «духовность инстинкта» (И. Ильин), то как софийное, богочеловеческое начало в человеке (Вл. Соловьев), то как «нравственный закон внутри нас» (И. Кант). Это духовное начало в человеке – слабое, подавленное материальной природой, часто пребывающее в латентном состоянии и лишь в редких, немногочисленных моментах прорывающееся наружу, обнаруживающее себя в собственно человеческих Поступках – все еще не развито в человеке359, находится почти в зародышевом состоянии. Его воздействие проявляется пока не 358 См.: Ахутин А.В. София и черт. С. 69. Что и позволяет говорить о современном человечестве как о «пред-человечестве», поскольку интересы материально-животного существования являются пока определяющими в его развитии и все социальные формы жизнедеятельности людей коррелируют с формами жизнедеятельности животных. 359 226 столько в конструктивном созидании, сколько негативно – как устойчивое неприятие человеком наличной действительности, дистанцирование от нее и томление по иному бытию. Однако и в этих условиях неразвитости духа на протяжении всей истории человечества в сознании людей, наряду с меркантильными, утилитарными установками, занимавшими, безусловно, главенствующее место, устойчиво сохранялась и воспроизводилась мысль о спасительной, созидающей силе любви, бескорыстия и добра. Предельно подавленная, отодвинутая на периферию сознания в рационально-организованных прагматических обществах Запада, прорывающаяся сквозь бесправие и бытовую неустроенность восточных стран, эта мысль осознается современным человечеством как единственный путь к спасению от глобального самоуничтожения и единственная возможность осуществить свое подлинное назначение – реализовать свою уникальную сущность, свою духовность. В этом смысле призывы русской философии, ее дух и направленность, несмотря на отмеченную выше наивность, чрезмерную назидательность и «заоблачность», имеют, пожалуй, большее значение для духовного выздоровления нашего общества, чем хитроумные построения современного постмодернизма. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Осуществленное исследование позволяет усомниться в правомерности пессимистических прогнозов о невозможности духовного возрождения человечества. Подобные утверждения исходят из ограниченных существующей системой ценностей представлений о духовности. Думается, обсуждение этой проблемы предполагает изменение точки зрения – осуществления своего рода мета-подхода, выражающегося в способности посмотреть на проблему с позиций иного понимания сущности человека и бытия в целом, понимания, в котором роль и значение духовных начал значительно возрастают, все более осознаваясь как решающий фактор конституирования человеческого бытия. Духовность как существенная характеристика человеческого бытия не может просто «иссякнуть» – это противоречило бы 227 природе человека. И потому нынешний кризис должен быть понят в том смысле, что духовные ценности завершающейся стадии развития истории (которую можно условно назвать утилитаристской – вследствие ее в целом приспособительного характера) исчерпали себя и уже не могут служить ориентиром для дальнейшего развития человечества. Необходима выработка новой системы ценностей, исходя из нового назначения человека – как элемента космического целого, носителя высшего – духовного – этапа эволюции Вселенной. Для построения этой системы необходимо внимательно прислушиваться к голосу духа, взывающего из глубин внутреннего мира личности и напоминающего человеку о его единстве со всем сущим. Необходимость формирования новой – общечеловеческой – системы ценностей обусловлена реальным существованием глобальных проблем. Особенность нынешнего этапа состоит в том, что ситуация обязывает признать приоритет духовности, подобно тому, как на заре Нового времени столь же объективно принудительно было внедрено материалистическое мировоззрение. Однако процесс этот не неизбежен, не предопределен однозначно и требует известного усилия. Поистине судьба современного человека находится в его собственных руках, точнее – в силе его духа. 228 СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ .......................................................................................... 3 Раздел I. ОНТОЛОГИЯ ДУХОВНОСТИ Глава I. КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ 1. Духовность как характеристика человеческого бытия ....... 6 2. Разум в структуре духовной жизни личности.................... 31 3. Этические аспекты духовности ........................................... 37 Глава II. ВНУТРЕННЕЕ БЫТИЕ ДУХОВНОСТИ 1. «Топология» человеческого духа ........................................ 47 2. Субстанциальные основы духовности ................................ 59 Глава III. ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУХОВНОСТИ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО ОСМЫСЛЕНИЯ РЕАЛЬНОСТИ ............. 77 Раздел II. АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДУХОВНОСТИ Глава IV. ЦЕННОСТИ КАК СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДУХОВНОСТИ ................................... 108 Глава V. ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ В ЗЕРКАЛЕ ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ .................................................... 121 1. Одиночество «заброшенного» человека: субъективизм и индивидуализм экзистенциальной философии .................... 126 2. «Переоценка всех ценностей» ........................................... 130 229 3. Философия А. Камю: мужество бунтующего человека .................................................................................... 135 4. Свобода и ответственность в философии Ж.-П. Сартра ............................................................................ 141 5. Возвращение бытия: философия М. Хайдеггера ............. 148 6. Духовность как зов трансценденции в философии Карла Ясперса .......................................................................... 157 Глава VI. ДУХОВНЫЕ ОРИЕНТИРЫ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ 1. Эвристические возможности русской философии в исследовании духовности..........................................................................173 2. Противоречивый диалог с действительностью: тяга к абсолютному ................................................................. 184 3. Система Высших ценностей: смысл и предметное выражение ................................................................................ 203 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................ 227 230 Монография ЗИНАИДА ВАСИЛЬЕВНА ФОМИНА ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ДУХОВНОСТЬ: БЫТИЕ И ЦЕННОСТИ Редактор С.П. Шлыкова Компьютерная вёрстка Е.Н. Липчанской В оформлении обложки использована картина С.Н. Элояна Подписано в печать 07.04.2015. Гарнитура Times. Печать «DUPLO». Усл. печ. л. 14,5. Уч.-изд. 9,7. Тираж 55 экз. Заказ 23. ФГБОУ ВО «Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова». 410012, г. Саратов, пр. имени С.М. Кирова, 1. 231