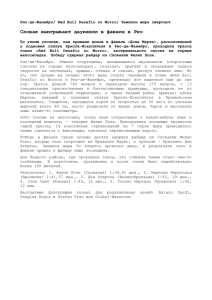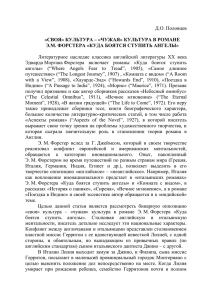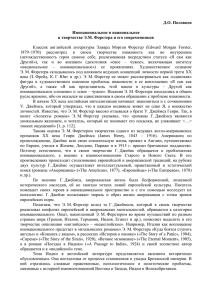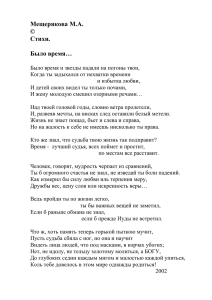Бремя страстей человеческих, Сомерсет Моэм
advertisement
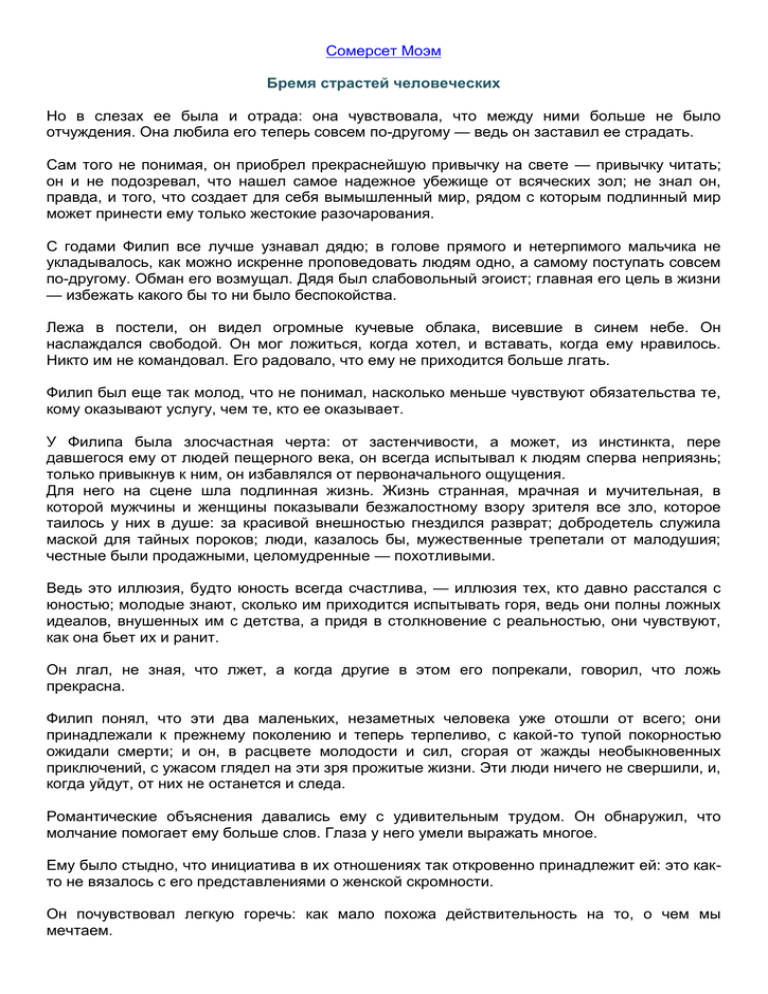
Сомерсет Моэм Бремя страстей человеческих Но в слезах ее была и отрада: она чувствовала, что между ними больше не было отчуждения. Она любила его теперь совсем по-другому — ведь он заставил ее страдать. Сам того не понимая, он приобрел прекраснейшую привычку на свете — привычку читать; он и не подозревал, что нашел самое надежное убежище от всяческих зол; не знал он, правда, и того, что создает для себя вымышленный мир, рядом с которым подлинный мир может принести ему только жестокие разочарования. С годами Филип все лучше узнавал дядю; в голове прямого и нетерпимого мальчика не укладывалось, как можно искренне проповедовать людям одно, а самому поступать совсем по-другому. Обман его возмущал. Дядя был слабовольный эгоист; главная его цель в жизни — избежать какого бы то ни было беспокойства. Лежа в постели, он видел огромные кучевые облака, висевшие в синем небе. Он наслаждался свободой. Он мог ложиться, когда хотел, и вставать, когда ему нравилось. Никто им не командовал. Его радовало, что ему не приходится больше лгать. Филип был еще так молод, что не понимал, насколько меньше чувствуют обязательства те, кому оказывают услугу, чем те, кто ее оказывает. У Филипа была злосчастная черта: от застенчивости, а может, из инстинкта, пере давшегося ему от людей пещерного века, он всегда испытывал к людям сперва неприязнь; только привыкнув к ним, он избавлялся от первоначального ощущения. Для него на сцене шла подлинная жизнь. Жизнь странная, мрачная и мучительная, в которой мужчины и женщины показывали безжалостному взору зрителя все зло, которое таилось у них в душе: за красивой внешностью гнездился разврат; добродетель служила маской для тайных пороков; люди, казалось бы, мужественные трепетали от малодушия; честные были продажными, целомудренные — похотливыми. Ведь это иллюзия, будто юность всегда счастлива, — иллюзия тех, кто давно расстался с юностью; молодые знают, сколько им приходится испытывать горя, ведь они полны ложных идеалов, внушенных им с детства, а придя в столкновение с реальностью, они чувствуют, как она бьет их и ранит. Он лгал, не зная, что лжет, а когда другие в этом его попрекали, говорил, что ложь прекрасна. Филип понял, что эти два маленьких, незаметных человека уже отошли от всего; они принадлежали к прежнему поколению и теперь терпеливо, с какой-то тупой покорностью ожидали смерти; и он, в расцвете молодости и сил, сгорая от жажды необыкновенных приключений, с ужасом глядел на эти зря прожитые жизни. Эти люди ничего не свершили, и, когда уйдут, от них не останется и следа. Романтические объяснения давались ему с удивительным трудом. Он обнаружил, что молчание помогает ему больше слов. Глаза у него умели выражать многое. Ему было стыдно, что инициатива в их отношениях так откровенно принадлежит ей: это както не вязалось с его представлениями о женской скромности. Он почувствовал легкую горечь: как мало похожа действительность на то, о чем мы мечтаем. Разговаривал он покровительственно и в то же время неуверенно, так, словно хотел придать себе значительность, которой не обладал. Раньше он не мог себе представить, что в большом городе чувствуешь такое одиночество. Постепенно ее письма стали его пугать, он не спешил их распечатывать, зная, что они полны сердитых упреков и жалоб: зачем ему снова чувствовать себя скотиной, раз он не понимает, в чем его вина? Как и все слабохарактерные люди, он настойчиво требовал от других, чтобы они не меняли своих решений. Женщины любят преувеличенно выражать свои чувства, слова у них отнюдь не обозначают того же, что у мужчин. Хороший художник должен рисовать два объекта сразу — человека и его душевное устремление. Последнее время Филипа грызла мысль, что, раз человеку дана только одна жизнь, ему нужно добиться в ней успеха; но под успехом он подразумевал не деньги, не славу; он еще не очень отчетливо понимал, что это такое — может быть, богатство переживаний или наиболее полное Проявление своих способностей. Картины пишут только потому, что не могут не писать. Это такая же функция организма, как и всякая другая, только она присуща далеко не всем людям. Картины пишут для себя; в противном случае надо кончать самоубийством. Вы только вдумайтесь: тратишь бог знает сколько времени, чтобы выразить что-то на холсте, вкладываешь в это все силы своей души, а чем все это кончается? В девяти случаях из десяти картину не примут в Салон, а, если ее и возьмут, посетитель взглянет на нее мимоходом — и только; если вам повезет, ее купит какой-нибудь безграмотный болван, повесит на стенку и перестанет замечать, как свой обеденный стол. Критика не имеет к художнику никакого отношения. Она рассматривает явления искусства объективно, а объективность художника не интересует. Художник получает свое особое ощущение от видимого мира и не может не выразить его. Мы рисуем, изнутри приближаясь к внешнему миру; если нам удается навязать свое видение другим, нас зовут великими художниками; если не удается, нас не признают, но мы-то сами остаемся такими, как есть. Величие или ничтожество не играют для нас никакой роли Неважно, какая судьба постигнет нашу работу: мы получили от нее все, что она могла нам дать, покуда мы ее делали. Но у Филипа было такое чувство, что жизнь куда лучше прожить, чем отобразить; ему хотелось пройти через самые раз личные испытания и прочувствовать каждый миг бытия. До чего же унизительно вечно думать о том, как прожить! Мне противны люди, которые презирают деньги. Это либо лицемеры, либо дураки. Деньги — это шестое чувство, без него вы не можете как следует пользоваться остальными пятью. Не имея приличного заработка, вы лишены половины того, что дает жизнь. Единственное, чего нельзя себе позволять, — это тратить больше, чем зарабатываешь. Филип уже знал, что, когда люди на него сердятся, они прежде всего напоминают ему о его хромоте. И неприязнь его к человечеству основывалась на том, что почти никто не мог устоять перед этим искушением. Филипу нужно было знать, как себя вести, и он надеялся это выяснить, не поддаваясь чужим влияниям. Но жизнь шла своим чередом, и, пока он не установил собственных правил поведения, он дал себе совет:«Следуй своим естественным наклонностям, но с должной оглядкой на полицейского за углом». Он понял, что добро и зло — понятия относительные и люди просто приспосабливают эти понятия к своим целям. Он говорил себе, что право всегда на стороне сильного. По одну сторону стояло общество со своими законами развития и самосохранения, по другую — человеческая личность. Поступки, которые шли на пользу обществу, назывались добродетельными, действия, которые шли ему во вред, именовались порочными. Вот к этому и сводились понятия добра и зла. Грех — пустой предрассудок, от которого свободному человеку пора избавиться. В борьбе с человеческой личностью общество пускает в ход три оружия: закон, общественное мнение и совесть; закон и общественное мнение можно перехитрить (ведь только хитростью слабый и одолеет сильного, недаром людская молва считает: не пойман — не вор), но совесть — предатель в собственном стане. Она сражается в человеческой душе на стороне общества и заставляет личность приносить себя в жертву на алтарь противника. Ибо этих недругов — государство и осознавшего себя человека — примирить невозможно. Государство пользуется человеческой личностью для своих целей; если личность восстает против него, государство ее растаптывает; если же она добросовестно служит, — награждает медалями, пенсией и почестями. Личность, сильная только верой в свою независимость, прокладывает себе дорогу в государстве, потому что ей это удобно, и расплачивается деньгами или службой за предоставляемые ей блага, но отнюдь не чувствует себя обязанной за это; равнодушная к наградам, она требует одного: чтобы ее оставили в покое. Свободный человек не может никому причинять вреда. Он делает, что хочет… если может. Его сила — вот единственное мерило его нравственности. Признавая законы современного государства, он нарушает их, не считая, что совершил грех, зато и положенную кару принимает как нечто должное. Ведь настоящая сила на стороне государства. Филип был еще неопытен, не то он бы знал, что, имея дело с женщиной, куда лучше принимать за чистую монету даже самую явную ложь. Филип почувствовал, что уже может с любопытством анализировать то состояние, в котором он находился последние недели. Он с интересом принялся исследовать свои чувства. Ему было даже чуть-чуть забавно. Больше всего его поражало, какую ничтожную роль играет в таких случаях рассудок; философская система, которую он для себя создавал с таким жаром, нисколько ему не помогла. Вот это ставило его в тупик. Филип скрепя сердце покорялся пожиравшей его страсти. Он знал, что все человеческое преходяще и потому рано или поздно всему должен настать конец. Дорогой друг, нельзя покончить с романом, не заставляя кого-нибудь страдать. Крепись, решайся. Единственное утешение в том, что все это скоро проходит. — О Господи, — вздохнула она, — всегда одно и то же! Если хочешь, чтобы мужчина хорошо к тебе относился, веди себя с ним, как последняя дрянь; а если ты с ним обращаешься по-человечески, он из тебя вымотает всю душу. Этак легко было бы жить: сделал свинство, попросил прощения, отряхнулся и пошел дальше как ни в чем не бывало. Филип почувствовал в письме злорадство человека, который многие годы порицал его поведение и теперь получил доказательство своей правоты. Ткач плетет узор на ковре не ради какой-нибудь цели, а просто для того, чтобы удовлетворить свою эстетическую потребность, вот и человек может прожить свою жизнь точно так же; если же он считает, что не свободен в своих поступках, пусть смотрит на свою жизнь как на готовый узор, изменить который он не в силах. Человека никто не вынуждает плести узор своей жизни, нет в этом и насущной необходимости — он делает это только ради собственного удовольствия. Существует один узор — самый простой, совершенный и красивый: человек рождается, мужает, женится, производит на свет детей, трудится ради куска хлеба и умирает; но есть и другие, более замысловатые и удивительные узоры, где нет места счастью или стремлению к успеху, — в них скрыта, пожалуй, какая-то своя тревожная красота. Услышав его голос, она вздрогнула и покраснела, как всегда, когда ее уличали во лжи; потом в глазах ее загорелся знакомый злой огонек. Она подсознательно искала защиты в ругани, но так и не произнесла слов, которые готовы были сорваться у нее с языка. — У меня подлый характер, — говорил он себе. — Я так жадно мечтаю о будущем, а, когда оно настает, испытываю одно разочарование. Пройдет несколько лет, и те, кто пришли на его место, тоже станут здесь чужими; однако эта мысль не принесла ему утешения, она только еще яснее показала ему тщету человеческого существования. Каждое поколение повторяло все тот же незамысловатый путь. Он даже пожалел, что бедствия последних двух лет миновали: тогда он был так поглощен жестокой борьбой за существование, что не мог предаваться мировой скорби. «В поте лица своего будешь есть хлеб свой» — это было не проклятие, которому предали человечество, а утешение, примирявшее человека с жизнью. Он часто слышал, с каким презрением люди говорят о деньгах; интересно, пробовали они когда-нибудь без них обходиться? Он знал, что нужда делает человека мелочным, жадным, завистливым, калечит душу и заставляет видеть мир в уродливом и пошлом свете; когда вам приходится считать каждый грош, деньги приобретают чудовищное значение; нужно быть обеспеченным, чтобы относиться к деньгам так, как они этого заслуживают. Он подумал о своей мечте свести в стройный и прекрасный узор бессчетные и бессмысленные явления жизни; как же он не заметил, что самый простой узор человеческой жизни — человек рождается, трудится, женится, рожает детей и умирает — и есть самый совершенный? Отказаться от всего ради личного счастья — может быть, и означает поражение, но это поражение лучше всяких побед.