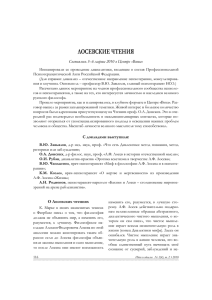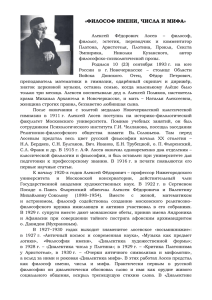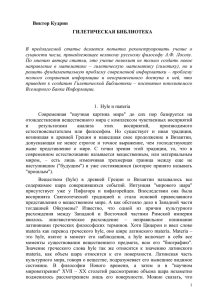А. Ф. Лосев и Э. Кассирер
advertisement
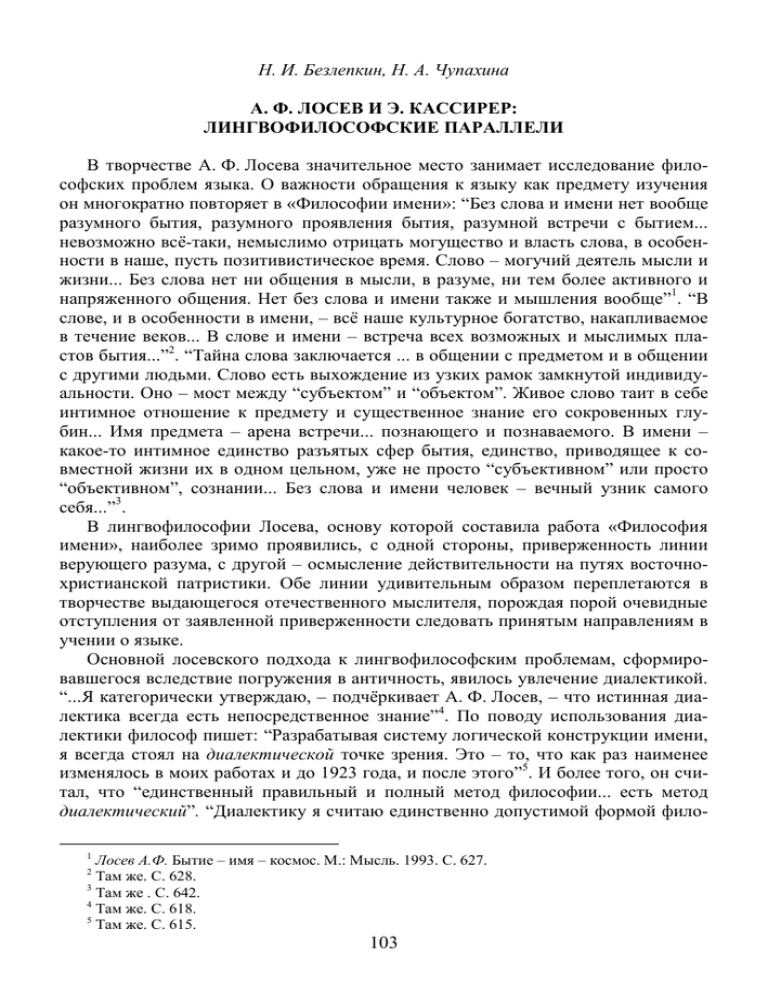
Н. И. Безлепкин, Н. А. Чупахина А. Ф. ЛОСЕВ И Э. КАССИРЕР: ЛИНГВОФИЛОСОФСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ В творчестве А. Ф. Лосева значительное место занимает исследование философских проблем языка. О важности обращения к языку как предмету изучения он многократно повторяет в «Философии имени»: “Без слова и имени нет вообще разумного бытия, разумного проявления бытия, разумной встречи с бытием... невозможно всё-таки, немыслимо отрицать могущество и власть слова, в особенности в наше, пусть позитивистическое время. Слово – могучий деятель мысли и жизни... Без слова нет ни общения в мысли, в разуме, ни тем более активного и напряженного общения. Нет без слова и имени также и мышления вообще”1. “В слове, и в особенности в имени, – всё наше культурное богатство, накапливаемое в течение веков... В слове и имени – встреча всех возможных и мыслимых пластов бытия...”2. “Тайна слова заключается ... в общении с предметом и в общении с другими людьми. Слово есть выхождение из узких рамок замкнутой индивидуальности. Оно – мост между “субъектом” и “объектом”. Живое слово таит в себе интимное отношение к предмету и существенное знание его сокровенных глубин... Имя предмета – арена встречи... познающего и познаваемого. В имени – какое-то интимное единство разъятых сфер бытия, единство, приводящее к совместной жизни их в одном цельном, уже не просто “субъективном” или просто “объективном”, сознании... Без слова и имени человек – вечный узник самого себя...”3. В лингвофилософии Лосева, основу которой составила работа «Философия имени», наиболее зримо проявились, с одной стороны, приверженность линии верующего разума, с другой – осмысление действительности на путях восточнохристианской патристики. Обе линии удивительным образом переплетаются в творчестве выдающегося отечественного мыслителя, порождая порой очевидные отступления от заявленной приверженности следовать принятым направлениям в учении о языке. Основной лосевского подхода к лингвофилософским проблемам, сформировавшегося вследствие погружения в античность, явилось увлечение диалектикой. “...Я категорически утверждаю, – подчёркивает А. Ф. Лосев, – что истинная диалектика всегда есть непосредственное знание”4. По поводу использования диалектики философ пишет: “Разрабатывая систему логической конструкции имени, я всегда стоял на диалектической точке зрения. Это – то, что как раз наименее изменялось в моих работах и до 1923 года, и после этого”5. И более того, он считал, что “единственный правильный и полный метод философии... есть метод диалектический”. “Диалектику я считаю единственно допустимой формой фило1 Лосев А.Ф. Бытие – имя – космос. М.: Мысль. 1993. С. 627. Там же. С. 628. 3 Там же . С. 642. 4 Там же. С. 618. 5 Там же. С. 615. 2 103 софствования”1. Следствием этого было выведение положений, противоречащих учению восточной церкви: а) Имя выше сущности; в) Пентада вместо Троицы 2. Заявленная Лосевым в «Философии имени» установка на онтологизм в точности выдерживается им. Другое дело – характер онтологизма: сущностный или энергетический. Говоря о сущности, Лосев имеет в виду по преимуществу Божественную Сущность. Следует отметить, что философ изначально исходил из совершенно верной, с точки зрения богословия, позиции по поводу различения в Боге сущности и энергии: Бог познаваем в своих энергиях и абсолютно непознаваем по своей сущности. Отправным пунктом размышлений Лосева является именно этот факт. Но что получается на деле? Бог, хотя и не постижим по сущности, но какимто образом сущность Божия всё-таки оказывается постижимой через энергии. В «Философии имени» Лосев вполне сознательно делает этот переход: от изучения энергий к изучению сущности в свете энергий. “Одно дело – изучать действия энергий, и другое дело – изучать в свете энергий самую сущность”3. Поэтому всё изучение предметной структуры имени, по сути, является изучением сущности как таковой. (У Лосева структура имени делится на до-предметную и предметную). Сущность, по Лосеву, имеет диалектическую структуру. Действительно, если сущность познаваема, то она должна иметь какую-то структуру. При этом сущность дорастает у Лосева до имени (пятый элемент диалектической структуры). “Имя... есть расцветшее и созревшее сущее. Диалектически вывести имя и значит вывести всю сущность со всеми её подчинёнными моментами”4. Лосев превосходит в диалектической разработанности сущности Гегеля, у которого в его диалектике все же сохраняется триада. Философ до того был увлечен античностью, что посчитал четвёртый и пятый элементы Пентады (Тело и Имя соответственно) всего лишь неким “диалектическим развитием” того, что Вселенские Соборы уже постановили по поводу 2-го и 3-го лица Пресвятой Троицы. Диалектика не стоит на месте, двигается дальше, и вот Троица дорастает у Лосева до Четверицы (Тетрактиды) и далее до Пентады. “Имя есть высшая точка, до которой дорастает первая сущность, – с тем, чтобы далее ринуться с этой высоты в бездну инобытия”5. Лосевская Первосущность диалектически “переходит” в своё “инобытие”, с тем чтобы отразить в себе, в той или иной мере, эту Первосущность. Чем дальше отстоит тварное бытие от Источника бытия, тем меньше оно отражает в себе признаки Первосущности. Однако соответствующего представлениям патристики понятия “кеносиса” Божества в лосевской диалектике нет, как неприемлемо для духа восточнохристианского богословия лосевское холодное и целиком затемнённое физическое пространство, лишённое всякой рациональности, точнее, логосности, полного распыления и уничтожения первоначальной разумности тварного бытия в глу1 Там же. С. 617. Там же С.147–155. 3 Там же. С. 695. 4 Там же. С. 745. 5 Там же. 2 104 бинах Космоса-Хаоса. Бог пришёл в мир, как человек, “неслиянно и нераздельно” объединил в себе две природы и тем самым освятил через человека самые глубины материального бытия. Человек теперь должен придти к Богу и вместе с собою привести к нему весь тварный мир. Таков, согласно святоотеческому учению, был замысел Бога относительно его творения. Кеносис Божества был необходим для осуществления творения. Пантеизм же русской религиозной философии начала XX в. заключался не в неоплатоническом угасании бытия по мере удаления от Абсолюта, а в апокалиптическом откровенном – “Бог будет всё во всём”. Лосев шёл по пути пантеизма, но уклонился от него, избрав диалектику в качестве “единственно-философского” метода. Диалектика не пуста и не бесплодна, подтверждением чему является лосевская философия имени, в которой диалектический метод тесно переплетён с методом феноменологическим (обнаружение эйдосов бытия). Но, будучи абсолютизирован, диалектический метод ведёт к неизбежному расхождению с действительностью, которая не даёт уловить себя каким-либо чисто умственным, мыслительным инструментом. Диалектика, согласно Лосеву, это “щупальца”, которыми мы схватываем действительность. В такой области, как богословие, в которую Лосев неизбежно заходит в силу изначальной устремленности его учения об имени к онтологизму (поиски бытийственной, а не только гносеологической истины), применение диалектического метода оказывается просто недопустимым и ведёт к абсурдным утверждениям типа “тварь абсолютно во всём тождественна своему Творцу”. Диалектика как формальный метод в том и заключается, по мысли Лосева, что позволяет отождествить сущность с “иным” (или “иное” с сущностью) и вывести всё из сущности. “Иное” есть ничто, с точки зрения диалектики. Но “иное” как сотворённое, “иное” как тварь уже даёт и новое сопряжение между “Одним” и “иным”, между Творцом и тварью, не сводящееся к привычным диалектическим приёмам, в результате которых в общем-то не появляется ничего нового по сравнению с уже имеющимся, так что весь мир становится порождением сущности. “В первозданной, как и во всякой другой, сущности ничего не может быть такого, чего бы не было в мифической первосущности... Первозданная сущность целиком воспроизводит первосущность, с сохранением решительно всех её диалектических моментов...”1. Данный тезис не может быть верным с богословских позиций, даже если оставить на время спорность употребления самого термина “сущность”2. По В.Н.Лосскому, Бог творит нечто новое, а не просто отличное от Себя, Бог “полагает” рядом с Собой, не вне Себя, но и не внутри Себя3. И это полагание рядом с Собой чего-то нового предполагает, в том числе, и возможность наличия творческой свободы для творения (человека), который помимо созерцания логосов творения волен создавать и свои собственные интеллектуальные символы, т.е. свою собственную рациональность. 1 Там же. С. 676. Об особенностях использования категории “сущность” в лингвофилософии и в частности у Лосева см.: Степанов Ю.С. В трехмерном пространстве языка. М, 1985. С. 9–65. 3 См.: Лосский В.Н. Очерк мистического богословия восточной церкви. С. 70. 2 105 Но если вернуться к тезису Лосева, то, очевидно, что в рациональном плане, в творении не может быть ничего, чего не было бы в Творце (т.е. нет никакой тварной рациональности, а есть одна Божественная рациональность). Здесь можно согласиться с философом только в том смысле, что в “данности” тварного бытия не может быть ничего, что не было бы задумано Творцом, поскольку всякая вещь имеет свой логос (существует “идея” вещи – “мысль-воление” Бога об этой вещи). Однако сама возможность тварной рациональности заложена Богом в логосе человека, без неё мир культуры, науки, философии был бы просто невозможен. Философия, в частности, возможна только как свободное творчество, чему примером является и творчество самого Лосева, с его непохожестью и “нетождественностью” с творчеством других русских философов, в том числе и в отношении разработанной ими терминологии (в частности, “символ” Лосева сильно отличается от, скажем, “символа” Флоренского). Первозданная сущность, по мысли Лосева, должна полностью повторять Первосущность в инобытии, т.е. быть Её символом. Иными словами, рядом с Божественной абсолютностью у Лосева появляется другая абсолютность, во всём тождественная с первой. Вынужденная несвобода Лосева в выборе предмета исследования, ограничение себя античностью сыграли, несомненно, решающую роль в подобного рода несогласованности с отстаиваемой им традицией богословия восточной церкви. Недооценка Лосевым фактора человеческой свободы в творении языковых форм связана с тем обстоятельством, что истинный дух восточной церкви – не подавление человека, но, напротив, раскрытие подлинной свободы человека, – к сожалению, не всегда побеждал на практике, хотя известные представители богословской науки не только в теоретическом, но и в практическом плане своей приверженностью истине, своей жизнью отстаивали идею человека как образа Божьего. Свидетельство этому – учение о двух волях во Христе, идея Бога и идея человека, являющиеся центральными в богословии преп. Максима Исповедника, учение о человеке, о феномене человеческой культуры Гр. Паламы. Помимо приверженности восточно-христианской патристике Лосев в формировании своего философского учения об имени апеллирует к современной ему европейской мысли. В работе «Античный космос и современная наука» он пишет: “Я воздерживаюсь от параллелей с учением об имени в новой философии. Но есть два явления, на которые не могу не указать, – до того они поразительны. Первое – это диалектика языка у Гегеля... Второе – это полученное мною перед самым печатанием моей книги исследование E.Cassirer, Philosophie der symbolischen Formen...”1. Лосев приводит отрывок из кассиреровской «Философии символических форм»: “Познание, язык, миф, искусство – все они не просто зеркала, отражающие данное бытие, внешнее или внутреннее, таким, какое оно есть; они – не индифферентные опосредования, а, скорее, источники света, условия видения и начала всякого формирования”2. Почему Эрнст Кассирер с его пониманием языка как одной из символических форм, с его признанием формотворчества в сфере языка может в какой-то степени дополнить понимание лингвофилософии Лосева? Кассирер отталкивался от 1 2 Лосев А.Ф. Бытие – имя – космос. С. 403. Кассирер Э. Философия символических форм. М., СПб., 2002. T. 1. C. 28. 106 Гегеля с его диалектикой, где индивидуальность приносится в жертву общему, служит материалом для этого общего, поглощается им. В действительности, на практике Гегель с его идеалом человеческой свободы уже давно был преодолен. (Общее не довлеет над личностью). В своей «Философии символических форм» Кассирер расширил область исследования сферы познания от научного (точного) знания, идеалом которого является математическое знание, до познания вообще, включив сюда всю область гуманитарных наук. Осознав ограниченность современной ему общей теории познания, он попытался найти свой подход к изучаемой области. Так, наряду с научным познанием право на существование получают в его исследовании и другие формы познания – язык и миф, а также искусство, представляющие собой, по Кассиреру, “область чистой субъективности”1. Каждая форма познания рассматривает действительность с особой, только ей присущей точки зрения. Философ обосновывает значимость каждой символической формы и её роль в универсальном созидании духа. Согласно Кассиреру, само познание является своего рода формотворчеством – свободным творением форм. По его словам, все различные духовные функции объединяет то, что всем им свойственна “изначально-творческая сила”, коренным образом отличающая их от простой способности воспроизведения. Кассирером подчёркивается творческая активность процесса познания. Он полагает, что любая духовная функция содержит в себе “самостийную энергию духа, придающую простому наличному бытию определенное “значение”, своеобразное идеальное содержание”2. Не отображение, но порождение реальности свойственно каждой из функций духа, “не столько оформление мира... сколько формирование мира...”, как пишет Кассирер3. Сам дух в процессе своей объективации (самооткровения) порождает различные формы. Каждая из духовных функций, по Кассиреру, представляет собой особую энергию духа. Их “специфическая направленность” формирует (в каждом случае) особую предметную область. “Последнее прибежище объективности” при этом оказывается перемещённым в “мыслимое объективное”. Дух, по Кассиреру, познаёт самого себя, но не внешнюю ему действительность. Цель, достигаемая различными духовными функциями, при всем их различии, едина – это “преобразование мира пассивных впечатлений... где дух сперва томится в заточении, в мир чистого духовного выражения”4. Активность духа с присущими ему духовными силами и энергией творит в каждом случае особый мир символических форм. Пытаясь преодолеть логицизм гегелевской системы, сохранив при этом своеобразие каждой из них (единство форм и уникальность их конкретного содержания), Кассирер задаётся целью найти тот общий для всех духовных функций момент, то “опосредствующее звено”, ту “срединную сферу в духе”, которая позволили бы соединить между собой все духовные формы и сохранить при этом свое- 1 Там же. С. 7. Там же. С. 15. 3 Там же. С. 17. 4 Там же. 2 107 образие каждой из них. Такая срединная сфера духа была найдена Кассирером в понятии “символа”1. Что касается языка как особой символической формы, то он “становится основным средством духа, так как благодаря ему происходит наше прогрессивное движение от мира элементарных ощущений к миру созерцания и представления. Он уже в зародыше заключает в себе интеллектуальную работу, продолжающуюся потом в образовании понятия, специального научного термина, логического формального единства”. Хотя язык (впрочем, как и все остальные духовные формы) и “выступает с претензией на объективность и ценностную значимость” и даже представляется “в качестве подлинного ядра объективной “действительности””, но, тем не менее, согласно Кассиреру, мир языка, по сравнению с миром чистой науки, является лишь первой ступенью освобождения духа. Именно научное познание творит истинно духовный (умопостигаемый) мир2. В лосевских работах о языке особенно явственно проявилось влияние «Философии символических форм» Кассирера. О том, что Лосев испытал на себе это влияние, он отмечает в предисловии к «Философии имени»: “Феноменологическое учение Гуссерля…<и> ещё важнее учение Кассирера о “символических формах”... это те направления мысли, которые целиком входят в мои концепции, и я многому научился бы здесь, если бы не предпочитал идти совершенно самостоятельным путём”3. И Кассирер, и Лосев не относят язык только к субъективному или объективному. Лосеву было важно подчеркнуть объективный характер языка, и он понимает язык как энергию вещи, как объективную энергию. Кассирер, вслед за Гумбольдтом, представляет язык как энергию духа но, в конечном счёте, в отличие от Лосева, как субъективную энергию, как энергию субъекта – не отдельного лица, а целой нации, народа-носителя языка. И то, и другое в пределе совпадают: объективная энергия вещи, по Лосеву, “почивает” на субъекте и в нём находит своё “выражение”. Энергемы вещи воплощаются в человеке, и субъективная энергия отдельного народа – язык – так или иначе выражает объективные, общезначимые, универсальные ценности. В отличие от Кассирера, Лосев понимает всякий символ как язык. (У Кассирера язык лишь одна из символических форм.) Символ понимается Лосевым как энергия сущности. В таком понимании область языка дорастает до области символического вообще. И кассиреровские символические формы как явления человеческой культуры (язык в узком смысле слова, миф, искусство, наука) становятся частным случаем языка. У Лосева центральным понятием философии языка является Имя (или энергия – в лосевской терминологии это одно и то же) Божественной Первосущности. Другие имена и слова, по Лосеву, это “частичные проявления Имени в инобытии”4. Слово, по Лосеву, можно понимать, как объективную энергию, или энергию только объекта (вернее, как творческую энергию Личности, создавшей объект). 1 Там же. С. 21. Там же. С. 22–24. 3 Лосев А.Ф. Бытие – имя – космос. С. 615. 4 Там же. С. 745–746. 2 108 Согласно же Кассиреру, слово понимается как субъективная энергия (энергия субъекта, индивидуального или коллективного, создавшего словесную символическую форму). Если же мы хотим сохранить и объективный характер языка (т.е. его онтологическую укоренённость, онтологизм слова, имени) и одновременно подчеркнуть активный, творческий характер процесса познания (активное, энергийное, деятельное участие субъекта в познании), то надо признать и то, и другое, т.е. факт двуэнергийности, или сложной энергийности языка. Святоотеческое понятие синергии (совместного действия двух энергий – Божественной и человеческой) как раз было призвано отразить достигаемое на высшем, философском уровне созерцания соответствие слова реальности. Соответствие нашей, человеческой энергии, представленной словом, энергии Божественной создаёт ту гармонию, которая, воздействуя на душу человека, порождает в ней ощущение прекрасного. Таким образом, взгляд Кассирера на язык со стороны субъекта поглощает объект в субъекте; позиция Лосева со стороны объекта поглощает субъект в объекте. Между «Философией имени» Лосева и его более поздними исследованиями в области лингвофилософии существует некоторое несоответствие, что нередко отмечают исследователи его творчества. “Наиболее парадоксальной, но вместе с тем и выразительной иллюстрацией глубинной зависимости между общей религиозно-философской позицией Лосева и анализируемыми им частными гуманитарными проблемами является его оригинальная лингвистическая концепция. В тех работах, в которых непосредственным предметом лосевских исследований стал естественный язык, Лосев утверждает, казалось бы вопреки его имяславческим взглядам, наличие принципиальных различий между коммуникативным символизмом, напрямую связанным с энергией Первосущности (т.е. предметом лосевской философии языка 20-х гг.), и сферой непосредственно человеческого языка. Различия эти связаны с изменением статуса категории “иного”: если в сфере Первосущности “иное” мыслилось лишь как принцип самосознания личности, то применительно к естественному языку “иное” – это реальная, значимая сама в себе субстанция, вступающая тем самым в права носителя явленной сущности и даже их в некоторой степени оформителя. Это – человеческое сознание, пользующееся языком в коммуникативных и гносеологических целях...”1. Сам же Лосев в своих более поздних работах преодолевает “излишний онтологизм” ранней лингвофилософской концепции. Под “излишним онтологизмом” подразумевается подавление Первосущностью всего, что есть “иное” по отношению к ней самой, навязывание одного-единственного возможного взгляда на предмет. Таким образом обнаруживается несколько иная позиция по отношению к взаимоопределению сущности и “иного”. Сама Божественная Сущность, оставаясь никак не затронутой всеми изменениями в сфере Своего “иного”, может, тем не менее, действительно задавать для этого “иного” некие ориентиры (ценностные и гносеологические, этические и эстетические), ни в коем случае не навязывая их, но предоставляя право выбора свободной “иной” субстанции. Так что эта “новая” субстанция может в некотором смысле оформлять (кассиреровское 1 Русская философия. Малый энциклопедический словарь. М.: Наука, 1995. С. 325. 109 формотворчество) предоставляемый ей материал, выступать не просто “отобразителем” уже имеющихся форм, а отливать эти формы самостоятельно. Лосев стремится дать самое широкое определение языка, посмотреть на язык с самой общей точки зрения. “Язык есть предметное обстояние языка, и обстояние – смысловое, точнее, – выразительное, и ещё точнее – символическое. Всякая энергия сущности есть... язык, на котором говорит сущность с окружающей её средой. Всякий символ есть языковое явление”1. Лосев предельно расширяет область языковых явлений. Язык выступает как энергия сущности, причём под сущностью им подразумевается, в первую очередь, Божественная Первосущность или просто первосущность (т.е. нетварная), в отличие, скажем, от первозданной сущности, в которую лосевская первосущность переходит как в своё инобытие2. В том случае, если мы имеем в виду энергию первосущности, мы получаем Имя первосущности. Все остальные имена и слова приобретают смысл благодаря их причастности к Имени3. Безусловно, у вдумчивого читателя Лосева не может не возникнуть следующий вопрос: насколько правомерно подобное расширение понятия слова, имени? Ведь при таком широком понимании языка философия языка (или философия имени) становится у Лосева “философией просто”4. Однако, вслед за Кассирером, здесь можно только повторить, что рассмотрение языка в соответствии с его философским содержанием и с точки зрения определенной философской “системы” – это рискованное предприятие, на которое со времен первых основополагающих трудов Вильгельма фон Гумбольдта не отваживался, пожалуй, никто. Лосев отважился на построение “системы” имени. Она включает в себя 67 диалектических моментов, в числе которых фонетические, семематические, поэтические, собственно ономатические, а также такие, как, скажем, грамматический, риторический и стилистический моменты5. “Не будем удивляться, – пишет Лосев, – столь сложно развитой логической системе, наблюденной нами в имени, или слове. Нельзя ведь забывать того, что слово рождается наверху лестницы существ, входящих в живое бытие, и что человеком проделывается огромная эволюция, прежде чем он сумеет разумно произнести осмысленное слово. Проанализировать слово до конца значит вскрыть всю систему категорий, которой работает человеческий ум, во всей их тесной сращённости и раздельном функционировании. Вот почему всякое знание и всякая наука есть не что иное, как знание и наука не только в словах, но и о словах. Выше слова нет на земле вещи более осмысленной. Дойти до слова и значит дойти до смысла”6. Этим же оправдывается у Лосева “громоздкий аппарат понятий, привлеченных... в целях анализа слова”7. 1 Лосев А.Ф. Бытие – имя – космос. С. 686. Там же. С. 745. 3 Там же. С. 192 4 Там же. С. 746. 5 Там же. С. 740–742. 6 Там же. С. 742. 7 Там же. 2 110 Онтологическое направление в отечественной лингвофилософии всегда заявляло о действительном существовании неких абсолютных ценностных и гносеологических ориентиров, тесно связанных между собой. При этом подразумевается, что человек способен найти искомое, ориентир, о чём будет иметь внутреннее свидетельство (совпадение двух энергий – божественной и человеческой). Предметная сущность слова, по Лосеву, а точнее, одна из бесчисленных Божественных энергий, которая служит и ориентиром, и заданием, и целью, существует сама по себе, так как иначе неминуем отказ от онтологизма, и слова превращаются в искусно опутывающую нас паутину (Л.Витгенштейн), тонкую вуаль (Э.Кассирер), игру символов, за которой ничего не стоит. В противовес склонной к номинализму европейской школе философии языка русская лингвофилософия выдвигает тезис о реальном существовании гносеологических и ценностных ориентиров. Русская лингвофилософия в лице крупнейших своих представителей всегда старалась опираться на восточную патристику как на отправную базу своих размышлений о языке. И работы Лосева тоже свидетельствуют об этом. Другой вопрос – насколько легко удавалось совместить строгое следование традиции восточной патристики с приверженностью методичному европейскому взгляду. Отправным пунктом разрешения возникающего противоречия в отечественной лингвофилософии было незыблемое представление о том, что слово имеет глубокую укоренённость в бытии, что оно онтологично, в отличие от проявившегося на Западе уклона в номинализм, выразившегося в представлении о слове как о flatus vocis. Лосев уже в «Философии имени» затронул темы столь значительные и столь типичные именно для русского ума, что они не могут оставить равнодушным отечественного читателя. И в то же время масштаб творческой личности Лосева, его эрудиция и его всегдашнее желание идти непроторенным путем делают его «Философию имени» явлением неординарным и находящимся в границах традиции отечественной лингвофилософии. Сравнение ранних и более поздних его произведений показывает движение от жесткой детерминированности сферы языка сверху (слово, имя как явление Первосущности) к более гибкой схеме взаимодействия между Первосущностью и простым человеческим словом как индивидуальным выражением личности, что было естественным следствием использования диалектики и феноменологии. Поздний Лосев преодолевает “излишний онтологизм” (т.е. уклон в детерминизм) своих более ранних конструкций. Учение о сущности, о первооснове удачно дополняется в его более поздних работах представлением о неповторимости авторского стиля, рассуждениями об авторе речевой конструкции как о творце формы. В этом смысле лосевская лингвофилософия перекликается с лучшими западными работами по философии языка, культуры, науки (здесь имеется в виду, в первую очередь, Кассирер и его «Философия символических форм»). Беря за основу своей философии восточно-христианскую патристику, что обеспечивало ему прочный фундамент для онтологизма, Лосев в своей лингвофилософии разрабатывал ту область, где без учёта человеческого слова уже просто не обойтись. Так, наблюдаемое в его более ранних философских работах о языке пренеб- 111 режение к слову заменяется у Лосева интересом к последнему, в чём выражается некий более высокий синтез восточного онтологизма и западного психологизма. В личности Лосева как ученого и философа отразилось стремление русской лингвофилософии к универсализму, её желание сочетать в себе всё лучшее, что накопила мысль человеческая как на Востоке, так и на Западе. Более широкий, чем принято считать на Западе, взгляд на язык вообще и на слово в частности характерен для русской философии. Л.П.Карсавин в этой связи подчёркивал значимость обычного словоупотребления для философского исследования, часто ссылаясь при обсуждении метафизических вопросов на способы использования того или иного слова в естественном языке. “Язык наш глубокомысленнее и “метафизичнее”, чем кажется”1. Тот факт, что Кассирер считал язык лишь начальным этапом на пути к подлинному освобождению духа, которое понастоящему осуществляется только в науке как высшей символической форме, оспаривается в русской лингвофилософии. Она видит уже в человеческом слове результат глубокой “метафизической” работы мысли. Язык представляется ей не как зачаток творческой деятельности, как у Кассирера, но как она сама. Лингвофилософские построения Лосева существенно обогатили отечественную философию в XX в. творческим переосмыслением на материале языка традиций восточной патристики и методов, применяемых европейскими мыслителями в изучении философии языка. Исследования выдающегося русского мыслителя в значительной степени укрепили теоретические и методологические основания онтологического направления в отечественной лингвофилософии, во многом предопределили его развитие в XX в. 1 Цит. по: Алексеев П.В. Философы России 19–20 столетий. М., 2002. С. 418. 112