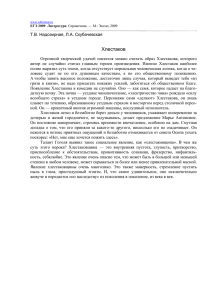Иван Александрович Хлестаков и другие
advertisement
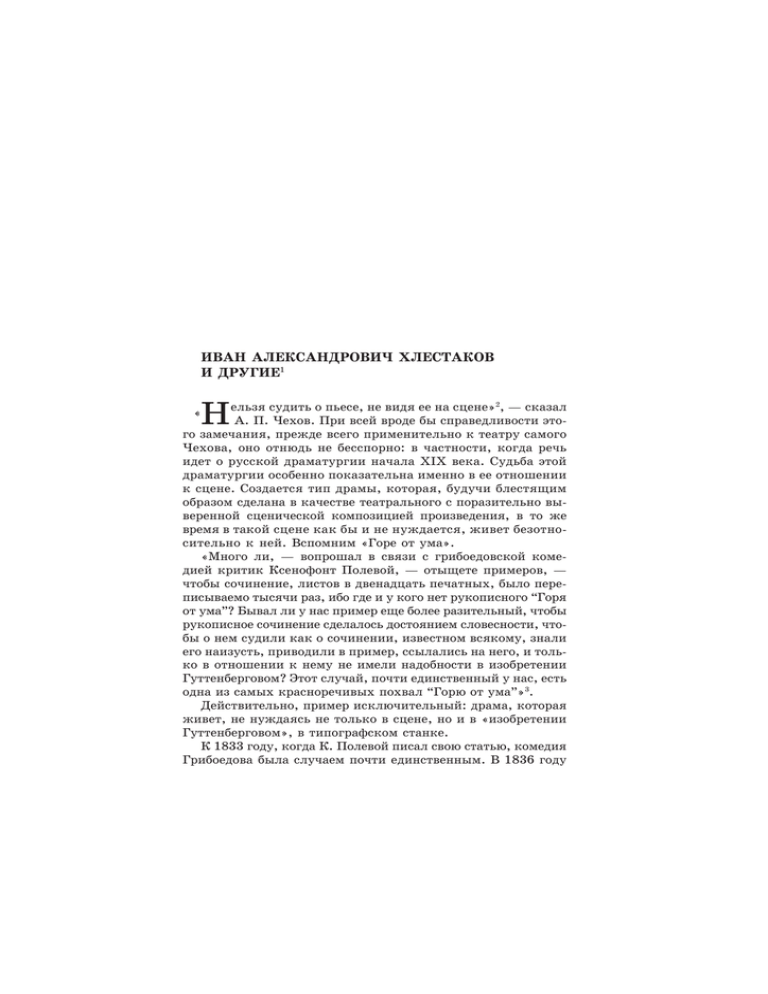
ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ХЛЕСТАКОВ И ДРУГИЕ1 Н ельзя судить о пьесе, не видя ее на сцене»2, — сказал А. П. Чехов. При всей вроде бы справедливости этого замечания, прежде всего применительно к театру самого Чехова, оно отнюдь не бесспорно: в частности, когда речь идет о русской драматургии начала XIX века. Судьба этой драматургии особенно показательна именно в ее отношении к сцене. Создается тип драмы, которая, будучи блестящим образом сделана в качестве театрального с поразительно выверенной сценической композицией произведения, в то же время в такой сцене как бы и не нуждается, живет безотносительно к ней. Вспомним «Горе от ума». «Много ли, — вопрошал в связи с грибоедовской комедией критик Ксенофонт Полевой, — отыщете примеров, — чтобы сочинение, листов в двенадцать печатных, было переписываемо тысячи раз, ибо где и у кого нет рукописного “Горя от ума”? Бывал ли у нас пример еще более разительный, чтобы рукописное сочинение сделалось достоянием словесности, чтобы о нем судили как о сочинении, известном всякому, знали его наизусть, приводили в пример, ссылались на него, и только в отношении к нему не имели надобности в изобретении Гуттенберговом? Этот случай, почти единственный у нас, есть одна из самых красноречивых похвал “Горю от ума”»3. Действительно, пример исключительный: драма, которая живет, не нуждаясь не только в сцене, но и в «изобретении Гуттенберговом», в типографском станке. К 1833 году, когда К. Полевой писал свою статью, комедия Грибоедова была случаем почти единственным. В 1836 году « 80 I. ЛИТЕРАТУРА ВЕЛИКОГО «СИНТЕЗИСА» произошел другой «случай», тоже в своем роде единственный. Правда, эта драма была и поставлена, и напечатана — «Ревизор». Но ее отношение к сцене оказалось своеобразным с самого же начала. Еще в 1832 году Гоголь писал Погодину: «Драма живет только на сцене. Без нее она как душа без тела». Но, видимо, со временем Гоголь вполне ощутил особую природу своей пьесы, когда в 1842 году предпослал ей эпиграф («На зеркало неча пенять, коли рожа крива»), явно рассчитанный уже не на сцену, а на книгу, не на зрителя, а на читателя. Да и отношения зрителя, по крайней мере русского, к пьесе Гоголя всегда будут особыми. Нужно иметь в виду, что все традиционные ухищрения в виде динамичного действия, неожиданных его ходов, ударных реплик и тому подобного как бы отпадают в зале, где все знают не только «содержание» комедии, но и буквально чуть ли не каждое слово, да и знают в совершенно особом качестве — пословиц, поговорок и афоризмов, давно, как и в случае с «Горем от ума», перешедших в самый быт. Тем не менее, конечно, новые и новые театральные приступы и попытки одолений естественны и неизбежны. Как известно, Гоголь был потрясен тем, что он счел почти провалом своей пьесы; но, кажется, здесь не все можно объяснить слабостью режиссуры, не слишком удачным подбором артистов. Разница литературного, так сказать, материала и сценического его воплощения прежде всех бросилась в глаза самому Гоголю: «Главная роль пропала, так я и думал. Дюр ни на волос не понял, что такое Хлестаков. Хлестаков сделался... чем-то вроде шеренги водевильных шалунов, которые пожаловали к нам повертеться из парижских театров». Между тем тот же Дюр был талантливым актером, а не просто водевильным шалуном. И когда возникла угроза, что Хлестакова будет играть не Дюр, сам Гоголь огорчился: «...директор Гедеонов вздумал, как слышу я, отдать главные роли другим персонажам после четырех представлений ее, будучи подвинут какой-то мелочной личной ненавистью к некоторым главным актерам в моей пьесе, как то: к Сосницкому и Дюру. — Мочи нет». Не более ли Дюра-Хлестакова «виноват» здесь сам гоголевский Хлестаков, то есть сама пьеса? Не перекрывает ли внут- ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ХЛЕСТАКОВ И ДРУГИЕ 81 ренний потенциал ее все мыслимые возможности, которые мог и может пока представить театр или подобные ему искусства? Мы знаем немало примеров того, как иной раз произведение, литературно даже почти ничтожное, становясь зрелищем, превращалось за счет блестящей режиссуры, богатой актерской игры и тому подобного в событие. Были примеры, когда драма-литература находила как бы равное себе решение в драме-театре. Уже в XIX веке появились сомнения в том, что какойнибудь, пусть самый гениальный, актер способен воплотить с достаточной полнотой образ Хлестакова. Сам Гоголь после первых представлений понял, что нужен актер особого таланта: «Неужели он (Хлестаков. — Н. С.) просто бледное лицо, а я, в порыве минутно-горделивого расположения, думал, что когда-нибудь актер обширного таланта возблагодарит меня за совокупление в одном лице толиких разнородных движений, дающих ему возможность вдруг показать все разнообразные стороны своего таланта». Судя по всему усилия выдающихся актеров были как раз направлены на уяснение многосторонности гоголевского героя. Так, театроведы свидетельствуют, что Э. Гарин стремился играть хамелеона, последовательно представляя в разных сценах то шулера, то петербургского чиновника, то ловеласа, то столичного поэта. Обширность таланта... разнообразие его... всеобщий характер этого разнообразия и этой разнородности... В чем здесь дело? Сложность, очевидно, заключается не столько в том, чтобы понять суть хлестаковщины, сколько в том, чтобы ощутить, уловить, схватить ее обширный, разнообразный, всеобъемлющий характер. Столь многое этот образ к себе свел, такая сила художественного обобщения в нем заключена, что, с одной стороны, любому актеру здесь обеспечен больший или меньший неуспех, а сама пьеса обречена на некое в своем литературном одиночестве вдовство. Во всяком случае, кажется, история сценических воплощений «Ревизора» (впрочем, как и «Горя от ума»), в отличие от пьес Островского или Чехова, говорит об этом. Ведь каждое, внешне подчас непритязательное слово Ивана Александровича Хлестакова — это особый мир, космос 82 I. ЛИТЕРАТУРА ВЕЛИКОГО «СИНТЕЗИСА» или, как минимум, целая сфера жизни, сторона бытия. Давно замечено, что, скажем, фраза: «Это ничего! Для любви нет различия; и Карамзин сказал: “Законы осуждают”; Мы удалимся под сень струй...» — не просто пошлость, но заключенная в пошлость и уничтожаемая в пошлости и пошлостью .. великая эпоха культуры: и порывы человеческого духа zuruck zur Natur, и английский сенсуализм, и уроки руссоизма, и живопись Ватто, и русский карамзинизм. «С Пушкиным на дружеской ноге» — это клеймо, положенное на колоссальное количество мемуарной литературы, которую посвящают не великие мира сего великим и пошлость которой часто определяется уже даже простым ее обилием. Недаром Гончаров писал: «Каждая фраза Гоголя так же типична и так же заключает в себе свою особую комедию, независимо от общей фабулы, как и каждый грибоедовский стих». Стоит, вынув из пьесы, прочитать сами по себе слова: «Скучно, брат, так жить; хочешь, наконец, пищи для души. Вижу: точно нужно чем-нибудь высоким заняться», чтобы легко представить их возможность в бесчисленных — литературных и нелитературных — дневниках «лишних людей», и высоких романтиков, и всех — порывающихся к «высокому» и неудовлетворенных. Но стоит, снова заключив их в контекст, возвратить автору — Ивану Александровичу Хлестакову, чтобы уже увидеть возможность хлестаковского начала и у людей, казалось бы, Бог знает как далеких от нашего героя. Немало поясняет в образе Хлестакова и отношение к нему автора. Писатель признался однажды, что Бог дал ему многостороннюю природу. Не потому ли оказался он способен на создание и Хлестакова, способен, если воспользоваться собственным словом Гоголя, извлечь его из своей души. В начале 1830-х годов на волне первого и все растущего успеха он писал из Петербурга маменьке, как «испанский посланник, большой чудак и погодопредвещатель, уверяет, что такой непостоянной и мерзкой зимы, какова будет теперь, еще никогда не бывало...» И. Золотусский в своей книге о Гоголе обратил внимание на то, что это звучит так, как будто он знаком с этим испанским посланником уже не один год и видится с ним чуть ли не ежедневно. Со своей стороны заметим: не здесь ли лежит зерно знаменитого пас- ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ХЛЕСТАКОВ И ДРУГИЕ 83 сажа с посланниками, который позднее появится в «Ревизоре»: «Там у нас и вист свой составился: министр иностранных дел, французский посланник, английский, немецкий посланник и я»? В 1846 году Гоголь издал книгу «Выбранные места из переписки с друзьями», в которой он видел одно из самых ответственных и важных в своей учительности дел. Сложная эта книга вызвала взрыв страстей, одобрений и негодований. Одно из самых сокрушительных обвинений, как известно, обрушил Белинский. Гоголь защищался и тогда, и позднее. Тем не менее учиненный им строгий самосуд сразу заставил вспомнить Ивана Александровича Хлестакова: «Я должен Вам признаться, — написал он в апреле 1847 года А. О. Россету, — что доныне горю от стыда, вспоминая, как заносчиво выразился во многих местах, почти a la Хлестаков». Вероятно, этот образ неотвязно стоял перед Гоголем, потому что и в письме Жуковскому тогда же и по тому же поводу он напишет: «Я размахнулся в моей книге таким Хлестаковым, что не имею духу заглянуть в нее... Право, есть во мне что-то хлестаковское». Это — автор. Поражающая, как говорится, типичность образов Гоголя была усвоена сразу. «Не все ли мы, — писал Герцен, — после юности, так или иначе ведем одну из жизней гоголевских героев? Один остается при маниловской тупой мечтательности, другой буйствует a la Nosdreff, третий — Плюшкин и пр.»4. Одну из жизней гоголевских героев... Действительно, Плюшкин или Ноздрев, люди определенного, так сказать, класса, слоя, при широчайшей типичности самим этим типом локализованы, в нем заключены. В том смысле, что, скажем, Ноздрев есть Ноздрев, а Плюшкин — Плюшкин. Ноздрев как концентрация ноздревщины от Плюшкина отъединен. Манилов отнюдь не повторится в Собакевиче. Хлестаков же — не столько тип, сколько явление, действительно, как сказал Гоголь, фантасмагорическое, всепроникающее, всюду могущее возникнуть, в каждом имеющее проявиться. Кто еще даже из гоголевских героев мог бы позволить себе то, что воскликнул Хлестаков: «Я везде, везде»? Но именно такая непрямая характерность Хлестакова, видимо, помешала поначалу даже Белинскому увидеть в нем характер и тем более понять его 84 I. ЛИТЕРАТУРА ВЕЛИКОГО «СИНТЕЗИСА» как главного героя комедии: «Многие почитают Хлестакова героем комедии, главным его лицом. Это несправедливо. Хлестаков является в комедии не сам собою, а совершенно случайно, мимоходом и притом не самим собою, а ревизором... Герой комедии — городничий...»5 Но ведь быть не самим собою для Хлестакова и значит быть самим собою. «Надумалось во мне, — напишет Белинский Гоголю через два года, — много нового с тех пор, как в 1840 г. в последний раз врал я о Ваших повестях и “Ревизоре”. Теперь я понял, почему Вы Хлестакова считаете героем Вашей комедии, и понял, что он точно герой ее»6. А еще через несколько лет уже в статье Белинский пояснит: «Многие ли из нас, положа руку на сердце, могут сказать, что им не случалось быть Хлестаковыми, кому целые года своей жизни (особенно молодости), кому хоть один день, один вечер, одну минуту?»7 Это — критик. А теперь отрывок из одной беседы, опубликованный несколько лет назад: «Я вот много думал о “Ревизоре”, давно хочу сыграть Хлестакова. И знаешь, когда он начал мне даваться в руки, что послужило последним толчком? Был какой-то прием, я оказался в компании иностранцев, видевших наши спектакли. Они стали говорить мне комплименты, — видимо, и искренне, и просто из вежливости, но только я почувствовал вдруг, что меня, как я есть, для их восприятия, для того, каким они меня хотят видеть, не хватает. И, помимо воли, я сам начал прилагать усилия к тому, чтобы казаться интеллигентнее, умнее, талантливее, прогрессивнее и т. д. Я заметил в себе эту метаморфозу, она все время задевала, возвращала к себе, а вскоре я понял вдруг: ведь про это же надо играть Хлестакова! Играть, доведя до абсурда свойство, в большей или меньшей степени многим из нас присущее, — свойство приспосабливать себя к чьим-то мнениям, суждениям, пожеланиям, хорошим или дурным, делать себя кому-то на потребу. Я, пойми, не о шкурном приспособленчестве говорю, а о невольном изменении себя без внутренней необходимости, ради чего-то такого, что в тебе кому-то хотелось бы видеть. Хотя есть, конечно, грань, за которой и к элементарному приспособленчеству можно прийти. Разумеется, кто-то другой и увидит, и сыграет Хлестакова по-другому, но для ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ХЛЕСТАКОВ И ДРУГИЕ 85 меня именно здесь наступил момент соотнесения себя с жизнью, изображенной писателем»8. Это — актер. Любопытно, что актер (корреспондент газеты беседовал с Олегом Табаковым) говорит действительно не о приспособленчестве, а о бескорыстном желании выглядеть, да и выглядеть-то вроде бы лучше, чем есть, но все-таки — выглядеть: «…интеллигентнее, умнее, талантливее, прогрессивнее...» И заключает: «Такой поворот характера представляется мне важным, имеющим отношение к жизни сегодняшних людей, художественной интеллигенции в частности». Вообще Хлестаков — это и эскадроны галопирующих прогрессистов. Он прогрессист, так как он есть явление, лишенное корней, легкое и беспрерывно устремляющееся вперед и выше, своеобразный, но непременный нарост на прогрессе, на всяком движении. Потому у него непосредственно за жалобой на «грязные трактиры» и вылетает — «мрак невежества». Правда, может быть, стоит все же усомниться в необходимости играть Хлестакова, «доведя до абсурда свойство, в большей или меньшей степени многим из нас присущее». Любопытно, что такой исполнитель, как Игорь Ильинский, предупреждает как раз об опасности «абсурдов» и «заострений»9. Дело в том, что гоголевские образы уже заключают в себе всю необходимую меру такого «заострения» (вспомним хотя бы знаменитых «тридцать пять тысяч одних курьеров»), и вряд ли следует идти дальше по этому пути, соревнуясь здесь с Гоголем и игнорируя гоголевское же пожелание правды (даже бытовой) и реальной достоверности. Во всяком случае, Гоголь более всего боялся такого доведения до абсурда, до карикатурности. «Вышла именно карикатура», — сокрушался он в связи с исполнением ролей Бобчинского и Добчинского. («Эти два человечка в существе своем довольно опрятные, толстенькие, с прилично-приглаженными волосами».) «Вообще костюмировка большей части пьесы была бессовестно плоха и бессовестно карикатурна». А пуще всего боялся Гоголь карикатуры Хлестакова: «Конечно, несравненно легче карикатурить старых чиновников с потертыми воротниками, но схватить те черты, которые довольно благовидны 86 I. ЛИТЕРАТУРА ВЕЛИКОГО «СИНТЕЗИСА» и не выходят острыми углами из обыкновенного светского круга, — дело мастера сильного. У Хлестакова ничего не должно быть означено резко». Сложность дела, повторю, заключается не в том, чтобы уловить хлестаковщину и понять, что это такое, а в том, чтобы понять и представить всеобщий характер ее: «Словом, это лицо должно быть тип многого, разбросанного в разных русских характерах, но которое здесь соединилось случайно в одном лице, как весьма часто попадается в натуре. Всякий хоть на минуту, если не на несколько минут, делался или делается Хлестаковым, но, натурально, в этом не хочет признаться; он любит даже и посмеяться над этим фактом, но только, конечно, в коже другого, а не в собственной». А между тем: «И ловкий гвардейский офицер окажется иногда Хлестаковым, и государственный муж окажется иногда Хлестаковым, и наш брат, грешный литератор, окажется подчас Хлестаковым. Словом, редко кто им не будет хоть раз в жизни, — дело только в том, что вслед за тем очень ловко повернется, и как будто бы и не он». «Я везде, везде», — кричит Хлестаков. Хлестаков «везде» и в самой пьесе. Героев ее стягивает не только общее отношение к Хлестакову, но и сама хлестаковщина. Она — качество, которое объединяет почти всех лиц пьесы, казалось бы, друг другу далеких. Продолжая перечень Гоголя, можно было бы сказать, что уже в самой комедии и умный опытный городничий окажется иногда Хлестаковым, и его жена — провинциальная кокетка — окажется иногда Хлестаковым, и уездный судья, прочитавший несколько книг и потому вольнодумствующий, окажется подчас Хлестаковым. Все они, будучи характерами разными, хоть на минуту, хоть на несколько минут вдруг обернутся чистым Иваном Александровичем. «Чистым» — потому что и в ситуациях, не осложненных ну никакой корыстью, даже подчас наедине с собой. Гоголь от себя: в ремарках, предуведомлениях и пояснениях — обозначил характеры. «Городничий, уже постаревший на службе и очень неглупый по-своему человек. Хотя и взяточник, но ведет себя очень солидно; довольно сурьезен; несколько даже резонер; говорит ни громко, ни тихо, ни много, ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ХЛЕСТАКОВ И ДРУГИЕ 87 ни мало. Его каждое слово значительно». Но вот как неожиданно срывается в хлестаковщину школеный и тертый чиновник: «Ведь почему хочется быть генералом? — потому что, случится, поедешь куда-нибудь — фельдъегеря и адъютанты поскачут везде вперед» (это уже не слишком реальная картина, от которой прямой путь к тридцати пяти тысячам курьеров). «Лошадей! И там на станциях никому не дадут, все дожидаются: все эти титулярные, капитаны, городничие (ср.: «А там уже чиновник — этакая крыса»)... Обедаешь где-нибудь у губернатора» и т. д. А уж Анна-то Андреевна с Иваном Александровичем и прямо дудят в одну дуду: «Я не иначе хочу, чтоб наш дом был первый в столице (ср.: «У меня дом первый в Петербурге») и чтоб у меня в комнате такое было амбре, чтоб нельзя было войти и нужно бы только этак зажмурить глаза». О судье же Гоголь писал: «Он занят собой и умом своим, и безбожник, только потому, что на этом поприще есть простор ему выказать себя... Это самоуслажденье должно выражаться на лице актера» (ср.: Гоголь же о Хлестакове: «Хлестаков... лжет с чувством; в глазах его выражается наслаждение, получаемое им от этого»). А вот как хлестаковство того же судьи предстает в пьесе: Г о р о д н и ч и й: ...О, я знаю вас: вы, если начнете говорить о сотворении мира, просто волосы дыбом поднимаются. А м м о с Ф е д о р о в и ч: Да ведь сам собою дошел, собственным умом. И в другом месте: А р т е м и й Ф и л и п п о в и ч: Да, Аммос Федорович, кроме вас, некому. У вас что ни слово, то Цицерон с языка слетел. А м м о с Ф е д о р о в и ч: Что вы! что вы: Цицерон! Смотрите, что выдумали! Что иной раз увлечешься, говоря о домашней своре или гончей ищейке... В с е (пристают к нему): Нет, вы не только о собаках, вы и о столпотворении... Вольтерьянец и философ Ляпкин-Тяпкин, конечно, вполне стоит приятельствующего с Пушкиным литератора Хлестакова, а в слушателях, видевших в уездном судье Цицерона, 88 I. ЛИТЕРАТУРА ВЕЛИКОГО «СИНТЕЗИСА» без труда можно было найти читателей, готовых предпочесть хлестаковского «Юрия Милославского» «Юрию Милославскому» Загоскина. Но вот уж тип, Хлестакову обычно противополагаемый и, казалось бы, ему впрямь противоположный — Осип. «Слуга таков, — пояснил сам Гоголь, — как обыкновенно бывают слуги несколько пожилых лет. Говорит сурьезно, смотрит несколько вниз, резонер и любит самому себе читать нравоучения для своего барина». Ан и этот резонер развернулся: «...конечно, если пойдет на правду, так житье в Питере лучше всего (ср.: «Ну, конечно, кто же сравнит с Петербургом! Эх, Петербург!.. что за жизнь, право!»), ...пойдешь на Щукин — купцы тебе кричат: “Почтенный!”; на перевозе в лодке с чиновником сядешь (ср.: «Начальник отделения со мной на дружеской ноге... И сторож летит еще на лестнице за мною со щеткою: “Позвольте, Иван Александрович, я вам, говорит, сапоги почищу”»), старуха офицерша забредет (ср.: «После уж офицер, который мне очень знаком, говорит мне»), ...горничная иной раз заглянет такая... фу, фу, фу! (ср.: «К дочечке какой-нибудь хорошенькой подойдешь: “Сударыня, как я...”»), галантерейное, черт возьми, обхождение!» Наверное, только по степени (и то очень относительно) «галантерейности» можно отделить здесь одного Хлестакова от другого. Как известно, Гоголь, создавая «Ревизора», ставил прямые учительные цели, и самая учительность гоголевской комедии, очевидно, более всего связывалась для него с образом Хлестакова. Потому-то он так испугался карикатуры и водевильности у Дюра. Кажется, справедливо давнее наблюдение В. И. Шенрока: Гоголь в редакции 1842 года убрал из комедии то (например жест Хлестакова, хватающего при первой встрече с городничим бутылку), что могло провоцировать исполнителя роли и что, возможно, провоцировало Дюра на такую водевильность и карикатуру. Карикатура помогает уйти от указующего перста, обращенного на каждого. «Он добр, он честен, этот смех, — написал Гоголь о своем смехе. — Он дан именно на то, чтобы уметь посмеяться над собою, а не над другими. И в ком уж нет духа посмеяться над собственными недостатками своими, лучше тому век не смеяться!..» ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ХЛЕСТАКОВ И ДРУГИЕ 89 Кажется, подлинное значение образа Хлестакова для самого автора все вырастало и вырастало, обретая, наконец, в «Развязке “Ревизора”» значение уже всеобъемлющего символа. «Что ни говори, но страшен тот ревизор, который ждет нас у дверей гроба. Будто не знаете, кто этот ревизор? Что прикидываться? Ревизор этот — наша проснувшаяся совесть». А Хлестаков? «Хлестаков — ветреная, светская совесть, продажная, обманчивая совесть... С Хлестаковым под руку ничего не увидишь в душевном городе нашем...» «Не с Хлестаковым, но с настоящим ревизором оглянем себя...» «Все отыщешь в себе, если только опуститься в свою душу не с Хлестаковым, но — с настоящим и неподкупным ревизором». Из этого, конечно, не следует, что нужно отвлекаться, как то, отчасти, случилось с поздним Гоголем, от собственно социального смысла этого и других героев комедии. Недаром много позднее Достоевский занес в записную книжку: «О, и Гоголь думал, что понятия зависят от людей (кара грядущего закона), но с самого появления “Ревизора” всем хотя и смутно, но как-то сказалось, что беда тут не от людей, не от единиц, что добродетельный городничий вместо Сквозника ничего не изменит. Мало того, и не может быть добродетельного Сквозника»10. Любопытно, однако, что, видимо, не случайно из всех героев комедии так универсализировался в сознании Гоголя именно Хлестаков. Испытание на Хлестакова и на хлестаковщину в известном смысле главное испытание, которое несла комедия «людям, которых свет не называет пустыми... пусть всякий отыщет частицу себя в этой роли и в то же время осмотрится вокруг без боязни и страха, чтобы не указал на него ктонибудь пальцем и не назвал бы его по имени». «Порядочный человек, — писал Белинский как раз в связи с образом Хлестакова и почти в унисон Гоголю, — не тем отличается от пошлого, чтобы он был вовсе чужд всякой пошлости, а тем, что видит и знает, что в нем есть пошлого, тогда как пошлый человек и не подозревает этого в отношении к себе...»11 «Всякий хоть на минуту, если не на несколько минут делался или делается Хлестаковым», — еще раз повторим слова, которыми Гоголь резюмировал абсолютную природу созданного им образа. 90 I. ЛИТЕРАТУРА ВЕЛИКОГО «СИНТЕЗИСА» He-Хлестаковы не тем отличаются от Хлестаковых — перефразируем, вернее, персонифицируем слова великого критика, — чтобы они были вовсе чужды хлестаковщине, а тем, что видят и знают, что в них есть хлестаковского, тогда как Хлестаковы и не подозревают этого в отношении к себе. Всякий хоть на минуту или на несколько минут становился или станет Иваном Александровичем Хлестаковым. Но останется им только тот, кто этого не подозревает в отношении к себе. Кажется, таков один из смыслов, если не главный смысл, знаменитого образа гоголевской комедии. 1984