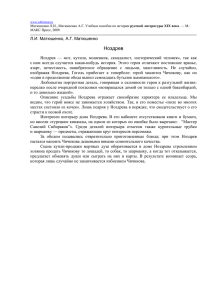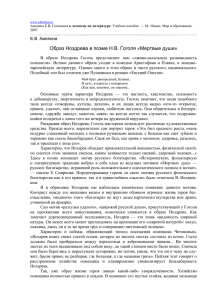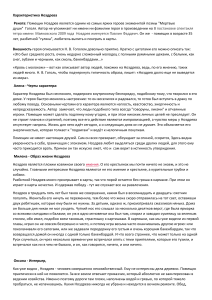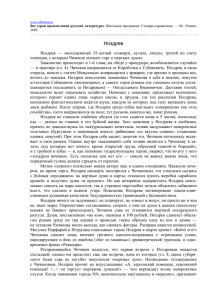речевое поведение как аспект структуры авантюрного героя
advertisement

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ НГТУ. – 2007. – № 1(47) – 145–156 УДК 519.24 РЕЧЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК АСПЕКТ СТРУКТУРЫ АВАНТЮРНОГО ГЕРОЯ В ТВОРЧЕСТВЕ ГОГОЛЯ (КОЧКАРЕВ «ЖЕНИТЬБА», НОЗДРЕВ «МЕРТВЫЕ ДУШИ») С.А. КУЧИНА Настоящая работа представляет собой фрагмент более крупного исследования, посвященного описанию парадигмы гоголевских героев: Хлестаков – Ноздрев – Кочкарев и попытке обнаружить в ней общие черты, принципиально важные для понимания художественной картины мира в творчестве Гоголя. Рассматривается речевая стратегия Кочкарева и Ноздрева. Автор выделяет инвариантные особенности речевого поведения героев, такие как автоцитирование, немотивированность речевых интенций, отсутствие речевого замысла и завершенности высказывания. На основе выделенных параметров описывается типологическая общность героев парадигмы Хлестаков – Ноздрев – Кочкарев. ВВЕДЕНИЕ «Так уже кое-где говорили, но так еще не писали», – заметит А. Белый, рассуждая о стиле и языке гоголевских произведений, которые не раз становились предметом интереса для исследователей творчества писателя [Белый А. Мастерство Гоголя. – М., 1986. – С. 217]. Однако не менее привлекателен для исследователя язык героев Гоголя, их речевое поведение. Понять речевую стратегию гоголевских героев – значит пролить свет на их отношение к миру, на ту художественную действительность, которая их окружает, и законы ее построения. В этом ключе для нас важны три знаковых гоголевских героя: Ноздрев, Хлестаков, Кочкарев. Такой выбор не случаен, поскольку именно этот тип героев писатель выводит в трех своих последних и, несомненно, значимых произведениях Итак, речевое поведение героев представляет собой один из законов организации художественной действительности. Однако прежде чем обратиться непосредственно к произведениям Гоголя, необходимо отметить особое отношение писателя к слову, которое наиболее ярко прослеживается в его статьях и письмах. «Обращаться со словом нужно честно. Оно есть высший подарок бога человеку», – пишет он в одной из своих статей, – «опасно шу Препод., аспирантка кафедры филологии 146 С.А. Кучина тить писателю со словом». Трепетное отношения Гоголя к своим словам, словам своих друзей и собеседников и, тем более, словам поэта, прослеживается и в письмах писателя «Чувствую, по мере прибавления годов, что за всякое слово, сказанное здесь, дам ответ там» (здесь и далее выделено нами. – С.К.). Грандиозное чувство ответственности переполняет письма Гоголя. На читателей же художник воздействует через образы своих произведений – «мое дело говорить живыми образами, а не рассужденьями». Сами герои Гоголя относятся к слову (и речи в целом) по-разному. Трепетно-кропотливый Акакий Акакиевич не решается произнести свое собственное слово, старательно переписывает он чужое речетворчество, видя в этом собственное призвание и жизненное удовлетворение. «Там, в этом переписывании, ему виделся какой-то свой разнообразный и приятный мир .... Вне этого переписывания, казалось, для него ничего не существовало» [Гоголь Н.В. Собр. соч.: В 8 т. – М., 1985. – Т. 3. – С. 124]. Зато бойко и беззаботно болтают о всякой всячине и даже ведут переписку две собачки из «Записок сумасшедшего», словно радуясь открывшейся для них вдруг возможности говорить. Кичится своим словом и Хлестаков: «Вы, может быть, думаете, что я только переписываю» [Там же. – Т. 4. – С. 44]. «Да, и в журналы помещаю. Моих, впрочем, много есть сочинений» [Там же. – С. 45], «как же, я им всем поправляю статьи» [Там же. – С. 46]. Без остановки несет чушь крикливый Ноздрев. А словоохотливый Кочкарев вдохновенно убеждает робкого Подколесина в необходимости жениться. 1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ Цель данной работы – определение концепции речевого поведения Кочкарева и Ноздрева как представителей парадигмы Хлестаков – Ноздрев – Кочкарев и выявление типологической общности героев на уровне их речевого поведения. С точки зрения речевой характеристики образа Кочкарева следует отметить отсутствие последовательности в изображении сюжетного статуса этого героя. Поначалу Кочкарев – вроде бы чиновник, друг Подколесина, где-то там вместе с ним служащий, рассуждающий о титулярных и надворных советниках, о коллежских асессорах и экспедиторах. Но в сюжете неожиданно возникает совершенно новый поворот в изображении этой фигуры. В перебранке со свахой Кочкарев внезапно обнаруживает тончайшее знание пословиц и поговорок, шуток и прибауток, которые вряд ли, как справедливо заметила И.Л. Вишневская, известны петербургским чиновникам, крайне далеким от народной речи. Слух Подколесина, Кочкарева и других чиновников (так на- Речевое поведение как аспект структуры... 147 зываемых аристократов) абсолютно не подготовлен к восприятию бойких народных пословиц и поговорок [Вишневская И.Л. Гоголь и его комедии. – М., 1976]. Однако Кочкарев на миг вдруг становится свахой. Создается впечатление, что говорят друг с другом две Феклы, а не Фекла и важный чиновник. Кочкарев. С каких сторон понабрала ворон – а? Фекла. Тут тебе ворон нет, все честные люди. Кочкарев. Гости-то несчитанные, кафтаны общипанные. Фекла. Гляди налет на свой полет, а и похвастаться нечем: шапка в рубль, а щи без круп. Кочкарев. Небось твои разживные, по дыре в кармане [Гоголь Н.В. Собр. соч.: В 8 т. – Т. 4. – С. 116]. Еще минута – и Кочкарев снова другой, словно никогда и не опускался до перебранки со свахой. Такая «ускользающая» характерность Кочкарева сбивала с толку даже самых проницательных зрителей, да и актеров, исполнявших роль. Для речевой структуры Кочкарева характерны пропуски и зияния. Герой часто останавливается, как бы не зная, чем продолжить или закончить свою фразу. Однако самый большой интерес для нас представляют те явления или понятия в речи героя, пред которыми он останавливается, будучи не в силах объяснить их. Как правило, заминка случается перед сущностными формами и явлениями человеческой жизни (например, брак, семья). Кочкарев, рвущийся поскорее заключить вечный союз между Подколесиным и Агафьей Тихоновной, не может объяснить значение брака или хотя бы описать сущность этой формы человеческих отношений. Кочкарев. Брак – это есть такое дело…. Это не то, что взял извозчика, да и поехал куды-нибудь; это обязанность совершенно другого рода, это обязанность…. Теперь вот только мне времени нет, а после я расскажу тебе, что это за обязанность [Там же. – С. 145]. Поначалу фраза строится как фундаментальное определение. Однако неожиданно и совершенно необъяснимо Кочкарев переводит определение в совершенно иную – бытовую – плоскость. Не понимая, что́ есть брак для него самого, Кочкарев тем более не способен оценить значимость женитьбы для Подколесина. Настораживает уже одна из первых попыток Кочкарева высказать свое мнение о возможной женитьбе Подколесина: Кочкарев. «Ну что ж, ничего, ничего. Здесь нет ничего такого» [Там же. – С. 101]. Кочкаревское «ничего» почти не дает возможности зрителю и читателю понять реакцию героя на предстоящее событие в жизни Подколесина. Что кроется за этим «ничего»? В контексте речи и деятельности героя можно 148 С.А. Кучина предположить различные интерпретации: желание ободрить Подколесина, успокоить его, свести к минимуму его сомнения и т. д. Герой словно нейтрализует свое отношение к браку этим «ничего», поскольку сказать внятнее – значит обозначить свою позицию, а собственной позиции по этому вопросу у Кочкарева, судя по всему, нет. Кочкаревское «ничего» – это не отрицание, которое и вовсе не в природе героя. Речи героя свойственны тавтологические повторы. Кочкарев испытывает полную беспомощность в попытке определить явление, адекватного языка для которого у него нет. Следует заметить, что степень использования отрицательных частиц в речи Кочкарева невероятно высока, однако, что интересно, при таком количестве отрицания остается совершенно непонятным, на что оно направлено. Кочкарев своим «ничего» словно прикрывает вакуум в собственном сознании. У Кочкарева не находится никаких слов, чтобы описать сущность человека. Кочкарев. Иван Кузьмич человек … ну, просто человек … человек, каких не сыщешь [Там же. – Т. 4. – С. 125]. Складывается впечатление, что Кочкарев и не знает, каким может быть человек вообще и Иван Кузмич в частности. А таинство брака в устах и поведении Кочкарева низводится до уровня бытовых мелочней, абсолютно тривиальных событий. Кочкарев. Ну, а как будет у тебя жена, так ты просто ни себя, ничего не узнаешь: тут у тебя будет диван, собачонка, чижик какой-нибудь в клетке [Там же. – С. 103]. Отношения исчерпываются физическим контактом. Кочкарев. И вообрази, ты сидишь на диване, и вдруг к тебе подсядет бабеночка, хорошенькая эдакая, и ручкой тебя [Там же. – С. 103]. Часто подмена понятий в речи Кочкарева происходит не в пользу человека: как правило, человеческое становится синонимом вещественного, а человек – равноправным элементом синтагматической последовательности предметов. Кочкарев. Да ничего не видно, господа. И распознать нельзя, что такое белеет: женщина или подушка [Там же. – С. 117]. Кочкарев. А нос – я не знаю, что за нос! Белизна – алебастр! Да и алебастр не всякий сравнится [Там же. – С. 123]. Не менее характерны ругательные обращения Кочкарева к Подколесину, которые часто носят вещественный характер. Кочкарев. Ну, ну, дрянь, колпак, сказал бы такое слово … да неприлично только [Там же. – С. 105]. Кочкарев часто не может объяснить характер родственных отношений. Таким образом, фактически любой предмет или явление, требующие опреде- Речевое поведение как аспект структуры... 149 ления, ставят его в тупик. Для Кочкарева характерна абсолютная невнятица родственных отношений, общая и для других членов парадигмы. Например, читатель лишен возможности понять степень родства Ноздрева с зятем Мижуевым. Несмотря на то что для последнего и заявлен статус «зятя», однако нигде в тексте не встречается упоминания о сестре Ноздрева или дочери, вышедшей замуж, что позволило бы прояснить их родственные связи. Через эту невнятицу складывается впечатление абсолютного безразличия героев к этим отношениям, а в перспективе – онтологической безродности героев. Кочкарев. Как же, родственник. Яичница. А как родственник, позвольте узнать? Кочкарев. Право, не знаю: как-то тетка моей матери что-то такое ее отцу или отец ее что-то такое моей тетке – об этом знает жена моя, это их дело [Там же. – Т. 4. – С. 128]. Использование неопределенных местоимений и других «словечек», заменяющих нужные, но ускользающие из сознания героя слова, – характерная особенность членов парадигмы. По замечанию Л. А. Булаховского, местоимения «по их природе, отсылающие или к тому, что уже названо, или к тому, что еще будет определено … в неискусной, дегенерирующей речи разделяют с частицами печальную участь выражать всякого рода неопределенность заменяющую то, что хотелось бы назвать точно» [Булаховский Л. А. Русский литературный язык первой половины 19 века. Лексика и общие замечания о слоге. – Киев, 1957. – С. 427]. Нельзя не согласиться, что такой характер понимания родственных отношений более чем странен. Кочкарев не только не объясняет, он даже не делает попытки осуществить своего первоначального намерения – рассказать о характере своего родства с Агафьей Тихоновной. Происходит нарушение коммуникативных связей, в результате которого адресат речи оказывается абсолютно дезориентирован относительно предмета высказывания. Информативность такой речи стремится к нулю. Сам коммуникативный акт превращается в фикцию. Замысел, с точки зрения М. Бахтина, «субъективный момент высказывания, сочетается в неразрывное единство с объективной предметно-смысловой стороной его, ограничивая эту последнюю, связывая ее с конкретной (единичной) ситуацией речевого общения, со всеми индивидуальными обстоятельствами его, с персональными участниками его, с предшествующими их выступлению высказываниями. Поэтому непосредственные участники общения, ориентирующиеся в ситуации и в предшествующих высказываниях, легко и быстро охватывают речевой замысел, речевую волю говорящего и с самого начала речи ощущают развертывающееся целое высказывания» [Бахтин М.М. 150 С.А. Кучина Литературно-критические статьи. – М., 1986. – С. 270] Собеседники Кочкарева лишены возможности не только понять цель высказывания, но прогнозировать итог этого высказывания героя, хотя, впрочем, это их, странным образом, не удивляет. Весь гоголевский мир и все герои в нем заражены вирусом иррациональности, поэтому-то никто не удивляются высказываниям Кочкарева. В мире, где замужество фактически может быть приравнено к перелому ноги, уже нечему и некому удивляться. Перелом ноги здесь – символ слома жизни человека. Духовная жизнь человека переродилась в фикцию существования. Агафья Тихоновна. Ах, ведь вы не знаете, с ней ведь история случилась. Кочкарев. Как же, вышла замуж. Агафья Тихоновна. Нет, это бы еще хорошо, а то переломила ногу. Арина Пантелеймоновна. И сильно переломила. Возвращалась довольно поздно домой на дрожках, а кучер-то был пьян и вывалил с дрожек. Кочкарев. Да то-то я помню, что-то было: или вышла замуж, или переломила ногу [Гоголь Н.В. Собр. соч.: В 8 т. – Т. 4. – С. 118]. Речь, как известно, является продолжением сознания. Манера речи Кочкарева говорит, об отсутствии внутренних моральных и нравственных ориентиров героя. В его сознании не сформировано ключевых понятий человеческой жизни. В сущности, это художественная экспликация хаоса, не дающего пока надежды на возрождение. Устои человеческой жизни пошатнулись и приняли искаженную форму в самом корне своем, в душе человеческой. Таков образ семейного счастья, которым Кочкарев искушает Подколесина (Подколесин в окружении своих многочисленных копий). Продолжение рода превращается в дурную бесконечность тавтологического повторения одной и той же неизменной субстанции. Не меньший интерес для нас представляет функция ласковых обращений, используемых Кочкаевым самым неожиданным образом. Так, Кочкарев называет Подколесина «лапушкой», «милочкой», и «душенькой», свободно переходя от брани к нежным увещеваниям и от мужского рода к женскому. Часто Кочкарев использует категории женских образов и в качестве собственных характеристик. Кочкарев. И что я ему такое: нянька, тетка, свекруха, кума что ли? [Там же. – С. 142] Создается впечатление, что герой заплутал, заблудился в лабиринтах жизни, утратив вместе с верой в Бога и как высшие, так и элементарные, как жизненные, так и житейские ориентиры. Однако, как уже отмечалось выше, гоголевский мир по сути своей иррационален, поэтому потеря ориентиров (любого характера: нравственных, Речевое поведение как аспект структуры... 151 смысловых и понятийных) свойственна всем героям в большей или меньшей степени. В данном контексте нам представляется значимым следующее замечание. Яичница. А невесте скажи, что она подлец! [Там же. – С. 131] «Невеста-подлец» вносит оттенок инфернальности в трактовку женского начала, символизируя смерть женственности и воскрешение брутальности матриархата. Данный образ можно поставить в один ряд с невестой из сна Шпоньки, тетушкой Шпоньки – Василисой Кашпоровной, с Солохой («Ночь перед Рождеством»), а также другими персонажами. Насильственное заточение Солохой своих любовников в мешки означает на уровне подсознания возвращение в лоно матери, а также заточение в женском теле. Женщина, в представлении Гоголя, не только враждебна мужчине, но также обманчива и неверна, ведь она сажает в один мешок не одного, а двух любовников. Таким образом, гоголевская «Психологика» в «Вечерах…» предполагает, во-первых, недовольство сексуальной и социальной властью женщины», а во-вторых, уход от «половой сферы», которая на фоне «моральной возвышенности» автора представлена в его фантазии как опасная и даже отвратительная. В повести «Иван Федорович Шпонька и его тетушка» особо подчеркнут мотив башмака, помогающий понять отношение Шпоньки к женщине. Во фразе белокурой барышни о том, что братец сделал для мух хлопушку из старого маменькиного башмака, выделены три существенных для «психологики» текста «сигнальных» слова: муха, маменька и башмак. Помимо того что герой написанной позднее «Шинели» носит фамилию Башмачкин и сравнивается с «простой мухой», маменька барышни башмаком убивает мух. Тем самым показаны тема «мужчина под башмаком женщины» и образ «башмачного человека» (Башмачкина) уже в ранних текстах Гоголя. Часто фамильярный стиль подчеркивает комическое несоответствие между реальной и «вербализованной» степенью близости персонажей, сталкивая разные значения слов. Странное неразличение понятий, родственных связей, которое характерная для Кочкарева, присуще и Ноздреву. Так он объясняет прокурору свое отношение к Чичикову: Ноздрев! скажи по совести, кто тебе дороже, отец родной или Чичиков? – скажу: «Чичиков», ей-богу...! [Там же. – Т. 5. – С. 67]. Кочкарев так же упоминает в своей речи категорию отношений отец–сын, но только уже на место отца ставит самого себя: Кочкарев. Нет, я вижу, с тобой нужно говорить сурьезно: я буду говорить откровенно, как отец с сыном [Там же. – Т. 4. – С. 104]. 152 С.А. Кучина Следует отметить, что это не единственная отсылка к родственным отношениям: Кочкарев. Куды тебе! Будь то у них только что ручки!.. У них, брат … [Там же. – С. 103]. В нескольких последующих примерах Кочкарев выступает по отношению к Подколесину в качестве брата. Перескакивая с одной мысли на другую, Кочкарев быстро меняет свою позицию и отношение к человеку, не запоминая своего прежнего статуса. Речь в данном случае идет как о социальном статусе (смена речевых стратегий Кочкарева по отношению к разным собеседникам: диалог с Феклой), так и о смене позиции в человеческих отношениях (брань и ласковые обращения в адрес Подколесина). Манера речи Ноздрева как одна из конструктивных частей его речевого образа, фамильярно-назойливая, раскрывающая его развязность и наглость. При появлении героя в трактире Чичиков моментально узнает его «Чичиков узнал Ноздрева, того самого (…) который с ним в несколько минут сошелся на такую короткую ногу, что начал уже говорить ты, хотя, впрочем, он с своей стороны не подал к тому никакого повода» [Там же. – С. 62]. Ноздрев же безумно рад встрече с Чичиковым как со старинным своим приятелем. У читателя может создаться впечатление, что Ноздрев будто бы ждал встречи с ним, да и сам герой пытается убедить в том Чичикова: Зять мой Мижуев! Мы с ним все утро говорили о тебе. «Ну, смотри, говорю, если мы не встретим Чичикова» [Там же. – Т. 5. – С. 63]. Здесь Ноздрев цитирует самого себя, словно для того, чтобы убедить Чичикова в собственной искренней радости. Воображаемые высказывания и автоцитации состоявшихся актов коммуникации – неотъемлемая черта речевого поведения Ноздрева. Однако что́ стоит за этими вкраплениями чужой-своей речи и необходимостью для героя их использования? Во-первых, совершенно очевидно, что Ноздреву необходим собеседник. Это дает ему возможность реализовать, оживить безумные идеи и образы, роящиеся в его сознании. Без собеседника неуёмная энергия героя не получит выхода. Ноздреву необходима аудитория, словно поле битвы, на котором происходят воображаемые баталии воображаемых же героев. Складывается впечатление, что перед нами театр одного актера, где герой почти всегда на авансцене, а сюжетом его представления становятся его бесконечные, неиссякаемые фантазмы. Вовторых, Ноздреву абсолютно не важно, какой перед ним собеседник. Он готов первому встречному, мало знакомому человеку выплеснуть всю энергию, кипящую в нем. Недаром автор отмечает его феноменальную способность сходиться с людьми. Речевое поведение как аспект структуры... 153 Они скоро знакомятся, и не успеешь оглянуться, как уже говорят тебе «ты» [Там же. – С. 69]. Окажись на месте Чичикова в тот самый момент в трактире любой другой герой, диалог бы состоялся ровно такой же. «Обращенность, адресованность высказывания есть его конструктивная особенность, без которой нет, и не может быть высказывания» [Бахтин М.М. Указ. соч. – С. 295]. Следовательно, коммуникативный акт Ноздрева выхолощен, лишен категории собеседника по сути, и лишь по форме своей, по внешнему фиктивному присутствию второго участника, напоминает диалог. Момент речевого общения, разговора представлен Гоголем в виде фикции, писатель лишь сохраняет форму диалога, а внутреннее содержание, т. е. общение двух героев, устраняется. Таким образом, коммуникативный акт Ноздрева представляет собой некую одностороннюю модель, где роль активного собеседника, непосредственного адресата высказывания, подменена пассивной фигурой выдуманного собеседника (своего рода фантазм Ноздрева), и сам акт коммуникации превращается в фикцию. Именно поэтому Ноздрев рад любому собеседнику, как закадычному другу, а высказывания его имеют свой особый строй, в котором почти нет места ответным репликам. Куда ездил? – говорил Ноздрев и, не дожидаясь ответа, продолжал: – А я, брат, с ярмарки [Гоголь Н.В. Собр. соч.: В 8 т. – Т. 5. – С. 62]. Чичиков не имеет возможности ответить Ноздреву на протяжении всей его тирады. Да и сам Ноздрев практически не задает ему вопросов, кроме редких вопросительных обращений, риторического характера. Э, Чичиков, ну что тебе стоило приехать? [Там же. – С. 64]. Бешеная энергия Ноздрева не дает Чичикову ни минуты для размышления – эмоции, разрывающие героя изнутри, обрушиваются на Чичикова потоком, нередко они мгновенно переходит в действие: Веришь ли, что никогда в жизни так не продувался. Ведь я на обывательских приехал! Вот посмотри нарочно в окно! – Здесь он нагнул сам голову Чичикова, так что тот чуть не ударился ею об рамку [Там же. – С. 62]. По сути, и все движения Ноздрева – резкие, отрывистые, быстрые – соответствуют эмоциональной константе его речевого поведения: ... вошел чернявый его товарищ, сбросив с головы на стол картуз свой, молодцевато взъерошив свои черные густые волосы [Там же]. Послушай, Чичиков, ты должен непременно теперь ехать ко мне, пять верст всего, духом домчимся … [Там же. – С. 67]. 154 С.А. Кучина Дома он больше дня никак не мог усидеть. Чуткий нос его слыша за несколько десятков верст, где была ярмарка со всеми съездами и балами; он уж в одно мгновение ока был там ... [Там же. – С. 69]. Ноздрев приказал тот же час мужиков и козлы вон и выбежал в другую комнату отдавать повеления [Там же. – С. 71]. Побудительные конструкции изобилуют в речи Ноздрева, он словно разбрызгивает свои эмоции на собеседника. Ба, ба, ба! – вскричал он вдруг, расставив обе руки при виде Чичикова. – Какими судьбами? [Там же. – С. 62]. Никакой неизвестности! Будь только на твоей стороне счастие, ты можешь выиграть чертову пропасть. Вон она! Экое счастье! – говорил он, начиная метать для возбуждения задору. – Экое счастье! Экое счастье! Вон: так и колотит! Вот та, проклятая девятка, на которой я все просадил! [Там же. – С. 81]. В этом ключе также не приходится говорить о завершенности высказывания. Конструкции Ноздрева резки и обрывисты. Завершенность высказывания, по Бахтину, это как бы внутренняя сторона смены речевых субъектов: эта смена потому и может состояться, что говорящий сказал (или написал) все, что в данный момент или при данных условиях хотел сказать ... Первый и важнейший критерий завершенности высказывания – это возможность ответить на него, точнее и шире – занять в отношении его ответную позицию [Бахтин М.М. Указ. соч. – С. 269]. Однако возможность занять ответную позицию, прореагировать на речь Ноздрева у Чичикова, как уже упоминалось выше, появляется достаточно редко. Не так прост Ноздрев, как покажется читателю с первого взгляда. Несмотря на всю внешнюю открытость героя и невероятную эмоциональную отзывчивость его характера, его способность и готовность неутомимо болтать обо всех и обо всем, он единственный из всех помещиков, кто оставил Чичикова ни с чем. Ю. Манн отмечал тот факт, что внешне наиболее открытый, общительный, легко вступающий в отношения с другими персонажами герой («В их лицах видно что-то открытое, прямое, удалое. Они скоро знакомятся… и т. д.), внутренне оказывается наиболее закрыт [Манн Ю.В. В поисках живой души. – М., 1987]. Читателю не ясно, какими побуждениями, переживаниями, мыслями сопровождаются его действия, неясно, что за ними скрывается. До некоторой степени это напоминает способ подачи Хлестакова, у которого почти нет реплик в сторону, меж тем как его психологическая активность обусловливала этот прием по отношению к образу героя. Поначалу осторожный и аккуратный в общении Чичиков и сам замечает эту темную, неясную сторону личности Ноздрева. Речевое поведение как аспект структуры... 155 Потом Ноздрев велел еще принесть кукую-то особенную бутылку, которая, по словам его, была и бургуньон и шампаньон вместе. Он наливал очень усердно в оба стакана, и направо и налево, и зятю и Чичикову; Чичиков заметил, однако же, как-то вскользь, что самому себе он не много прибавлял. Это заставило его быть осторожным …. [Гоголь Н.В. Собр. соч.: В 8 т. – Т. 5. – С. 75]. Но совершенно сбитый с толку криком, гамом, а также откровенной наглостью и алогичностью поступков Ноздрева, Чичиков предпочитает более не задумываться над особенностями характера его новоиспеченного приятеля, а быстро ретироваться. Чичикову удалось найти психологический подход почти к каждому из помещиков. Елейного Манилова он поразил приятностью и обходительностью своих манер; Коробочке дал хорошую цену; обстоятельно поторговавшись, договорился и с Собакевичем; прикинувшись человеком глупым и абсолютно бескорыстным, обманул он и Плюшкина. Однако ни одна попытка предугадать действия Ноздрева не увенчалась успехом. Неудача Чичикова во время торга с Ноздревым – в его неспособности понять иную логику Ноздрева, принадлежащего миру иного измерения. Ю. В. Манн пишет о наличии в творчестве Гоголя «иной системы отсчета», некоторой третьей величины в системе координат. «Ни то, ни се – то есть не существо, погрязшее в низменной материальности, но и не человек в высшем смысле слова. Но кто же? Неизвестно… Мы вновь сталкиваемся с каким-то уклонением природы от ее собственного порядка» [Манн Ю.В. Указ. соч. – С. 258]. Ноздрев яркий представитель этой иной реальности, которая стоит вне логики Чичикова. Нестройные, несвязные предложения Ноздрева и его алогичные, немотивированные поступки являются прямым следствием его сущностной природы. У героя нет материальной заинтересованности, как, например, у Чичикова. Следовательно, мы не можем назвать Ноздрева обманщиком и плутом, в привычном смысле этого слова. А его речь не следует идентифицировать как целенаправленную ложь для получения собственной выгоды. Лжет Ноздрев вдохновенно и увлеченно, сам не зная, какой фантазм всплывет в его сознании в следующую минуту. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Подводя итоги, следует отметить: прямая речь в литературе, по замечанию Гинзбург, имеет двойную целенаправленность. Одну – в системе изображаемого писателем сознания персонажа (в этом ряду реплика может быть «бессмысленной»); другую – в целостной системе произведения, где каждая 156 С.А. Кучина реплика располагается в своих структурных связях со всем текстом [Гинзбург Л.Я. О литературном герое. – Л., 1979. – С. 203]. Таким образом, логически нестройные, немотивированные, излишне экспрессивные высказывания представителей парадигмы (Хлестаков–Ноздрев–Кочкарев) приобретают смысл более общего порядка. В контексте художественной действительности писателя они являются предельной концентрацией иррационального начала, воплощенного в конкретном художественном образе, символизирующем духовную смерть человечества. Слова героя в контексте авторского повествования получают, по словам М. Виролайнен, иной смысл, чем сами герои в них вкладывают. Эти смыслы не дополняют друг друга, но борются, в результате чего и приобретают гротескные оттенки [Виролайнен М. Речь и молчание. – СПб., 2003].