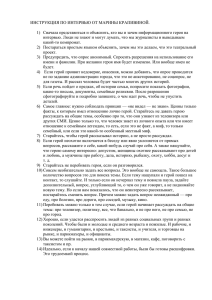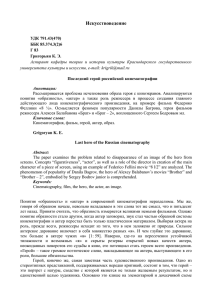«Фирсиада». Как отмечает О. В. Журчева, ... превращается в свободное авторское высказывание, в котором традиционные
advertisement
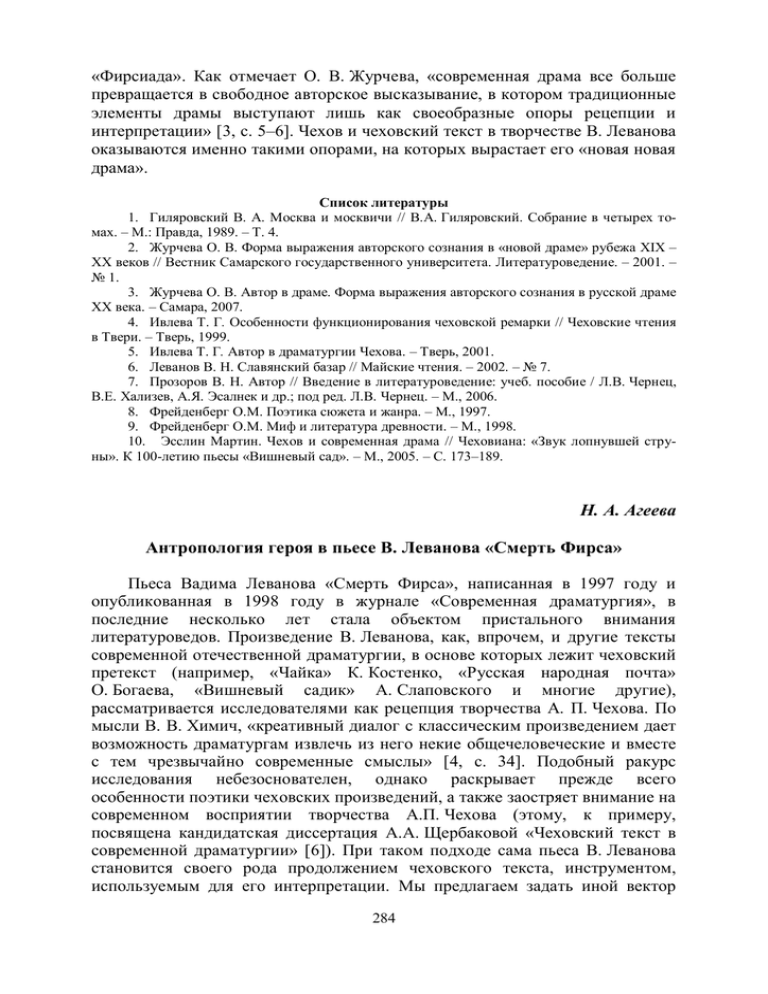
«Фирсиада». Как отмечает О. В. Журчева, «современная драма все больше превращается в свободное авторское высказывание, в котором традиционные элементы драмы выступают лишь как своеобразные опоры рецепции и интерпретации» [3, с. 5–6]. Чехов и чеховский текст в творчестве В. Леванова оказываются именно такими опорами, на которых вырастает его «новая новая драма». Список литературы 1. Гиляровский В. А. Москва и москвичи // В.А. Гиляровский. Собрание в четырех томах. – М.: Правда, 1989. – Т. 4. 2. Журчева О. В. Форма выражения авторского сознания в «новой драме» рубежа XIX – XX веков // Вестник Самарского государственного университета. Литературоведение. – 2001. – № 1. 3. Журчева О. В. Автор в драме. Форма выражения авторского сознания в русской драме XX века. – Самара, 2007. 4. Ивлева Т. Г. Особенности функционирования чеховской ремарки // Чеховские чтения в Твери. – Тверь, 1999. 5. Ивлева Т. Г. Автор в драматургии Чехова. – Тверь, 2001. 6. Леванов В. Н. Славянский базар // Майские чтения. – 2002. – № 7. 7. Прозоров В. Н. Автор // Введение в литературоведение: учеб. пособие / Л.В. Чернец, В.Е. Хализев, А.Я. Эсалнек и др.; под ред. Л.В. Чернец. – М., 2006. 8. Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. – М., 1997. 9. Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. – М., 1998. 10. Эсслин Мартин. Чехов и современная драма // Чеховиана: «Звук лопнувшей струны». К 100-летию пьесы «Вишневый сад». – М., 2005. – С. 173–189. Н. А. Агеева Антропология героя в пьесе В. Леванова «Смерть Фирса» Пьеса Вадима Леванова «Смерть Фирса», написанная в 1997 году и опубликованная в 1998 году в журнале «Современная драматургия», в последние несколько лет стала объектом пристального внимания литературоведов. Произведение В. Леванова, как, впрочем, и другие тексты современной отечественной драматургии, в основе которых лежит чеховский претекст (например, «Чайка» К. Костенко, «Русская народная почта» О. Богаева, «Вишневый садик» А. Слаповского и многие другие), рассматривается исследователями как рецепция творчества А. П. Чехова. По мысли В. В. Химич, «креативный диалог с классическим произведением дает возможность драматургам извлечь из него некие общечеловеческие и вместе с тем чрезвычайно современные смыслы» [4, с. 34]. Подобный ракурс исследования небезоснователен, однако раскрывает прежде всего особенности поэтики чеховских произведений, а также заостряет внимание на современном восприятии творчества А.П. Чехова (этому, к примеру, посвящена кандидатская диссертация А.А. Щербаковой «Чеховский текст в современной драматургии» [6]). При таком подходе сама пьеса В. Леванова становится своего рода продолжением чеховского текста, инструментом, используемым для его интерпретации. Мы предлагаем задать иной вектор 284 изучения поэтики «Смерти Фирса» (от Леванова к Чехову), что, на наш взгляд, позволит выявить некоторые особенности именно левановского текста. В подзаголовке к «Смерти Фирса» В. Леванов определяет свое произведение как «монопьесу», обозначая таким образом ее принадлежность к драматургическим текстам, предназначенным для исполнения одним актером. Стоит отметить, что данное название является видовым и, соответственно, не может рассматриваться в качестве жанрового определения. Однако отмеченный автором формальный признак произведения (прием исполнения) позволяет отнести данный текст к монодраме, драматическому жанру, который стал актуальным в театральной и литературной практике на рубеже XX – XXI веков. Как отмечает В.Е. Хализев, спецификой драматического произведения является сопряжение диалога как «практически единственного носителя действия» [3, с. 194] и монолога как «реализации общения автора с читателями и зрителями» [3, с. 195]. Монодрама же имеет несколько иную природу, поскольку представляет собой по преимуществу автономный монолог, оставаясь при этом драматическим жанром. Таким образом, специфика монодрамы заключается в том, что действие сконцентрировано в самом сознании героя, соответственно, оно не столько разыгрывается персонажами в сценическом пространстве, сколько проговаривается в монологах героя. Действительно, хотя в качестве действующих лиц в пьесе В. Леванова отмечены два персонажа, только один из них — актер — на протяжении всего произведения находится на сцене, в то время как режиссер изначально существует только в виде голоса из зала. Разделяя пространство на сценическое, видимое, и внесценическое, переданное только через звуки и голоса, автор концентрирует все внимание зрителя/читателя именно на актере, как на главном и единственном герое. Его обособленность по отношению к внешней реальности подчеркивается уже в начале текста, когда актер из своего пространства вступает в диалог с голосом режиссера. Обмен репликами между ними, по существу, является мнимым диалогом. Актер реагирует на возгласы режиссера «вяло», «уныло», «тихо» [1, с. 33], не столько отвечая, сколько комментируя его речь. Режиссер же, в свою очередь, не слышит и не слушает актера, его цель – озвучить свое видение исполнения роли Фирса. «ГОЛОС РЕЖИССЕРА. Не спать он тут ложиться! Понимаешь?! Нет?! Он – болен! У автора, Антон Палыча, сказано: «Он болен»! Рак у него предстательной железы!!! Понимаешь? Эта пьеса – про Фирса! «Вишневый сад» – пьеса про Фирса! АКТЕР (тихо, с иронией). Очень оригинальная концепция. ГОЛОС РЕЖИССЕРА. Он тут – всего квинтэссенция! Мировая душа! Мировая душа умирает здесь, сейчас, теперь! Понимаешь меня, родной?! Вот тут, прям, она агонизирует! Я ж тут, который сижу, зритель, мать твою, у меня ж жопа болит уже – два часа в жестком кресле муздыкаться! Я же должен это о-щу-тить!!! Катарсис же я должен ощутить! Ну?! Сделай ты мне это, ради бога!» [1, с. 33]. 285 Задавая отношения начальник-подчиненный, подчиняя актера своей воле, режиссер не только исключает какую-либо возможность равноправного диалога, но и лишает героя права высказываться самостоятельно. Собственную полноценную речь актер обретает лишь с уходом режиссера, в момент, когда смолкают голоса внешнего мира и герой остается наедине с самим собой. Таким образом, диалог в начале пьесы выполняет роль экспозиции, с одной стороны, маркируя отделенность героя от внешнего мира, с другой – задавая импульс для начала действия монодрамы, выраженного в развернутом монологе-авторефлексии. Значимым является то, что авторскими ремарками единый монолог героя оказывается разделенным на три части, каждая из которых принадлежит одной из его ипостасей: самому актеру, Фирсу и той грани сознания актера, которую автор определяет как Он. Ремарки в пьесе В. Леванова фиксируют моменты перехода героя из одной ипостаси в другую. Каждое из этих проявлений в отдельности не отражает героя в полной мере, его «Я» для зрителя складывается только из их совокупности. Формально слова актера обращены в никуда, но в самом начале его монолога обозначен адресат: «Господи! Как мне все надоело! ВСЕ, Господи! Слышишь меня?!» [1,с С. 34]. Адресация речи к высшему началу, к мирозданию, отмечает начало самопознания, поиска и последующего обретения смысла собственного бытия. Переживая экзистенциальную кризисную ситуацию, герой на протяжении всего монолога фиксирует ощущение дискомфорта своего существования, как в физическом плане («Ой! Что ж так хреново-то?.. Подохну тут! <...> Вот я сейчас действительно... кони двину. Копыта брошу. Что ж мне так?.. Вроде вчера не так чтоб много. Как всегда.» [1, с. 34], «Температура у меня? Чи шо? “Подгнило что-то в королевстве датском...” Почки, наверное... Или печень?» [1, с. 34].), так и в психологическом. Его межличностные отношения терпят крах: он уже два года разведен, но и в отношениях с другой женщиной не может реализовать себя, поскольку вынужден сосуществовать в одной квартире с бывшей женой, случайно или намеренно отравляющей его жизнь («И она всегда будет медленно меня приканчивать. Бесстрастно и методично. Выдавливать меня будет, как пасту из тюбика <...> Того гляди, кинется и морду расцарапает. Даже если ко мне по делу пришли. Людку тогда кипятком ошпарила. Нечаянно! Ага! Невзначай с намереньем! Кофе она варить собиралась!» [1, с. 34]). Герой, таким образом, оказывается лишенным не только семьи, но и дома, своего пространства, в котором он мог бы чувствовать себя уютно и свободно. Отметим также, что герой на эмоциональном уровне не признает окончательность разрыва с женой, поскольку продолжает ревновать ее к другим мужчинам. Примечательно, что эта неопределенность в его личной жизни ставит под сомнение также и дружеские отношения: «Она красивая, зараза! Мужики западают. Мои же друзья, начинают меня на кухне зажимать, и на ухо: как, мол, ты отнесешься, если я, мол, за твоей бывшей женой, вы в разводе вроде и все такое, то да се, без обид. А я как дурачок с бибичкой улыбаюсь и головой киваю, как болванчик китайский. Что меня так заводит? Бесит просто! Она ж мне теперь никто. А придушить готов!» [1, с. 34]. 286 Герой испытывает психологический дискомфорт также и от невозможности реализовать себя в профессиональном плане. Он ощущает свою актерскую несостоятельность в настоящем и не видит никакой перспективы в будущем: «Профессия! Единственная – за три года! – роль здесь приличная – Фирс. А потом? Всю жизнь играть зайчиков? Где-нибудь в областном ТЮЗе? Котов Леопольдов? На биржу актерскую тащиться? А там – что? То же самое. Актеров безработных, как собак нерезаных» [1, с. 36]. Отмечая свою прошлую востребованность в качестве исполнителя главных ролей («Ромео, Иванова, Константин Гаврилыча, Штокмана, Отелло, Лира, Чацкого, комсомольских активистов, все заглавные роли!» [1, с. 35]), герой, тем не менее, не считает ее мерилом успеха. Даже то, что он когда-то играл Гамлета (о котором мечтают все драматические актеры), не является признаком реализованности с его точки зрения, поскольку эта роль сыграна им в заштатном театре провинциального городка под руководством «такого из ума выжившего старикашечки, который в 30-х годах в колхозном театре начинал» [1, с. 35]. Акцент делается на самом восприятии профессии. Рассказывая о своем первом посещении театра, герой даже не вспоминает о том, что он увидел на сцене, зато довольно подробно описывает впечатление, которое на него произвели актрисы, встреченные в буфете после утренника. Несоответствие сценического образа и реальности, та легкость, с которой только что курившая и рассказывавшая скабрезности актриса перевоплотилась обратно в зайчика из детского спектакля, воспринимается героем как обман или даже лицемерие. Он и сам ощущает себя таким же обманщиком: «А я заплакал. Разрыдался. Потому что меня обманули... А потом я сам стал таким же обманщиком. Профессия такая» [1, с. 36]. Свое актерство, таким образом, герой осмысляет как ремесло, а не искусство. Не случайно он называет свою семью театральной династией, несмотря на то, что отец его был работником театрального цеха, делал декорации. Ту же самую точку зрения на профессию актера задает и голос режиссера в самом начале текста: «Ты ж – актер! Кувыркнись! Работа у тебя такая!» [1, с. 33], что только подчеркивает низкий профессиональный статус героя, лишая его возможности реализовать свой творческий потенциал. Следует отметить, что те номинации, через которые актер описывает некомфортность своего существования, определяют только его социальные роли. Однако человеческая сущность не исчерпывается семейным или профессиональным статусом. Исключительно бытовое существование не имеет с точки зрения героя бытийного смысла, а следовательно, порождает кризис смысла жизни, который и лежит в основе действия монодрамы. Обрести ощущение осмысленности своего бытия в данной ситуации герой может только через понимание сущности актерского мастерства, поскольку именно эта категория оказывается определяющей в его картине мира: «Не живу, а роль играю. Кого-то. Неизвестно кого. Малосимпатичного персонажа. Это привычка или издержки профессии? Профессиональная болезнь. От которой умирают. У актеров смертность, говорят, чуть ли не на первом месте среди прочих всех специальностей. А что делать? Все равно ничего другого я не умею. Ничего. 287 Пауза. Вообще... иногда мне кажется, что меня на самом деле и нет. Что я это только они, персонажи» [1, с. 36]. Богатый ролевой репертуар актера заставляет его рефлексировать, пытаться определить свою подлинную сущность и свое место в мире. Значимым, на наш взгляд, является и то, что актер обозначает для себя сущностные смыслы, пользуясь узнаваемыми не только для него, но и для зрителя/читателя литературными кодами. Его речь изобилует как прямыми, так и косвенными цитатами, а также отсылками к «Гамлету» и «Отелло» В. Шекспира, «Горю от ума» А.С. Грибоедова, «Борису Годунову» А.С. Пушкина, «Мертвым душам» Н.В. Гоголя, «Лесу» А.Н. Островского, «Утиной охоте» А.В. Вампилова, «Лебединой песне», «Трем сестрам», «Дяде Ване» и «Вишневому саду» А.П. Чехова. На первый взгляд цитаты и аллюзии, которыми оперирует герой, кажутся ситуативными, ассоциативными, подкрепляющими его собственную речь (например, говоря о флиртующей бывшей жене, актер произносит: «Дездемона чертова!» [1, с. 34]). Но в конечном счете, отталкиваясь от чужих текстов, перебирая различные роли, примеряя их, герой пытается определить себя. Существенным оказывается и то, что в некоторых произведениях, к которым отсылает в своем монологе герой, речь идет о соотношении театральности и реальной жизни. Шекспировское «весь мир театр, и люди в нем – актеры» не проговаривается, но подразумевается. Так, к примеру, говоря о своей неуспешности, актер ассоциирует себя с Несчастливцевым, центральным персонажем комедии А.Н. Островского «Лес», нищим, но благородным артистом, своего рода Дон Кихотом, почерпнувшим свой идеализм из шиллеровской драмы. Подобное отождествление в очередной раз подчеркивает неудовлетворенность героя, при этом намекая на ее истинную причину (возможно, пока еще не до конца осознаваемую им самим), которая заключается отнюдь не в нехватке денег и славы, а в невозможности реализоваться в качестве истинного актера. Наряду с Несчастливцевым, в монодраме В. Леванова появляется еще один персонаж, с которым сравнивает себя герой – чеховский Светловидов, разочаровавшийся в актерском искусстве в тот момент, когда оказался перед выбором между актерским будущим и возможностью реализоваться в семейной жизни: «А она... она говорит: оставьте сцену! Ос-тавь-те сце-ну!.. Понимаешь? Она могла любить актера, но быть его женой — никогда! Помню, в тот день играл я... Роль была подлая, шутовская... Я играл и чувствовал, как открываются мои глаза... Понял я тогда, что никакого святого искусства нет, что всё бред и обман, что я — раб, игрушка чужой праздности, шут, фигляр!» [5, с. 211]. Примечательно, что с точки зрения композиции «Смерть Фирса» В. Леванова зеркально отражает чеховскую «Лебединую песнь (Калхас)»: текст Чехова начинается с монолога, но по большей части состоит из мнимого диалога Светловидова с суфлером. При этом еще одной точкой соприкосновения оказывается образ черной ямы – зрительного зала, который как в чеховском, так и в левановском тексте ассоциируется с могилой, пустотой, отбирающей у героев ту жизнь, которую они хотели бы 288 иметь. Однако, если Светловидов только говорит о роли мертвеца, которую «пора уже репетировать» [5, с. 208], то левановский герой на протяжении всего монолога не только проговаривает, но и проигрывает разные вариации смерти, как своей собственной, так и своего персонажа. Презрительно отзываясь о мечте своего пожилого коллеги умереть на сцене, сам герой, тем не менее, оговаривает два варианта своей смерти: абсолютно бытовой («Хлопнулся за обедом лицом в тарелку с борщом и даже не почувствовал» [1, с. 34]) и театрализованный. Второй вариант актер исполняет, преобразившись в некоего персонажа, которого автор определяет как «ОН». Данный монолог образует своего рода театр в театре, где герой оказывается одновременно и исполнителем, и персонажем, и режиссером, и, возможно, автором, что увеличивает возможность реализации его творческого потенциала. Именно этот монолог становится поворотным моментом, после которого актер начинает играть смерть Фирса уже в отсутствии режиссера. Монолог чеховского Фирса появляется в тексте В. Леванова трижды. Каждый раз дословно цитируемый текст Чехова приобретает новую смысловую нагрузку. Если в начале пьесы герой произносит монолог Фирса, подчиняясь голосу режиссера, то в дальнейшем данный монолог становится знаком постепенного вживания актера в роль, по внешним признакам не органичную ему (не совпадает даже возраст: актеру слегка за 30 лет, а Фирсу – за 80). Как отмечала О.М. Фрейденберг, рассуждая об искусстве театра, «актер “как будто бы” совпадал с лицом, которого изображал: он на самом деле им не был и ничего общего с ним не имел, но “уподоблялся” ему» [2, с. 367]. Так и герой монодрамы реализует себя в истинном актерстве, где актер и персонаж, которого он играет, суть единое целое: «Я – Фирс. Я чувствую себя как Фирс. Думаю как Фирс, хожу как он и вижу ВСЕ его глазами. И мне пора... умирать. Потому что я, как он, никому не нужен, а окружающие терпят меня просто из вежливости, по привычке, просто потому что... что ж со мной делать?.. Когданибудь, совсем скоро, я окончательно стану им... Фирсом... Произойдет окончательное перевоплощение... Я навсегда...» [1, с. 36]. Образ чеховского Фирса, безусловно, оказывается ключевым в процессе осмысления героем бытийных основ существования. В «Вишневом саде» А.П. Чехова Фирс является второстепенным персонажем, смертью которого, тем не менее, комедия заканчивается. В монодраме В. Леванова акцент делается именно на том, что Фирс умирает на сцене, и таким образом, по законам классического театра, он становится главным. Действительно, основная проблема, которую пытается решить для себя герой, идентифицируя себя с Фирсом, – выбор между двумя ролевыми стратегиями: герой он или всего лишь второстепенный персонаж. При этом данные категории в картине мира героя связаны не только и не столько с театральной действительностью, сколько с экзистенциальной: «А кто герой? Вот конфликт современности. Глобальный конфликт: во времена тотальных изменений, революцьонных преобразований повывелись герои. Остались одни персонажи. Действующие лица» [1, с. 35]. В. Леванов в своем персонаже реализует обе стратегии: герой, ощущающий себя «второстепенным», в процессе авторефлексии перерастает себя и становится «главным». Динамика экзистенциального 289 самопознания приводит актера в итоге и к пониманию сущности персонажа, которого он играет. Таким образом, заглавие пьесы «Смерть Фирса» не только отсылает к чеховскому претексту, но и актуализирует личностное становление героя. Список литературы 1. Леванов В. Смерть Фирса // Современная драматургия. – 1998. – № 3. – С. 33-36. 2. Фрейденберг О. М. Миф и литература древности. – 2-е изд. - М.: Вост. лит., РАН, 1998. 3. Хализев В. Е. Драма как род литературы (поэтика, генезис, функционирование). – М.: Изд-во МГУ, 1986. 4. Химич В. В. «Вишневый сад» - пьеса про Фирса? О новых смыслах классического образа // Известия Уральского государственного университета. – 2010. – № 1(72). – С. 26-35. 5. Чехов А. П. Лебединая песня (Калхас). Драматический этюд в одном действии // Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем: в 30 т. Сочинения: в 18 т. / АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. – М.: Наука, 1974-1982. – М.: Наука, 1976. – Т. 11. Пьесы, 1878-1888. – С. 205-215. 6. Щербакова А. А. Чеховский текст в современной драматургии: дис. ... канд. филол. наук. – Иркутск, 2006. Л. А. Власова О способах выражения авторского сознания в прозе Т. Толстой (на примере эссе «Чужие сны», «Частная годовщина») Авторское сознание в прозе Т. Н. Толстой проявляется в деталях, через определённые литературно-стилистические средства, такие как ирония, самоирония, сарказм, языковая игра, приём сна, а также открытый авторский голос, придающий автобиографизм повествованию, которые соседствуют с лингвостилистическими: синтаксическими повторами, сравнениями, а также метафорами, эпитетами, анафорой и др. Экспрессивными и образными средствами. Для автора также характерно полифония мотивов, экспозиций, транспозиций, кинематографических приёмов, интертекстуальности и т.д. Т. Толстая обычно находится на значительной дистанции к рассказываемому, поэтому стратегию её повествования в критике обозначили как повествовательное «всеведение» или «предзнание». Такая специфика рассказов состоит в том, что о событиях, происходящих с героем, читатель узнаёт сквозь призму знаний автора о его дальнейшей судьбе. Этот приём выполняет важнейшую функцию, которая «даёт живое чувство единства и завершённости поэтического мира» [1, с. 253]. Несмотря на «отдаление» от своих персонажей в прозе Т.Толстой всё же создаётся ощущение «присутствия» всеведущего автора, который появляется как в собственном обличии, так и за маской персонажей, что придаёт произведениям видимость максимальной объективности. Рассмотрим, с помощью каких средств достигается названный эффект в конкретных текстах. Предметом изображения в эссе «Чужие сны», «Частная годовщина», является жизнь человека в самом широком смысле. В эссе «Частная 290