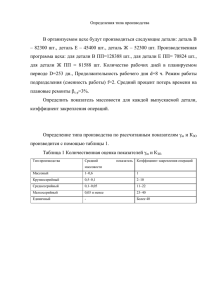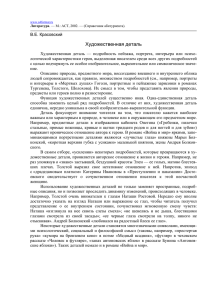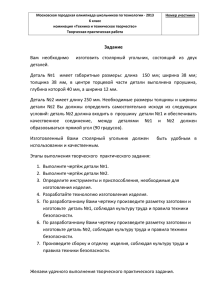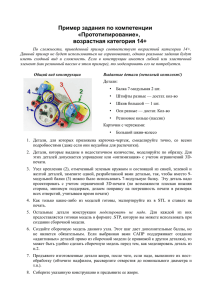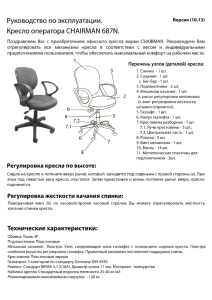хУдОЖЕСТВЕННАЯ дЕТАЛЬ КАК ПРИЕМ ПСИхОЛОГИзАцИИ
advertisement
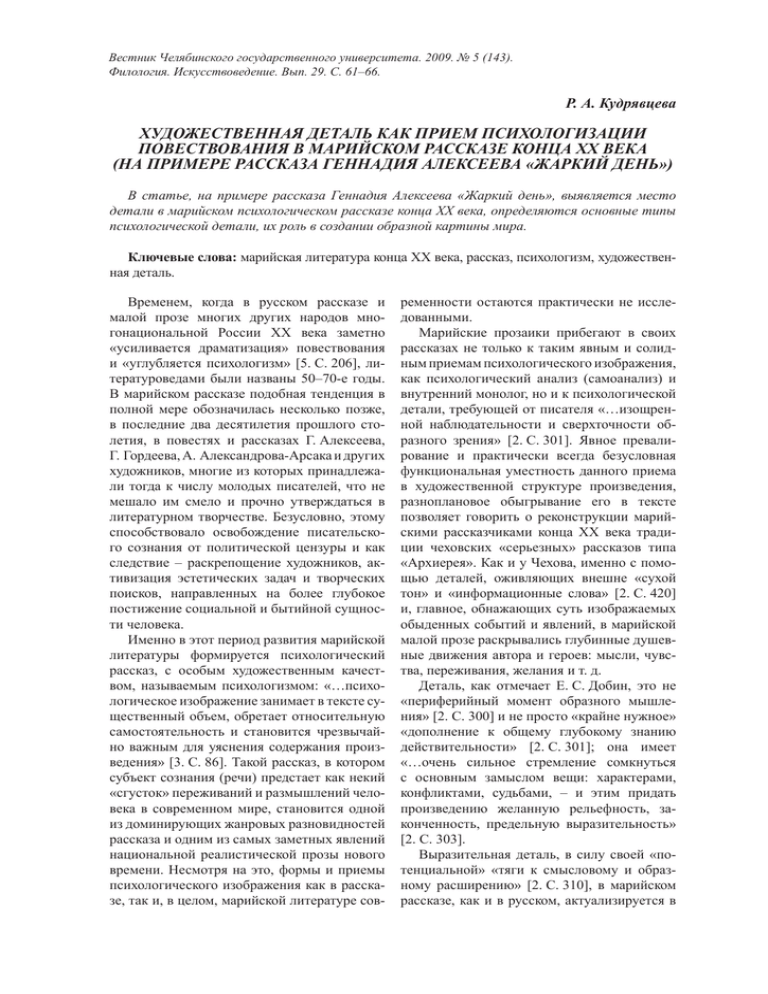
Вестник Челябинского государственного университета. 2009. № 5 (143). Филология. Искусствоведение. Вып. 29. С. 61–66. Р. А. Кудрявцева ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕТАЛЬ КАК ПРИЕМ ПСИХОЛОГИЗАЦИИ ПОВЕСТВОВАНИЯ В МАРИЙСКОМ РАССКАЗЕ КОНЦА ХХ ВЕКА (НА ПРИМЕРЕ РАССКАЗА ГЕННАДИЯ АЛЕКСЕЕВА «ЖАРКИЙ ДЕНЬ») В статье, на примере рассказа Геннадия Алексеева «Жаркий день», выявляется место детали в марийском психологическом рассказе конца XX века, определяются основные типы психологической детали, их роль в создании образной картины мира. Ключевые слова: марийская литература конца ХХ века, рассказ, психологизм, художественная деталь. Временем, когда в русском рассказе и малой прозе многих других народов многонациональной России ХХ века заметно «усиливается драматизация» повествования и «углубляется психологизм» [5. С. 206], литературоведами были названы 50–70-е годы. В марийском рассказе подобная тенденция в полной мере обозначилась несколько позже, в последние два десятилетия прошлого столетия, в повестях и рассказах Г. Алексеева, Г. Гордеева, А. Александрова-Арсака и других художников, многие из которых принадлежали тогда к числу молодых писателей, что не мешало им смело и прочно утверждаться в литературном творчестве. Безусловно, этому способствовало освобождение писательского сознания от политической цензуры и как следствие – раскрепощение художников, активизация эстетических задач и творческих поисков, направленных на более глубокое постижение социальной и бытийной сущности человека. Именно в этот период развития марийской литературы формируется психологический рассказ, с особым художественным качеством, называемым психологизмом: «…психологическое изображение занимает в тексте существенный объем, обретает относительную самостоятельность и становится чрезвычайно важным для уяснения содержания произведения» [3. С. 86]. Такой рассказ, в котором субъект сознания (речи) предстает как некий «сгусток» переживаний и размышлений человека в современном мире, становится одной из доминирующих жанровых разновидностей рассказа и одним из самых заметных явлений национальной реалистической прозы нового времени. Несмотря на это, формы и приемы психологического изображения как в рассказе, так и, в целом, марийской литературе сов- ременности остаются практически не исследованными. Марийские прозаики прибегают в своих рассказах не только к таким явным и солидным приемам психологического изображения, как психологический анализ (самоанализ) и внутренний монолог, но и к психологической детали, требующей от писателя «…изощренной наблюдательности и сверхточности образного зрения» [2. С. 301]. Явное превалирование и практически всегда безусловная функциональная уместность данного приема в художественной структуре произведения, разноплановое обыгрывание его в тексте позволяет говорить о реконструкции марийскими рассказчиками конца ХХ века традиции чеховских «серьезных» рассказов типа «Архиерея». Как и у Чехова, именно с помощью деталей, оживляющих внешне «сухой тон» и «информационные слова» [2. С. 420] и, главное, обнажающих суть изображаемых обыденных событий и явлений, в марийской малой прозе раскрывались глубинные душевные движения автора и героев: мысли, чувства, переживания, желания и т. д. Деталь, как отмечает Е. С. Добин, это не «периферийный момент образного мышления» [2. С. 300] и не просто «крайне нужное» «дополнение к общему глубокому знанию действительности» [2. С. 301]; она имеет «…очень сильное стремление сомкнуться с основным замыслом вещи: характерами, конфликтами, судьбами, – и этим придать произведению желанную рельефность, законченность, предельную выразительность» [2. С. 303]. Выразительная деталь, в силу своей «потенциальной» «тяги к смысловому и образному расширению» [2. С. 310], в марийском рассказе, как и в русском, актуализируется в 62 структуре и аукториального, и личного повествования, в несобственно прямой речи персонажа, внутри разных элементов текста, связанных с психологизацией. Рассмотрим основные типы и местоположение психологических деталей в марийском рассказе конца ХХ века в их соотнесении «с основным замыслом вещи» (Е. С. Добин) на примере психологического рассказа Геннадия Алексеева «Жаркий день» («Шокшо кече»), опубликованного в 1986 году. Произведение имеет лирико-бытовую направленность, в нем использована личная форма повествования (с личным повествователем, находящимся в фабульном пространстве). Через сложное переплетение разных типов психологических деталей в рассказе Алексеева открывается внутренний мир героев, раскрываются их размышления и внутренние движения, а через создаваемые писателем характеры героя-повествователя и «вторичных субъектов речи» (Б. О. Корман), каковыми являются его возлюбленная Елуш и дед Микывыр, выражается авторское сознание и концептуальный смысл текста. Типология психологических деталей выстроена нами на основе существующих в современной науке представлений о типах художественных деталей вообще и о формах и приемах психологического изображения в литературе. Мы выделяем две группы психологических деталей: первая – внешние детали в роли психологических (речь идет о контекстуальном превращении в психологическую пейзажной, портретной или вещной детали, выражающей те или иные душевные движения); вторая – собственно психологические детали. Последние, в свою очередь, могут быть двух видов. С первым видом связаны «внутренние жесты» – детали как составляющие «приема умолчания» [3. С. 93] или «невербального диалога» [7. С. 296]: действия и явления кинесики – «жесты, элементы мимики и пантомимы» [7. С. 296]), а в невербальном диалоге «еще и паралингвистические [курсив автора высказывания – Р. К.] элементы, как то: смех, плач, темп речи и прочее» [7. С. 296]. Такую деталь в литературной науке условно определяют как косвенную форму психологической детали (И. В. Страхов), либо как «…внешние проявления внутренней жизни героя (мимика, пластика, жестикуляция, речь на слушателя, физиологические изменения и т. п.)» [4. С. 34], либо как «детали динамического Р. А. Кудрявцева портрета персонажа» [7. С. 296]. Второй вид – собственно психологическая деталь, соотносимая с «суммарно-обозначающей формой психологического изображения» [3. С. 87], при которой о мыслях и чувствах персонажа сообщается «с помощью называния, предельно краткого обозначения тех процессов, которые протекают во внутреннем мире» [3. С. 87]. А. П. Скафтымов называет эту форму «вербальным обозначением чувства» [6. С. 175]. Герой рассказа Алексеева – личный повествователь, недавний солдат срочной службы, только что вернувшийся из армии. На пороге новой жизни он раздвоен: с одной стороны, его манит город, в котором широкие возможности для профессиональной самореализации; с другой – ему не дает покоя образ «девушкиогня», о которой он не раз вспоминал в армии и которая неразрывно слита с крестьянским миром родной деревни. В начале рассказа он упоен красотой деревенской природы, слегка позабывшейся, но по-прежнему привычной крестьянской работой: «Острое лезвие косы ярко сверкает на солнце. Разделяет густую траву, как блин <…>. Сверкающая зеленьюсеребром травяная волна с каждым взмахом косы ложится в красивую линию» [1. С. 192. Перевод с марийского языка на русский и жирный курсив, выделяющий детали, здесь и далее мой – Р. К.]. Чувство радости и постепенно сменяющие его другие чувства – тяжести и напряжения («то ли мы луг, то ли луг нас испытывает»; «Кечыже чыташ лийдымын пелта» [1. С. 193]), стыда и недовольства собой («А березовый-то шест, сверкающий как пестрый жезл милиционера, был совсем недалеко, почти рядом, будто насмехался надо мной» [1. С. 193]), – передаются с помощью пейзажных деталей. Метафорическая деталь «луг испытывает» и деталь-сравнение (третий пример) «оживляют» природные явления, приобретающие человеческие черты, и в контексте описания начинают выполнять именно психологическую функцию. Фабульную часть сюжета составляет любовь-спор (случайно разбитая во время обеда банка с простоквашей, ставшая поводом для перебранки между героем-повествователем и Елуш, – соревнование в косьбе – примирение); она «перебивается» размеренными в событийном плане сценами предыдущих дней, смысл которых – ожидание героем-повествователем встречи с любимой девушкой. Перед Художественная деталь как прием психологизации ... нами борьба двух характеров: неуверенного, рефлексивного, поддающегося ситуативным настроениям и состояниям, но настойчиво следующего своему нежному чувству и добивающегося счастья героя-повествователя и его возлюбленной, «боевой», азартно-самоуверенной, ироничной и капризной. Свидетель этого соревнования – дед Микывыр, бережно и мудро опекающий свою любимую внучку, а вместе с ней и ее жениха, с самого начала почувствовав в этом добром, серьезном и трудолюбивом человеке своего будущего (желаемого) родственника. Фабульные события отличаются остротой, сюжет – психологической напряженностью, что во многом достигается использованием портретных деталей в роли психологических и разных видов собственно психологических деталей. Так, причиной того, что из рук героя соскользнула злополучная банка, ставшая началом конфликта, были насмешка, холодное равнодушие Елуш (портретная деталь: «словно насмехаясь, сжала губы» [1. С. 194]; психологическая деталь как прямое называние внутреннего состояния, «вербальное обозначение чувства»: «издевательское жало девушки» [1. С. 194]) и непоказная, готовая на любые испытания любовь героя-повествователя: «Но вместо того, чтобы успокоиться, сердце, наоборот, билось сильнее. В душевном беспокойстве, возвращая банку, я даже глаза не поднял на девушку» [1. С. 195]. Первая и третья детали – это психологические детали в составе приема «невербального диалога»; вторая – психологическая деталь как прямое называние внутреннего состояния персонажа. Писатель с помощью психологических деталей передает динамику внутренней жизни героев, втянутых в состязание в разных ролях, богатейшую гамму их чувств, переживаний и мыслей. Это, как правило, «однотемные детали» (Е. С. Добин), связанные не только с сиюминутными переживаниями героев, но и особенностями их характера и поведения, а также спецификой национального сознания. К примеру, с помощью деталей автор так обозначает внутреннюю траекторию герояповествователя – от страха, ожидания неприятностей удивления, через злость, жалость к себе к временному успокоению: «Со страхом и немного с удивлением поглядываю на старика Микывыра» [1. С. 195]; «сказал со злостью, как отрубил» [1. С. 195]; «передразнил 63 ее про себя» [1. С. 196]; «Глаза же следили за стариком Микывыром» [1. С. 197]; «измученный ее [Елуш – Р. К.] издевательствами, потерял последную силу» [1. С. 197]; «Веник издевательств Елуш хлестнул по моему израненному сердцу» [1. С. 197]; «во мне надувался злой дух» [1. С. 198]; «несмотря на то, что мое терпение натягивалось, как гусельная струна, пытаюсь себя сдерживать» [1. С. 198]; «ее хрипловатый голос прозвучал так, что у меня прошел мороз по коже» [1. С. 198]; «стали легкими и гибкими руки и ноги, задышал свободнее» [1. С. 200]. Все указанные психологические детали, за исключением одной («глаза следили» – портретная деталь), являются собственно психологическими, а именно, «вербальным обозначением чувства». Внутренние движения Елуш, соответствующие ее типично марийскому характеру, упрямому и по-детски обидчивому, внешне кажущемуся резким, жестким и бескомпромиссным, автор в основном передает через «внутренние жесты», а также психологические детали, соотносимые с паралингвистическими элементами: «только глаза выпучила» [1. С. 196]; «рассерженная, споткнулась на остром слове» [1. С. 196]; «Лицо – как кумач. Глаза – горячие угли, нестерпимо кусает губы» [1. С. 196] (собственно психологическая деталь «нестерпимо кусает губы» сочетается с портретными деталями в роли психологических); «голос не твердо-шероховатый, какой был недавно, а готовый всхлипнуть» [1. С. 196]; «опять вспыхнула, как дикая утка» [1. С. 196]; «начала смеяться изо всех сил» [1. С. 196]; «сколько хихикает, столько и зажигается. Голос ее, словно бусинки, растекается по березняку, по всему входу в овраг» [1. С. 196]. Психологические детали фиксируют момент рождения и обнародования коварной мысли об организации настоящего соревнования со своим оппонентом – в труде, с косой: «Но как начала смеяться, так же внезапно остановилась» [1. С. 197]; «проговорила с издевательской насмешкой» [1. С. 197]. Ситуация соревнования и предваряющие ее сцены спора даны с юмором, который рождается на противопоставлении двух углов зрения на процесс состязания: неестественно серьезного – героя-повествователя и Елуш и сознательно отстраненного, а затем азартного, как к игре, – деда Микывыра. Смех читате- 64 лей поддерживается психологическими деталями, выражающими внутреннюю неуравновешенность главных персонажей: «внутренними жестами» (Елуш «соскочила с места», «подскочила к косе», «Вдруг, споткнувшись на полдороге, остановилась»), «внутренними жестами» в сочетании с «суммарно-обозначающей формой психологического изображения» (повествователь говорит о себе: «И я, с перепугу схватив косу, мигом вскочил на ноги» [1. С. 196]; «От стыда и косу бросил в сторону» [1. С. 197]). Резкое исключение юмора из дальнейшего повествования связано с исчезновением вышеуказанной двуполярности в оценке происходящего, а именно, с кардинальным изменением отношения к нему деда Микывыра – от игрового любопытства к осознанию драматизма, «запредельности» ситуации. Последнее передается с помощью детали, рисующей одновременно и внутреннее состояние Елуш: «острый конец косы резко бил по земле» [1. С. 201]. Заметим, что это один из двух случаев перехода в рассказе вещной детали в психологическую. Второй такой случай в рассказе – описание простокваши, которая в сознании героя-повествователя сродни холодному отношению к нему его возлюбленной: «Холодная, густая. Как кусочек льда, морозя-обжигая горло, растаяв, с шумом стекла вниз» [1. С. 195]. Тревожное состояние деда Микывыра, жестко и мудро остановившего бессмысленную тяжбу, выражено, главным образом, с помощью собственно психологической детали как составляющей приема умолчания: «Но дед Микывыр ничего не говорит в ответ. И лицо у него – невозможно понять» [1. C. 201]; «ушел от ответа» [1. С. 201]. Сравним с его внутренним спокойствием, изображением безучастности, сменяемым любопытством и азартным подыгрыванием, в предшествующих ситуациях: «А он больше ничего не сказал, как будто ничего не видит, ничего не слышит. Так же лежит и нежится» [1. С. 195]; «лежит, изображая, будто ничего не слышит и не видит» [1. С. 195]; «Изображает спящего» [1. С. 196]; «кудахчет, не в силах удержать свой смех» [1. С. 197]; «Глаза его засветились, под усами играет потешная щекотка» [1. С. 197]; «мой старичок говорит путано, будто специально затягивает время» [1. С. 198]; «выпрямился, погладил усы, расправил бороду» [1. С. 198]. Р. А. Кудрявцева Короткий временной промежуток между такими фабульными событиями, как окончание «трудовой схватки» и финальное примирение главных героев, также обозначен напряженным психологическим поединком. С помощью мастерского переплетения разных типов психологических деталей (портретных деталей в роли психологических, «внутренних жестов» и деталей, прямо называющих внутреннее состояние героев) автор фиксируют не только их неимоверную физическую усталость («В ушах звенит, голова кружится»; «качаюсь в обе стороны» [1. С. 201]), но и обозленное состояние, гнев – на грани сознательного и бессознательного. Так, о Елуш читаем: «… смотрит, словно хочет проглотить меня, обжечь огнем своих глаз. Затем со злости бросила косу там же, где стояла, и чеканным шагом пошла в сторону своего деда» [1. С. 201]; «с пронзительным криком, подпрыгнув, встала со своего места» [1. С. 202]; «маленьким кулачком и землю побарабанила» [1. С. 202]; «ее смородиновые глаза сверкают зелено-синим светом. Снизу вверх, снизу вверх, будто отсчитывают время, данное для ответа» [1. С. 202]. Особо пристальное внимание автора – на сложной гамме чувств героя-повествователя. Читатели видят в нем не только радость победы («Я обрадован, мое сердце резвится» [1. С. 202]), страх ее потери («Но в это же время сердце сжимается: вдруг дед, пожалев свою дорогую крошку, повернет по-другому?» [1. С. 202]) и недовольство любимой девушкой, не желающей признать его победу, но и жалость к ней, а самое главное – последующее осознание им своего безрассудства, глупости самой ситуации спора и победы над девушкой, доведения ее до физического изнеможения («Вдобавок Елуш – девушка» [1. С. 202]). Жалость проскальзывала и ранее, в сцене косьбы, передавалась она с помощью портретных деталей: «Зря мучает такую красивую» [1. С. 196]; «очень тяжело дышит. Спина и плечи совсем мокрые, как будто на нее вылили целое ведро воды. Смотрю на ее, словно выжатое, тело, и жалость берет» [1. С. 200]. В сцене развязки она звучит с особой силой («Пожалел») и фиксирует внутренние изменения, истинную суть характера героя-повествователя. Трепетная любовь героя-повествователя к яркой и сильной крестьянской девушке Елуш, сохраняющаяся на всех этапах их сложных Художественная деталь как прием психологизации ... взаимоотношений, восхищение ее красотой выражаются в основном с помощью сквозных портретных деталей-рефренов, генетически связанных с традиционно-фольклорной образностью и в общем контексте алексеевского повествования получающих психологическую нагрузку: «ее смородиновые глаза сверкают зелено-синим светом» [1. С. 202]; «Смотрю: все заметней раскрываются ее круглые, как ягоды, губы, и сама вся краснеет, в ее смородиновых глазах зажигается веселый и злой огонь» [1. С. 203]. За детским упрямством и злостью любимой девушки он нашел мужество увидеть честного человека, готового бороться за правду до конца. Совершив мужской, благородный поступок (уступив девушке и признав ее по-детски желанную победу), он получил возможность познать истинную красоту женщины, открывающуюся только при участливом внимании к ней, принятию жизни такой, какая она есть. Состязательность в пустяках приводит к вражде, которой автор предпочитает любовь и счастье. Собственно психологическая деталь, озаряющая конец спора («А мое сердце – не на том месте, где обычно находится сердце» [1. С. 203]), подчеркивают новое переживание героя: радость и неимоверное счастье. И его любимая из упрямой, капризной девочки превращается в милое, нежное существо, открытое для счастья: «голос девушки прозвучал так нежно – как песня» [1. С. 206]. Тайно испытываемый ею стыд за происшедшее («ее щеки покрылись румянцем, как красное яблоко» [1. С. 203]) – залог ее взросления и духовного развития. Такой авторский императив подтверждается мудрым спокойствием деда Микывыра, подчеркиваемым через портретную деталь и «внутренние жесты»: «почему-то посмотрел на меня продолжительно, изучая»; «осторожно улыбнулся. Медленно, не спеша пошел по скошенному месту» [1. С. 206]. Завершающая сцена – это молчаливое общение влюбленных, получивших его благословение, чистых душой, единых в своих желаниях, мыслях, преодолевающих свои страхи и оберегающие свое будущее счастье, в котором они искренне уверены. Закономерно обращение писателя к психологическим деталям как составляющим «невербального диалога» и «приема умолчания»: «Я боюсь даже вздохнуть, сижу, как остолбеневший, не шелохнувшись, не могу произнести ни одного 65 слова. <…> Молчит и Елуш. Слышно лишь, как бьется сердце. То ли мое, то ли девушки» [1. С. 206]; «А мои глаза сами поворачиваются в сторону девушки. Елуш вздрагивает, тонким кончиком языка облизывает губы, как будто ее что-то невыносимо жжет. <…> Елуш, почувствовав мой взгляд, поднимает голову. На этот раз и я не отвел от нее своих глаз. Некоторое время мы смотрели друг на друга. Глаза девушки играли, бегали по сторонам, будто искали ответ на какой-то вопрос. В них я увидел незнакомую, доселе невиданную искру. Легкая такая: невозможно ощутить, понять. Словно желая скрыть от меня какую-то большую тайну, заслоняла ее своими ресницами. <…> повернувшись в другую сторону, глазами, в которых одна рябь, изображаю, будто всматриваюсь в Лапшэнер, Сукырэнерский холм» [1. С. 206–207]. В концовке рассказа по-новому обыгрывается природная деталь «Солнце печет невыносимо» – центральная деталь начала произведения, сопряженная с названием произведения («Жаркий день»). В контексте речи повествователя она постепенно начинает соотноситься с трудностями человеческих взаимоотношений, внутренней тяжестью, с «жаром» дерзкого, глупого, физически изнуряющего состязания двух неравнодушных друг к другу людей. А в завершении она становится своего рода оппозицией счастью, душевному равновесию и внутреннему духовному раскрепощению. В конце произведения отчетливо звучит авторская мысль о любви как одухотворяющей силе, пробуждающей к полноценной жизни, в которой в единое целое слиты и возлюбленная, и родная деревня, со всеми ее природными прелестями и нелегким, но волнующим душу крестьянским трудом. В этом контексте концептуальное значение приобретают детали последних двух частей рассказа, связанные с внутренней жизнью героя-повествователя, обретающего взамен «изнуряющей жары» легкость, уверенность, вдохновение и счастье: «Будто только сейчас вышел на белый свет» [1. С. 205]; «С этого дня, с этого счастливого момента вся моя жизнь, до последнего вздоха, будет связана с родной деревней, родной землей, с Елуш. <…> мне дали веру, силу и вдохновение сегодняшнее прекрасное утро, сенокос, дед Микывыр и Елуш» [1. С. 207]. Итак, Геннадий Алексеев в своем внутренне насыщенном и напряженном повество- 66 вании активно использует следующие типы психологической детали: наиболее часто – собственно психологические, связанные с косвенной формой психологического изображения («внутренний жест» в составе приема умолчания и невербального диалога, паралингвистические детали), и суммарно обозначающие («вербальное обозначение чувства»); довольно часто – портретные и пейзажные в роли психологических. Очень мало он обращается к приему перевода вещной детали в психологическую, что, очевидно, объясняется характером самого деревенского материала, привлекающего внимание писателя, и вытекающим из него интересом к изображению человека не в вещном, а прежде всего, природном мире. Деталь становится «стержнем психологической характеристики» [2. С. 407]. В этом смысле рассказ Алексеева «Жаркий день» является весьма характерным явлением современной марийской новеллистики. Нанизывая друг на друга «однотемные» детали, автор воссоздает богатую внутреннюю жизнь героев. Повторяющиеся портретные детали в роли психологических и схожие «внутренние жесты» героев вырастают «до степени ядра характера» [2. С. 352], вобравшего в себя «сгусток» не только личного поведения человека, но и национальной ментальности. Главные персонажи – это типично марийские характеры, со свойственными им упрямством, «крепостью», честностью, развитостью чувств, но сдержанностью в их выражении, скромностью и нежной добротой. Сталкивая в конфликте разных, но, как видим, очень похожих в плане национального поведения героев, автор не просто высвечивает их характеры, но и утверждает универсальные ценности – любовь, духовное единение и душевную гармонию. Универсальное сознание угадывается и в образе деда Микывыра, участливого наблюдате- Р. А. Кудрявцева ля, воспитателя, со свойственной ему мудрой опекой и мерой – это одновременно и национальный, и «вечный» тип, герой всех времен и народов. Он удачно вписывается в общий ряд архетипических образов стариков (старух) русской и мировой культуры (бабка Евстолья В. Белова, старуха Дарья В. Распутина, старик Момун киргизского писателя Ч. Айтматова и др.). Таким образом, психологическая деталь, являясь «микрообразом мира» (А. Б. Есин), способствует созданию концептуальной, языковой (национальной) и индивидуально-образной картины мира. Список литературы 1. Алексеев, Г. В. Погонан рвезылык : повесть ден ойлымаш-влак / Г. В. Алексеев. – Йошкар-Ола : Мар. кн. изд-во, 1989. – 208 с. 2. Добин, Е. С. Сюжет и действительность. Искусство детали / Е. С. Добин. – Л. : Сов. писатель (Ленингр. отд.), 1981. – 432 с. 3. Есин, А. Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения : учеб. пособие / А. Б. Есин. – 5-е изд. – М. : Флинта : Наука, 2003. – 248 с. 4. Есин, А. Б. Психологизм русской классической литературы : кн. для учителя / А. Б. Есин. – М. : Просвещение, 1988. – 176 с. 5. Огнев, А. В. Русский советский рассказ 50–70-х годов : пособие для учителей / А. В. Огнев. – М. : Просвещение, 1978. – 208 с. 6. Скафтымов, А. П. Нравственные искания русских писателей / А. П. Скафтымов. – М., 1972. – 437 с. 7. Чернец, Л. В. Деталь / Л. В. Чернец // Введение в литературоведение : учеб. пособие / под ред. Л. В. Чернец. – М., 2004. – С. 286–297.