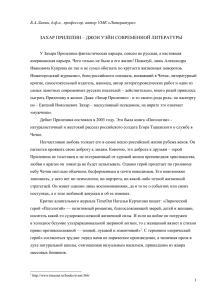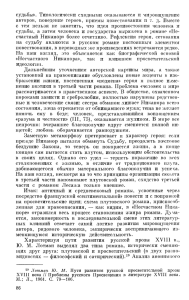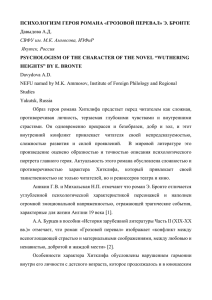фантазия, романтическая мечта о небывалом, “поющем из
advertisement

фантазия, романтическая мечта о небывалом, “поющем из будущего”, а вовторых, глубокое ощущение “неудачности” жизни. Вот эти два начала сталкиваются в человеческой судьбе, в сознании; отчаяние одерживает верх – получается рассказ» [1, с. 239]. Несбыточность мечты связывается с символикой ночи. Мотив наступления ночи играет особую роль в создании образно-символического плана текста. Всякий раз Светлана появляется в рассказе накануне ночи, однако в её описании используется образы «огня», «пламени» («пылающий рот», «вся огонь и пламя» [4, с. 172]). Образ ночи перекликается с образом Светланы и передаёт эмоциональную напряжённость, какую испытывает Римма даже при одном напоминании о ней. Именно ночью проявляется Риммина тоска по несбывшимся мечтам. Интеллигенция в рассказах Т. Толстой предстает в перерождённом, мутированном варианте. В принципе, от русской интеллигенции, высоконравственной, образованной, умственно развитой, остались лишь, как показывает автор, неустроенные, с чувством неудовлетворённости жизнью, недовольством своей судьбой люди. Таким образом, в рассказах Т.Толстой под рубрикой «Москва» широко показана проблема ложного видения смысла бытия среди представителей русской интеллигенции. Главный персонаж Т. Толстой — это либо заурядный обыватель, сконцентрированный на удовлетворении материальных потребностей, либо человек, который не соглашается со сложившимся укладом и уходит в мир иллюзий, погрузившись в несбыточные мечты. Список литературы 1. Булин Е. Откройте книги молодых! На золотом крыльце сидели... // Молодая гвардия. – 1989. – № 3. – С. 237–348. 2. Генис А. Беседа восьмая: Рисунок на полях. Татьяна Толстая // Звезда. – 1997. – № 9. – С. 228–230. 3. Ефимова Н. Мотив игры в произведениях Л. Петрушевской и Т. Толстой // Вестник МГУ. Сер. Филология. – 1998. – № 3. – С. 60–71. 4. Толстая Т. Н. Не кысь: Рассказы. – М.: Эксмо, 2004. Е. В. Гусева Портретные характеристики детей в романе З. Прилепина «Черная обезьяна» В статье анализируются художественные средства раскрытия детских характеров в творчестве современного прозаика Захара Прилепина. Рассматривается портрет как средство описания персонажей-детей в романе «Черная обезьяна». Ключевые слова: детство, детские образы, портреты детей, портретные характеристики, «Черная обезьяна», Захар Прилепин. 275 В качестве средства психологической характеристики героя–ребенка у З. Прилепина нередко выступает портрет. Через внешние приметы детского персонажа автор передает его внутреннее состояние, эмоциональный фон, приоткрывает мир его души, а порой обращается к истокам устремлений и причинам тех или иных поступков. Характерной особенностью З. Прилепина-художника является то, что он почти никогда не прибегает к детальному описанию внешности своих героев, но лишь пунктирно намечает их черты, штрихами намечает их изображение, заостряя, таким образом, внимание читателей на отдельных, значимых в контексте произведений особенностях персонажей. Это утверждение справедливо и для изображения писателем детей. К детским портретам, в каждом из которых отражен неповторимый, уникальный характер того или иного ребенка, З. Прилепин обращается на протяжении всего своего творчества. В целом, детских персонажей писателя можно разделить на тех, кого автор в некотором роде идеализирует, возвышает над окружающими, видя в них воплотившуюся красоту мира; тех, на кого писатель смотрит реалистично – где-то с иронией, где-то – с сожалением; и, наконец, на тех, кто в силу жизненных обстоятельств полностью утратил свою ангелоподобную природу, обратился ко злу. Подобная классификация персонажей-детей, которая создается, в частности, с помощью различных портретных характеристик, прослеживается и в романе «Черная обезьяна». В этом драматичном произведении, сюжетно близком к антиутопии, детские характеры воплощены в целом ряде образов. Во-первых, это дети главного героя; во-вторых, сам центральный персонаж в ранние годы своей жизни, предстающий в многочисленных воспоминаниях; в-третьих, недоростки из секретной лаборатории, вчетвертых, мальчишки из вставных новелл. Наконец, дети наводняют страшные сны-видения, мучающие героя. Светлая картина детства воплощена, прежде всего, в сыне и дочери центрального персонажа. Недаром в тексте романа встречается их сопоставление с ангелами: «Стоят, розовые как ангелы, посреди двора...» [1, c. 48]. Важную роль в детском портрете играют художественные детали: «Дверь распахнули дети, сын и дочь. <...> Она ростом с цветочный горшок с лобастым цветком в нем. Он с велосипедное колесо, только без обода и шины – весь на тонких золотых спицах: пальчики, плечики, ножки – все струится и улыбается, как будто велосипед в солнечный день пролетел мимо» [1, c. 21–22]. В данном отрывке описание строится на совокупности художественных деталей: цветок – солнце – велосипед. Сравнение ребенка с цветком типично для литературы, в целом, и для творчества З. Прилепина, в частности. Цветы, сопровождающие детский портрет, встречаются не только в прилепинской «Черной обезьяне», но и в повести писателя «Витек», открывающей сборник «Восьмерка» (2011). В этой мрачной истории, где показан мир глазами ребенка, маленький Вик276 тор любуется на редкую красоту «буйных цветов», внезапно окрасившую скучный пейзаж его села жарким летом, и размышляет о том, как же растения могли прижиться «вдоль отлогой, крутой насыпи» [2, c. 9]. За немым вопросом и удивлением мальчика прочитывается проводимая автором параллель между яркими, но хрупкими растениями и детьми, которым в провинции так же непросто выживать: «им же приходится расти не вверх к солнцу, а куда-то почти в сторону, набок» [2, c. 9]. В «Витьке» З. Прилепин, как и в большинстве своих произведений, рассматривает детство в аспекте социальной темы, показывая, как непростые условия жизни омрачают существование детей, вместо прямой дороги выводя их на кривые, нехоженые тропы. Не менее важным является и солнечный образ в аспекте детской темы. Солнце всегда играло большую роль в мифологии, что проявилось и в солярных мифах народов мира, и в литературе. «Будем как Солнце, оно — молодое», – этот поэтический призыв К. Бальмонта к новой жизни, в которой люди перестанут «медлить в недвижном покое» [3, c. 51], но будут смело идти к своим огненным мечтам, можно назвать гимном солнцу, вечному источнику всего живого. В детях, только начинающих жить, солнечного света, рассмотренного в своем расширительном значении как синоним энтузиазма и способности мечтать, значительно больше, чем во взрослых, существование которых подчинено множеству норм и правил, что ограничивает свободу проявлений творческой стороны их личности. Не только цветок с его красотой и беззащитностью, не только солнце как гимн человеческой жизни, но и велосипед в творчестве З. Прилепина оказывается связанным с детской темой. Во-первых, это привычный атрибут детских игр (наравне с качелями или санками, также нередко встречающимися в прилепинских произведениях). Во-вторых, это один из тех маркеров детства, замечая которые взрослый герой может мысленно вернуться в свои ранние годы. Образ велосипедиста, неоднократно появляющийся на страницах книг писателя, может быть определен как ловец ускользающих мгновений счастья. Больше же всего подобных счастливых моментов – именно в детстве. Значимым в детских портретах из романа «Черная обезьяна» является и то, что описание детей дополняет прилагательное «золотой», обращающее нас одновременно и к сиянию светила – «солнечному дню», и к драгоценности – осознанию чрезвычайной важности детской жизни. Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами – «пальчики», «плечики», «ножки» – помимо положительной коннотации обладают еще и значением хрупкости, уязвимости ребенка, что отвечает сюжету романа, посвященному распадающемуся, рушащемуся миру, в том числе, гибнущему миру семьи. Это значение дополняется и прилагательным «тонкий», приводящим читателя от тонких золотых спиц к столь же тонким, ранимым детским душам. 277 Себя самого в детстве автор-повествователь описывает через разнообразные внутренние ощущения, совсем не касаясь собственной внешности. Это не только физические ощущения – например, чувство холода: «холодно, мурашки по детским лопаткам, большие, быстрые и рассыпчатые, как крупа» [1, c. 41], но и разнообразные движения детской души. Персонажребенок то испытывает невероятное счастье от самого факта своего существования: «... в доме было тихо и очень солнечно. Сначала солнечно через закрытые глаза, потом прямо в открытые – как из ведра» [1, c. 41]; то подавлен страхом – как во время «битвы» на голубятне, когда он одновременно и опасается убить птиц, и боится быть осмеянным друзьями: «Я изредка взмахивал руками, изображая, что занят тем же самым. Так, глупо трепыхаясь, я добрел до другого края чердака...» [1, c. 44]. Порой он чувствует отвращение и гадливость по отношению к самому себе: «Я присел на скамеечку и долго смотрел на свои руки. Они дрожали. Мне хотелось их укусить» [1, c. 45]. Так же как и все дети, он любопытен: «В детстве я был странно любопытен» [1, c. 96]. Образ повествователя–ребенка сложен и неоднозначен. В его характере смешались безответственность, внезапно проявляющаяся, неразмышляющая жестокость с добрыми чувствами, любовью, способностью к глубокому раскаянию за свои дурные мысли и поступки. Рассматриваемого персонажа нельзя назвать в полной мере ни положительным, ни отрицательным. Что касается отрицательных образов детей в романе З. Прилепина: обитателей улиц, наркоманов, убийц, то характерным является то, что их лица почти вовсе не описываются автором и сама их внешность дается в самых общих чертах. Подобные описания, даже будучи развернутыми, не раскрывают индивидуальности персонажей. Например, у детей из секретной лаборатории, которую посещает главный герой романа – «кукушат, выронивших из гнезда чужую кладку» [1, c. 14] – невзрачные, мало запоминающиеся лица. «Лица их были обычны, не уродливы и не красивы: один русый, один темный, один разномастный...» [1, c. 14]. Кроме их возраста – от шести до девяти лет – и разного цвета волос, их мало что отличает друг от друга. Перед вторым посещением лаборатории герой пытается вспомнить лица детей, сидевших за стеклом, но не может: «смутно прорисовывались только разноцветные головы, лица не всплывали...; ... одинаковые, как орехи...» [1. c. 172]. Такие же мало запоминающиеся дети появляются и во сне-видении центрального персонажа: «Но я никак не могу сказать, какими они были...; проще сказать, какими они не были» [1, c. 168]. В этой характеристике детей описание дано через отрицание индивидуальности. В легенде о малых людях, рассказанной профессором из «Черной обезьяны», встречается достаточно много метких изображений взрослых: родителей мальчика, глазами которого показано происходящее; хромого 278 солдата; белой женщины-рабыни; юного гончара Исая, сидящего на цепи. При этом сравнительно мало сказано об отличительных чертах недоростков, захватывающих город, и совсем ничего не сообщено об их внутреннем мире. По сути, автор указывает читателю лишь на формальные показатели, отличающие детей-воинов. Например, на их возраст: «Теперь мальчик хорошо видел, что самым младшим из них было около семи, а самым старшим – не больше семнадцати» [1, c. 144]; на их рост: «Их копья короче руки! Они же без доспехов! Потому что нет доспехов для младенца, зайца и черепахи» [1, c. 127]. Однако мы ничего не узнаем о причинах, побудивших недоростков захватить город; даже само их существование таит в себе неразрешимую загадку: «Это неведомый народ! Не с юга и не с севера! – сказал кто-то неподалеку» [1, c. 126]. Умолчание в данном случае заставляет читателей самим обратиться к интерпретации сложного образа детей без страха и жалости. Несколько версий происхождения этих странных, почти ирреальных существ – полулюдей, полуживотных – даны в разговорах обезумевших от страха горожан: «Говорили еще, что это пришли одичавшие дети из тех завоеванных городов, где казнили все взрослое население»; «Кто-то ругался, что это и не дети вовсе, а пигмеи, оттого у них нет детских слез на лицах» [1, c. 136]. Однако ни один из возможных вариантов их появления в городе не кажется неоспоримым; приход недоростков окутан тайной, что рождает множество слухов и сплетен: «Никто никому до конца не верил, но в то же время все были готовы поверить в любую чушь» [1, c. 136]. Пришедшие непонятно откуда и зачем дети выглядят материализацией потаенных людских страхов, внезапно обретших плоть. Скупые описания недоростков построены на типичном для З. Прилепина использовании художественных деталей. Это острые ребра и тонкие кости, подчеркивающие худобу и хрупкость «малых людей», исцарапанная кожа и крохотные головы. Интересно также, что в описании недоростков снова появляется характерный для всего творчества З. Прилепина о детях образ цветка. Так, малые воины украшают себе цветами головы, из-за чего кажется, «что это луговые цветы то собираются в букеты, то разбегаются в разные стороны» [1, c. 129]. Мальчик, смотрящий на нападающих с крепостных стен, видит лишь плывущие и плещущиеся о стены цветочные головы и удивляется: «Где они набрали столько цветов?» [1, c. 132]. В данном случае автор в очередной раз играет прямым и переносным значением слова: дети как цветы жизни становятся в буквальном смысле подобны цветам, украшая себя яркими венками. При этом лица детей остаются незримыми, неузнаваемыми. Несмотря на то, что они подходят к городу все ближе и ближе, а затем и вступают в бой с горожанами, их всегда что-то мешает рассмотреть. «Снизу лица недоростка не было видно – только шею и подбородок; по шее тек обильный и грязный пот» [1, c. 135]. Когда один из недоростков, гибнущий от ран, 279 падает, то мальчик, наблюдающий за боем со стороны, вновь не может увидеть его лица, искалеченного ранами: «Голову его мальчик никак не мог рассмотреть, она казалась неровной как огрызок яблока» [1, c. 135]. В финале легенды мальчик-горожанин так легко смешивается с толпой недоростков, потому что они безлики, среди них нельзя отличиться, можно только потеряться. Ребенок бежит по городу, ставшему чужим, в толпе чужаков, сам превратившийся в подобие фантома: «Не чувствуя своего опаленного лица и сгоревших бровей, в толпе недоростков, бежавших молча и сосредоточенно, мальчик поспешил мимо амбаров, пекарен и давилен к тюрьме» [1, c. 149]. В этой сцене чувствуется завороженность ребенка ужасом происходящего, «выпадение» из реальности, что подчеркнуто и внезапно начавшимся вихрем: вихрем ветра и истории. Как и у недоростков из легенды, нет лиц у детей из кошмаров автораповествователя, по крайней мере, рассказчик не может их запомнить, воссоздать, поймать их взгляды. Этот сон выступает тематической параллелью к происходящему в легенде. У одного из обитателей кошмара, как и у мальчика из легенды, лицо опалено огнем, полностью сожжены ресницы и брови: «Кажется, все они были мальчиками, но не уверен. У одного совсем не было ресниц, и даже бровей, и я все смотрел ему на лоб, казавшийся ошпаренным или обожженным» [1, c. 168]. Это страшное обожженное лицо особенно запоминается повествователю: «Я метнулся взглядом в потолок <...> и, наконец, решился взглянуть в лицо тому, кто ударил меня первым, - и это его лицо без ресниц... Это его лицо без ресниц!» [1, c. 169]. Возраст детей из сна также совпадает с возрастом недоростков: «Им было не меньше, наверное, семи, и явно меньше семнадцати» [1, c. 168]. Наконец, как и малые люди, мальчики из видения действуют автоматически, будто бы вовсе не задумываясь о совершаемом. В них нет ни страха, ни сочувствия. Внезапно они появляются в комнате автора-повествователя, столь же внезапно и беспричинно начинают его бить, «втыкая» в него свои руки «упрямо и беззлобно» [1, c. 169]. Писатель подчеркивает, что они не испытывают агрессии по отношению к избиваемому, ни на что не злятся, и ведут себя словно запрограммированы какой-то программой, преодолеть которую не в силах. Та же механистичность действий поражает и в легенде о недоростках. Рациональным объяснением целого ряда совпадений в образах из легенды и сна героя может быть то, что сновидение было навеяно воспоминаниями главного героя о рассказе профессора. С точки зрения философского звучания, сюжет о детях, преданных миром и пришедших мстить ему, является постоянно продолжающимся в истории: от крестовых походов детей в Средневековье до сегодняшнего детского участия в сектах и преступных группировках. Эта дурная повторяемость и выявляется с особой яркостью в пересекающихся сюжетах из романа З. Прилепина. Неслучайно и главному его герою дети, появившиеся в его комнате, кажутся 280 вернувшимися откуда-то: «... моей первой мыслью было то, что они перепутали дверь и возвращаются... откуда-то возвращаются...» [1, c. 168]. В этой ремарке персонажа – отсылка к мотиву вечного возвращения событий в истории человечества. Кажется странным, что при описании мальчиков из сна ни слова не сказано про их глаза, ведь персонаж смотрит на них в упор. Но взгляды их ускользают, из-за чего все недоростки и сливаются в одну серую, неприметную, но пугающую массу: ищущую чужого страха и, возможно, от страха же и бегущую. Точно так же ни разу не были показаны глаза у представителей малого народа из новеллы о древнем мире. «Мальчик тронул ногой труп, голова вдруг повернулась, и криво раскрылся рот. Глаз у головы не было, они затерялись в сломанных черепных костях» [1, c. 135]. Здесь невозможность уловить взгляд ребенка обретает буквальное, страшное воплощение – его голова полностью раздроблена. Сближает детей из вставной новеллы и сна героя еще и образ цветка: в данном случае последний является уже не просто одной из художественных деталей, непосредственно формирующих портрет персонажей, но самостоятельным художественным образом. Имеющим, тем не менее, прямое отношение к детской теме. Проснувшийся герой произведения, все еще напуганный увиденным во сне, роняет цветок с подоконника на пол: «Рассыпалась земля и осколки горшка» [1, c. 170]. Так же, как этот хрупкий цветок, упавший и забытый, забвению преданы и судьбы детей, потерявшихся в мире. Во второй вставной новелле из романа, рассказанной центральному персонажу Максимом Милаевым, но, по сути, представляющей собой его вольное переложение истории одного африканского ребенка, также почти не встречается описаний детской внешности. Вместо ребячьих лиц здесь – наколки, которые дети просят сделать себе на теле, вместо ярких мыслей – красочные рубахи, которые выдает им их командир, одержимый жаждой мщения: «Еще мне досталась самая красивая рубашка, я то расстегивал ее до самого низа, до застегивал до шеи» [1, c. 186]. И вновь, как в предыдущей новелле, как во сне героя, в рассказе об Африке появляется образ цветка, только на этот раз растение пропитано ядом, подобно детям, отравленным смесью кокаина с порохом: «Я взорвался, потом расцвел, как тысяча тех цветов, которые умеют ловить мух своими лепестками» [1, c. 196]. В поражающей жестокостью африканской истории актуализируется образ ребенка как загубленного цветка жизни. Отсутствие у героев собственного «я» в данной новелле доведено до крайности. Дети, не имеющие образования и лишенные родных, принимающие большие дозы алкоголя и наркотиков, полностью утрачивают себя. Понятия совести для них не существует, потому и никаких внутренних колебаний перед очередным убийством они не испытывают. Так же их не печалит и гибель их товарищей. Неудивительно, что ни разу в течение всего текста 281 истории автор не обращает внимания читателей на глаза этих ребят, которые жестоко убивают ни в чем не повинных людей, устраивают разгромы в больнице и на военной базе. Зеркало их душ оказывается пустым и не отражает ни чувств, ни сомнений. Пустой, ничего не отражающий, или ускользающий взгляд, бегающие глаза – частый признак, который отличает отрицательных персонажей автора. К примеру, при описании хулигана Чебрякова из рассказа «Белый квадрат» писатель также указывает на невозможность уловить его взгляд. Когда Чебряков разговаривает с лучезарным Сашкой, прямо смотрящим на него своими сужающимися от гнева глазами, зрачки хулигана бегают, что выдает его трусливую натуру, отсутствие характера: «Зрачки его беспрестанно двигались влево-вправо, будто не решаясь остановиться на Сашиной улыбке» [4, c. 175]. А отрицательный персонаж «Черной обезьяны», Гарик, воровато оглядывает двор и соседние дома, прежде чем начать побоище на голубятне. Также один из детей – узников секретной лаборатории смотрит на главного героя не прямо, а будто бы таясь, «дважды наискось скользнув по моему лицу» [1, c. 16]. Таким образом, портрет играет значимую роль в раскрытии детской темы. Мир детства в творчестве Захара Прилепина неоднороден. С одной стороны, это опоэтизированное автором пространство, в котором ребенок – воплощение светлых человеческих черт. Непорочность и чистота детей подчеркнуты, в частности, в использовании по отношению к ним прилагательных с положительной коннотацией, в сопоставлениях ребенка с солнцем, цветком, ангелом. С другой стороны, наравне с традиционными, положительными детскими образами в произведениях писателя присутствует и негативная трактовка персонажей-детей. Это и малые люди, и африканские недоростки из романа «Черная обезьяна». Примечательно, что портрет детейпреступников; детей, воплощающих зло, в произведениях писателя или отсутствует вовсе, или дан крайне скупо: в большинстве случаев через отсутствие, а не наличие у них каких-либо черт. Так, у малых людей из «Черной обезьяны» не видно детских слез на лицах, у «кровавых мальчиков» из кошмаров главного героя того же романа нет ни бровей, ни ресниц. Подобное умолчание иллюстрирует прилепинскую позицию по отношению к данным героям. Описание через отрицание, отсутствие каких-либо черт чаще всего является показателем пустоты внутреннего мира того или иного героя. Дети-преступники предстают инертной массой, лишенной индивидуальных черт, так как в силу обстоятельств они потеряли себя, утратили свою ангелоподобную природу. Изображая их в виде толпы, а не каждого в отдельности, З. Прилепин, во-первых, указывает на их безликость, а вовторых, привлекает внимание читателей к тому факту, что личной вины детей в случившемся нет. Автор возлагает ответственность за их преступ282 ления на взрослых, чье поведение и послужило причиной детской преступности. За личной трагедией каждого из недоростков стоит обобщенный образ нашего общества – разрозненного, бесприютного, трагически утратившего своих сыновей. Список литературы 1. Прилепин З. Черная обезьяна. – М.: АСТ: Астрель, 2011. 2. Прилепин З. Витек. Восьмерка – М.: Астрель, 2012. 3. Бальмонт К. Стозвучные песни. Сочинения. – Ярославль: Верхне-Волжское книжное изд-во, 1990. 4. Прилепин З. Белый квадрат. Грех и другие рассказы – М.: АСТ: Астрель, 2011. В. Н. Николаенко Интерпретация проблемы измены в романе «Измена. Made in Ukraine» Е. Кононенко В статье рассматривается проблема измены в философско-этическом смысле. Ключевые слова: Е. Кононенко, измена, предательство, проблема, мораль, интерпретация. «Что есть измена? Все на свете измена ...». Таким эпиграфом начинается роман Е. Кононенко «Измена. Made in Ukraine», что является ключом к проблематике. Экзистенциальное прочтение позволяет увидеть едва ли не все множество толкований этого полисемантичного понятия, расценивая поступки персонажей как проявление разрыва человека с предварительным определением его бытия. Попытка анализа романа Е. Кононенко под углом творческого применения традиций мировой классики, их обработки и своеобразного совершенствования, осмысления в контексте развития современной украинской литературы позволяет выявить духовную глубину, философско-эстетическую содержательность произведения и высокую результативность взаимодействия культур. Цель исследования – выявить в романе «Измена» Е. Кононенко взаимодействие современной украинской литературы с традициями мировой классики. Понятие измены толкуется как нарушение верности родине, общему делу, вере, идеалам, своим убеждениям, любимой или близкому человеку, другу, самому себе. Но каждая эпоха вносила свое отношение к проблеме. Народная патриархальная мораль украинцев, опираясь на христианско-библейскую модель толкования этого понятия, строго осуждала любые проявления измены. Издавна в украинском обществе супружеская, государственная измена, измена своему долгу вызвала осуждение. Проблемным для Украины, учитывая специфику исторического прошлого нашего государства, был и остается вопрос национальной измены. Украинское народное творчество и фольклор создали немало прекрасных 283