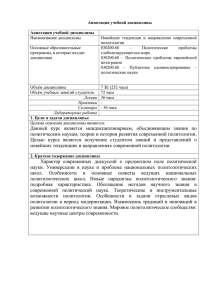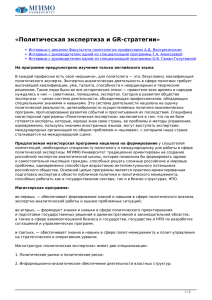Проблемы и перспективы сравнительной политологии : диалог
advertisement
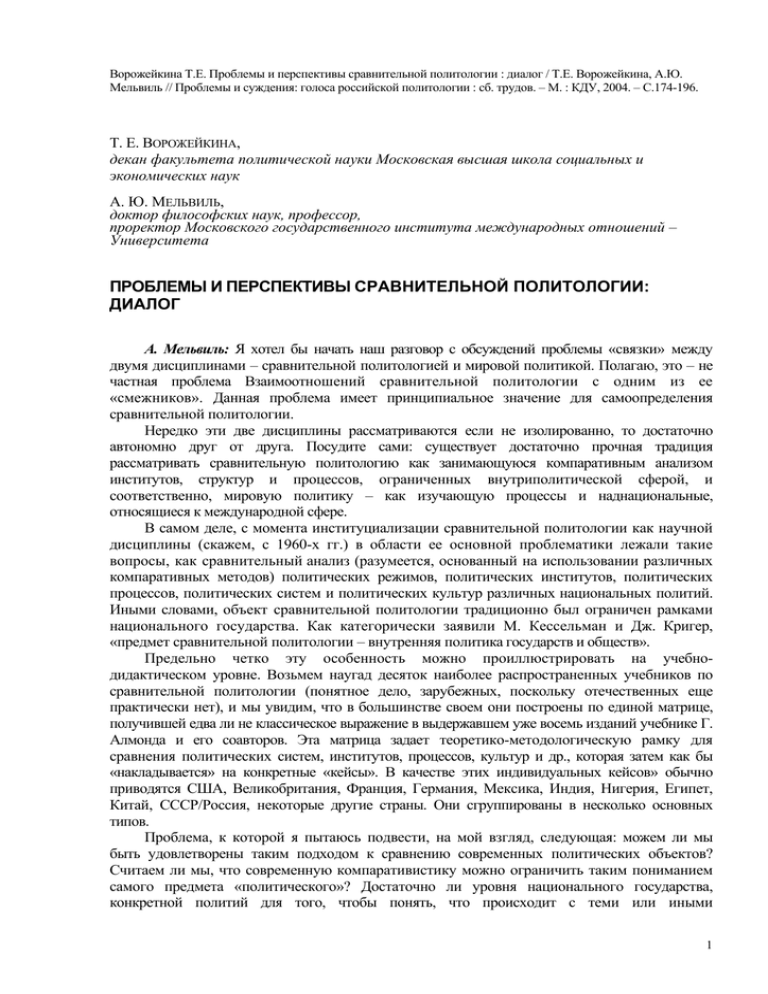
Ворожейкина Т.Е. Проблемы и перспективы сравнительной политологии : диалог / Т.Е. Ворожейкина, А.Ю. Мельвиль // Проблемы и суждения: голоса российской политологии : сб. трудов. – М. : КДУ, 2004. – С.174-196. Т. Е. ВОРОЖЕЙКИНА, декан факультета политической науки Московская высшая школа социальных и экономических наук А. Ю. МЕЛЬВИЛЬ, доктор философских наук, профессор, проректор Московского государственного института международных отношений – Университета ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТОЛОГИИ: ДИАЛОГ А. Мельвиль: Я хотел бы начать наш разговор с обсуждений проблемы «связки» между двумя дисциплинами – сравнительной политологией и мировой политикой. Полагаю, это – не частная проблема Взаимоотношений сравнительной политологии с одним из ее «смежников». Данная проблема имеет принципиальное значение для самоопределения сравнительной политологии. Нередко эти две дисциплины рассматриваются если не изолированно, то достаточно автономно друг от друга. Посудите сами: существует достаточно прочная традиция рассматривать сравнительную политологию как занимающуюся компаративным анализом институтов, структур и процессов, ограниченных внутриполитической сферой, и соответственно, мировую политику – как изучающую процессы и наднациональные, относящиеся к международной сфере. В самом деле, с момента институциализации сравнительной политологии как научной дисциплины (скажем, с 1960-х гг.) в области ее основной проблематики лежали такие вопросы, как сравнительный анализ (разумеется, основанный на использовании различных компаративных методов) политических режимов, политических институтов, политических процессов, политических систем и политических культур различных национальных политий. Иными словами, объект сравнительной политологии традиционно был ограничен рамками национального государства. Как категорически заявили М. Кессельман и Дж. Кригер, «предмет сравнительной политологии – внутренняя политика государств и обществ». Предельно четко эту особенность можно проиллюстрировать на учебнодидактическом уровне. Возьмем наугад десяток наиболее распространенных учебников по сравнительной политологии (понятное дело, зарубежных, поскольку отечественных еще практически нет), и мы увидим, что в большинстве своем они построены по единой матрице, получившей едва ли не классическое выражение в выдержавшем уже восемь изданий учебнике Г. Алмонда и его соавторов. Эта матрица задает теоретико-методологическую рамку для сравнения политических систем, институтов, процессов, культур и др., которая затем как бы «накладывается» на конкретные «кейсы». В качестве этих индивидуальных кейсов» обычно приводятся США, Великобритания, Франция, Германия, Мексика, Индия, Нигерия, Египет, Китай, СССР/Россия, некоторые другие страны. Они сгруппированы в несколько основных типов. Проблема, к которой я пытаюсь подвести, на мой взгляд, следующая: можем ли мы быть удовлетворены таким подходом к сравнению современных политических объектов? Считаем ли мы, что современную компаративистику можно ограничить таким пониманием самого предмета «политического»? Достаточно ли уровня национального государства, конкретной политий для того, чтобы понять, что происходит с теми или иными 1 политическими объектами, как они эволюционируют, в чем их динамика и т. д.? Не должны ли мы обратить внимание и на воздействия и процессы, которые развиваются как бы «поверх» конкретных национальных политий, «поверх» национальных государств и так или иначе влияют на процессы внутриполитические? Я хотел бы привлечь наше внимание к достаточно очевидному (и часто фиксируемому на декларативном уровне) обстоятельству: одна из динамических характеристик современного мира – прогрессирующее изменение соотношения и углубление связей между областями внешней и внутренней политики. Речь идет не только о часто фиксируемой в политологической литературе тенденции к росту специфической «прочности» национальных границ в отношении различного рода внешних (международных) влияний. Важно осмыслить усиление особых встречных взаимодействий между внешне- и внутриполитическими ерами, появление ранее не известных факторов их обоюдного влияния и, следовательно, качественно новое проблемное поле, находящееся как бы «в перекрестии» внешней и внутренней политики. В немалой степени возникновение указанного проблемного комплекса обусловлено многократно отмеченными исследователями факторами: частичной эрозией традиционных функций и привилегий национальных государств; расширением количества новых негосударственных и надгосударственных акторов, действующих на международной сцене; увеличением числа (значит, усложнением) взаимосвязей, осуществляющихся «поверх» суверенных сфер этих государств, и др. Конечно, не следует переоценивать масштабы этой эрозии. Система национальных государств и лежащая в ее основе идея суверенитета по-прежнему сохраняют свое значение, а многие государства – как «старые», так и «новые» – не только не испытывают никаких позывов к тому, чтобы пожертвовать хотя бы частью своих суверенных прав, но, скорее напротив, решительно на них настаивают. Тем не менее буквально на наших глазах происходит специфическое расширение сферы «политического» за пределы национальных государств – становление транснациональной среды мировой политики, получающее различные воплощения. Обозначу их пунктиром. Во-первых, закрепление де-факто (отчасти уже и де-юре) в качестве легитимных участников международных отношений негосударственных и надгосударственных акторов со своими специфическими интересами и позициями – от транснациональных корпораций (ТНК), неправительственных организаций (НПО) и международных неправительственных организаций (МНПО) до общественно-политических и иных движений, некоторых групп интересов, даже отдельных индивидов. Этих нетрадиционных участников международных отношений нередко называют транснациональными акторами (ТНА). Во-вторых, формирование и развитие самостоятельной, с собственными закономерностями сферы активных транснациональных взаимодействий и взаимосвязей. По уже крылатому выражению американских политологов Р. Кохейна и Дж. Ная, именно в этом состоит суть отличия современного транснационального подхода к международным исследованиям в духе парадигмы мировой политики от прежней государственно-центристской схемы. Подобные взаимодействия и взаимосвязи новых международных акторов осуществляются в экономической, политической, культурной, информационной и иных средах. В-третьих, становление и большее разнообразие собственно транснациональной повестки дня мировой политики, находящейся «по ту сторону» традиционной проблематики межгосударственных взаимодействий и обладающей в существенной мере глобальным по охвату форматом. В-четвертых, появление новых, нетрадиционных каналов и инструметов самих транснациональных взаимодействий, таких, например, как новые информационные и коммуникационные технологии; сетевые каналы взаимоотношений, прежде всего НПО и МНПО, но также и других участников мировой политики; внешние, международного воздействия на внутреннюю политику отдельных государств, выход внутренних регионов 2 государств на международный уровень и пр. Все эти транснациональные потоки в многоцентричном мире новых международных акторов, развивающиеся словно бы «поверх» наций-государств, – влиятельный фактор, подкрепляющий формированиe особой транснациональной среды мировой политики. Сказанное имеет самое непосредственное отношение к предмету и методам сравнительных политологических исследований. Дело в том, для адекватного понимания (в том числе путем сравнения) политических процессов, развивающихся на национальном уровне, мы больше не можем ограничиваться только феноменами, относящимися только к самому этому национальному уровню. Как следствие: мы обязаны включить в «матрицу сравнения» максимальное количество переменных, которые находятся как бы «поверх» уровня национального государства, уровня конкретной национальной политии. Вспоминается один из классических образов, используемых международниками, в соответствии с которым взаимодействия на мировой арене подобны столкновениям бильярдных шаров. Смысл сравнения в том, что бильярдные шары (= суверенные национальные государства) сталкиваются и разлетаются в разные стороны, и нас интересуют лишь траектории их столкновений и последующего движения. Нас не интересует, что «внутри» этих «бильярдных шаров», поскольку это «внутреннее» непроницаемо для нашего взора в качестве исследователей-международников, исходящих из государственноцентрической парадигмы. Развивая этот образ, я бы сказал, что традиционную сравнительную политологию интересовало, напротив, только то, что имеет отношение к внутренней сфере этих «бильярдных шаров». Это как раз те внутриполитические институты, структуры и процессы, о которых я говорил выше. Между тем, если продолжать говорить образами, «сукно» бильярдного стола и внутреннее «качество» бильярдных шаров сегодня имеют самое непосредственное отношение и к траекториям их движения. Старое крылатое выражение, в соответствии с которым «внешняя политика начинается там, где кончается внутренняя», более не может нас устроить. Я готов отстаивать тезис о том, что в настоящее время происходит встречное движение предметных областей двух дисциплин – сравнительной политологии и мировой политики. Поэтому ни одна из них более не может рассчитывать на своего рода «дисциплинарную автаркию», напротив, перспективы их динамики предполагают, если угодно, их «синергию». Быть может, со временем это приведет к формированию новой политологической метадисциплины – того, что мы с Михаилом Васильевичем Ильиным называем сравнительной мировой политикой, то есть дисциплины, которая вывела бы сравнительный анализ за рамки конкретных политий. Это, вполне естественно, не означает, что у сравнительной политологии остается лишь один вектор развития. Напротив, именно в последнее время, несмотря на элементы теоретико-методологической стагнации традиционной сравнительной политологии как таковой, по крайней мере, у нас в России, в области политической компаративистики наибольшие, как мне кажется, результаты были достигнуты на уровне микрополитического анализа (региональные политические режимы, региональные избирательные стратегии и т. д.). Но все же радикальные концептуальные прорывы сравнительной политологии мне сегодня видятся в ее частичной «конвергенции» с мировой политикой. Т. Ворожейкина: Я тоже хочу добавить несколько вопросов для дискуссии, которые меня, в частности, занимают как компаративиста, и начать с главного сюжета, о котором говорил Андрей Юрьевич, а именно—с проблемы размывания того, что традиционно было главным объектом сравнительной политики, то есть национального государства. Каждый, кто этим занимается, сталкивается с тем, о чем уже было сказано, – национальное государство и значительная часть его функций размывается как сверху – процессами глобальными, так и снизу _ процессами локального развития, часто разрушающими национальные границы в наиболее развитых регионах мира, хотя, впрочем, не только в них. Я имею в виду процессы экономического и политического объединения, которые происходят в различных регионах Европы, Америки и, в частности, Латинской 3 Америки. Означает ли это, что нуждается в корректировке, изменении сам объект исследований? Несомненно, потребность такая есть, но я ду-маю, что помимо тех вещей, о которых говорил Андрей Юрьевич, ведущих к необходимости заниматься взаимодействием внутренних и наднациональных процессов, есть потребность изменить взгляд на сам объект. Может быть, следует перестать заниматься исключительно проблемами национального государства и национальной политики и попытаться посмотреть на то, что можно назвать национальным сообществом. Тогда глобальные проблемы – транснациональные и наднациональные – приобретают несколько иной смысл. Это первое. Второй момент, который бы я хотела также включить в дискуссию, связан с реакцией национального государства и национального сообщества на глобальные процессы. В целом ряде регионов незападного мира (в России, в Латинской Америке, не говоря уже об арабских странах) мы сталкиваемся с противоречивой и разнонаправленной реакцией национального сообщества на глобальные проблемы и на глобальное управление. Изучение этой реакции может, на мой взгляд, сделать более плодотворным сравнительное политическое исследование и компаративистику вообще. Поясню на конкретном примере, что я имею в виду. Я недавно вернулась из Аргентины, и больше всего меня поразило – то, что страна, пережившая в конце 2001 – начале 2002 г. экономический кризис, абсолютно идентичный тому, который прошла Россия в 1998 г., находится во всех отношениях на подъеме. Экономический кризис в Аргентине, казалось, повлек за собой полное разрушение политической системы. Воздействие кризиса на общество также первоначально было по целому ряду параметров сопоставимо с российским. (Но равнодействущая этих тенденций в 2003 г оказалась прямо противоположной той, с которой мы имеем дело в России. Это можно показать и экономически, и политически, и, что в особенности интересно, с точки зрения состояния общественного мнения и самоощущения общества, его менталитета. Если говорить очень коротко, то результатом кризиса в Аргентине стали быстрый экономический подъем, существенная демократизация политической системы и рост влияния гражданского общества. Поскольку в случае Аргентины и России речь идет о структурно близких ситуациях, о странах, попавших в сопоставимую конъюнктуру, то возникает вопрос, во-первых, об основаниях сравнения, а во-вторых, о причинах принципиально разной реакции этих стран именно на процессы глобализации. В Аргентине, в частности, и в большинстве стран Латинской Америки реакция оказалась достаточно плодотворной: она привела эти страны и эти сообщества – во всяком случае, на нынешнем этапе, – не к замыканию в собственных проблемах, а скорее, к попытке включиться в мировые процессы по-другому. После либеральной эйфории начала 1990-х гг. они попытались посмотреть на свои проблемы с принципиально иной точки зрения, не исключая себя, однако, из глобального процесса. Мне было очень интересно и важно услышать то, что сказал Андрей Юрьевич о «матрице» сравнительного исследования, которая традиционно предлагается во всех учебниках по сравнительной политологии (и не только в учебниках). В общем, мы так или иначе имеем дело с основными блоками этой матрицы, которые в той или иной композиции накладываются на различные национальные ситуации. Как человек, занимающийся преимущественно незападным миром, я постоянно сталкиваюсь с неадекватностью и отдельных блоков, и, в особенности, различных композиций для того, чтобы адекватно описать эти ситуации. Мне хотелось бы поставить под вопрос три основных блока, которые используются в сравнительной политологии, или, скромнее, сформулировать некоторые проблемы, связанные с их использованием. Первая касается проблематики политической культуры. Мне кажется, что дискуссии, которые в последнее время шли – и у нас в стране, и за рубежом, оказались не очень плодотворными, потому что политическая культура так и остается неким глобальным, 4 самодостаточным и все-объясняющим концептом. Приведу в пример недавний сборник статей, вышедший под редакцией Л. Харрисона и С. Хантингтона, «Culture Matters: How Values Shape Human Progress» (N.Y.: Basic Books, 2000). Одна из статей, написанная Д. Лэндсом, носит характерное название: «Culture Makes Almost All the Difference» («Культура объясняет почти все»). С другой стороны, в ряде статей есть попытка действительно уйти от всеохватности понятия «национальная культура», попытаться объяснять различия не культурными факторами, а чисто конъюнктурными, ситуативными вещами, и тогда это понятие размывается. Я пока для себя не нашла какого-то более-менее адекватного синтеза попыток включить политическую культуру в качестве объясняющего фактора развития, в особенности в том, что касается стран незападной культуры. Вторая проблема, по-видимому, еще более острая, – институциональная. Точнее, это – проблема институциализации. Она, на мой взгляд, заключается в том, чтобы адекватно описать институты и определить, что есть «институты», а что есть «не институты». Если в институциальных терминах описывать все феномены какой-то конкретной национальной действительности, то тогда, собственно, исчезает грань между тем, что является процессом институциализации, и процессом деинституциализации. У нас исчезает критерий собственно институционального анализа. Третий сюжет связан с гражданским обществом. Я хотела бы задать старый, но от этого не менее актуальный, вопрос: является «гражданское общество» в отношении «незападных» обществ работающей концепцией? Внутри этого сюжета мне видятся две основные проблемы. Первая – это наложение западной матрицы, которое в большинстве случаев приводит к констатации отсутствия гражданского общества в незападных» странах или его крайней слабости. (Под слабостью, как правило, понимается наличие элементов, но отсутствие структуры гражданского общества.) Те решения, которые в последнее время предлагаются в рамках «сетевого» подхода, как мне кажется, тоже этой проблемы не решают. Вторая проблема связана с двойственностью, «двуликостью» гражданского общества в «незападных» ситуациях. Там существует, во-первых, некий аналог западного гражданского общества: это – политически активные и, главное, политически влиятельные организации среднего класса, к которым государство развернуто своей цивильной стороной. Это, может быть, и не вполне правовой фасад государства, однако оно уважает в этой части гражданского общества влиятельного игрока. Во-вторых, есть другие организации, которые вырастают снизу в двух смыслах этого слова. Их мало охарактеризовать понятием «roots». Важно, что они возникают в социальных низах, в среде низших и исключенных, среди тех, кто никогда не был охвачен гражданскими организациями индустриального общества. Это – маргинальное население, которое сначала в ходе индустриализации, а затем : в особенности) в результате процессов постиндустриального развития оказывается выкинутым и из рынка, и из общества. На эту часть населения современное либеральное государство все меньше и меньше распространяет свое влияние. Именно здесь возникает проблема: организации второго типа часто появляются там, где государство не выполняет свои социальные обязательства, где оно уходит от обеспечения социального воспроизводства, где оно оставляет людей на произвол судьбы, один на один с такими проблемами, как водоснабжение, канализация, электричество, элементарное здравоохранение и образование. В нашей стране мы видим сколько-то таких случаев и мест, где те же проблемы стоят очень остро. В таких ситуациях люди вынуждены самоорганизовываться просто для того, чтобы выживать. Классическим примером такой самоорганизации являются «поселки нищеты» в некоторых странах Латинской Америки, объединяются и организуются для того, чтобы была вода, чтобы было электричество, чтобы были хотя бы какие-то школы и т. д. Таким образом возникают организации, которые потом часто вступают в конфликт с государством. К ним это государство повернуто своей авторитарной, нецивильной, репрессивной стороной. Соответственно, и поведение противостоящих такому государству людей часто, хотя и не всегда, далеко от законопослушания. Вопрос состоит в том, это гражданское или негражданское («uncivil») общество? 5 Я бы могла привести несколько примеров, когда такого рода проблемы колоссально обостряют национальную ситуацию. На мой взгляд, современная Венесуэла – это пример нарастающего противостояния и столкновения двух различных обществ, существующих в одной стране. Мне кажется, что такого рода процессы самоорганизации, причем отнюдь не всегда на гражданской и правовой основе, должны рано или поздно начаться и в России. Исследовательский (а также и вполне практический) вопрос заключается в том, можем ли мы что-то понять в этих процессах, оперируя понятием «гражданское общество», или же мы должны описывать их в принципиально иных терминах. И последнее – вопрос об основах сравнения. Мы все время сталкиваемся с тем парадоксом, о котором говорил Андрей Юрьевич. Понимая, что развитие приобретает все более глобальный характер, мы все-таки исследуем и сравниваем национальные ситуации. Каждый курс, практически каждая лекция по сравнительной политике у меня, в частности, начинается с того, чтобы обозначить влияние глобальных процессов там, где оно воздействует на национальные процессы и изменяет их. Но занимаемся мы все-таки национальными сообществами. Можем ли мы действительно (опять-таки, за пределами западного мира, к которому мы не принадлежим) обозначить достаточно четкие и работающие основания для сравнения, или это сравнение осуществляется лишь по аналогии, на основании того, что каждый исследователь воспринимает вследствие собственной подготовки как общую проблему. А. Мельвиль: Не могу не солидаризоваться с тем, о чем так хорошо говорила Татьяна Евгеньевна. Во-первых, это касается ее замечаний относительно нынешнего эвристического потенциала концепта политической культуры применительно к сравнительным политологическим исследованиям. Совершенно согласен с тем, что к ссылкам на политическую культуру мы очень часто обращаемся как к специфической подмене реальной аргументации. Это как «флогистон» средневековых алхимиков – если мы не можем объяснить конкретные результаты реакции двух или нескольких химических элементов, то говорим, что здесь происходит вмешательство некоего неизвестного и таинственного вещества. Увы, нередко ссылки на политическую культуру, не подкрепленные сущностной аргументацией, напоминают ссылки на «флогистон». В конкретном сравнительном анализе политическая культура как в принципе очень важная переменная у нас часто не работает. Полностью согласен и с высказанной Татьяной Евгеньевной ремаркой относительно универсальной применимости понятия гражданской культуры. И вообще, правомерность «наложения» концептов, рожденных в определенном культурно-цивилизационном поле, на проблематику иных «над-» или «до-политических» контекстов стоило бы обсудить в отдельном формате. Добавлю, пожалуй, что нам, вероятно, стоит обратить внимание еще на одну характерную черту политической компаративистики последних десятилетий, собственно говоря, наблюдаемую с момента ее институализации как самостоятельной дисциплины в 1960-х гг. Речь идет о сквозной для нее парадигме политического развития, понимаемого как своего рода линейный, векторный процесс. В ее основе – идея «стадий», которые неизбежно проходят, хотя и несинхронно, все общества в процессе их поступательной модернизации. Причем динамика продвижения обществ по универсальному модернизационному вектору понималась компаративистами исключительно в духе социально-экономического детерминизма. Если хотите, это было представление о некоей «выпущенной из лука стреле», которая, как локомотив, «тянет» все общества в одном направлении, к одному финалу, к которому неизбежно все они придут, только одни раньше, а другие позже. Конечно, в качестве контраргумента, обосновывающего попытки понять более сложную динамику обществ, которые никак не вписываясь в эту линейную, векторную схему, появились теории «зависимости», «догоняющего развития» и др. Однако общий методологический «этос» сравнительной политологии в течение многих десятилетий все жe определялся именно этой модернизационной парадигмой. Постепенно ее дополнила идея своего рода столь же линейной, векторной 6 демократизации как универсального принципа мирового политического развития. Последнюю четверть ушедшего XX в. было принято характеризовать как эпоху глобальной демократизации, которая понималась как главный (и чуть ли не единственный) вектор мировой динамики. И в самом деле, это было время, прошедшее под знаком распада казавшихся прежде совершенно несокрушимыми авторитарных и посттоталитарных режимов и постепенного становления демократических институтов и практик в целом ряде стран, объявивших себя «новыми демократиями». Между тем, как сегодня становится понятным, многие компаративисты поддались искушению (вполне объяснимому, учитывая эйфорию начала перестройки, а затем краха коммунизма и начала демократических преобразований) воспринимать современные политические трансформации в духе одного линейного вектора – как ведущие от распада тех или иных разновидностей авторитаризма к постепенному выстраиванию модели консолидированной демократии либерального типа. Если угодно, это была своеобразная антикоммунистическая «перелицовка» «Манифеста Коммунистической партии»: все страны придут к торжеству либеральной демократии, только одни раньше, а другие – позже. Мировое политическое развитие (воспринимаемое как векторное, линейное) понималось в парадигме стадий демократизации – как если бы все «переходные» страны неизбежно проходят типологически единые фазы политического развития: эрозия и распад авторитаризма, режимная либерализация, институциональная демократизация, период неконсолидированной демократии, и, наконец, демократическая консолидация. Скорость их продвижения к цели, «телосу» (то есть к консолидированной либеральной демократии) считалась зависящей от совокупности внутренних и внешних обстоятельств, однако сам вектор движения (демократического транзита) не вызывал никаких сомнений. Получалось так, что есть лишь одна ось мирового времени и одна ось мировой истории. Социальнополитического «иного» в будущем просто нет. Пришло время, однако, задуматься над тем, всегда ли правы мы, рассуждая в терминах стадий «переходности» к демократии, когда пытаемся осмыслить траектории современного мирового политического развития. Куда, допустим, «переходят» Туркменистан и Белоруссия, Таджикистан и Казахстан? А сложившаяся система формирования и воспроизводства власти в России – готовы ли мы продолжать говорить о ней как о «переходном режиме»? Скорее всего, нет. Это вполне консолидированные режимы, «перешедшие» туда, куда в заданных условиях и с учетом конкретных обстоятельств они и могли «перейти». Основные политические институты в них в большинстве случаев уже отстроены и обеспечивают достаточно стабильное воспроизводство сложившейся системы властных отношений, оппозиция если не элиминирована, то не выступает в качестве влиятельного политического актора, обладающего реальным ресурсом политической конкурентоспособности. Гражданское общество в них недоразвито, право функционально по отношению к самому режиму Сложившиеся механизмы легитимации власти с учетом широкого использования «административного ресурса» минимизируют фактор неопределенности функционирующих институтов и осуществляемых процедур, прежде всего электоральных (это – как зеркальное отражение известной дефиниции демократии как «определенности процедур и неопределенности результатов»). Причем это отнюдь не означает завершения и прекращения реформ. Нет, реформы могут продолжаться, однако они принципиально ограничены заданными режимными рамками. Иными словами, это вовсе не «переходные», а уже вполне консолидированные режимы нового типа, которые никак не вписать в логику «растянутой демократизации». Просто вектор их политического развития оказался не совсем таким (а, точнее, совсем не таким), как предполагалось в линейной «транзитологической парадигме». Поэтому сейчас намного продуктивнее не продолжать рассуждать о возможностях их дальнейшего «перехода к демократии» (понимаемой как либеральная демократия), а разобраться в особенностях уже состоявшихся режимных изменений, которые получили вполне консолидированную и «не совсем» демократическую, а в целом ряде случаев и открыто автократическую форму. 7 По сути дела, мы сталкиваемся с интереснейшим, но еще не получившим адекватной концептуальной проработки феноменом. Это феномен трансформации и эволюции недемократических режимов одного типа (разных подтипов?) к недемократическим режимам иных разновидностей, а не векторного «перехода» к либеральной демократии. Он не просто взрывает логику линейного демократического транзита, но ставит нас перед лицом амбициозной исследовательской задачи – разработать новую концептуальную рамку современных режимных изменений и новую детализированную и дифференцированную типологию современных политических режимов. Сегодня много говорят о режимных «гибридах», о «режимах-мутантах», о «демократиях с прилагательными», к примеру, о демократии «управляемой», «делегативной», «электоральной», «авторитарной» и т. п. Однако проблема, говоря языком номальной логики, заключается не в атрибутивных характеристиках и свойствах («управляемая», «делегативная», «электоральная», «авторитарная»), а в самом «предикате», предмете, коим является «демократия». Поскольку во многих случаях (а то и в их большинстве) мы сталкиваемся с вполне уже состоявшимися, консолидированными и, быть может, за немногими исключениями недемократическими (по крайней мере, в классическом понимании) режимами, постольку и концептуализировать их мы должны в иной – недемократической – понятийной рамке. Раз так, то и в фокусе анализа должны оказаться не те или иные «прилагательные» к «демократии» (ее предполагаемые атрибуты), а сам предмет (предикат), который, строго говоря, не является демократией. Именно это сегодня уже начинают обсуждать отечественные и зарубежные аналитики, когда, в частности, пытаются определить и понять посткоммунистические и, прежде всего, постсоветские политические режимы (в том числе и нынешний российский) как разновидности «моноцентризма», «бюрократического авторитаризма», «военно-бюрократического авторитаризма», «электорального авторитаризма», «управляемого плюрализма», «конкурентного авторитаризма» и пр. И еще: идеал либеральной демократии часто трактуется в совершенно идиллическом ключе. Между тем сам либерализм, если угодно, это трагическая доктрина и не менее трагическая практика. Либерализм постулирует принципы, реализация которых в принципе недостижима. Конечно, либерализм в высшей степени толерантен. Но при этом как бы «внутри себя» он прекрасно знает, что такое «хорошо» и что такое «плохо». Он постулирует принципы, которые примирить если и возможно, то очень трудно. Либеральная демократия никогда не есть вседозволенность. Демократический порядок всегда иерархичен и основывается на эффективном государственном властвовании. Но оно никогда не является институализированным моно-властвованием. Источник и способ реализации либерального властвования всегда плюралистичны. Т. Ворожейкина: Я хотела бы высказаться относительно некоторых из проблем, поставленных Андреем Юрьевичем. Он, в частности, говорил о том, что либерализм постулирует принципы, примирить которые если и возможно, то очень трудно. С моей точки зрения, проблема заключается в следующем. В той мере, в какой либерализм оказался связан с теорией модернизации и с представлением о детерминированности политического развития экономическими и социальными процессами, из практического применения либеральной теории в целом ряде стран, включая Россию, следовали весьма авторитарные выводы. Поскольку исходным моментом считалось формирование рынка, постольку ставилась задача сначала сформировать рынок, а потом уже на его основе – развивать гражданское общество и политическую демократию. Отсюда – авторитарная «мутация» либерализма. В Латинской Америке 1970-х гг. ее принципы были сформулированы совершенно однозначно: экономический либерализм может существовать и реализовываться как программа только в условиях авторитарного политического режима. Мы эти идеи «донашивали» и до сих пор «донашиваем» в качестве, так сказать, теории переходного периода, постулирующей необходимость появления «российского Пиночета». Связанная с этим проблема, – это противостояние бюрократии и 8 неинституциализированной авторитарной власти, о котором говорил Андрей Юрьевич. Я бы сформулировала это как проблему соотношение институциализированных и неинституциализированных государственных структур. С моей точки зрения, признаком и необходимым условием наличия институтов является определенная степень публичности и деперсонализации существующих правил игры, даже если они неформальные. Система частной власти, в основе которой лежат оголенные властные отношения (Г О'Доннелл), не является институциональной. И в «третьем мире», и в России мы имеем дело с системами такой власти, которая принципиально сопротивляется институциализации. Я думаю, что авторитаризм вызван к жизни не политической культурой. Он является прямым следствием неинституциализированной власти, а именно – частных структур власти. С этим же связан вопрос о соотношении экономического развития, культуры и демократии. Меняется ли политическая культура под воздействием экономического развития? Очень интересной, с этой точки зрения, является статья Р. Инглхарта «Культура и демократия» из уже упомянутого мной сборника. Автор попытался выйти из порочного круга культурного детерминизма (если нет демократической политической культуры, то не появляются и институты демократии, которые воздействовали бы в направлении демократизации политической культуры). Но, с другой стороны, он стремится отойти от однолинейного детерминизма теории модернизации (культура, с этой точки зрения, вещь вторичная; если в экономике все будет развиваться правильно, то культура изменится). На мой взгляд, в большинстве стран, которые проходят через эти процессы, мы сталкиваемся с весьма очаговым развитием. Культура, действительно, меняется. Она меняется в значимых, часто очень влиятельных сегментах общества, но это отнюдь не все общество. Очаговый характер таких изменений создает своего рода провокацию для остального общества, на которое «частное», неинституализированное государство может опереться, чтобы этим изменениям противостоять. А. Мельвиль: Мне кажется, мы постепенно выходим на еще один проблемный слой, который стоило бы затронуть в нашей дискуссии. В качестве либералов (по крайней мере, в моем представлении) мы толерантны. Но при этом «внутри себя» знаем разницу между «плохим» и «хорошим». Согласитесь, что в каком-то смысле это связано с проблемой нормативности политического исследования, нормативности политического анализа. Опятьтаки готов обострить тезис в интересах дискуссии. На мой взгляд, политический анализ не может быть ненормативным. Я это по темпераменту своему исключаю. Другое дело, что эта нормативность должна быть сознательно вынесена за рамки конкретного политического анализа, хотя от нее и нельзя в полной мере абстрагироваться. Она присутствует как некая финальная оценочная компонента, как своего рода нравственный фон. Искусство политического анализа заключается в том, чтобы не вводить в него непосредственно нормативность в качестве переменной самой аналитической процедуры. Но делать вид, что ее не существует вовсе, лично я не могу. Возвращаясь к тому, о чем я говорил выше: да, действительно, аналитически чрезвычайно увлекательно типологизировать разновидности новых «недемократий». Но для себя, даже не вербализируя это, мы все-таки выстраиваем некий ценностный ранжир... Кстати, это относится и к вновь становящейся сегодня популярной идее авторитарной модернизации, которая, по мысли ее адептов, должна оправдывать торможение демократизации во имя концентрации ресурсов для экономического «прорыва». Т. Ворожейкина: Я хотела бы полностью солидаризироваться с тем, как Андрей Юрьевич поставил проблему нормативности политологических исследований в целом и сравнительной политики – в частности. Я тоже считаю, что в принципе исследование политическое и исследование сравнительно-политическое не может быть ненормативным. Сама претензия на ненормативность, на мой взгляд, почти всегда содержит недекларируемую, если можно так выразиться, нормативность. Я полностью согласна также с тем, что нужно максимально стремиться к тому, чтобы эту нормативность не делать переменной в анализе. Уже отмечалось, что мы нашу реальность исследуем, применяя чужие концептуальные схемы и 9 критерии, которые у нас нередко не работают. Это, действительно, проблема, но не проблема использования ценностных понятий, как здесь было сказано. Это – проблема научного инструментария, который, конечно, не нейтрален и связан с определенными нормативными понятиями. Я не представляю себе, как можно «не ценностно» исследовать что-то в социальных науках. Об истоках авторитаризма. Результаты фокус-групп представляют собой достаточно общий для исследований общественного мнения вывод: именно молодые и наиболее молодые группы населения в России в наибольшей мере склонны к авторитарной стилистике, к авторитарному восприятию политики и лидерства. Но означает ли это, Что мы имеем дело с характеристикой, условно говоря, «народного мышления» или политической культуры? Наблюдая взаимодействие власти и общества не только в России, но и в латиноамериканских странах, где мне доводилось жить и работать, я видела, что так называемое «народное сознание» сплошь и рядом формируется сверху через средства массовой информации. Так, в начале 1990-х гг. в России (в 1993-1994 гг.) власть вдруг озаботилась тем, что нам не хватает объединяющей национальной идеи. Эта идея, с точки зрения власть имущих, не могла быть институционально-демократической, либеральной (защита прав и свобод граждан). Она непременно должна была быть «национально-понятной» – или этнической, или этатистской (государственнической). Затем под это, опять-таки сверху, была подведена «теоретическая» аксиома о том, что нашей политической культуре традиционно свойственны авторитарные настроения». На такой основе был сформирован некий комплекс идей в средствах массовой информации, который активно начал внедряться в массовое сознание в качестве тех форм, в которые оно, в конечном счете, и отлилось. Мне кажется, что в социологических опросах нам в значительной мере возвращается то, что активно «продается» сверху через средства массовой информации. Иначе говоря, нужно подумать о том, что здесь первично. Здесь есть серьезнейшая методологическая проблема, потому что, действительно, массовое сознание вне тех рамок, которые ему предлагаются институтами власти и политической культурой, не существует. Но как здесь курицу от яйца отличить? Иначе мы вечно в этом порочном круге будем ходить. Кроме прочего, это означает, что необходимо очень серьезно исследовать не только мажоритарные, господствующие, но и миноритарные, маргинальные процессы в нашем общественном сознании. Еще я хотела бы сказать несколько слов об Институционализации авторитарных режимов. Да, действительно, есть ситуации, в которых авторитаризм существует как в достаточной мере институциализированная политическая система. На самом деле, я знаю только одну такую ситуацию. Это – пресловутый режим Пиночета, который существовал в стране, уникальной для Латинской Америки. Дело в том, что Чили, в отличие от всех остальных стран континента, существовала до переворота 1973 г. европейская или, точнее, латино-европейская система партийно-политического представительства. Имелся сильно организованный рабочий класс, были влиятельные средние слои соответственно, предпринимательские группы – национальные и наднациональные. На политическом уровне этому соответствовали две сильные рабочие партии (социалистическая и коммунистическая), сильная христианско-демократическая партия, представлявшая средние слои, и две достаточно слабые и малоструктурированные правые партии. Ничего подобного нигде в Латинской Америке не существовало. Наличествовало также государство, которое было в высшей степени институциализировано – в том смысле, что в Чили никогда не было коррупции латиноамериканского или российского типа. Если вы посмотрите на все данные по коррупции (в частности, «Transparency International»), вы увидите, что Чили занимает место гораздо выше, чем все остальные латиноамериканские страны и большинство восточноевропейских (я уже не говорю о России). Это означает, что в Чили в период авторитарного режима, во-первых, существовало государство, которое было отделено от частных экономических интересов. И в той мере, в какой 10 был ликвидирован госсектор (добыча меди, основного экспортного продукта, дольше всего оставалась в государственной собственности), государство превратилось, действительно, в политическую институциальную структуру, авторитарный характер которой находился, однако, в глубочайшем противоречии с национальными традициями политического развития. Демократия в Чили утвердилась не благодаря, а в значительной мере вопреки режиму Пиночета, потому что в этой стране демократическая партийно-политическая структура, хотя и в полузатопленном состоянии, пережила весь период 16-летнего авторитарного режима. После ухода Пиночета к власти сначала пришло правительство «Демократического согласия», в котором центральную роль играли Христианско-демократическая и Социалистическая партии, а затем – социалистическое правительство. Смысл этого примера заключается в том, что Чили – это единственная страна, где существовал институциализированный авторитаризм. Больше таких примеров я не знаю, и поэтому он мне представляется совсем не тем исключением, которое подтверждает правило. Прежде всего – с точки зрения отделения государства от частных экономических интересов. С этим, на мой взгляд, связана коренная проблема российского авторитаризма. Я бы так сказала: есть искушение, есть тенденция объяснить это «политической культурой народа» и сказать: «Ну вот, народ " нас такой, он все время хочет сильной руки». Но в начале 1990-х гг., когда, собственно, этот выбор и совершился (это произошло, по-моему, в 1993 г.), «сильной руки» хотел не народ – ее очень хотел либеральный истеблишмент. Он считал, что необходимо любой ценой и в кратчайшие сроки осуществить форсированную экономическую либерализацию, подчинив этому все остальные задачи, в частности, задачи политической демократизации, формирования гражданского общества и децентрализации процесса принятия решений. Считалось, что всем этим можно пренебречь, что можно рассматривать демократию не как проблему участия, а исключительно как проблему политического управления, и, соответственно, управляя таким образом сверху, осуществить форсированный переход к рынку Я глубоко убеждена в том, что с российским государством такой проект был изначально обречен на поражение, даже если согласиться с ним этически и нормативно. Я выношу в данном случае за скобки свое этическое неприятие человеческой цены пиночетовского режима и пытаюсь встать на точку зрения авторов российского проекта «авторитарной модернизации» (условно говоря, Чубайса). Но даже с этой точки зрения, данный проект был нереализуем. Причина заключается в том, что российское государство в его имперском, советском, постсоветском вариантах было и остается глубоко частным государством. Оно очень слабо институциализировано, в нем никогда не были разведены интересы власти (управления) и интересы собственности. Отсюда – нефункциональность российского авторитаризма для осуществления «пиночетовского» проекта. В этом смысле я согласна с тем, что сейчас мы имеем дело с попыткой возврата, восстановления, регенерации традиционной системы российской власти, для которой собственность вторична и является производной от власти. Эта реставрация мне представляется прямым следствием изначальной ориентации российских носителей экономического либерализма на модель авторитарного перехода к рынку, а не на "демократизацию политической, социальной и экономической систем. Да, конечно, выборы стали основным средством легитимации власти. Но природа власти не изменилась, отсюда – то устранение выбора из выборов, с которыми мы сейчас столкнулись. В «Новой газете» накануне парламентских выборов была опубликована заметка одного независимого кандидата из Воронежа. «Я много знаю о властной вертикали, – пишет он. – И, начиная с уровня сельской школы, все жители властной вертикали мне говорят: „Знаешь, мы к тебе очень хорошо относимся. Приходи вечером – мы чаю или пива попьем. Но вот в школу ты ко мне не приходи, потому что меня лишат финансирования"». Я думаю, что безальтернативные советские выборы или альтернативные выборы на основе такой вот властной вертикали совершенно одинаковы по своему политическому смыслу. А. Мельвиль: Вы, Татьяна Евгеньевна, очень интересно говорили о Пиночете и его 11 режиме. Я всегда хотел понять, как объяснить «казус Пиночета»: почему в какой-то момент он все же идет на выборы, которые обречен проиграть? Как это объяснить с точки зрения пусть эволюционирующей, но всей же внутренне совершенно авторитарной логики властвования? Т. Ворожейкина: Они думали, что выиграют. Они были уверены, что выиграют, потому что, начиная с 1986 г., экономика Чили переживала подъем. Чилийская модель радикальной экономической либерализации пережила очень серьезный кризис в 1982 г., когда правительство вынуждено было ренационализировать банковскую систему и часть крупнейших финансовопромышленных групп, монополизировавших приватизированные отрасли экономики. Кстати, после кризиса 1982 г. и было призвано новое поколение «чикагских» экономистовуправленцев. Они провели под руководством министра экономики Эрнана Бюхи институциональные преобразования, приведшие к устойчивому экономическому росту второй половины 1980-х гг. На первых после диктатуры демократических выборах Бюхи был главным кандидатом правых в президенты, и его сторонники были уверены, что он победит. Однако победило антипиночетовское «Демократическое согласие», хотя страна на каждых последующих выборах оказывалась расколота почти пополам. А. Мельвиль: Хорошо, если вновь заострить вопрос: почему после получения результатов выборов Пиночет не поступает, как пытался поступить, скажем, Шеварднадзе? Т. Ворожейкина: Результаты выборов не были отменены или фальсифицированы по двум причинам. Во-первых, авторитарный режим политически устойчив, пока он экономически эффективен для предпринимателей и средних слоев. Когда чилийский режим перестал быть экономически эффективным в 1982—1983 гг., народ вышел на улицу, и это привело к серьезнейшему политическому кризису, пошатнувшему поддержку режима со стороны вышеназванных социальных групп. Кроме того, очень важно, что был преодолен страх, а память об этом кризисе в 1989 г. была очень свежей. Во-вторых, референдуму 1988 г., на котором страна проголосовала за передачу власти демократически избранному правительству, а не за сохранение диктатуры, как предлагал Пиночет, и выборам конца 1989 г. предшествовали серьезные и длительные переговоры с оппозицией. В ходе этих переговоров оппозиция ясно дала понять, что режим не сможет осуществить избирательный подлог без большого кровопролития. А. Мельвиль: Татьяна Евгеньевна, а что, если нам затронуть еще один сюжет, который напрямую связан с общей темой нашей беседы? А именно: каковы перспективы развития современной сравнительной политологии – и у нас, в России, и за рубежом? В нашем сообществе существует, в частности, мнение о том, что политическая компаративистика сегодня пребывает, если угодно, в затяжной «депрессии». М.В. Ильин часто артикулирует эту точку зрения. Я с ним в целом согласен, но, быть может, существуют иные взгляды? Если она все же верна, то каковы перспективы выхода из этого состояния теоретикометодологической «депрессии»? Я, например, обратил Ваше внимание на один предположительный вектор этой эволюции – в направлении предметного и методологического сближения с мировой политикой. Естественно, это отнюдь не единственная траектория развития политической компаративистики. Кроме того, как мне кажется, эффективно развиваются некоторые направления микрополитических сравнительных исследований (региональные политические процессы, региональные политические элиты и т. д.). По всей видимости, есть неплохие перспективы приращения и обогащения сравнительного знания на направлении изучения проблематики современного политического развития (опять-таки на стыке национальных, субнациональных и транснациональных процессов). Сюда же я бы отнес и проблематику типологии новых разновидностей политических режимов. Конечно, остаются и классические проблемы сравнительной политологии – скажем, относящиеся к соотношению между ее предметом и методом. Как найти адекватное определение для этого? Т. Ворожейкина: Такое определение существует. Есть известное определение А. Лейпхарта, согласно которому «сравнительная политика – это сфера политической науки, 12 которая определяется не предметом, а методом». По поводу направлений, в которых, с моей точки зрения, должна двигаться сравнительная политология, я могу сказать следующее. В течение последних десяти лет я постоянно ощущаю, что изучение того, что называется «политика» (понимаемая как отношения по поводу власти и властных институтов), становится не только малопродуктивным, но и бессмысленным в силу общемирового феномена превращения политики в некую имитационную сферу, т. н. «light politics». B этой «облегченной», «низкокалорийной» сфере осуществляются некие действия, модели, имитирующие в одних случаях процессы участия, в других – процессы прямой манипуляции. Я думаю, что, например, избрание Шварценеггера губернатором Калифорнии – одно из ярких появлений «light politics». В России к этому добавляется еще одно простое обстоятельство: начиная с середины 1990-х гг., политика свелась к сфере управления и потеряла публичный характер, в результате чего собственно политическая сфера съежилась, как шагреневая кожа. Каждый раз после просмотра теленовостей и чтения газет я себя спрашиваю: «Неужели это то, что я изучаю?» Если они это называют «политикой», то мне это совершенно не интересно. И даже более того. Выход из этой ситуации я вижу в междисциплинарной переориентации сравнительных политических исследований. Я, в частности, пытаюсь понять, что происходит в тех сферах общества, которые не находят своего выражения в «облегченной» политической сфере. Это, на мой взгляд, не область собственно социологии и даже не область политической социологии. Это – область взаимодействия. Я ее – не знаю, удачно или нет, – обозначила как взаимодействие государства и общества, власти и общества. Ряд моих латиноамериканских коллег занимаются тем же самым. Люди пытаются посмотреть за пределы собственно политического, чтобы понять, что и почему происходит в политической сфере. Я думаю, многим исследователям скучно заниматься анализом тех «над- и под-коверных» движений, о которых сообщают (или умалчивают) средства массовой информации и которыми в общем-то большинство наших политических аналитиков и экспертов как раз и увлеклось. В этой связи – о методах. Мне кажется, что дискуссия о методах в отрыве от содержательных проблем сравнительной политики бессмысленна. Я не знаю, как создать алгоритм сравнительного исследования. Приводят таблицы и рейтинги демократизации в различных странах. Прошу прощения, но мне сопоставление по формальным признакам кажется совершенно пустым занятием. Я всегда привожу такой пример студентам: «Если регулярность выборов – это один из признаков демократии, то не было в Латинской Америке более демократичных стран, чем центральноамериканские диктатуры». Нигде на протяжении XX в. так регулярно выборы не проходили, причем конкурентные выборы. Только власть в это время была совсем в другом месте. Повторюсь: дискуссия о методологии, по моему убеждению, должна быть связана с содержательными проблемами. А. Мельвиль: Опять-таки согласен с Вами, Татьяна Евгеньевна. Но интересно бы узнать, как все, о чем Вы говорили, реализуется в Вашей педагогической практике? Т. Ворожейкина: В Московской высшей школе социальных и экономических наук я читаю магистерский курс, который называется «Сравнительная политика». До последнего времени он назывался «Современные политические системы», одновременно выполняя роль «Основ политологии» и «Теории политики». Это – обобщающий курс, который включает основные проблемы теории и методологии сравнительной политики и case studies. Составляя этот курс, я оттолкнулась от структуры учебника по редакцией Г. Алмонда и Дж. Пауэлла «Comparative Politics Today», существенно изменив, однако, набор проблем, которые изучаются в теоретической части курса. Я добавила очень важные для меня разделы, посвященные социальному капиталу и проблемам коллективного действия, гражданскому обществу, демократизации, политическому развитию. Последняя проблема в данном учебнике реально не ставится и ставиться не может, поскольку структурно-функциональный подход ориентирован больше на статику, чем на изменения. Я старалась построить курс таким образом, чтобы студенты по мере его разворачивания понимали достоинства и недостатки 13 различных методологических подходов и объяснительных схем. Сначала это структурнофункциональный подход, затем культурологический, институциональный, теории государства, теории развития. Собственно методологическое обсуждение я каждый раз «заземляю» на разбираемые нами сюжеты, построив соответствующим образом структуру курсa. Названный учебник я часто использую как предмет отталкивания, предмет для критики. Но от учебника никуда не уйдешь, особенно в начале курса, поскольку студенты приходят в нашу годичную программу с разным уровнем подготовки, им необходим некий минимум знаний. Я говорю студентам: «Если вам это известно – не читайте, но этот минимум нужно знать». По мере продвижения, я увеличиваю число научных статей, включающих разные подходы и обязательных для подготовки к занятиям. Я считаю, что case studies должны быть обязательной составной частью курса по сравнительной политике, иначе остается непонятным, как теоретические проблемы воплощаются в реалиях различных стран политических систем. В этой связи у меня встречный вопрос к Андрею Юрьевичу. Зачем нужно выделять «Сравнительную политику» из теории политики, ведь речь по сути дела идет о сравнительных аспектах теории политики? А Мельвиль: А я ведь как раз об этом и говорил – не может политическая наука, строго говоря, не быть сравнительной (хотя бы в том или ином аспекте). Конечно, если вынести за скобки ее нормативную слагаемую (политическая философия и др.). Но в моем представлении все же курсы по сравнительной политологии должны быть более «предметными», нежели «пролегомены» к политической науке как таковой. Мы, на факультете политологии МГИМО, пытаемся решить эту проблему следующим образом. Государственный стандарт обязывает нас читать вводный курс по теории политики. Его содержание – предмет и метод политологии, политическая власть, политическая жизнь, политическая система, институциональные основания политики, политические отношения и процессы, субъекты политики, политическое лидерство, политическая культура, политическая идеология, политические изменения. Теперь скажите мне: что-нибудь из этого можно изложить в несравнительной перспективе? В том же стандарте есть обязательный курс сравнительной политологии. Причем по содержанию это практически или, по крайней мере, в очень значительной степени то же самое, что и в курсе теории политики. Это – искусственная схема. У меня есть предположение, как такая ситуация сложилась. Вспомните сами – начало 1990-х гг., российская политология становится интеллектуальной модой, но в своем «массовидном» варианте в значительной мере связана «пуповиной» с научным коммунизмом и марксизмом-ленинизмом. Происходит перелицовка абстрактно-схоластической схемы основ марксизма-ленинизма в столь же отвлеченную от реальной жизни схему основ политологии. Тот же самый абстрактнонормативный подход. И эту схоластическую понятийную рамку ни к чему реальному политическому, «живому» не приложишь. Сегодня у нас обновленный, хотя и совсем не радикально, стандарт. Но и он безумно далек от реальной жизни, в частности, от требований болонского процесса. Мы в МГИМО стараемся читать курс теории политики (фактически, те же самые основы политологии) как изначально компаративный. Курс сравнительной политологии у нас в основном методологический. Но в параллель к нему идет большой, трехсеместровый и вполне конкретный курс – политические системы и политические культуры стран Запада и Востока (в сравнительной перспективе). Он-то и дает студентам столь необходимую предметную фактуру, без которой компаративистика жить просто не может. А вот под этим своего рода «зонтиком» мы далее выстраиваем уже более специальные курсы – парламентские и президентские системы в сравнительной перспективе, сравнительный анализ партийных систем, федерализм в сравнительной перспективе и т. д. При этом – в соответствии с «брендом» МГИМО и общей логикой развития современной сравнительной политологии – мы самое пристальное внимание уделяем внешним, международным факторам внутриполитических процессов, стремимся к сочетанию подходов сравнительной политологии и мировой политики, хотя до их органичного синтеза еще очень далеко. 14