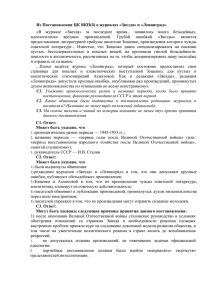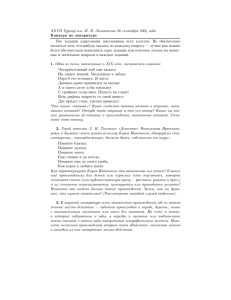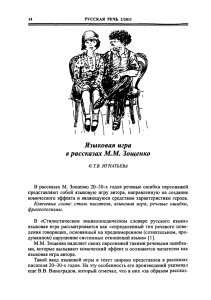Николай Романович Скалон «Свобода» бессознательного и
advertisement
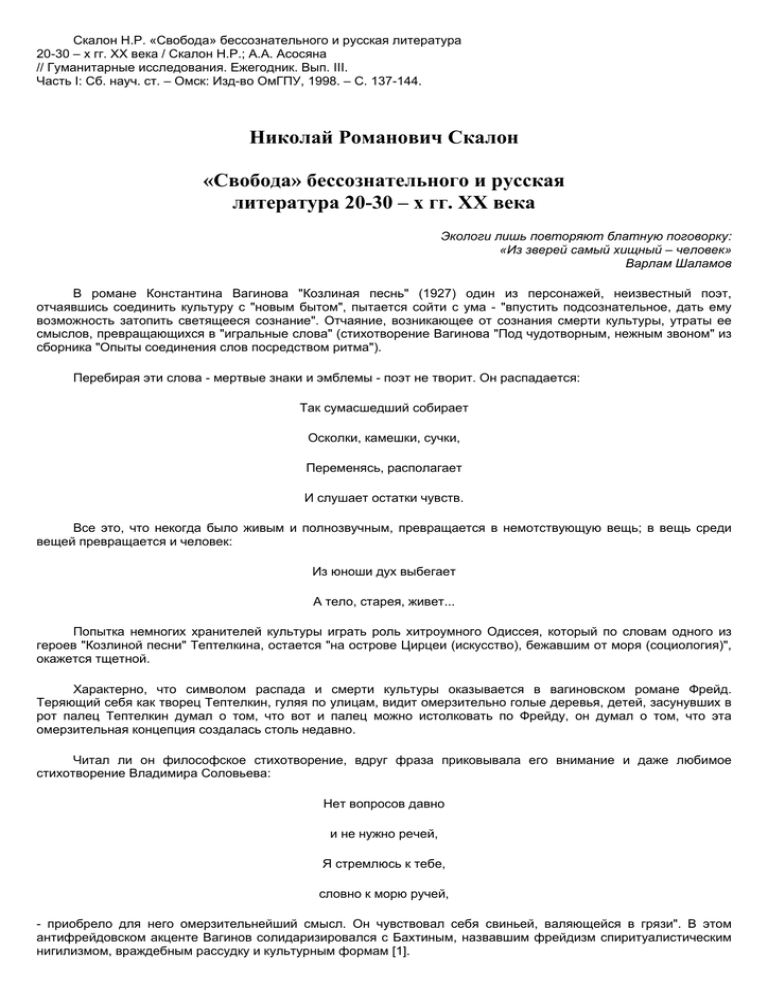
Скалон Н.Р. «Свобода» бессознательного и русская литература 20-30 – х гг. ХХ века / Скалон Н.Р.; А.А. Асосяна // Гуманитарные исследования. Ежегодник. Вып. III. Часть I: Сб. науч. ст. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 1998. – С. 137-144. Николай Романович Скалон «Свобода» бессознательного и русская литература 20-30 – х гг. ХХ века Экологи лишь повторяют блатную поговорку: «Из зверей самый хищный – человек» Варлам Шаламов В романе Константина Вагинова "Козлиная песнь" (1927) один из персонажей, неизвестный поэт, отчаявшись соединить культуру с "новым бытом", пытается сойти с ума - "впустить подсознательное, дать ему возможность затопить светящееся сознание". Отчаяние, возникающее от сознания смерти культуры, утраты ее смыслов, превращающихся в "игральные слова" (стихотворение Вагинова "Под чудотворным, нежным звоном" из сборника "Опыты соединения слов посредством ритма"). Перебирая эти слова - мертвые знаки и эмблемы - поэт не творит. Он распадается: Так сумасшедший собирает Осколки, камешки, сучки, Переменясь, располагает И слушает остатки чувств. Все это, что некогда было живым и полнозвучным, превращается в немотствующую вещь; в вещь среди вещей превращается и человек: Из юноши дух выбегает А тело, старея, живет... Попытка немногих хранителей культуры играть роль хитроумного Одиссея, который по словам одного из героев "Козлиной песни" Тептелкина, остается "на острове Цирцеи (искусство), бежавшим от моря (социология)", окажется тщетной. Характерно, что символом распада и смерти культуры оказывается в вагиновском романе Фрейд. Теряющий себя как творец Тептелкин, гуляя по улицам, видит омерзительно голые деревья, детей, засунувших в рот палец Тептелкин думал о том, что вот и палец можно истолковать по Фрейду, он думал о том, что эта омерзительная концепция создалась столь недавно. Читал ли он философское стихотворение, вдруг фраза приковывала его внимание и даже любимое стихотворение Владимира Соловьева: Нет вопросов давно и не нужно речей, Я стремлюсь к тебе, словно к морю ручей, - приобрело для него омерзительнейший смысл. Он чувствовал себя свиньей, валяющейся в грязи". В этом антифрейдовском акценте Вагинов солидаризировался с Бахтиным, назвавшим фрейдизм спиритуалистическим нигилизмом, враждебным рассудку и культурным формам [1]. Что же касается ситуации, в которой оказался Тептелкин, то ее объяснение опять-таки обнаруживается у Бахтина, писавшего во "Фрейдизме": "Чем шире и глубже разрыв между официальным и неофициальным сознанием, тем труднее мотивам внутренней речи перейти во внешнюю речь, чтоб оформиться, уясниться и окрепнуть. Такие мотивы начнут 137 хиреть, терять свое словесное обличие и мало-помалу действительно превращаются в "чужеродное тело" в психике. Целые группы органических проявлений могут оказаться таким путем выключенными из пределов вербализованного поведения, могут стать асоциальными. Так расширяется сфера "животного" в человеке, асоциального в нем" [2]. Трактовка Бахтиным фрейдизма как апологии "голой природности" [3], разрушающей все "факты сознания", а его носителей превращающих в социальных изгоев оказывалась "общим местом" для высоких явлений русской и европейской культуры XX века. Известно, например, резко отрицательное отношение к Фрейду Владимира Набокова, И. Хейзинга перекликался с Набоковым, когда утверждают, что "снижению масштабов критического суждения... в немалой степени способствовало течение мысли, которое можно назвать по имени Зигмунда Фрейда". Характеристика, данная Набоковым сторонникам психоанализа ("венские мистики"), по-своему развита Хейзингой, увидевшего во фрейдизме "совершенно готовый и годный для всех и каждого инструментарий мышления" для широкой массы "людей с низким критическим уровнем" [4]. Виталистский напор эпохи "восстания масс" как бы заставлял и науку, и культуру освящать энергию, таящуюся в теле ("соме"). Олешинские толстяки (и в знаменитой сказке, и в "Зависти") персонифицировали подобную сакрализацию тела. Но тела оказывались обильными, а чресла - пустыми: детей у толстяков нет. И у них нет души. Усыновляемых воспитанников они превращают в кукол или машины. Оборотной стороной виталистской воли к радостям жизни оказывается обездушенная механистичность взаимоотношений, исключающая подлинную детскость, фантазию, любовь, искусство, поэзию. Гротескные "Столбцы" Николая Заболоцкого тоже воплотили в себе нерассуждающее торжество соматизма. При всей пряности физиологических акцентов, "Столбцы" лишены выхода в сферу "необузданной карнавальной свободы" (Бахтин), поскольку "низ" (тело) отсечен от "верха": осознания своей исторической, социальной, культурной относительности нет. Напротив, "брюхо" утверждает себя как начало абсолютное и неизбывное С абсолютизацией соматизма (как одной из тенденций социальной и культурной жизни 20-30-х годов) связана и поэтизация блатного мира, проявившаяся и в "высокой", и "массовой" литературе тех лет (от "Одесских рассказов" И. Бабеля до "Записок следователя" Л. Шейнина). Одним из предтеч подобной поэтизации оказался Горький, создатель "Челкаша" (на это особое внимание обратил Варлам Шаламов как автор "Очерков преступного мира"). Челкаш, созданный не без влияния Ницше с его оправданием "дионисического подполья мира", воплощал в себе протест не просто против социальной данности как таковой. Он - "голая природность", отрицающая всю совокупность традиционных ценностей. И в произведениях, в которых "подполье мира" было так или иначе возвеличено, действительно сказался (по словам Бахтина) "абсурд современного дионисийства" [5]: формирование "нового человека", носителя "высокого сознания", требовало индивида, выпавшего не только из существовавших социальных ячеек, и из сферы сознания и культуры, из преемственности этических и религиозных ценностей. Инверсию этих ценностей и осуществлял, наряду с Ницше, Фрейд. Не случайно, в частности, что Луначарский по-своему апологетизировал влияние Ницше на Горького, когда писал: 138 "Горький ничем не заявлял, чтобы он был марксистом или ницшенистом, но между Марксом, Горьким и Нищие есть нечто общее, и это-то общее есть знамение нашего времени: борьба угнетенного класса за права свои, за жизнь, достойную человека...; провозглашение права на полное самоопределение, гордый вызов обществу и его устоям, подчеркивание прав личности на совершенствование и радость жизни (торчества) - вот то, что привлекает нас в Ницше, и ту же требовательность от жизни, тот же протестующий дух видим мы у Горького..." [6]. В противовес подобному утверждению героической одержимости тот же Вагинов совершал своеобразную инверсию ницшевской трактовки рождения трагедии. Герои его романа свою "козлиную песнь" пытались уберечь от "экстатических звуков дионисического торжества" (Ницше), противопоставив им аполлоническую меру творческого смыслопорождения. Но вместо меры и гармонии возникает образ сгорающего на костре Феникса, а художник осознавал себя "соловьем, слегка разложенным, слегка оканемелым" ("Опыты соединения слов посредством ритма"). Возрождения из пепла, трансформации хаоса в гармонию не получалось. Трагедия не рождалась, а исчезала. И зощенковская повесть "Коза" реализовывала подобный мотив. А. Синявский справедливо отметил, что "повесть Зощенко, помимо прочего, - это трагедия о козе или трагедия о человеке, потерявшем свое божество в виде козы, божество плодородия" [7]. Однако критик делал психоаналитический акцент в трактовке значения образа козы, утверждая, что в нем отразились неврозы писателя, страдавшего, в частности, отвращением к пище. Отчасти это, конечно, верно, но культурологический смысл зощенковского "дифирамба" иной: коза перестает восприниматься как прасимвод дионисийства, в социальном плане уже захлестнувшем действительность. Коза в восприятии героя повести, Забежкина - эго "простой" знак дома, материализация "обывательской" мечты о тепле и уюте, о прочности и защищенности существования. Но забежать в дом Забежкину так и не удается... Здесь опять-таки бросается в глаза констатация изживания трагического, обусловленного общим кризисом сознания и аннигиляцией традиционных гуманистический ценностей. У Зощенко находим и другое подтверждение для этого вывода. В цикле "Рассказов о Ленине" есть история названная "Серенький козлик". В рассказе два героя - Володя и Митя Ульяновы. Если Володя "почти никогда не плакал", то Митя "был очень уж жалостливый". И когда Митя слушал песенку о козлике, о его рожках да ножках, то всегда плакал. И Володя взялся отучить младшего брата от жалости ("дети должны быть храбрыми"). И преуспел в этом. "Безумство храбрых", настроенных беспощадно по отношению к жалости и состраданию, снимало традиционную для русской литературы тему "маленького человека". Такового просто не должно было быть. И он исчезал. Как Забежкин. Отмечу кстати, что замечательная книга пародий "Парнас дыбом", вышедшая в 1925 году, строилась и на парафразах "серенького козлика". Мифологема козы становилась очень распространенной, свидетельствуя об активной переакцентуации смыслового поля культуры, его "вздыбленности". В культуре сочетались, по замечанию А.В. Ахутина, "мертвые слои "ницшеанской" архаики и "винкельмановской" классики" [8]. Апология хаоса, равно как и апология, по выражению философа, сверхчеловечески умного порядка вещей", 139 исключает личностное сознание, его ответственность. Исследуя процесс открытия сознания, осуществленный древнегреческой трагедией, А.В. Ахутин (концептуально следуя за Бахтиным) подчеркивал, что значение "трагедии в том, что благо (истинность, законность, справедливость) нельзя однажды и навсегда получить как некую вещь, которую оставалось бы только охранять от посягательств. В этом смысле человеческое устроение в корне неблагополучно, чем более утверждается в нем нечто в качестве полученного, обретенного раз и навсегда блага ... Для человека быть в своем начале, значит, пребывать в сознании: в трудном бдении и бодрствовании извечного начинания, изначального суждения, суда, пересматривающего все с самого начала" [9] Погруженность же в "бытийный поток" (что санкционировалось оправданием витализма и органицизма разнообразными явлениями философии и культуры) лишало личное сознание укорененности и, соответственно, трагичности. Проблема "пребывания в сознании" становится центральной в повести М. Зощенко "Перед восходом солнца" [10]. Преодолевая разрыв между "высшими" и "низшими" этажами культуры (в повести это одновременно соотносится и с мозгом и наследственными рефлексами, и с сознанием и бессознательным), Зощенко - в лице автора-героя произведения -признавал себя носителем и наследником трагического для культуры противоречия, когда "поэты писали стишки о цветках и птичках, а наряду с этим ходили дикие, неграмотные и даже страшные люди" [II]. Противоречия, которые Н. Бердяев, сам принадлежащий к серебряному веку русской культуры, определил как преобладание Эроса над Логосом. Говоря об ивановских "средах", философ отмечал: "На "башне" велись утонченные разговоры самой культуры элиты, а внизу бушевала революция". И "единственное, что верно, так это существование подпочвенной связи между дионисической революционной стихией эпохи и дионисическими течениями в литературе" [12]. Признавая свою индивидуальную сопричастность этому противоречию, Зощенко, погружаясь в самоанализ, объективно становился и аналитиком культуры. Подчиняя ее рассудочному анализу, писатель восходил к разуму, к идее иерархичности бытия, и, следовательно, к признанию ею целесообразности [13]. "Случай" - это самая древняя аристократия мира, ее возвратил я всем вещам, я избавил их от подчинения цели", - говорит Заратустра у Ницше в главке, которая называется "Перед восходом солнца" [14]. Своей апологией "игры случая" немецкий философ обозначил не только разрыв с классической системой ценностей (от научных до религиозных), но и выразил ситуацию неустойчивости мира, предчувствия катастрофических потрясений, которые ожидают XX век, внес вклад в парадигму современного познания, отказавшегося от позитивистской веры в поступательное развитие прогресса, разглядевшего универсальную взаимосвязь микро- и макропроцессов в природе и социуме, хрупкость равновесия в них. Но в контексте дионисическпх порывов и плясов, которыми увлеклась культура, о которой говорил Бердяев, "игра случая" обернулась целью без целесообразности: пляшущий скиф (если вспомнить название одного из стихотворений Вяч. Иванова) двинулся из сферы эстетической в "реально-практическую. А это заставило "маленьких интеллигентов", героев зощенковских "Сентиментальных повестей", остро пережить свою социальную ненужность, вынудило, как Котофеева из 140 "Страшной ночи", задаться вопросом - не есть ли случайность вся его жизнь? - и затосковать о прочности, твердости, незыблемости миропорядка. Социальные ячейки были разрушены (что смутно понимает даже Назар Ильич Синебрюхов), и человек оказался лишь частицей "броуновского движения"... Один из персонажей рассказа 19-21 годов "Война", интеллигент Илья Ильич, эту свою вовлеченность в тотальную цепь случайностей, определяет замечательной формулой - "великое - "все равно". И одною из причин такого отчаяния сознания явилась традиция верить в преображение жизни духом ценою отказа рассматривать человека в его многомерности (в том числе и социальной). "Дух, а не тело - вот в чем наша забота, наша красота" - говорит "знаменитый адвокат Н." в одной из главок повести "Перед восходом солнца". А тело у адвоката чахлое, грудь чахоточная, а руки "худые и безжизненные"... Ницше (повесть "Возвращенная молодость") при всей своей незаурядности, проявлял "такое варварское отношение к своему телу и мозгу, что мы никак не можем признать ум Ницше "высшим проявлением человеческой возможности". В этом контексте и Волосатов, герой "Возвращенной молодости", " профессор и звездочет", "мечтатель и фантазер", "не любящий... пошлой действительности", оказывается романтиком ницшеанского толка; "он был в душе горячим и пламенным революционером, пока не пришла революция. И он мечтал о равенстве и братстве, пока не наступило социальное переустройство". Соотносимое с мечтательством и фантазерством "социальное переустройство" обернулось столь неожиданной стороной в своей "голой правде", что к ее аналитическому снятию носители духа, алкавшие "первоначальной красоты", оказались не готовы. И в действительности, которая характеризовалась, по удачному выражению В.В. Виноградова, "нивелировкой культурных высот" [15], разум обнаружил свою трагическую неукорененность. Он лишился общественных и социальных институтов для подобного укоренения. Несоответствие провозглашаемого идеала практике существования оказалось не только свидетельством утрачиваемой культурой своей жизненной универсальности, но и стало условием своеобразной реабилитации обывательского отрицания культуры вообще. История поэта А. Т-ва (Тинякова), рассказанная в повести, подтверждает такую взаимосвязь. До революции поэт, сообразно моде, воспевают дев, ланиты и цветы. А потом опустился до сочинения циничных стихотворений, где провозглашалось, что ради "пищи сладкой, пищи вкусной" автор готов совершить "любой поступок гнусный". И это - не просто эпатирующий поэтический жест, но прямое выражение реального жизненного поведения поэта. "Непрочная красота,... декоративность, изящество" были сброшены, как мишура, и поэт стал таким, каким и был на самом деле, - голым, нищим, омерзительным ". Такая метаморфоза реальной судьбы - своеобразное эмпирическое воплощение известной декларации М.О .Гершензона из "Переписки из двух углов": "... В последнее время мне тягостны, как досадное бремя, как слишком тяжелая, слишком душная одежда, все умственные достижения человечества, все накопленное веками и закрепленное богатство постижений, знаний и ценностей. ... Мне кажется: какое бы счастье кинуться в Лету, чтобы бесследно смылась с души память о всех религиях и философских системах, обо всех знаниях, искусствах, поэзии, и выйти на берег нагим, как первый человек, 141 нагим, легким и радостным, и вольно выпрямить и поднять к небу обнаженные руки, помня из прошлого только одно - как было тяжело и душно в тех одеждах, и как легко без них" [16]. Порыв к предельной естественности человеческого существования (нагота) объективно свидетельствует о неестественном функционировании культуры, ощущаемой в кризисные моменты как тяжелый груз и обуза. Но эта усталость культуры (ее определенного типа) оказывалась благодатным условием для экспансии разрушительных импульсов. Символично, что Зощенко писал повесть "Перед восходом солнца" (в защиту разума и его прав) в годы войны. Писал о достоинстве разумной личности, обязанной преодолеть свой страх перед иррациональными событиями века. Несправедливо, с этой точки зрения, утверждение Дм. Молдавского, что в повести "биологическое, подсознательное не просто заявило о своем праве на место в литературе, но потеснило социальное" [17]. Напротив, именно социальное право разумной личности отстаивал писатель своей повестью, объективно придавая ей трагическую несвоевременность, неустойчивость равновесия между "императивом" ("Солнечный свет") и наличным существованием (человеком в конкретно-социальной ситуации его жизни). Не сказалась ли эта несвоевременность и в том, что Зощенко действительно оказался и псевдофрейдистом, и "псевдопавловистом", на что указал в своей статье "Элементы фрейдизма в "Перед восходом солнца" Зощенко" Томас Ходж? [18]. Только для Ходжа (показавшего в своей работе факты бесспорного освоения писателем учения Фрейда, использования в повести процедур и принципов самоанализа) зощеновская непоследовательность, уклончивость, проявившаяся в декларировании превосходства павловского учения над фрейдизмом (вплоть до сближения последнего с фашизмом) явилась следствием конформизма писателя, демонстрацией разрушительного эффекта от "вторжения официальной идеологии в уникальное восприятие писателем его собственной жизни, страдания и исцеления" [19]. Но стало бы это восприятие более уникальным, если бы Зощенко продемонстрировал своей повестью полное превосходство психоанализа над учением Павлова? Т. Ходж (такова логика его статьи) на этот вопрос отвечает положительно; сам факт неуклонного следования за Фрейдом избавил бы повесть от воздействия "официальной идеологии". Но не получили бы мы тогда в лице писателя очередного фрейдиста, а не создателя произведения, обладающего неповторимой художественной структурой? Неповторимой в силу своей невероятной эстетической напряженности - в усилии удержать индивидуальное сознание, не отдавая его всецело не только официальной, но и неофициальной идеологии. Ведь "бессознательное" для Зощенко, в сущности, всегда было синонимом "бескультурности". Характерна одна из записей писателя 40-х годов: "Некультурный человек. У него идея - не надо сознания" [20]. "Не надо сознания" означает, что "некультурный человек" "бессознательно" мимикрирует, приспосабливается, снимая с себя всякую ответственность, признавая лишь культ силы и власти. Вот цена, как писал Бахтин в своей антифрейдистской книге, "разоблачительства "высокого" и "идеального" путем сведения его к "низменному", "животному" [2]. Историческая амбивалентность официальной и неофициальной идеологии была остро прочувствована Зощенко. В 142 тех же записях 40-х годов набрасывается фабула предполагаемой театральной пьесы: "Хотел прославиться, получить орден и положение. В буржуазной стране он бы разбогател (спекуляция). А тут бы он начал спекулировать искусством, политикой" [22]. У предполагаемого героя не только отсутствуют нравственные принципы. Им отбрасывается сознание и все то, что оформляет сознание, его "архитектонику" (искусство, в частности). Остаются только животные рефлексы, соматические инстинкты... А "психологизацию соматического" выделял в учении Фрейда Бахтин [23]. Повесть "Перед восходом солнца", волею судеб ставшая, фактически итоговым произведением писателя, как бы вернулась к той проблематике, с которой был начат творческий путь. В статье о Блоке "Конец Рыцаря Печального Образа" (1919) поэма "Двенадцать" в рассуждениях Зощенко замыкает огромный круг - от Прекрасной Дамы до реальнейшей Катьки, являя собою рождение героического эпоса "с примитивом во всем, с элементарнейшими чувствами" - как у Петрухи, убившего Катьку. Против подобной героизации примитива и элементарнейших чувств и направлен скрытый пафос повести Зощенко (а в целом - и все его творчество). ...Девятая глава самой личной его книги названа (в перекличку со знаменитым романом Лакло) "Опасные связи". Апология рассудочности легко оборачивается апологией инстинкта; опасность эта всегда в наличии, и всегда губительна для нормального сознания, сумевшего, однако, донести "живой голос цельного человека" (Бахтин). Цельного хотя бы в возможности освободиться от понимания свободы как "свободы от"... и вернуться в мир, к которому приложимы категории смысла и целесообразности. Это трудно. Как говорил один из рассказчиков у Зощенко, "в наши бурные годы даже совестно, прямо даже неловко выступать с такими ничтожными идеями, с такими будничными разговорами об отдельном незначительном человеке". Впрочем, никому не удавалось говорить о свободе - "ловко"... Библиографические примечания 1. Волошпиов В.Н. (М.М.Бахтин). Фрейдизм. Лабиринт: 1993. С.104-105. Входившая в окружение Бахтина в Невада (1918 г.) знаменитая пианистка М.В. Юдина, характеризуя свои литературные пристрастия:, писала: "Кафка, как и многие западные писатели XX века, испорчен психоанализом (Даже у Рильке есть эта червоточина, хотя у него встречаются и вещи совершенно чистые - рассказ "Швея"). Возьмите "Замок". Это как хождение по аду. Почему я должна оставаться в ней? Данте же выводит нас из ада к свету... Во всем Кафке мне нравится только сцена в соборе из "Процесса" (Мария Вениаминовна Юдина. Статьи, воспоминания, материалы. - М.: Сов. композитор, 1978. С. 305). 2. Там же. С.89. 3. Там же. С.90. 4. Хейзинга И. Homo Ludens. - М.: Прогресс-Академия, 1992. С.286. 5. Бахтин М.М. К философии поступка // Философия и социология науки и техники; Ежегодник 1984-1985. С. II 9. Очевидно, что для Бахтина "современное дионисийство" включает в себя и ницшеанство, и фрейдизм. 6. Луначарский А.В. Собр. соч. в 8-ми томах. - М.: 1963-1967. T.I. С.289. 7. Синявский А. Мифы Михаила Зощенко. - Вопросы литературы, 1989, № 2. С.58. 8. АхутинА.В. Открытие сознания (древнегреческая традиция) //Человек и культура. - М.: Наука, 1990. С.40. 9. Там же. С.38. 10. Подробнее о проблеме сознания в повести М. Зощенко см.: Скалой Н.Р. Вещь и слово. - Алма-Ата: Гылым, 1991. 11. Литературное наследство. Т. 70. - М.:Наука, 1969. С.162. 12. Бердяев Н. Самопознание. Опыт философской биографии. – М.: Мысль, 1991. С.135, 139-140. 13. В замыкающей повесть парафразе стихотворения древнегреческой поэтессы Праксиллы (в переводе В. Вересаева): Вот, что прекрасней всего из того, что я в мире оставил: Первое - солнечный свет, второе искусство и разум, - выстраивается иерархия ценностей, ориентированная на "Вакхическую песнь" Пушкина: природа - разум - искусство - солнечный свет... 14. Ницше Ф. Соч. в 2-х тт. - М.: Мысль, 1990. Т.2. C.I 18. 15. См: Михаил Зощенко. Статьи и материалы. - Л.: Academia, 1928. С.75. 15. Иванов Вяч. Гершензон М.О. Переписка из двух углов. - Пг.: Алконост, 1921. С.13. 16. Молдавский Дм. Михаил Зощенко. Очерк творчества. - Л.: Сов. писатель, 1977. С.248. 17. Лицо и маска Михаила Зощенко. - М.: Олимп-ППП, 1994. С.278. 18. Там же. 19. Там же. С. 123. 20. Волошинов В.Н. (М.М. Бахтин). Фрейдизм... С. 104. 21. Лицо и маска Михаила Зощенко... С.123. 22. Волошинов В.Н. (М.М.Бахтин). Фрейдизм... 69.