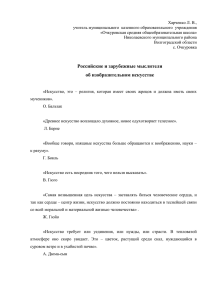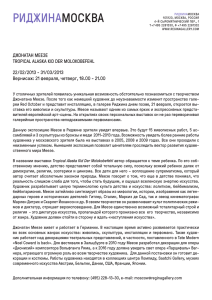1 В художественной жизни Запада 60—70
advertisement
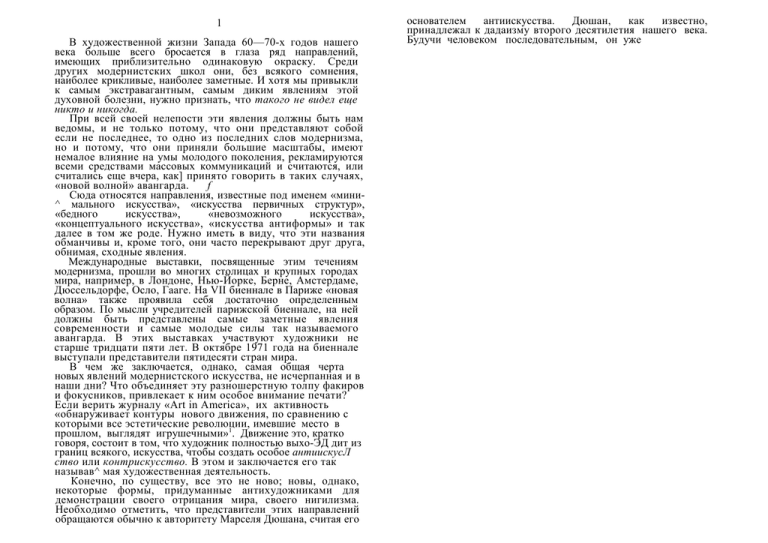
1 В художественной жизни Запада 60—70-х годов нашего века больше всего бросается в глаза ряд направлений, имеющих приблизительно одинаковую окраску. Среди других модернистских школ они, без всякого сомнения, наиболее крикливые, наиболее заметные. И хотя мы привыкли к самым экстравагантным, самым диким явлениям этой духовной болезни, нужно признать, что такого не видел еще никто и никогда. При всей своей нелепости эти явления должны быть нам ведомы, и не только потому, что они представляют собой если не последнее, то одно из последних слов модернизма, но и потому, что они приняли большие масштабы, имеют немалое влияние на умы молодого поколения, рекламируются всеми средствами массовых коммуникаций и считаются, или считались еще вчера, как] принято говорить в таких случаях, «новой волной» авангарда. f Сюда относятся направления, известные под именем «мини^ мального искусства», «искусства первичных структур», «бедного искусства», «невозможного искусства», «концептуального искусства», «искусства антиформы» и так далее в том же роде. Нужно иметь в виду, что эти названия обманчивы и, кроме того, они часто перекрывают друг друга, обнимая, сходные явления. Международные выставки, посвященные этим течениям модернизма, прошли во многих столицах и крупных городах мира, например, в Лондоне, Нью-Йорке, Берне, Амстердаме, Дюссельдорфе, Осло, Гааге. На VII биеннале в Париже «новая волна» также проявила себя достаточно определенным образом. По мысли учредителей парижской биеннале, на ней должны быть представлены самые заметные явления современности и самые молодые силы так называемого авангарда. В этих выставках участвуют художники не старше тридцати пяти лет. В октябре 1971 года на биеннале выступали представители пятидесяти стран мира. В чем же заключается, однако, самая общая черта новых явлений модернистского искусства, не исчерпанная и в наши дни? Что объединяет эту разношерстную толпу факиров и фокусников, привлекает к ним особое внимание печати? Если верить журналу «Art in America», их активность «обнаруживает контуры нового движения, по сравнению с которыми все эстетические революции, имевшие место в прошлом, выглядят игрушечными»1. Движение это, кратко говоря, состоит в том, что художник полностью выхо-ЭД дит из границ всякого, искусства, чтобы создать особое антиискусЛ ство или контрискусство. В этом и заключается его так называв^ мая художественная деятельность. Конечно, по существу, все это не ново; новы, однако, некоторые формы, придуманные антихудожниками для демонстрации своего отрицания мира, своего нигилизма. Необходимо отметить, что представители этих направлений обращаются обычно к авторитету Марселя Дюшана, считая его основателем антиискусства. Дюшан, как известно, принадлежал к дадаизму второго десятилетия нашего века. Будучи человеком последовательным, он уже в 1920 году повернулся спиной к живописи и оставил всякие художественные занятия как изжившие себя. Его современные продолжатели не таковы. Они объясняют, что искусство кончилось, и делают из этого пожизненную профессию. В демонстрациях Дюшана их привлекает его исходный принцип ■— чем хуже, тем лучше. Из отвращения ко всякой художественной деятельности как украшению жизни Дгошан дерзко выставил на обозрение посетителей сначала сушилку для бутылок, потом писсуар (под названием «Фонтан»). Последнее произведение, впрочем, не было допущено, на выставку, что лишь увеличило скандальную славу художника. Эти события с величайшей важностью описываются во всех историях современного искусства. Но как бы мы ни оценивали такие акты, они, во всяком случае, положили начало целой серии подобных экспериментов, которые на первых порах привлекали внимание полиции, а потом настолько вошли в быт западного общества, чт,р нашли себе множество меценатов. Строго говоря, Марсель Дюшан также не придумал ничего безусловно нового, ибо уже Гийом Аполлинер, идеолог кубизма, доказывал, что писать красками вовсе не обязательно. Можно писать и самыми обыкновенными предметами, например галстуками. Тенденция выхода за пределы искусства в обычном смысле слова заложена во всяком модернизме. Другим учителем новых направлений стал рано умерший Ив Клайн (1928—1962). Благодаря своим экстравагантным выходкам он пользовался громадной известностью в Европе и Америке после второй мировой войны. «Новая волна» обязана Клайну изобретением искусства, которое не только отвергает старую живопись, чтобы заменить ее какими-нибудь совсем не эстетическими предметами, но прямо выдвигает претензию создавать художественные произведения из ничего в буквальном смысле этого слова. Так, в 1958 году более двух тысяч человек ждали открытия выставки Клайна в Париже. Когда же двери открылись, то собравшиеся увидели перед собой пустые залы. На этой выставке Ив Клайн продавал то, что он обозначил словами «зоны нематериальной' живописной чувствительности», но требовал за свой товар только золото, ибо, по его словам, «высшее качество нематериального должно быть оплачено высшим качеством материального». Нельзя, наконец, пройти мимо того факта, что современная волна авангарда является прямым продолжением деятельности попартистов, которые уже пользовались антиискусством в различных его выражениях. Однако поп-арт обвиняется представителями более новых течений в излишнем эстетизме. Его монтажи бывают раскрашены, а вещи, выставленные вместо картин, выбираются с каким-нибудь декоративным или символическим значением. С точки зрения деятелей «новой волны», это уступка духу старого искусства. Такое искусство может еще кого-нибудь соблазнить, удовлетворить чьи-то потребности, чей-то вкус, а если так, то оно не является последовательным контрискусством. На этой почве в рамках современного модернизма происходит весьма характерная грызня между разными поколениями одного 278 279 и того же движения, направленного к ликвидации искусства. Досада, испытываемая при этом псевдоноваторами более раннего типа, досада на то, что их обгоняют более молодые и крайние отрицатели, поистине смешна и вызывает даже некоторое оправданное злорадство. В самом деле, как чванились представители прежних модернистских направлений своими дерзостями, своими «революциями в искусстве», своим непримиримым отношением к традициям обыкновенного человека, объявленного мещанином! Но вот уже появление абстрактного искусства поставило стариков кубистов и других представителей более ранних ступеней разложения формы, еще не дошедших до полной абстракции, в оборонительное положение. А когда в 60-х годах возникла «новая волна» поп-арта, начался настоящий плач на реках вавилонских. Даже защитники абстракции жаловались, что новая «революция» разрушает искусство до основания. Теперь настало время и для поп-арта испытать на себе кличку «несовременно». Вместе с абстракцией и со всем прежним искусством, начиная с первых изображений, сделанных человеком,, он объявлен музейщиной и достоянием академически настроенных мещан, защитой конформистской традиции. Такова логика, и уйти от нее никуда нельзя. Французская писательница Элен Пармелен, известная тем, что она фанатически защищала все прежние стадии модернистского искусства, до отвратительных заборных кривляний Дюбюффе включительно, выступила в 1969 году с памфлетом против новейших художественных течений. В нем много верного, но'все это писательнице, увы, нужно было видеть раньше, и все справедливые критические слова, сказанные ею, относятся не только к новейшим варварам, но и к старым, которые ей так дороги, ибо это ее собственное поколение. Никогда раньше, пишет Пармелен, художники не говорили о себе с такой самоуверенностью, а критика не льстила им в таких восторженных выражениях. Антиартисты одним мановением рукп сбрасывают в пропасть все прежнее искусство, а критика, сопровождающая их восхождение, подхватывает и раздувает эти отрицания. «Несовременно. Убить!» —так формулирует Элен Пармелен лозунг «новой волны». «Дервиши антиискусства фанатичны, они признают только те идеи, которые выдвинуты ими, они пишут в тоне приказа. Это так, а не иначе, ибо мы — авангард, мы гении. Авангард хочет2 уничтожить вокруг себя все, что ему сопротивляется» . Как будто нравы предшествующих модернистских движений были другие, как будто пресловутая «агрессивность» или «прово-кативность» не была уже давно восхваляема как обязательная черта всякого нового шага в современном искусстве! Что посеешь—то и пожнешь. Чем же, однако, мотивирует «новая волна» свое полное отрицание всего старого искусства от эпохи Возрождения, которую давно уже топчут ногами доктринеры новых течений, до поп-арта, который попал теперь за одни скобки с презренным Возрождением? Мотивы эти, по существу, также не новы, они только слегка подновлены. Общие ссылки на развитие техники, быстроту движения, теорию относительности и другие открытия физики XX века уже недостаточны. Теперь на очереди освоение космоса. Искусство должно быть уничтожено, потому что оно не современно — ведь мы вступили в век космоса. Так мотивируют свою позицию многие представители современного антиартизма. В предисловии к каталогу выставки «минимального искусства», изданному в 1968 году, Е. Девлинг пишет: «В настоящее время искусство имеет мало общего с искусством в традиционном смысле слова. Скорее, оно связано с нашим быстро меняющимся миром и с будущим нашего общества, в котором исключительно большую роль будут играть наука и техника. Пространство, космос изменили историческое положение нашей Земли. В прошлом— Земля была центром и целью наших исследований, открытий и действий, а также источником вдохновения для искусства. Теперь это положение занимает вселенная и космическое пространство. Конечно, это должно означать полное и глубокое изменение всей нашей методологии мышления в философии, психологии, во всем, что было частью нашего старого мира». И автор продолжает: «Искусство как изолированное, индивидуальное выражение красоты чувства, какой-нибудь личной эмопии или ценности, рассматривается теперь как отжившее свое время и реакционное»3. Само собой разумеется, что растущее из недр убогой модернистской фантазии отрицание искусства в собственном смысле слова, этот новый вид иконоборчества, никакого отношения к исследованиям космоса не имеет. Параллель, проводимая защитниками антиартизма для оправдания своих безумных выходок, не более убедительна, чем прежние параллели между теорией относительности и кубизмом или абстрактным искусством. Все это словесный вздор. Однако нельзя забывать, что современное движение антиискусства имеет одну более серьезную и более опасную сторону. Дело в том, что антиартизм в той или другой степени связан с бунтарскими настроениями среди интеллигенции п особенно среди студенческой молодежи, а это движение имеет очень сложный и противоречивый характер. Так, например, во время подъема антиправительственного движения в Соединенных Штатах летом 1970 года имела место также стачка художников, их демонстрации и пикетирование музеев. Среди бастующих слышались требования покончить с искусством, ибо пора готовить людей не к наслаждению прекрасным, а к баррикадам 4. Гастон Паризе справедливо заметил, что в таких революционных позах больше театральности, чем настоящего дела. Многочисленные манифесты, статьи и книги, посвященные новой авангардистской волне, имеют ярко выраженный демагогический характер. Ультралевая фраза в области искусства тесно смыкается здесь с анархическим «левачеством» в политике. Необходимость покончить с искусством мотивируется не только вступлением в космический век, но и протестом против сущест- 280 281 вующего «истэблишмента», протестом в духе Маркузе и других представителей так называемой критической теории. На выставках молодежи появлялись «гошистские» лозунги на красных транспарантах, портреты Мао-Цзэдуна. С другой стороны, выступления ультралевых бунтарей не всегда можно было отличить от обыкновенного модернистского хеппенинга. В предисловии к книге о так называемом искусстве антиобъекта, или бедном искусстве, являющейся своего рода манифестом этого направления, автор ее Джермано Челент пишет: «Ведущие авангардистские критики Европы и США полагают, что мы имеем здесь новое и революционное движение, рожденное в процессе роста студенческих социальных протестов и лишенных структуры хеппенингов». Ибо, продолжает Челент, «это искусство в основе своей аитикоммерческое, антиформалистическое, оно имеет дело главным образом с физическими свойствами среды, изменчивостью материалов. Важность его заключается в том, что художник оперирует здесь материалами фактического свойства, тотальной реальностью, пытаясь трактовать эту реальность особым способом, который хотя и труден для понимания, 5 по тонок, умозрителен, неуловим, индивидуален, насыщен» . Несомненно, что отвращение к установленным богатым мещан*-ством XX века традиционным формам модернизма, которые имеют теперь уже чисто светское значение и полностью вошли в условия буржуазного комфорта, то отвращение, которое выражают часто представители молодежи, в том числе и художественной молодежи на Западе, вполне оправдано. Есть много верного и в тех проклятиях, которые «новая волна» обрушивает на потребительское общество в целом, систему, где все заранее становится предметом торговли, рекламы, манипуляции. Так, например, создатели произведений нового, претендующего на звание невозможного искусства утверждают, что они не хотят больше делать вещи, объекты, ценности, которые могут быть проданы и куплены торговцами, коллекционерами или музеями и таким образом, как принято говорить, «интегрированы» старым грязным миром. Во многих случаях протест этот является совершенно искренним. Но если обратиться к конкретным формам новейшего антиискусства, то мы ясно видим, что во всяком действительном социальном движении они могут играть только разлагающую роль и что, по существу, они тоже, как и прежние виды модернизма, прекрасно «интегрируются», то есть покупаются старым классовым обществом. Перейдем поэтому к более подробному освещению различных \ школ «новой волны» так называемого авангарда. Начнем с того, что получило название «минимального искусства». Назвали его так потому, что произведения или, точнее, явления этого вида антиискусства содержат и в принципе должны содержать минимум художественной ценности. Небольшое расширение этого ми- / 282 нимума означало бы, с точки зрения представителей антиискусства, некий компромисс с окружающим миром, попытку украсить жизнь *. Впрочем, сами представители этого направления предпочитают другие названия: «искусство первичных структур», «искусство ABC», «литералистское искусство», «холодная школа», «серийное искусство», «посткубистическая скульптура» и так далее. Скульптурой это называется потому, что речь идет о каких-то объемах, не имеющих, разумеется, никакого отношения к изобразительным формам обычной скульптуры. О В качестве обоснования специфических приемов этого направления приводится обычная ссылка на современную эру техники и футурологический образ будущего. Произведение искусства не должно что-то изображать, оно должно только представлять структуры, родственные основным структурам геологии, физики и химии. Оно исключает всякое выражение личности и душевного состояния, всякую философию или идеологию, ибо само произведение минимального искусства есть философия. Она состоит в сведении всех форм к их первоначальному состоянию. Из этого видно, что минимальное искусство родственно по своей тенденции современному лингвистическому и социологическому структурализму—теориям исключения человека с его трепетной личностью из объективной жизни мира, каковы теории Маклюэна или Фуко. Люси Р. Липпард в тезисах, озаглавленных «10 структуристов в двадцати параграфах», называет произведения минимального искусства трехмерной антискульптурой. Здесь же делается попытка изложить новые эстетические принципы. Они заключаются в резком противопоставлении так называемой антискульптуры старому искусству. Прежде всего подвергаются отрицанию..всякие признаки композиции, какая бы то ни было связь между отдельными частями произведения. «Вещи в их._элементах, а не в их отношениях», — говорит Карл Андре, один из 6 наиболее известных представителей этого направления . Всякая композиция предполагает соподчинение отдельных форм, в ней бывают главные (центральные) моменты и второстепенные. С точки зрения антискульпторов, это слишком аристократично. Все формы, входящие в данную систему, должны быть расположены так, чтобы у зрителей не возникло никакого подозрения насчет того, что одна из них является господствующей. На первый взгляд, в этом содержится какой-то протест против иерархии форм, столь существенной в прошлом для композиции времен Лебрена и его Академии. На самом же деле истинный смысл теории отрицателей композиции сводится к тому, чтобы вызвать у зрителей ощущение бессмыслицы бытия, в котором даны только разрозненные объекты, лишенные всякой связи между собой, ибо любая связь предполагает отношение главного и втоИменно в этом смысле термин «минимальное искусство» был впервые употреблен профессором Ричардом Уолхеймом в его статье об искусстве «Дада и анти-дада» (Arts magazine, 1965, Jan.). 283 ростепенного. В этом нет никакого академизма и ничего похожего на оскорбление чувства равенства. Согласно новой эстетической теории произведения искусства должны быть лишены всякой привлекательности, изящества, красоты и какой бы то ни было способности возбуждать наши чувства. С точки зрения неподкупно холодных структур, представляющих идеал минималистов, всякое угождение человеческому чувству есть уже коррупция, испорченность. Таким образом минимальное искусство представляет собой продолжение того анти-. психологизма, который издавна культивировали в изобразительном искусстве и музыке различные представители неоклассики. Не ново также то обстоятельство, что в поисках холодной абстракции минималисты обращаются к технике. «В современной индустриальной технике, — пишет Люси Р. Липпард, — они находят прекрасные средства для того, чтобы отгородиться от сентиментальности, приятности, ограниченности, от упадочной «чувствительности» и «хорошего вкуса» й. По существу, весь этот миф холодной бесчеловечности был уже известен пуристам и геометрическому направлению в абстрактной живописи. «Новая волна» повторяет этот прием на том уровне модернистской фантазии, который был достигнут поп-артом. Ибо холодные структуры минималистов это не живопись, а реальные предметы, продолжение эстетики готовых вещей (ready-made). Если у Раушенберга или Уэрола господствует какая-то лирическая мистика вещей, не исключающая присутствия некоторой заброшенной в этот страшный мир человеческой эмоции, то минимальное искусство стремится исключить человеческий элемент до конца, упразднить всякий намек на присутствие человека в мире. Отсюда вытекает тот факт, что структуралисты считают свои объекты скульптурой и отдают ей преимущество перед любым воспоминанием о живописи. У Липпард мы читаем: «В современной Америке более заметна передовая скульптура, чем живопись. Одной из причин этого является тот факт, что скульптура или в известных случаях трехмерная антискульптура, или структура, создала возможность бегства для тех,7 кто чувствовал ограниченность живописной идиомы» . Согласно обычным рассуждениям, которые повторяются всеми маньяками антиискусства, ограниченность живописи состоит в том, что она создает иллюзию на плоскости. Скульптуры или структуры минимального искусства составляются обычно из готовых фабричных материалов серийного производства, имеющих более или менее геометрическую форму. Таковы металлические пластины, решетки, кирпичи и тому подобные технические части и элементы конструкций. Карл Андре располагает на полу свинцовые, медные или стальные плитки определенного размера. В проекте-предложении Гаагскому музею он чертит примитивный план различных комбинаций из 36 стальных плиток размером 100X100 см, толщиной 1 см («Предложение Гаагскому музею», 1967) 8. Таковы же осуществленные произведения Андре, которого печать превозносит в качестве теоретика и прак284 тика минимального искусства. Что касается практики, то в одних случаях Андре укладывает свои плитки в плотные четырехугольники, наподобие паркета, в других случаях он строит из них дорожки, которые фотограф снимает сверху. Иногда он располагает их под открытым небом или в лесу. Что же касается теории, то вот образец его глубокомыслия: «Человек взбирается в гору, потому что она есть. Человек создает произведения искусства, потому что его нет»9. Другой апостол минимализма Ден Флсвин прикрепляет совершенно идентичные светящиеся флуоресцентные полосы к стенам выставочного зала («Флуоресцентные полосы», 1968). Рональд Блейдсн выставляет металлические столбы, высотой в три метра, и так далее. Все эти выходки, воспринимаемые всерьез, занесенные в каталоги, освещаемые на страницах толстых книг и роскошных журналов, могут, конечно, иметь только один реальный смысл —практическое уничтожение всяких воспоминаний о том, что считалось /'искусством в прежней истории человечества. Ясно также, что все .предшествующие виды разрушения художественной культуры до |самых крайних, каковы абстракция и поп-арт, являются для минималистов недостаточными. Логика отрицания ведет от ничего не изображающей живописи к простому предмету, купленному в ближайшем магазине. Но этот предмет есть все же реальная форма, вызывающая зрительный образ. Минимальное искусство стремится покончить и с этим образом, стоящим уже за пределами искусства ,в собственном смысле слова. Оно выдвигает на место предмета 1 чистую структуру или мысль, а для того, чтобы эта мысль не -была вес же мыслью о чем-нибудь, сна должна выражаться не гв предметных формах, а в отрицании их, или в антиформах. Для этого, согласно теории минималистов, должны быть выбраны такие предметы, которые обладают наибольшей нейтральностью в отношении к нашему формальному воображению, — предметы ' безличные, невыразительные, серийные. «Бесформенные формы», применяемые этими художниками, суть, по словам Липпард, «не образы, а шаблоны» 10. Ликвидировать форму — вот цель художника, вышедшего из длинного ряда сменявших друг друга .формалистических течений. Свое разрушительное искусство минималисты не считают эстетической деятельностью, а только практикой, не имеющей дела с формой. Вот почему участие самого художника в создании этих «бесформенных форм» вовсе не обязательно. И даже наоборот, художник нового типа старается демонстративно подчеркнуть свое неучастие в творчестве. Можно изготовить требуемые предметы по заказу художника на предприятии, тем более что изготовление их в ателье было бы немыслимо по техническим причинам. Так и поступил п Тони Смит, заказав свое первое произведение по телефону . ! Отсюда видно, что художник-структуралист хочет оставить за собой только чистую концепцию, мысль, совершенно свободную от соприкосновения с материальной реальностью, и работать с ней на расстоянии, верно усматривая общий признак старого искус285 ства в единстве идеи и материальной формы. Это непосредственное единство он хочет разорвать, призывая на помощь пример науки. Фантазия минималистов создает утопию будущего чисто научного, совершенно безличного и бесчеловечного искусства. Однако сверхрационализм структуралистского -искусства не исключает присутствия в нем мистики. Напротив, объявляется, что антиискусство представляет собой чистейшую мистерию, которая вытекает здесь из необычности, странности, присущей современным научным выводам. Выставляя вещи, окруженные пустотой, минимальное искусство этим контрастом также желает создать ощущение тайны. Пуританская простота форм и нарочито холодное, чистое, фабричное исполнение выставленных объектов, по словам теоретиков этой школы, придает вещам мистический характер 12. Из сказанного достаточно ясно, что между словами и реальностью минимального искусства расстояние громадное. К науке это не имеет никакого отношения, скорее, перед нами современная магия. Верно лишь то, что создатели этого течения хотят повенчать науку с мистикой и что такие тенденции имеются не только в самом искусстве. При всем том, однако, претензии минималистов или структуралистов на создание какой-то особой атмосферы мистерии будущего скорее смешны, чем серьезны. Уже в минимальном искусстве бросается в глаза откровенно идеалистическая затея модернистских художников последней формации— их стремление покончить с реальной формой, даже лишенной всякой изобразительности, и оставить только структуру, или «концепцию». Читатель не должен думать, что речь идет с каких-нибудь платоновских идеях, прообразах реальных форм. Технические структуры минималистов выражают только одну идею —отрицание всяких конкретных форм, небытие реальности. В этом смысле минимализм не мог придумать ничего более последовательного, чем то, что было уже однажды явлено миру покойным Ивом Клайном в период его «пневматизма» (пневма по-гречески-— дух). Но, несмотря на полное отсутствие оригинальности, эта фантазия, выдвигающая на авансцену художника, который не занимается больше искусством и продает пустое место, нашла себе множество фанатических приверженцев и последователей. Так родилось концептуальное искусство, представляющее новый этап в смешной и странной борьбе художника против его собственной профессии. Волна концептуального искусства распространилась из Соединенных Штатов. В январе 1969 года Сэф Сигелауб открыл в Нью-Йорке новую галерею, то есть салон для продажи художественных произведений. Как это обычно бывает, галерея Сигелауба выдвинула определенную группу новаторов, среди которых известны имена Джозефа Кошута, Роберта Берри, Дугласа Хьюблсра, 286 Лоренса Вейнера и других. Программа этой группы была определена самим Сигелаубом как создание «искусства антиобъекта». Для представителей нового течения слово «предмет» стало ругательным. Искусство, говорит Дуглас Хьюблер, «не имеет ничего /общего с каким-нибудь определенным предметом» 13. По мнению ; концептуалистов, дело художника состоит в чистом создании идей, 1 или концепций, а не в ремесле человека, который работает над определенным материалом, делая из него физическую оболочку для Своего замысла. Мы уже знаем, что с точки зрения новейших школ западного искусства эта оболочка может быть изготовлена на заводе или в ремесленной мастерской и только заказана художником. Дело художника состоит, скорее, в обратном — разрушении всего физического. Один из лидеров нового движения, Джозеф Кошут, прямо говорит, что «физическая оболочка должна быть разрушена», ибо «искусство — это сила идеи, а не материала» и. Давно известно, что декларации модернистов, похожие на нечто осмысленное, не следует принимать всерьез. Они нередко имеют прямо противоположный смысл. Так, в данном случае речь идет не о силе идеи в обычном человеческом смысле слова, а лишь о том, что художник не должен работать кистью или резцом, не должен даже создавать какие-нибудь предметные формы, далекие от всякой изобразительности. Его задача — демонстративно подчеркнуть свое отречение от искусства, вот и все. С таким же успехом писатель, не пишущий свою книгу, мог бы сказать о себе, что он тем самым утверждает силу идеи. Один из парадоксов концептуализма состоит в том, что его последователи объявляют себя противниками формалистического искусства и относят к нему не только все художественное творчество, изображающее внешний мир, но и такие виды модернистского разложения, как создание неизобразительных форм и применение в искусстве обычных вещей, например, умывальников, кроватей, кранов и т. п. Все это — от статуй Поликлета до консервной банки Уэрола — попадает в одну общую категорию: морфологии или работы над формой. С точки зрения концептуалистов, их революция в искусстве должна совершенно покончить со всяким формообразующим творчеством. Что же останется? Любое модернистское искусство есть скорее плохая философия, чем художественное творчество в простом человеческом смысле этого слова. Этот факт не всегда достаточно ясен, ибо программное доктринерство художников-модернистов на тему, например, о кризисе цивилизации или отчуждении символически выражается кистью на полотне, требуя «фигуративных» или абстрактных знаков. В крайнем случае оно состоит из так называемых аккумуляций, то есть нагромождений реальных вещей. Теперь наступает время, когда тайна всякого модернистского искусства может быть выражена с полной откровенностью и даже бесстыдством. Плохая философия выступает в собственном виде, без всякого прикрытия формальным экспериментом и даже в полемике против формализма. 287 Разумеется, никакого разрыва с формалистическим искусством в этом новом изгибе модернистской фантазии нет, но так или иначе с появлением концептуализма стало труднее защищать модернистские искания как необходимый для искусства формальный эксперимент. В действительности эти эксперименты и прежде несли на себе печать отрицания всякого художественного творчества, ибо оно представляет собой не продуцирование новых концепций, а отбор и реальное воспроизведение художником выразительных и прекрасных форм природы. В концептуальном искусстве отридание художественной деятельности как таковой достигло высшей точки. Художник больше не работает, он только «мыслит». Посмотрим теперь, в чем состоит это сомнительное мышление. Для обоснования своей позиции один из лидеров концептуализма, Джозеф Кошут, пытается применить к искусству теорию логического позитивизма Витгенштейна и Айера. В статье «Искусство после философии», насыщенной учеными цитатами, он доказывает, что философия была уместна только сто лет назад, а в наши дни она окончательно устарела, и это вакантное место может быть занято искусством. Прежняя философия умерла, излагает Кошут позитивизм Айера, потому что всякое познание может быть либо синтетическим, либо аналитическим, как это показано Кантом. Аналитическое мышление, например математика, основано на тавтологии. Оно ничего не прибавляет к нашему знанию и только устанавливает то, что есть. Его дело анализировать предложения, высказывания, и, в сущности говоря, такое мышление сводится к лингвистике, к анализу правильной формы выражения известных фактов. Но сами по себе факты лежат за пределами этой сферы и могут быть познаны только эмпирически, посредством так называемого синтеза. Философия застряла между анализом и синтезом, тавтологией и эмпирическим наблюдением. Поэтому она никуда не годится. И Кошут пишет: «Двадцатое столетие вступает в период, который может быть назван концом философии и началом искусства»15. Такова тенденция сложившегося положения. Европейский экзистенциализм Кошут полностью отвергает, что же касается логического позитивизма, то он является с этой точки зрения только приложением к эмпиризму науки. На место философии в собственном смысле слова становится искусство, а именно концептуальное искусство. В чем же, собственно, заключается функция этого искусства? Она состоит в анализе того, что такое искусство. Это не значит, что искусство сводится к эстетике. Напротив, существование эстетического элемента в художественной критике, как и в самом искусстве, автор считает недостатком прошлого. Искусство должно устанавливать самого себя посредством логического анализа, состоящего в тавтологии. Эту задачу Кошут старается выразить посредством афоризма Эда Рейнхарда, абстрактного художника, стоявшего на пороге открытия концептуального искусства. Изречение нового оракула (автор цитирует его рядом с основателем логического позитивизма Витгенштейном) гласит: «Об искусстве мож288 но сказать только то, что оно есть нечто. Искусство есть искусст-во-как-искусство, а нечто другое есть нечто другое. Искусство как искусство есть искусство и 15больше ничего. Искусство не есть то, что не есть искусство» . Все остальное, кроме этой мудрой тавтологии, Кошут считает формализмом и псевдопроблемой. Другой авторитет Кошута, Дональд Джадд, выражает ту же мысль иначе: «Если кто-нибудь назвал это искусством, это и есть искусство» 16. Столь категорическое понимание функции художника было впервые выражено Марселем Дюшаном, пишет автор, в его «реди-мейд», то есть произведениях, состоявших из серийных готовых изделий. «Начало подобной тенденции к самоотождествлению искусства можно заметить уже у Мане и- Сезанна и далее в кубизме, но их произведения робки и двусмысленны по сравнению с вещами Дюшана». Последний изменил природу искусства — на место проблемы морфологии стала проблема функции. «Этот переход— переход от явления к концепции — был началом современного искусства и началом концептуального искусства» 17 . Оно состоит не в изображении вещей и не в каком-нибудь формотворчестве, даже абстрактном, а в языке. Концептуальное искусство есть лингвистическое искусство. Кажется, всю эту теорию можно выразить краткой формулой: художник не должен тратить силы на создание произведений, все, что он назовет искусством, есть искусство. Иначе говоря, все зависит от слов, а не от дела. «Люди отрицают тот факт, что слова имеют много общего с картинами,—пишет Кошут в другой статье. — Я не понимаю этого утверждения, я 18 говорю, что имеют. Искусство есть источник информации» . Каково содержание этой информации, мы сейчас увидим. Но прежде всего необходимо сказать, что Кошут по-своему прав. Если искусство есть средство информации, или, как это часто пишут в наше время, знаковая система, то ремесло художника действительно теряет смысл. С одной стороны, искусство опускается до уровня внешнего средства для выражения концепции, и это может с большим успехом обеспечить не художник, а специалист по психотехнике, языкознанию, теории информации. С другой стороны, благодаря этой перемене средство начинает господствовать над содержанием дела и возникает еще невиданный формализм, присущий всей современной схоластике, известной под именем логического позитивизма, структурализма и т. п. Программа концептуального искусства спекулирует на громадной роли средств информации в XX веке. Она поэтому весьма близка к теории Мак-люэна, столь популярной в последние десятилетия на Западе. Главный тезис Маклюэна состоит в том, что развитие культуры определяется средствами связи или коммуникации. Само собой разумеется, что этот тезис весьма далек от научного понимания исторического процесса, но сам по себе он представляет еще более или менее реальную сторону всей системы взглядов Маклгоэ-на. Гораздо хуже здание, которое он строит на этой базе, излагая в чрезвычайно запутанном и претенциозном стиле свои идеалистические фантазии, впрочем, далеко не оригинальные. Здесь прежде 289 всего бросается в глаза вывод, согласно которому на место объективной истины, познаваемой нами в процессе истории культуры, ставятся условные проекции, свойственные данному уровню общественного развития и зависящие от средств коммуникации. Б прошлом эти средства состояли в знаменитом изобретении Гутенберга— это была печать, а в настоящее время — электроника. Эпохе книгопечатания соответствовало свое восприятие пространства, основанное на перспективе. В обычном для всех модернистских философских и эстетических концепций духе Маклюэн считает перспективное пространство условностью, возникшей в эпоху Возрождения и совершенно устаревшей в наше время. Уже в XIX веке, по мнению Маклюэна, «иллюзионизм» обыкновенного человеческого глаза постепенно сменяется синестезией «тактильного пространства», и это доказывается развитием живописи, которое привело в конце концов к перевороту кубизма. Такая тенденция, излагает точку зрения Маклюэна Джек Бернхейм в статье «Голова Алисы. Размышления о концептуальном искусстве», достигла кульминационного пункта в стремлении современного искусства 1Эк «тотальному вовлечению» или, иначе, к «высшей реальности» . Под именем «тотального вовлечения» автор имеет в виду попытки устранения границы между художником и реальной жизнью, например, в коллажах эпохи кубизма, «аккумуляциях» 60-х годов и прочих формах самоотречения искусства, которые с философской точки зрения являются фантастической мечтой о бегстве субъекта от самого себя и растворении его в объекте. Философия Маклюэна является удобным и вполне современным по своей терминологии способом обосновать эти ложные фантазии и доказать их мнимую закономерность, вытекающую будто бы из развития науки и техники. Маклюэн, пишет Бернхейм, устраняет логический водораздел между сознанием воспринимающего человека и окружающим миром. Реальность для него не есть окружающий нас объективный мир вещей, она включает в себя также «пространство поля» или все электронные устройства, создающие нашу глобальную осведомленность. Б последнем счете средства коммуникации устраняют разницу между материей и духом, и современное искусство призвано выразить это тождество как невидимо присутствующее повсюду и всегда «пространство поля». Искусство не есть отражение действительности, изображение ее видимости, оно тождественно с ней. Средство сообщения и то, что сообщается,— одно и то же. «Характерно, что никто не считает литературой печатные материалы, выдаваемые счетным устройством»19. Иллюстрацией к этим рассуждениям автора цитируемой статьи является практика концептуалистов, у которых большую роль играют страницы печатного текста, по таким образом, чтобы их нельзя было рассматривать как литературу. Это разрозненные тексты, воспроизведение на полотне или бумаге отдельных страниц, взятых из словарей. Воспроизводится, например, определение составных частей воды или филологическая справка о происхождении и употреблении слова «идея». Вот в каком смысле речь идет о вербальном или лингвистическом искусстве. Выставка «Концепция», организованная осенью 1969 года в западногерманском музее Леверкузена, состояла из досье, отдельных листков бумаги, исписанных от руки или на машинке и развешанных на стенах музея. Другими экспонатами были фотографии и всякого рода схемы, совершенно случайные по своему содержанию. Художник Вене выставил увеличенные во много раз страницы из научных книг, взятые наугад и в таком виде лишенные всякого смысла. Цель этой демонстрации состояла, очевидно, в том, чтобы напомнить зрителю роль информации в XX веке. Поэтому выставка нового направления, устроенная летом 1970 года в нью-йоркском Музее современного искусства, так и называлась— «Информация». Но хотя в этой выставке приняли участие 96 художников Америки и Европы, никакой действительной информации почерпнуть из нее было невозможно. По существу, это антиинформация, что специально подчеркивается, ибо выставленные печатные тексты не предназначены для того, чтобы их читали. Они имеют прямо противоположную цель и должны показать в соответствии с теорией Маклюэна, что различие между сознанием и предметом устарело. Оно уходит в прошлое вместе с нашим зрительным восприятием окружающего мира по законам перспективы. Человеческий глаз как зеркало мира закончил свою карьеру. Поэтому концептуалисты всячески доказывают, что их разрозненные тексты имеют не литературное, а чисто фактическое значение. «Концептуальное искусство,—пишет один из его апологетов,— напоминает литературу только при поверхностном взгляде. То, что оно действительно отражает, представляет собой решительный сдвиг в сенсорном коэффициенте. И, как результат этого, концептуализм ставит парадоксальную проблему: может ли искусство освободиться от воздействия исключительно печатного способа выражения, если оно само примет в качестве способа выражения эту печатную форму?» 19 Совершенно ясно, что парадоксы концептуалистов навеяны ходячими фразами Маклюэна. Вздорность его теории особенно очевидна в ее наглядном применении. К чему вся эта бессмыслица? Но с точки зрения более последовательного развития той же теории даже намеренно лишенная всякого смысла сумбурная «текстология» представляется еще остатком эпохи Гутенберга с ее зрительным восприятием внешних предметов, с ее пресловутой «иллюзорностью». Опасаясь, как бы их экспонаты не были приняты за литературу, художники-концептуалисты часто пользуются другими средствами, которые, на их взгляд, еще дальше уводят посетителя выставки от чего-то напоминающего картину или книгу. Так, например, на уже упомянутой выше выставке «Концепция» оргентинец Ламелас показывал не имеющий никакого отношения к искусству фильм о лондонском транспорте. Это и было его произведением. Другой художник, Руша, выставил фотографические карточки своих друзей, Буржи выставил документальные фотографии различных этапов беременности и родов. Автор журнала «Das Kunstwerk», рассказывая о нью-йоркской выставке «Информа- 290 291 ция», сообщает: «Понятие информации включает в себя на этой выставке различные средства коммуникации — телевидение, телефон, диапроекторы, громкоговорители, телеграммы, листовки, фотографии, всевозможные формы письменных указаний, заметок, набросков. Искусство понимается здесь как реликт или фрагмент, поскольку указания, которые дают художники,20 достаточны сами по себе и отнюдь не требуют исполнения» . Чем незначительнее акции самого художника, создающего эти «реликты», тем обширнее печатные комментарии, объясняющие смысл и значение нового переворота в искусстве, отменяющие все предшествующие школы. Критики и комментаторы единодушно утверждают, что знаменем этого переворота является полное уничтожение визуальности, привлекающей глаз к объекту. Мотивируется это различными соображениями. Тут и условия нашего электронного века, века информации, для которой важна не материя, а структура, века «теории систем» Берталанфи, и социальный протест против господства коммерции, частного капитала, покупающего любые объекты. Нужно уйти от объекта или по крайней мере оставить от него только ничтожный намек. Произведение должно превратиться в антипроизведение, или не-произведение. Выходом из всего объективного и видимого является ничто. Совершенно новым и полностью отрицающим всякую традицию может быть только что-то безусловно неизвестное и посетителю музея и самому художнику. Художница Ева Хессе говорит: «Мне бы хотелось, чтобы произведение искусства существовало в форме не-произведения. Это означает, что оно будет находиться за пределами моих предубеждений. То, что я хочу от искусства, я в конечном итоге могу найти. Работа должна идти выше этого. Моя основная задача — идти за пределы того, что я знаю и что могу знать. Формальные принципы можно понять или они уже поняты. То, от чего и куда я иду, представляет собой неизвестность, вещь, как объект, оно примыкает к своей логической сути. Это — что-то, это — «ничто»21. По словам автора статьи в «Artforum», «работы Роберта Бер-ри обнаружили ярко выраженную эфемерность. Они дают только «формы энергии» и «концепции концепций». Читатель хотел бы знать, в чем состоят столь удивительные шедевры? Они состоят в таких, например, формулах, тщательно сохраняемых в совершенно пустой мастерской Роберта Берри: «1400 КН 2 несущая волна (AM)», 1968 г.; «40 КН 2,8 25 мм ультразвуковая установка», 1968 г.; «Фосфор — 32, радиационный», 1969 г.22. Когда у Берри просили фотографии его произведений, он ответил: «Я не представляю, как можно использовать фотографии или вообще что-либо визуальное в применении к некоторым из последующих моих произведений. Они не занимают какого-либо места, а их местонахождение неизвестно». Некоторые из этих произведений представляют собой только высказывания, посланные художником в Институт современного искусства в Лондоне, например, 292 «Нечто очень близко находящееся во времени и пространстве, но мне еще не известное». Другое высказывание: «Нечто влияющее на меня и мой мир, но мне не известное» — было послано им в музей Леверкузена в Западной Германии. Для выставки «Проспект 69» в художественном салоне Дюссельдорфа, происходившей в октябре 1969 года, Берри представил свое произведение в форме интервью: « К о р р е с п о н д е н т : Каково ваше произведение для выставки «Проспект 69»? Р. Берри: Произведение состоит из идей, которые появятся у людей после чтения этого интервью. К о р р е с п о н д е н т : Может ли это произведение быть показанным? Р. Б е р р и : Это произведение во всей его целостности неизвестно, потому что оно существует в умах очень многих людей, каждый человек может по-настоящему знать только ту часть произведения, которая содержится у него в уме. К о р р е с п о н д е н т : Является ли важным аспектом вашего произведения «неизвестное»? Р. Б е р р и : Я пользуюсь неизвестным, потому что оно представля ет большие возможности и потому, что оно более реально, чем что-либо другое. Некоторые из моих произведений состоят из за бытых мыслей или подсознательного. Я также применяю то, что некоммуникабельно, непознаваемо или еще не познано. Эти про изведения актуальны, но не конкретны»23. ■ Нет предела одичавшей фантазии модернистского искусства в его стремлении довести до конца длительный и не сегодня начатый процесс полной ликвидации искусства. Казалось, что абстрактная живопись и поп-арт уже довели свою негативную логику до крайних пределов, но теперь ясно, что на этом пути могут быть новые станции. Уже полвека мы слышим лозунг «С искусством покончено!», и все же новые поколения так называемого авангарда продолжают жить этим отречением от своей профессии. Множество подражателей развивают успех, достигнутый Кошутом, Берри, Сцееманом и другими концептуалистами, тем более что это нетрудно. Своей рукой исполнять здесь ничего не нужно — это было бы даже изменой делу концептуализма. Достаточно послать свое предложение в музей или на словах высказать нечто, «идею», «концепцию». Завтра, может быть, появится секта молчальников, которые выступят не только против «визуальности», но и против «аудиальности». Последователь Маклюэна и Берталанфи, Джек Бернхейм считает вербальные тексты концептуалистов временным компромиссом. «Идеальное средство концептуального искусства — это телепатия» 19. В настоящее время счетно- решающее устройство еще нуждается в пишущей машинке, присоединенной к его выводному каналу. Но что будет дальше, когда развитие перейдет к непосредственному воздействию без слов на нервную систему? А пока известный толкователь новейших форм модернистского искусства, французский критик Мишель Рагон поясняет достигну293 тую в настоящее время ступень следующим примером. Если бы Леонардо да Винчи написал на листке бумаги слова «изобразить на холсте женщину с загадочной улыбкой и назвать ее Джокондой», и если бы он прикрепил этот листок на стене одного из залов палаццо Медичи, но никогда не написал бы Джоконды — он был бы концептуальным художником. «Во всяком случае, в понимании Бена»,— добавляет Рагон24. Несколько слов о том, кто такой этот великий Бен. Французский художник Бен является одним из наиболее известных концептуалистов Европы. Его известность измеряется, например, тем, что парижская галерея Даниэля Тамплона предоставила ему свои залы и покровительство. Надо думать, что это не было совершенно убыточным предприятием. По случаю персональной выставки Бена в 1969 году была выпущена книга, содержащая афоризмы художника. Афоризмы эти он, впрочем, превращает в картины, особый тип «письменных картин» (tableaux-ecritures). Основная мысль его письменности состоит в том, что «все есть искусство». Принадлежность предмета к произведениям искусства определяется не присутствием в нем особых художественных качеств, а единственно только тем, что художник выбирает свой предмет самым неожиданным образом, чем вызывает у зрителя шок новизны. Именно в этом шоке, а не в самом произведении и заключается творчество. Отсюда видно, что Бен доводит до абсурда довольно старую и хорошо известную мысль, лежащую в основе всех революций авангарда. Под влиянием каких же мотивов художник производит новое? Вовсе не потому, что он способен открыть его в какомнибудь реальном, вещественном сочетании линий, форм и красок, но под влиянием своего «эго», амбиции, честолюбия, желания превзойти то, что было придумано до него. «Новое у творящего индивида есть результат его интеллектуальной агрессии. Новое создают лишь для того, чтобы стать выше других».25 И далее: «Сказать правду—это значит вскрыть нарыв» . Здесь по крайней мере Бен говорит правду о том движении в искусстве, в котором он сам участвует. Если шок новизны есть цель художника, то соперничество с другими «мастерами» — это единственно возможный мотив его деятельности. Однако правда Бена легко превращается в особый вид лжи. Она сама есть только шок новизны, дающий новатору преимущество по отношению к другим. Таким образом вскрытие нарыва и сам нарыв, собственно говоря, ничем не отличаются друг от друга. Сущность этого тотального искусства состоит в том, что художник может подписать все что угодно, нужно только придумать ■—что именно. И здесь Бен ставит себе задачу превзойти знаменитого Дюшана, который успел подписать только сушилку для бутылок и унитаз. По словам автора статьи в «Les lettres fran-caises», Бен подписывает «пятна, повседневные жесты, живые скульптуры, отсутствие чеголибо, смерть, дыры, эпидемии, таинственные шкатулки, время и бога». Однажды Бен заявил, что ом подписывает «Все». «Понятие Всего есть тоже произведение, имею294 щее определенное место в истории искусства. Понятие Всего создано тем, что все это охвачено сознанием»25. Итак, представить себе что-нибудь —это значит уже создать нечто, и достаточно только подписи художника, чтобы присвоить себе это создание. На выставке своих произведений Бен, восседая в кресле, держал плакат с надписью: «Смотрите на меня-пятого достаточно». Другие плакаты или письменные картины были развешаны на стенах, и среди них были такие: «Искусство есть претензия», «14+12 = 26», «Написано ради славы», «Я — лжец», «Искусство бесполезно— идите домой», «Перестаньте терять время —ступайте смотреть что-нибудь другое». Разумеется, пишет Рагон, никто не уходил, и Бен остался доволен своим эксгибиционизмом 24. (/■'Все это, конечно, можно назвать глупостью, и здесь не будет никакого преувеличения. Однако в подобных глупостях есть своя логика. Издавна накопившийся перевес субъекта над его предметной деятельностью, личной манеры и самой подписи художника над реальным творчеством — все это дошло здесь до вульгарного самоиздевательства, в котором, однако, художник и его публика наглядно утверждают правду своего общества — господство абстрактной субъективности с ее агрессивной волей. Если это можно назвать властью концепции или идеи над реальностью, то, разумеется, такая идея не может иметь ничего общего с тем, что рисовал в своем воображении Леонардо, если бы даже он никогда не брался за кисть. Таков итог величайшей революции, предложенной сектой концептуалистов. Эта революция состоит в полной отмене деятельности художника, которая выдвинула его на одно из первых мест среди людей, создавших многоликую культуру человеческого общества. Здесь речь идет уже не о том, чтобы заменить работу с натуры в мастерской или под открытым небом каким-нибудь подражанием африканским маскам или архаическому искусству первых цивилизаций. Даже первобытный мастер, покрывший своими рисунками стены пещер Альтамиры и Мадлен, трудился своей рукой, и потому его мастерство, как и практическая художественная деятельность длинного ряда поколений, представляется с точки зрения концептуализма только рабством перед вещественным отчужденным миром. Зачем все это? Разве недостаточно, если художник мыслит что-нибудь? «Мир полон предметов более или менее интересных, и я не хочу прибавлять к нему новых»,—говорит Дуглас Хьюблер 26. Нельзя отказать этому рассуждению в элементарной последовательности. После того как господствующей мыслью модернистского искусства стало отрицание реализма, в котором видели скучное повторение того, что уже есть, после того как в течение десятилетий искусствоведы и сами художники болтали, что дело искусства — создавать новые объекты, а не изображать старые, возникает в конце концов естественное следствие из однажды принятого направления — не нужно вообще создавать объекты! 295 И вот француз Арман, прославившийся своими «аккумуляциями», то есть нагромождениями реальных вещей, объявляет, что это занятие тоже, в сущности говоря, бесплодно. Не придумаешь ничего лучшего по сравнению с тем, что уже есть. Но можно подписывать готовое, уже существующее. Корреспондент «La Quin-zaine litteraire» задал Арману вопрос: «Вы проводите часть года в Нью-Йорке. Не правда ли, это город, который мог бы быть выдуман вами?» Арман ответил: «Действительно, Нью-Йорк — это гигантская Аккумуляция. В 1960 году я публично подписал этот город во всех направлениях. Таким образом, я овладел этой аккумуляцией людей, домов и вещей»27. Упомянутый выше Хыоблер объясняет, почему не следует создавать новые вещи изобразительного или даже неизобразительного характера. «Я предпочитаю просто констатировать существование вещей на языке времени или пространства. Говоря более конкретно, произведение искусства имеет дело с вещами, взаимоотношения которых находятся 26за пределами непосредственного опыта восприятия» . Для таких созданий искусства, которые журнал «Art in America» называет «созданиями мысли» (thought work), уже не нужна никакая особая материя. Нужна только «документация», откуда и происходит вся эта страсть к словарным определениям, чертежам и схемам или словесным описаниям. Такая система обозначения доказывает «имматериальность» концептуального искусства, которое будто бы вырвалось из объятий вещественного мира. Примером «документации» концептуалистов является проект топографической скульптуры, созданной Хыоблером, под названием «Произведение 42-й параллели». Это — кусок карты Соединенных Штатов с жирно проведенной линией названной параллели, на которой отмечено кружками 14 населенных пунктов ]8. Некоторые художники, как Ян Вильсон, например, утверждают, что их произведения — это «оральная», то есть устная живопись или скульптура. «Я выставляю оральную коммуникацию как объект. Всякое искусство есть информация и коммуникация. Я предпочитаю говорить, чем заниматься скульптурой» 18. В духе той же полемики против всего видимого и реального известный нам Кошут пишет: «Мое произведение невозможно увидеть. То, что видимо, это только указание на присутствие информации.1S Искусство существует только как невидимая, эфирная идея» . Есть тысячи разных способов демонстративно выразить этот современный поворот модернистской фантазии от надоевших формальных экспериментов к их подлинной сущности — отрицанию самой формы во имя абстрактного мышления. Но, увы, можно ли назвать эти выходки мышлением? Единственное их достоинство состоит в том, что они пародируют до полной нелепости обычные тезисы модернизма. Если суть искусства состоит не в добросовестном поэтическом воспроизведении окружающего реального мира, бесконечно интересного для человека, если сама ценность реального зрения ставится под сомнение и заменяется придумыванием разных манер, то работа художника вообще не нужна и ее можно 296 заменить чистым придумыванием. Тот, кому удалось придумать что-нибудь удачное, попавшее в яркий луч прожектора, поднятое и раздутое крикливой рекламой, особенно статьями бессовестных бизнесменов искусствоведения, тот может с истинно суверенным презрением смотреть на мучительный труд всех Леонардо прошлого. .Зачем тратить столько лет на изображение загадочной Моны Лизы, если достаточно было повесить в палаццо Медичи свою декларацию? Услужливые софисты, вроде Рагона, подсказывают, что и Рембрандт продавал не что-то реальное, а невидимую, доступную только мыслящему субъекту особую красоту24. Всякий человек, знакомый с приемами такого искусствоведения, знает, что эти доводы приводились уже, чтобы оправдать кубизм и абстрактную живопись. Разве великие художники прошлого не углублялись в сущность окружающего мира за пределами простой видимости? Разве подлинное искусство не поднимается над ремеслом простого копииста? Разве творчество не важнее умения рисовать и ловких движений кисти? Если все эти общие истины, превращенные в плоскости, могут служить оправданием для шутовских выдумок знаменитых кубистов и абстракционистов, то почему нельзя соединить их в один букет и оправдать таким образом эстрадную наглость Бена или позицию одного из американских дельцов, торгующих концептуализмом: «Я маклер по продаже идей, а не торговец вещами»?28 Этим господам, во всяком случае, нельзя отказать в последовательности. «Современное искусство», которое десятилетиями оправдывало свое формотворчество борьбой против абстрактной идейности, превратилось теперь в свою противоположность и яростно нападает на формализм, объявляя себя искусством чистой мысли. Для того чтобы сохранить свою чистоту, мысль эта должна выражаться в знаках минимальных или исчезающих, эфемерных или саморазрушающихся. Поэтому Кошут в своей статье «Искусство после философии» настаивает на том, что все формальные открытия предшествующих поколений модернистского искусства умерли вместе со своей эпохой, ибо каждое художественное явление существует только в том, что оно говорит современникам. История искусства является историей концепций, а не историей реальных произведений. Наконецто люди дошли до понимания этой истины, и теперь художник создает только проекты или предложения и подписывает все, кроме произведений искусства. Уже в конце 60-х годов послышались речи о том, что время модернизма прошло. Зная, как обманчивы бывают многие фразы новых течений, к этим декларациям также следует относиться с некоторым законным недоверием. Конечно, нельзя отрицать возможность здорового разочарования в наследии модернистских «революций в искусстве». Такое разочарование дает себя знать и сейчас в различных явлениях художественной жизни на Западе. То и дело возникают небольшие очаги сопротивления господствующему вкусу позднего буржуазного общества, стремление вернуться к реализму, иногда серьезное, иногда искусственное и двусмысленное. Но то, о чем здесь идет речь, во всяком случае, не 297 имеет никакого отношения к действительной борьбе против модернистской болезни. Напротив, под видом ее преодоления публике преподносится еще более сложно закрученная кривая ложной рефлексии. Совершенно естественно, что явления постмодернизма, как принято теперь говорить, пользуются обычной поддержкой богатых покровителей и роскошных журналов. В передовой статье журнала «Art in America» (майиюнь, у 1971) под характерным названием «Что такое постмодернизм» Брайан О'Догерти описывает весь период от 1848 до 1969 года как нечто единое, целое и законченное. Этот период вместе с наполняющими его многочисленными течениями представляет собой, с точки зрения автора, гигантский туннель, вырытый мощными силами исторической неизбежности, и теперь вся эра модернизма уже принадлежит прошлому, как Ренессанс или барокко. Несмотря на разнообразие взаимной борьбы течений, выступавших под разными, часто враждебными друг другу лозунгами, все они обнаруживают тесное внутреннее родство. В наши дни гордость нового поколения своей исключительностью поникла, и то, что осталось па развалинах модернизма, почти невозможно определить во избежание двусмысленности слов. «Даже стремление определить это кажется ныне сознанием нашего сознания устарелости этой привычки предшествующей эры». Модернистская эра, признаваемая чем-то прошедшим, имела, по словам О'Догерти, две характерные черты. Первая черта — это «прогрессирующая утрата идеализма» или «антиидеализм». Здесь автор имеет в виду разрушение идеальных ценностей прошлого, представлений о красоте и поэзии, свойственных классическому искусству. Вторая черта есть постепенное развитие «сложных стратегий», необходимых для умственной деятельности художника и его искусства в модернистское время. «Все это было отмечено растущей парадоксальностью, которая стала общественным институтом, указывающим определенные границы, в которых модернизм может поддерживать свои «движения», свои иллюзии прогресса, свой самодовольный до предела авангардизм»29. К сожалению, такие признания слишком поздно являются. Еще несколько лет назад они были бы признаны выражением академизма и отсталости. Но если сегодня эти мысли высказываются H ; I страницах модернистского журнала «Art in America», то можно: заранее подозревать присутствие в них новой «стратегии». Действительно, с точки зрения автора, модернизм плох не тем, что он разрушил традиционное искусство, а тем, что он был недостаточно «радикален». Художник модернистской эпохи еще верил во что-то определенное. «Уверенный даже в своих сомнениях, культиви- | руя свои дилеммы с известной виртуозностью он утверждал себя в 29! виде традиции, замаскированной под отсутствие ее» . Продолжая свой анализ, критик журнала «Art in America» рисует полную безнадежность этой двусмысленной традиции, утвердившейся в западном искусстве за время формального новаторства. «Пустота, в свое время столь тонко измеренная посредством различных формальных и словесных средств, усовершенствован298 ных модернизмом, есть ныне наша общая и фактическая среда». Модернизм завещал своим наследникам только голый процесс, ибо процесс есть последнее убежище искусства, «пресыщенного парадоксами и лишенного доверия». Процесс этот состоит в том, что искусство спасается от полного застоя, придавая себе подобие жизни различными средствами, среди которых большое место занимает пародия. Это совершается обычно под знаком «двух принятых ныне академий — порядка и хаоса». Слабый оттенок оправдания дают модернистскому искусству его опыт работы с материалом и поиски новых материалов. Но все это является, скорее, не расширением возможностей искусства, а «свидетельством недостатка воображения и дальнейшей утраты доверия со стороны того искусства, которое с самого начала несло в себе свою самоликвидацию». Даже развитие целой отрасли деловых занятий, направленных к тому, чтобы «объяснить» это недоступное искусство каждому гражданину, является, по справедливому мнению автора, «признаком не растущей симпатии и понимания, а, скорее, куль-турнои усталости» ^. Каждое слово в этих признаниях — правда, и удивительно лишь то, что люди, прекрасно видевшие внутреннее ничтожество модернистского искусства, так долго держали язык за зубами. Это, конечно, объясняется тем, что они и в настоящее время не расстались с принятым, «превратившимся в общественный институт» заговором молчания. Критика модернизма является здесь только преамбулой к тому, чтобы обосновать необходимость нового, так сказать, антимодернистского модернизма, новой революции в искусстве, которая уже не является больше революцией. В самом деле* с точки зрения О'Догерти, век модернизма — это, скорее, «постромантика», прибавление к старому искусству, чем подлинное новаторство. Для тех художников, которые следуют за самоликвидацией модернизма, не существует уже никакого авторитета, никакого выбора, никакой традиции. Достигнута полная свобода. «Ничто не требует от нас верности, а если требует, это уже заранее ничего не стоит. Движение в известном направлении немедленно обнаруживает свою пустоту, вызывая альтернативные и противоположные возможности, которые в свою очередь совершенно пусты. Уверенность в себе есть самообман, и самообман не создаст уверенности. Модернистское искусство вырастало из эксплуатации противоречий или из бегства от них в некий абсолютизм, предвозвещенный и вместе с тем устраняемый этими противоречиями. В конце модернизма противоречие (и сама история) умирает в пародии на диалектический процесс. Речь идет о попытке продолжения антиконструктивного процесса, который становится более невозможным. Такая невозможность отличается от «невозможного» в модернистском смысле слова, с его обертонами в духе новых завоеваний и трансценденции. Теперь это просто признание того, что если что-нибудь сделать нельзя, не должно быть никаких попыток. Модернистское безмолвие — очарованное самоизгнанием с его сардонической маской — сменяется гневной немотой». 299 Таким образом, постмодернисты — сердитые люди, но их гнев имеет одну отличительную особенность. По словам автора этой программной статьи, он приводит их к неизбежному сознанию своей собственной «устарелости» и сопровождается полным отвращением ко всякому творчеству. Художник теперь не уверен ни в чем, ни за что не ручается и готов повторить вместе с Беном: «Я — лжец». Вот в чем его претензия на правду! «Кажется, Ницше сказал, что искусство существует для того, чтобы помешать нам умереть от правды. Теперь мы знаем правду, и может быть искусство умрет от нее». «Одно из двух,—оканчивает свою статью О'Догерти,— либо у нас ум за разум зашел, либо это ощущение собственной устарелости есть признак предстоящего изменения образа жизни»29. Отсюда видно, что постмодернизм ближе всего к тому состоя- I нию, которое немцы называют Katzenjammer — кошачьей жало-бой. Состояние это возникает обычно на другой день после пьяного разгула. Если раскаяние, вытекающее отсюда, ведет к серьез- , ному изменению образа жизни-—это хорошо. Если же оно не идет / дальше жажды опохмелиться — это совсем другое. Практика, ' сопровождающая декларации, подобные статье О'Догерти, свидетельствует, скорее, о том, что художники постмодернистской эры ) хотят раскаяться, чтобы снова грешить, как говорит, кажется, ' Платон, а не Ницше. Читая статью в «Art in America», мы видим, какое значение для деятелей этой новой эры имеет понятие «невозможного». Искусство, говорят нам, более невозможно, и даже попыток возобновить его не следует делать. Что же отсюда следует? Перемена профессии? Об этом не слышно. Скорее, наоборот, есть много примеров, когда художниками, и притом первой величины с точки зрения рекламы и доходов, становятся люди, не имевшие раньше никакого отношения к искусству. Так, всемирно известный Арман стоял за прилавком в магазине, и решение стать художником пришло к нему неожиданно. Для развлечения он собирал на свалках старые кофейники и другой хлам. Оказалось, однако, что именно это занятие сделало его знаменитостью. Из утверждаемой с таким убеждением невозможности искусства представители «новой волны» делают вывод, что искусство само [ должно стать невозможным. Понятие «невозможного искусства» является одним из самых широких обозначений, которые в настоящее время охватывают все группы, возникшие после абстрактной живописи и поп-арта. К области невозможного относится и минимальное искусство, и концептуальное искусство, и множество других разнообразных направлений, отчасти перекрещивающихся между собой, отчасти покрывающих друг друга и существующих в разных странах под разными названиями. Так, например, в Италии возникло название «бедное искусство» (Arte povera). Оно также применяется для выражения кошачьей жалобы, известной под именем «невозможного искусства». Существует еще искусство небытия, хрупкое искусство, психеделическое искусство и длинный ряд других обозначений «гневной немоты», которая сводится в общем к отрицанию ремесла художника и состоит в различных демонстрациях невозможного, неведомого, нематериального,, невидимого *. На первом месте здесь весьма популярные опыты в области земляного искусства (Earthwork, Landart). По словам профессора Хаттефера, оно создает новое отношение между художником и природой, будучи вместе с тем «попыткой расширить искусство до размеров жизни»30. В старом искусстве природа рассматривалась как сырой материал, который только силою творчества мог превратиться в произведения искусства. Отныне материал должен говорить сам за себя, но не Б ТОМ смысле, что художник ищет в природе явления красоты, гармонии, величия, называя такие явления своим собственным произведением искусства. «Земляные художники» действуют, скорее, в обратном на- t правлении. Их цель внести в природу элемент хаоса, беспорядка, ! мотивы беспричинные и бессмысленные. ' 2 &■ . Согласно декларациям этих новаторов, желающих изменить лицо земли, художник сам должен превратиться в элемент природы «подобно простейшему по своей структуре организму». Вступая в контакт с окружающей средой и полностью смешиваясь с нею, он никоим образом не должен при этом «судить ее, не должен выносить моральный или социальный приговор, не должен манипулировать ею». Так рассуждает один из участников движения бедного искусства и автор книги о нем — Джермано Челент. Работа художника заключается в «употреблении простейших материалов и естественных элементов (земля, медь, цинк, вода, реки, суша, снег, огонь, трава, воздух, камень, электричество, уран, небо, вес, сила тяжести, высота, вегетация и прочее)». Далее в том же роде: «Его привлекает субстанция естественности, 31события — рост растения, химическая реакция минерала, движение реки, снега, травы, земли, падения тяжести —он отождествляет себя с ними» . Читая этот набор слов, претендующих на особое глубокомыслие, мы видим, что философия земляного искусства является одной из обычных в XX веке, далеко не оригинальных попыток выК словам «бедное искусство» Джермано Челент делает следующее пояснение (в предисловии к книге «Art povera»): «Книга озаглавлена «Бедное искусство». Этот критический термин объясняет публике тип материала, собранного в книге, и ставит его на определенное место в ряду других работ; термин не имеет претензии на всеобъемлющий характер, ибо мы сознаем, что он определяет только один специальный аспект бесконечного содержания, имеющегося в одном и том же произведении. Существуют и другие термины, определяющие этот вид искусства; наиболее известные из них: концептуальное искусство, земляное искусство, микроэмоциональнос искусство из готовых материалов, антиформа». Катрин Милле в статье «Краткий словарь бедного искусства» («Les lettres fran-caises», 1969, № 1286, p. 3) пишет: «Французы, склонные к рассуждениям, охотно говорят о концептуальном искусстве. В Италии драматизируют, и там это — бедное искусство (Arte povera). В Соединенных Штатах мыслят практически и говорят «земляные работы» (Earth-work)». 300 301 разить желание суоъекта отречься от собственной сознательности и превратиться в немыслящий предмет или стихию. Это возвращение к земле является таким образом еще одной кустарной формулой современного иррационализма. Новое здесь все же есть. Для теоретиков типа Джермано Челента речь идет уже не о том, чтобы покончить с изобразительной функцией искусства— отражением действительности. Он утверждает, что перечисленные им материальные элементы художник не может применять даже символически. Художник должен пользоваться землей, снегом, химическими элементами и другими материалами в буквальном смысле, то есть в их первичном, фактически-реальном значении. Отсюда также утверждение принципа случайности в подобном искусстве, «случайности существования в случайной ситуации»32. Искусство не является носителем каких-нибудь ценностей, и его нельзя рассматривать как создание моделей поведения людей. В новом его понимании искусство есть только «внешнее экспериментальное средство». Что это значит на практике, можно видеть из получивших самую широкую известность в конце 60-х годов так называемых земляных работ. На выставке 1968 года, состоявшейся в НьюЙорке, «земляные работы» представляли собой траншеи и ямы, вырытые в земле. Художники открыли землю «как изумительное художественное выражение», пишет автор статьи «Impossible art. What it is?». Художник Хейзер называет эти траншеи и ямы «негативными объектами». Другой «земляной художник», Вальтер де Ма-риа, заполнил три зала одной из мюнхенских галерей восемью тоннами грязи, а Роберт Моррис, утверждающий, что «земля прекрасна», смешал ее с дегтем, нефтью, желатином и другими веществами (выставка в галерее Двен в Нью-Йорке). В наши дни ни одна глупая выходка не обходится без социального обоснования, и, пользуясь такими естественными элементами, как земля, представители «невозможного искусства» стараются оправдать свои приемы протестом против урбанизации, наступления технической эры, подавляющей природу. «Если природа отступила под натиском современной технологии, почему она не должна в отместку атаковать технологию?» Так думает Деннис Оппенгейм, и, для того чтобы показать это, он покрывает асфальт на стоянке машин в Нью-Йорке одним из основных элементов природы— солью. Совершенно логично, что это произведение называется «Соленая плоскость» 33. Но вернуться к природе трудно в городской обстановке, и для вполне свободного творчества «невозможным художникам» нужны большие пространства. Их деятельность требует неограниченной и ничем не замкнутой среды, где природные компоненты выступают в чистом виде. Так, Майкл Хейзер создал свое «Двойное отрицание» в Неваде. Это гигантская траншея, вырытая в горе, длиной в 1600 метров и шириной в 30 метров. Высота боковых стен достигает 60 метров. При этом было удалено 240 тысяч тонн грунта. Несм отря на такие масш табы, по слова м автор а стать и в журнале «Art in Ameri ca» Д. Шайр и, «иску сство Хейзе ра очень лич302 ное, он созда ет его для себя п для искус ства —ни для кого бо- 34 лее» . Любо пытн о, однак о, откуд а взяли сь при этом экска ватор ы и бульд озер ы, кем был предо ставл ен само лет для съем ки всего этого предп рияти я и не являе тся ли все это техническим сооружением? 0 Уже известный нам Вальтер де Мариа находит, что подходящим местом для таких гигантских земляных работ может быть только пустыня Сахара. Но Ричард Сёрра считает достаточным устроить пыльную бурю в штате Канзас при помощи четырех вертолетов. Эта гигантомания является одной из характерных черт «невозможного искусства», которое, по выражению одного из его защитников, «штурмует широкие пространства земли, воды и воздуха»33. Действительно, кроме земляного искусства существуют также искусство воды, искусство неба (Skywork) и т. д. Деннис Оппенгейм при помощи громадной пилы выпилил массивные куски льда. Его «ледяное произведение» состояло в том, что глыбы льда плавали в воде. Это творческое усилие совершилось в северной части штата Нью-Йорк. В штате Мэн тот же Деннис Оппенгейм подверг художественной обработке занесенные снегом скалы на побережье океана, стараясь придать им новую конфигурацию. «Это самое грандиозное искусство, какое только можно вообразить»,— сказал Оппенгейм34. Что представляет собой небесное искусство? Вот характерный пример. «Пространственный художник» Форрест Майерс создал одно из своих произведений при помощи четырех мощных прожекторов, осветивших ночное небо над Нью-Йорком. Майерс экспериментирует также с лазерами. Он же предложил проект устройства, состоящего из четырех ракет, установленных на расстоянии мили друг от друга. Предлагается осуществить их запуск одновременно, с тем чтобы они оставили позади себя струи дыма, окрашенные в разные цвета. Таково 35 искусство как внешнее экспериментальное средство» . Громадные размеры совершаемых антихудожниками творческих актов (пли, может быть, это следует назвать иначе?) должны показать их непримиримость по отношению к прежнему искусству, которое состояло в общем из произведений, доступных частному присвоению. Другой формой борьбы против возможности овладеть их произведениями, купить и вообще сделать предметом личного потребления является в практике «невозможного искусства» его эфемерность, доступность разрушению, отсутствие прочной, самостоятельной основы. Это стремление совершенно проти-воположо традиционному желанию прежних художников создать произведения, рассчитанные на века, применяя для этого наиболее "Р°ичные материалы и совершенную технику. Здесь все наоборот. Майкл Хейзер гордится тем, что вырытые им летом 1970 года в пустыне штата Невада девять гигантских траншей будут постепенно занесены пылью, что дожди сгладят края искусственных рвов, выражающих вмешательство человека в стихийную жизнь природы; и пустыня возьмет свое. Художник Бакстер создает «Фонтан», в котором вода постепенно разрушает его основание. Это как дет303 ское чувство двойственной радости, когда вода уносит крепость, построенную из песка,— пишет объясняющий цели Бакстера критик36. Деннис Оппенгейм фиксирует посредством фотоаппарата не только процесс создания своих кругов, вырытых в снегу, но и самый процесс их естественного разрушения. Чем вызваны все эти диковинные «противочувствия», говоря словами поэта? Они мотивируются тем, что старое искусство полностью выродилось в коммерческую систему продажи и потребления. Художники «новой волны» имеют при этом в виду не столько старое музейное искусство, сколько современную коммерцию модернизма. Они грозят разрушить этот союз искусства и капитала, поддерживающего новые течения начиная с Дюран-Рюэля, Воллара, Канвейлера. Мы уже говорили о том, что течения, подобные минимально-, му, концептуальному, бедному и т. п. искусству, связаны искрен-1 ними или фальшивыми нитями с бурей социального и поли-, тического протеста, бунтарством молодежи на Западе и тому по-' добными явлениями. Это, разумеется, настраивает нас в пользу «новой волны», несмотря на всю ее очевидную бессмысленность. Однако наша симпатия к подобным восстаниям против индустриального и потребительского общества слабеет, когда мы читаем социальные оправдания антиискусства в таких дорогих журналах, как «Art in America», рассчитанных на богатых собственников. Так, объясняя в статье из упомянутого журнала причины появления «невозможного искусства», Томас М. Мессер пишет: «Разочарование в существующем строе и протест против этого строя являются бросающимися в глаза атрибутами современной молодежи. Эти чувства и соответствующие им способы поведения, как это всеми признано, не сложились в твердые формы определенных движений. Они не создали политических программ и организаций для их осуществления. Напротив, этот протест имеет тенденцию оставаться пассивным, лишенным установленной идеологии, не имеющим никакого завершения, никакой структуры в определении своих целей и методов. Конечно, не потому, что указанные выступления молодежи неэффективны или им не хватает серьезных задач. Последние политические события, увлекшие студентов и молодежь во всем мире, доказали обратное. Не удивительно, что художники этого поколения движутся в том же направлении, поворачиваясь спиной к целям и средствам, которые применялись их предшественниками. Подобно своим сов ременникам в политическом и умственном смысле слова, они ухо дят в свою собственную область от старомодной игры сил, кото рая должна, скорее, заменить уже дискредитированную организа цию но в о й стр укт ур о й то го ж е типа. То , что мы в ид им перед собой, есть формирование нового языка и новых подходов, коренным образом отличных от тех, которые господствовали раньше»37. • Так пишет директор известного музея, основанного миллионером Гуггенхеймом в Нью-Йорке. При всем этом заигрывании с движением молодежи и даже лести ему совершенно ясно, что речь 304 187. М. Дюшаи. Фонтан. 1917 Д ж. Б ей и. Пространственная пластика. 1968 305 189. К. А н д ре. 64 куска меди. 1969 191. Д. Флевин. Номинал три. 1963. Холодный люминесцентный свет 190. С. Левит. Три части конфигурации 789(Б). 1968 192. Т. С ы и т. И] ралытая KOCTL . 1962 307 194. 1\. О л ь д е к б у р г. Без названия. 1968. Образец современной «монументальной» скульптуры 193. Р. Б л е й д е н . «X». 1967 308 195. Общий вид выставки произведений концептуального искусства Дж. Кошута 309 197. Р. С м и т с о н . Песчаник и зеркало. 1969 196. Д. Джадд. Без названия. 1968. Фрагмент 310 198. Р. С ё р р а. Без названия. 1969 311 200. Р. С м и т с о и , Спиральная дамба. 1970 199. М. Х е й з е р . Двойное отрицание. 1969—1970 312 201. М. Х е й з е р . Смещенная и поставленная обратно масса. 1969 313 идет именно об укреплении устаревшей организации «новой структурой того же типа». Прежде всего бросается в глаза тот факт, что и предшествующие школы модернистского искусства также говорили от имени молодежи, идущей в авангарде прогресса. Уже целое столетие речь идет о том, чтобы каждый раз «повернуться ' спиной к целям и средствам» своих предшественников. В движе-■ нии постмодернизма повторяются та же система и та же струк-i r тура, состоящие в замене реального содержания новым формальным экспериментом. На сей раз новый эксперимент выступает как отрицание прежних формальных экспериментов, но дело от этого не меняется. Рассмотрим теперь общественные претензии, выдвинутые теоретиками новых школ, их основной тезис, согласно которому существует прямая связь между социальным движением современности и «новой волной» конца 60-х годов. Совершенно естественно, что социальное брожение, которое происходит сегодня в странах капитализма, не может не вызывать те или другие попытки спекулировать на его слабостях. 202. Д. О п п е н г е й м . Соленая плоскость (асфальт, посыпанный солью) Пример «невозможного искусства» дает нам прекрасный материал для суждения о том, насколько художникам «новой волны» удалось совершить задуманное ими и столь широко рекламированное дело победы над потребительским обществом. Нет, нужно признать, что подвиг не удался и чуда не произошло. Посредством магии модернистских школ победить капитализм создаваемую им удушливую атмосферу всеобщей продажности, «отчуждения» нельзя. Скорее, наоборот, пример «невозможного искусства» показывает, как служат эти фантазии укреплению «истеблишмента», создавая искусственные отдушины и легко покупаемые формы мнимой свободы. Невозможное искусство быстро оказалось вполне возможным. Признаки его «невозможности» в буржуазном обществе, то есть мнимой невозможности подчинить его господствующим денежным отношениям, с точки зрения защитников этого искусства таковы: во-первых, абсурдно огромный физический объем того, что выдается здесь за произведение искусства, что исключает как будто всякую возможность «манипулировать» этими произведениями, покупать и продавать их, вешать их на стены музеев и частных коллекций; во-вторых, недолговечность и хрупкость этих предметов 203. Ф. М а й е р с. Прожекторы над Нью-Йорком. Световое искусство модернистского творчества или даже часто мифическое их существование. тог Некоторые из них считаются произведениями 314 искусства лишь да, когда они разрушаются. Таким образом, их «вещный» характер находится под сомнением, а это противоречит требованиям Потребительского общества; . 315 в-третьих, зрительное воплощение «невозможного искусства» тяготеет к таким темам, которые всегда были табу, то есть как бы недозволены в буржуазном обществе. На основании этих признаков новое антихудожественное творчество объявляется разрушением всяких каналов связи между художником и зрителем, а потому чем-то независимым от угождения его вкусу, открывающим новую эру полной свободы художника. Именно в антиискусстве обретает свободу искусство, говорят нам защитники «новой волны». На деле фразы о враждебном отношении между «невозможным искусством» и коммерцией и о том, что его нельзя выставлять в музеях или галереях, нельзя приобретать для частных коллекций, были быстро опровергнуты при помощи самих антиартистов. Их «великие деяния» сняты при помощи кинокамеры ими самими или владельцами галерей и организаторами выставок в музеях. Фильмы и фотографин фиксировали различные этапы работ и вместе с декларациями художников демонстрировались на многочисленных выставках. Работы во время их создания показывались по телевидению в специальных передачах. Изготовлены также открытки, которые можно было купить здесь же, с изображением антихудожественных актов. В некоторых случаях земляные работы «невозможного искусства» производятся на месте, возле здания музея или выставки. Так, во времд выставки в Амстердаме, которая называлась «Квадратные гвозди в круглых дырках», антихудожник Хейзер вырыл четыре траншеи по углам музея, где находилась выставка. Однако и для «невещественных произведений» Хейзера нашелся коллекционер. Это — Роберт Скалл, владелец таксомоторного парка в Нью-Йорке, собирающий произведения авангардистского искусства. Он дал Хейзеру заказ — прорыть серию скважин между несколькими высохшими озерами в штате Невада. «Раньше моей галереей были стены,—говорит Скалл, — но с появлением произведений, подобных хейзеровскому, моей галереей стали открытые пространства» 38. Таким образом существуют покровители этих движений, те же самые, что и раньше,—это владельцы галерей, директора музеев, частные коллекционеры, промышленники, которым связь с новым искусством нужна в рекламных целях. Об этом прямо говорит в предисловии к каталогу бернской выставки «Когда отношения становятся формой» Филипп Моррис — крупный торговец сигаретами, патрон этой выставки. Как пишет рецензент «Les lettres fran-c.aises» Мишель Клора, столь откровенно о связи художников с деловым миром еще не сказал никто. «Я говорю открыто о тайных сторонах «нового искусства», которое является частью делового мира... Деятельность мецената не является прибавлением к нашей коммерческой деятельности, она является ее неотъемлемой частью. Поскольку мы являемся деловыми людьми, идущими в ногу с нашим временем, постольку нам приходится поддерживать все новое и экспериментальное во всех областях». 316 Так говорит коммерсант Филипп Моррис. А вот двусмысленные слова рецензента, который комментирует Морриса: «Скандально не поведение мецената, который говорит правду, скандально поведение художника, который эту правду скрывает»39. Нельзя ли прийти к выводу, что скандально и то и другое — ложь о мнимой независимости «новой волны» от денег и циничная правда капиталистов, которая, по существу, тоже есть ложь? Эти примеры можно было бы умножить. Антихудожник Деннис Оппенгейм поручил фермеру вскопать участок определенной формы под свеклу. Свекла с этого участка пошла на сахарный завод одного из покровителей нового течения, а сахар затем был упакован особым образом и продавался на выставке Оппенгейма. Вообще говоря, при всех своих гигантских и трудоемких антиэстетических, отрицающих искусство акциях, антиартисты необходимо должны пользоваться землей и орудиями производства— экскаваторами, бульдозерами, мощными прессами, плавильными печами и т. д., не говоря уже о найме рабочей силы. Кто же оплачивает эти процессы создания антихудожественного художества, искусства контрискусства? Конечно, те, у кого есть деньги. Они же платят за рекламу, без которой произведения такого рода вообще никому не были бы известны. Антиискусство, направленное против потребительского общества, нуждается в средствах этого потребительского общества, чтобы заявить о своем существовании. Полная свобода, которую ставят себе в заслугу «невозможное искусство» и ему подобные течения, выражается в таких актах, которые не затрагивают устоев современного капиталистического мира и, собственно говоря, не являются вообще какими бы то ни было общественными актами. Так, например, английский художник Ричард Лонг проявил свою полную свободу тем, что прошел по Бернскому нагорью сорок километров. Этот акт и был представлен им для участия в Бернской выставке новейшего искусства. За своеобразным путешественником следовали корреспонденты с киноаппаратами и фотокамерами. Но как только демонстрации сторонников этой свободы чемто затрагивают реальный порядок существующего строя, хотя бы в мелочах, они натыкаются на жесткую преграду. Так, американский художник Вейнер рассказывает: «В конце 1959 года я поехал в Калифорнию из Нью-Йорка для того, чтобы построить несколько структур и поразмышлять. Годом позже в Калифорнии я создал серию полевых работ, кратеров, образованных взрывными веществами. Это были мои лучшие произведения, но, так как они были сделаны в общественном парке, меня поймали. В силу того, что никакого злостного намерения у меня установлено не было, я получил условный приговор и был оштрафован на 20 долларов. Основным моим интересом в то время была природа тех специфических кратеров, которые при этом формировались. Я вернулся в Нью-Йорк в смятении»22. Другой пример. На уже упоминавшейся выставке новейшего искусства в Берне (она была показана и в Лондоне), происходив-Шей под эгидой коммерсанта Филиппа Морриса, художникам бы- 317 ла предоставлена полная свобода разрушать каменный пол в вестибюле музея, размазывать топленое свиное сало, резать стены, лить расплавленный свинец. Однако когда художник Бюрен расклеил по городу свои плакаты, которые представляли собой всего-навсего полосы белого и зеленого цвета, нанесенные на большие листы бумаги, его выследили, и той же ночью он был доставлен в полицию. Характерно, что эти бело-зеленые плакаты, выставленные в большом количестве в Кунстхалле Дюссельдорфа («Проспект 1968»), не вызвали, разумеется, никакого преследования. Порядок не был нарушен39. Словом, свобода от общества, провозглашаемая «невозможным искусством», быстро интегрируется или пресекается обществом. И если сторонники этой левацкой выдумки были бы действительно революционерами, они должны были бы не уничтожать искусство как связь между художником и зрителем, а стремиться придать этой связи такой характер, чтобы она могла способствовать росту самосознания людей и понимания ими условий их жизни, необходимо диктующих борьбу против капитализма, более реальную, чем нелепые символы кратеров и вспаханных полос. Конечно, когда люди строят баррикады, в этот момент они искусством не занимаются, но, вообще говоря, между баррикадами и наслаждением красотой никакого противоречия нет, ибо чувство красоты есть наглядное живое выражение истины и подлинное искусство не примиряет с неправым миром, а возбуждает людей для борьбы за идеал лучшей, более прекрасной жизни. Но для этого, разумеется, искусство должно стоять на почве жизни, реальной жизни, быть реалистическим, а не проникнутым мистикой и магией абстрактного отрицания реальности. Если взглянуть на современную волну антихудожества и контрискусства исторически, то легко заметить, что она является закономерным выводом из всех прежних модернистских отрицаний. Сначала художники этого направления отрицали рисунок, светотень, колорит. Потом их ненависть обратилась против изображения вообще. Появилось искусство ничего не изображающее. Далее процесс отрицания коснулся уже самой живописи или скульптуры, и вместо них целью художника стало выбрать и выставить обыкновенную вещь, продукт промышленности, купленный, например, в соседнем магазине. Это — поп-арт. Наконец, дело дошло до того, что и эта вещь еще слишком реальна для художника. Он переходит к чистому акту, и притом акту отрицания. Предметом его сознательно антихудожественной деятельности, деятельности разрушения искусства, которую он с гордостью себе приписывает, является создание «неизвестного». Сначала грубое бытие вместо изображения, которое создает только копию действительности, потом небытие, ничто, как последний вывод из этой цепи отрицаний. Методы этого процесса ликвидации искусства имеют два давно\ сложившихся и характерных направления. Одно из них носит открыто иррациональный характер. Оно старается подорвать реальность нашей картины мира путем обращения к внутреннему самовыражению субъектов, его подсознательной деятельности. Таковы 318 в недавнем прошлом модернизма так называемая лирическая абстракция или абстрактный экспрессионизм (иначе называется ин-формализмом). Из современных течений к этому направлению ближе всего подходят концептуальное искусство, бедное искусство, земляное, микроэмоциональное, невозможное и прочие подобные фантазии. С философской точки зрения, все они более или менее близки явлениям современного экзистенциализма. / Другое направление полемики против реальной картины мира исходит из противоположного полюса. Оно объявляет себя сверхрационализмом, для которого реальность со всей ее жизненной стихией является источником всякой порчи, коррупции. Таковы направления, подобные минимальному искусству, искусству первичных структур, холодной школе, серийному искусству и т. п. Они также имеют своих предшественников на прежних этапах модернизма. Так, минимальное искусство ссылается на вес виды пуризма в прошлом, и в частности на традицию русского конструктивизма. В уже цитированном нами каталоге выставки минималистов мы читаем: «Минимальное искусство и близкие ему течения, заинтересованные в будущем техники, показывают известную близость к русскому конструктивизму 1914—1922 годов. Несмотря на то, что эти течения выросли в совершенно разных условиях, они имеют в конце концов одну общую исходную точку: безусловное отрицание западной классической традиции в искусстве, потому что эта традиция принадлежит к тому периоду культуры, который стал уже историей» 40. Минималисты подчеркивают, что они хотят развивать не формальные моменты конструктивизма, а именно концепции, лежащие в его основе, идеи о цели и месте искусства в обществе, но прежде всего идею разрыва с какой бы то ни было исторической традицией. С точки зрения общего мировоззрения и философии, это второе ультрарациональное направление современного авангарда ближе всего к модному структурализму. Совершенно очевидно, что противоположность этих потоков, направленных в одинаковой степени против реальной картины мира, является относительной. Рационализм переходит в иррационализм, а лирика существования является мертвой рассудочностью, чуждой действительной жизни. Из всякого преувеличения растет фальшь художественная и ложь с точки зрения теории. Современное же модернистское искусство, если можно его назвать этим высоким именем, движется среди гигантских болезненных преувеличений, которые могут родиться только в самом воспаленном воображении. Поэтому никакой опасности для капиталистического миропорядка они не представляют, несмотря на свою «левую» критику буржуазности. Действительную опасность они представляют для демократических и социалистических движений современности, и именно тем, что своей подкупающей наивные Умы демагогической внешностью привлекают какието слои их Участников. Нужно, однако, считаться также с другим фактом, которого мы касались в начале этой книги. Фантазмы модернистского соз319 нания дошли сегодня до такого уровня нелепости, что они не могут не вызвать протеста даже со стороны тех людей, которые живут под тяжким прессом всей атмосферы ложного сознания, навязанной рядовому человеку современным капитализмом. Поэтому неизбежен протест против засилья модернистов и неизбежен поворот к реалистической, здоровой основе искусства. Рано или поздно это оздоровление произойдет и на Западе. Передовое общественное движение полностью соединится с реалистическим идеалом в искусстве. Вести о том, что из протеста против надоевшей истерии модернизма рождается новая реалистическая волна, приходят отовсюду. Правда, есть опасность заражения ростков нового трупньш_ядом авангардист£.ких^ге_чен.и1Щ Ведь мы знаем, "что явления псевдо-рсализма уже бывали й" что они были даже крепко связаны с правым радикализмом в политике. В настоящее время мы также слышим о неоконсервативных настроениях. Есть попытки связать реалистические явления современного западного искусства с немецкой «новой вещественностью» или итальянским «новеченто-» времен Муссолини. Есть, наконец, просто тенденция преувеличенной мертвенности изображенных реальных форм, отнюдь не противоположных модернизму. Словом, сама по себе победа реалистического метода не придет. Она требует постоянного внимания критики, передовой в полном смысле этого слова, то есть способной последовательно отстаивать эстетические идеи Маркса и Ленина. живой РЕАЛИЗМ ИЛИ МЕРТВОЕ ПОДОБИЕ ? Как уже говорилось выше, в настоящее время на Западе, и в частности в Соединенных Штатах Америки, постоянно говорят и пишут о кризисе модернизма, который в течение нескольких десятилетий претендовал на звание авангарда, пользуясь немалым финансовым покровительством и неслыханной прежде рекламой. Пишут также о неизбежном возрождении реалистических тенденций. Нельзя не согласиться с этим. И нам остается только найти критерий, определяющий разницу между действительно реалистическими тенденциями и теми явлениями современного мирового искусства, в которых реальность изображения становится только внешней упаковкой, скрывающей нечто прямо противоположное, то есть новую волну модернистской фантазии. Начнем с противоположного. Общей чертой современного ир-реализма, или, как его обычно называют, модернизма, является своеобразная игра художественного сознания с самим собой. Участники этой игры смотрят на всякое правдивое, или, как они выражаются, традиционное изображение окружающего мира свысока, подозревая сознание художника, способного создавать такие изображения, и сознание зрителя, способного ими любоваться, в наивности. Ни отрицание линии контура, ни отрицание светотени, локального цвета, красочного пятна или других элементов живописи не является обязательным признаком модернизма. Все эти элементы встречаются в модернистской живописи с одним условием: они должны быть определенным образом преувеличены, вырваны из живой связи реального видимого образа и превращены в условные знаки, указывающие на то, что художник и зритель не принимают реальный мир всерьез, как истинную действительность, но отталкиваются от него, делают его чуждым себе посредством особой процедуры, которая в немецкой литературе называется Ver-fremdung, а у нас, по терминологии формалистов начала века,— остранением. Разумеется, участники этой игры не понимают, что их позы отрицания обычного человеческого восприятия и традиционной живописи, связываемой обычно с наследием эпохи Возрождения, их вечная рефлексия, погоня за всякого рода вторым смыслом сами являются достаточно наивными и представляют собой только временное и преходящее состояние современного художественного мышления, подавленного кризисом старой классовой цивилизации. Тем более ценна всякая попытка вырваться из круга этих болезненных припадков страха перед наивностью мужественного реалистического сознания, создавшего все чудеса классического искусства в прошлом. Прекрасный случай выяснить разницу между подлинным реализмом и его противоположностью дает нам не какое-нибудь модернистское направление образца 1912 года, не абстрактное искусство 50-х годов, а современный гипер- или фотореализм, имею- ; щий своих адептов во многих странах западного мира, проникающий, к сожалению, иногда и в нашу художественную жизнь. Уже ■со времен появления дагерротипа существовали старые аргументы 322 ''*'-■■;.■ ■■ ■ ■■:'. -л'™**" 204. М. Морли. «Крнстофоро Коломбо». 1965 205. Д ж. Джемс. Автобусы. 1972 323 ""^'" e 208. Д. С и г а л . Кино. 1963 326 Д- Х э н с о н . Женщина с тележкой для покупок. 1969. Раскрашенный муляж из синтетических материалов 327 210. Д. Х э н с о н . За обеденным столом. 1971. Фотография художника с муляжной скульптурой женщины, сделанной из синтетических материалов и раскрашенной им 328 21]. Д Х э н с о н . Бездомные негритянского гетто Нью-Йорка. 1972. Муляжная скульптура 329 против реалистического искусства, согласно которым фотография заменила собой живопись, основанную-насходстве, сделала ее ненужной. Еще недавно эти аргументы Г были в полной силе, так же как утверждения, согласно которым скульптура, похожая на реальность, уместна только в известном музее восковых фигур мадам Тюссо, а подлинное искусство начинается там, где видимый образ мира подвергнут какой-нибудь деформации. И вот в наши дни появилось новое направление искусства, которое не только не боится фотографического сходства, но даже с особой настойчивостью его подчеркивает. Перед нами, например, раскрашенная фотография. Это произведение американского художника Одри Флэка «Семейный портрет» (1969—1970) в роскошной золотой раме. Родители с детьми позируют фотографу, уставившись в аппарат. По всей вероятности, в жизни этих людей есть моменты, рисующие их с более благоприятной точки зрения. Но здесь, когда они, так сказать, лезут в вечность во всем своем муравьином существовании, эти люди не вызывают симпатии. И виноваты в этом, собственно, не они, а художник, который выбрал из живой действительности только пошлость, изображая ее без всякого юмора с каким-то упоением. Быть может, художнику кажется, что он неподкупен и, отказавшись от всякой идеализации, представляет нам жизнь такой, какая она есть; в действительности же он выдвигает на первый план не истину жизни, а ложь ее. Характерную черту психологического настроения, создаваемого фотографической живописью, можно назвать тотальным равнодушием. Художник убеждает зрителя в том, что нет на свете ни добра, ни зла, как нет высокого или низкого. Современная жизнь, конечно, очень сложна, но она не заслуживает такого жалкого и, можно даже сказать, пораженческого отношения к ней. То же самое происходит в современной западной скульптуре. Муляж или манекен, всегда служившие символом антихудожественности, становятся последним прибежищем изощренного искусства. Ясно, что это парадокс, делающий реальное сходство изображения с его моделью оружием, направленным против реализма. Б распространенной формуле «гиперреализм» главное, конечно, в приставке «гипер» (чрезмерно, слишком). Согласно правилам игры, предложенной гиперреализмом, момент механического сходст1 ва должен быть вырван из живого контекста реального образа и| превращен в доказательство того, что художник вовсе не верит Bj реальность, что она для него мертва и по существу ему отврати-1 тельна. Это намеренное превращение реализма в его собственную противоположность было отмечено советскими авторами еще в начале 50-х годов, когда подобные тенденции только намечались. В настоящее время, когда различные псевдореалистические приемы стали последним убежищем модернизма, об этом много пишут и за рубежом. Так, западногерманский автор Петер Загер в своей работе «О новых формах реализма» не скрывает от читателей, что 330 тографические эксцессы новейшего направления имеют целью мертвить подлинную реальность1. То же самое пишет в Соединенных Штатах известный художественный критик Гералд Розен-'ерг" «Ничто не может сравниться с суперреалистическим искус-°твом в разрушении нашего чувства реальности»2. Чем же достигается этот эффект? Прежде всего насильственно создаваемым тождеством изображения и самого предмета. Розен-берг указывает на исторических предков современного вкуса к мертвому подобию, усматривая их в так называемых trompe l'oeil изображениях, обманывающих глаз, вплоть до известной еще в древности мозаики «невыметепного пола». Но он забывает одно существенное обстоятельство. Как бы ни были сходны с реальностью такого рода изображения, знакомые прежней истории искусства и часто создающие тонкое эстетическое впечатление (достаточно вспомнить замечательного русского художника Федора Толстого или в другом роде—американца Гарнета), это всегда изображение, а не бутафорское, механическое подобие. Всякое подлинное искусство, в том числе искусство trompe l'oeil, передает образ, видимый человеческим глазом. Видим же мы обращенную к нам внешнюю сторону предмета, имеющего свое самобытное внутреннее строение, свое содержание, истинное, действительное. Напротив, человек, который рассматривает сделанные из стекловолокна манекены Джона де Андреа, видит не образы реальности, доведенные до тонкой иллюзии, а образы бутафорских подобий, лишенных внутреннего существа. Эти манекены пугают не евсей реальностью, а своей призрачностью. При всем сходстве с человеком в них нет сердца, нет кровообращения, нет ничего, что выражается в самом явлении, во внешнем виде предмета, как бы он пи был изображен художником — в более общих и условных формах или с тончайшим подражанием его видимому -облику. Капля росы, изображенная с величайшей тонкостью Федором Толстым, обманывает глаз во имя истины, манекен, выделенный в самостоятельное средство художественного воздействия на зрителя,— во имя лжи. Сохраняя грань между изображением и реальностью, подлинное искусство верно постигает эту реальность. Здесь иллюзия выражает невидимые нами, но существующие независимо от нас общие связи жизни, ее содержания. Напротив, стирая грань между образом и реальностью, гиперреализм достига-ет обратного результата, к чему он, собственно, и стремится: уничтожить живые связи с действительностью. Отсюда другой характерный прием разрушения чувства реальностит в гиперреализме. Для того чтобы видеть предмет как неко- °рое гармоническое единство целого и частей, необходимо рассматривать его с оптимальной дистанции, свойственной человеку. Стоит п нарушить ее, слишком приблизив или удалив наш глаз от Редмета, и смысл видимых нами форм теряется. Изображая какие-нибудь незначительные детали с таким увеличением, которое Доступно только оптическому прибору, а не обыкновенному чело-ВеЧескому глазу, художник делает окружающий мир странным и 331 призрачным. Нельзя безнаказанно ломать нормальное отношение между человеческим чувством и его предметом. Теряется идеальность целого— теряется и реальность его. Поэтому совершенно естественно, что американский гиперреалист Чак Клоуз рассматривает свои гигантские фотографии человеческих лиц, как продолжение старой модернистской войны против «традиционных методов композиции, мазка и прочего исторического балласта живописи». В своих фотографических портретах он отвергает портретность, так же как де Андреи отвергает мысль, что его манекены стремятся к иллюзии. Иллюзия присуща старому искусству, что же касается гиперреализма, то его цель — представить формы реальности, не имеющие никакого другого значения кроме самого факта их существования. Достигнуть этого, конечно, невозможно, но, создавая двусмысленность бутафорской модели, художник действительно подрывает истинное чувство реальности. Неверно только видеть в этом какое-то продолжение тех подражательных эффектов, которые имели место в старой классической живописи, независимо от того, достигали эти последние художественного эффекта или нет. Итак, стремление создать новому «изму» пышную генеалогию, укоренить его в истории искусства несостоятельно. Гиперреализм является новым средством войны против реализма (в естественном, традиционном смысле этого слова). И если мы хотим сохранить действительное, недвусмысленное содержание слов, то нужно признать, что уже само обращение к фотографии или диапозитиву как средству живописи не имеет ничего общего с искусством. Известно, что самая лучшая фотография дает лишь очень внешнее сходство с действительностью. Поэтому она легко может стать средством для лакировки ее, как это бывает в рекламных изображениях и прочих видах так называемой графической революции, но она может также сделать действительность неузнаваемой, страшной, мистической. Предшественником этого направления в 20-х годах был «магический реализм» новой вещественности. Нам остается только согласиться с характеристикой, принадлежащей автору статьи «Фотореалисты» в каталоге американской выставки 1979 года в Москве Генри Гельдцалеру: «Напряженная тишина и застывшее время напоминают ужасы паранойи или ночного кошмара» 3. Само собой разумеется, что подобное применение фотографического или муляжного сходства делает его таким же иероглифом, как любое абстрактное пятно в живописи Поллока или Де Кунин-га. Есть поэтому не только разница, но и прямая противоположность между так называемым фотореализмом и действительно реалистической тенденцией в живописи таких современных американских художников, как Эндрю Уайес или Рафаэль Сойер, при всем различии их манер. Вот почему трудно согласиться с утверждением Гельдцалера в его статье «Новые направления в фигуративной живописи»: «Не существует такого явления, как универсальная реалистическая живопись; все попытки воссоздания действительности на полотне 332 педеляются решением, что в него включается и что исклгочает-°я Именно этим определяется различие между отдельными художниками и «реалистической» живописью разных эпох». Характерно что слово «реализм» автор берет в кавычки, утверждая, что 1существует столько же видов «реализма», сколько абстракционизма, в противном случае нужно было бы признать, что существует «правильный путь воспроизведения действительности в живописи, например, академический реализм, годящийся на все случаи, но это невозможно»4. «Академический реализм» как критерий правильности приведен .• здесь, конечно, только в качестве пугала, которое обычно призывают на помощь для защиты искусства так называемого авангарда. Академическая живопись бывала плохая, бывала хорошая, но не она определяет универсальное лицо реализма. Определяет его нечто другое. Авторы цитированного выше каталога выставки американского искусства в Москве ссылаются на избирательность вкуса художника и такую же определенность данного исторического стиля в искусстве. Они хотят сказать, что каждый художник включает в свое изображение действительности на холсте или исключает из него не то, что другой. Это, разумеется, так, но разве не существует разницы между тем, что включает в свои кошмарные видения фантазия параноика, и тем, что выбирает или исключает глаз нормального человека? Наука также избирательна. Мы знаем, например, что некоторые лекарства, считавшиеся очень полезными, в настоящее время отвергаются медициной, другие же входят в моду, хотя, может ■быть, завтра их применение будет сокращено или вовсе отвергнуто. Тем не менее медицина развивается, и ее принято отличать от всякого знахарства и шарлатанства. Это верно, что искусство избирательно в зависимости от своеобразия художника, его направления и его эпохи. Но избирательность тоже бывает разная, и с нашей точки зрения существует универсальное отличие реализма от противоположного направления, котсрое можно назвать нрреа-лизмом, хотя бы даже этот враждебный реалистическому пониманию жизни эффект достигался посредством таких парадоксальных приемов, как раскрашивание фотографий или изготовление манекенов. Другой особенностью фотореализма является его заметное уча-■стие в сознательной борьбе за понижение духовного уровня, характерной для многих философских и художественных направлений современного Запада. Достаточно известны эти походы за антикультуру, мотивируемые тем, что духовная культура и самый разум «одномерного человека» вырождается в современном буржуазном обществе. Конечно, антикультура не является простым результатом невежества. Напротив, она считается последним словом тонкости и проповедуется людьми образованными до пресыщения. Но результатом подобной проповеди является все-таки возвращение к самому вульгарному мещанству, тривиальности, от которой отталкивались снобы вчерашнего дня. Отсюда в так называемом фотореализме, который в этом отношении примыкает к 333 поп-арту, выбор самых пошлых сюжетов — подражание банальной рекламе, мещанскому семейному альбому или ярко раскрашенным картинкам из модного журнала. Бесспорно, что в рамках фотографического реализма может проявиться и некоторая идейная тенденция художника, которая в субъективном смысле является демократической. Художник хочет, например, вызвать отвращение к изнанке потребительского общества и заставить зрителя почувствовать ту щемящую тоску, которую он и без того находит в себе, как малой части «толпы одиноких лиц», lonely crowd американского социолога Рисмена. Нельзя отрицать, например, что некоторые произведения Сигала илиДыо-эна Хэнсона, работающих в стиле муляжа, производят сильное) впечатление и вызывают определенный психологический эффект] сознания одиночества, заброшенности и даже ужаса. Но еще более; сильное : впечатление мы получили бы, если бы, допустим, при нас живого человека сажали на электрический стул. Такие сильнодействующие патологические эффекты по существу за пределами искусства, и если даже художник имеет самые лучшие намерения, он разлагает сознание зрителя, внушает ему отчаяние, лишает воли в борьбе со зло vi. «Меня интересует искусственность»,— говорит о себе Чак Кло-уз 5. Другие художники этого направления также подчеркивают, что мы живем теперь в искусственном мире, окружены со всех сторон механический средой и должны внушить сознание этого факта современному человеку под страхом оставить его в плену иллюзии, отсталости от современных условий жизни. Увы, эти рассуждения, обычные для всякого модернизма, лишены всякой логики. Действительно, современный человек подавлен избытком созданных им самим искусственных сил и даже обеспокоен в настоящее время возможностью гибели окружающей естественной среды. Все это теперь почти банальность. Но разве из этого факта не следует обратного тому, что провозглашает гиперреализм? Разве искусство не должно быть очагом сопротивления чрезмерной искусственности созданной человеком среды, разве не является ве* личайшей драгоценностью именно то, что оно всегда было и будет естественным, что оно всегда вызывает у нас сознание единства человека с природой? Вместо того чтобы стремиться раздавить человеческую мысль эксцессом искусственного мира, художник мог бы отдать свой талант на служение более благородной цели — борьбе за жизнь, борьбе за развитие естественных сил и способностей большинства людей. Таким образом, как с точки зрения верности изображения предметной действительности, так и с точки зрения поэзии жизни, возвышающей душу даже перед лицом самых трагических ее сторон, современный фото- и гиперреализм мешает художнику преодолеть модернистские предрассудки и возвращает его в объятия того изощренного снобизма, с которым он хочет порвать. Демократическая, народная тенденция в искусстве легко сочетается с реализмом, без всяких приставок, как это прекрасно показывает 334 паже старая американская живопись, например, искусство Уин-слоу Хомера, Томаса Икинса или Джорджа Беллоуза, но плохо сочетается с фото- или гиперреализмом. Мы рады, когда встречаем в западной литературе такие, например, утверждения, как нижеследующие слова Гералда Розен-берга: «Общепризнанно, что модернистские художественные движения последних ста лет исчерпали предпосылки дальнейшего развития»6. Мы давно говорили это, давно предвидели то, что Ро-зенберг называет «спадом увлечения модернизмом». Но какая альтернатива? — вот главный вопрос. Назвать поворотом к реализму новые способы войны против чувства реальности невозможно. Либо дальнейшая агония модернистской фантазии, либо искусство, одичавшее в погоне за идеями, как пишет Розенберг, или, вернее, за пустыми рефлексиями, вернется к нормальному изображению мира, как блудный сын в свой отчий дом. Мы надеемся, что это неизбежно. 212. У. X о м е р. Пленные. 1866 335