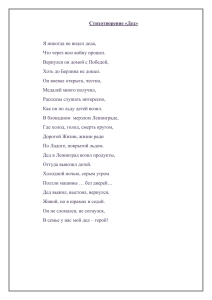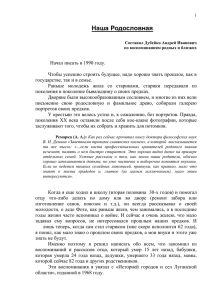31 I корыто — вот мое первое зрительное впечатление. самое
advertisement

I Корыто — вот мое первое зрительное впечатление. Самое обыкновенное, местами слегка помятое прямоугольное корыто. Такие продаются на базаре. Я помещался в нем целиком2. Не помню кто, наверное мама, рассказывала, что, когда она рожала меня на Песковатиках 3, за тюрьмой, в крохотном домике у дороги, в Витебске вспыхнул пожар. Квартал, где жила еврейская беднота, тоже горел. Нас с мамой (я лежал на матрасе у нее в ногах) прямо на кровати перенесли в безопасное место, в другую часть города. Но самое главное: я родился мертвым... Мне не хотелось жить. Представьте себе маленький бледный пузырь, отказывающийся жить на этом свете… Словно напичкан картинами Шагала. Его кололи булавками, щипали, окунали в ведро с водой, и, наконец, он запищал. Но фактически я мертворожденный. Не хотелось бы только, чтобы психологи делали из этого всякие неутешительные для меня выводы… ради Бога! 4 Пожар пощадил отцовский (дедов) дом на Песковатиках. Я недавно там побывал. Дом на прежнем месте. Когда дела у отца пошли немного лучше, он его продал. Эта хибара напоминает мне шишку на голове Зеленого Раввина («Зеленый еврей»), которого я написал в Витебске в 1914 году. Еще он похож на картофелину, вымазанную в селедочном рассоле. 31 Озирая это жилище с высоты своего нынешнего «величия», я невольно задаюсь испуганным вопросом: как мне вообще удалось родиться в таком месте?.. Как я умудрился вздохнуть? Когда в глубокой старости умер мой рослый чернобородый дед, отец за гроши приобрел другой дом. На этот раз поблизости не было сумасшедшего дома, как на Песковатиках. Из нашего окна открывался вид на церкви, заборы, лавки и синагоги. В этом было что-то изначальное, простое и вечное, как на фресках Джотто. Мимо меня туда-сюда сновали евреи, молодые и старые: Явичи и Бейлины 5. Бедняки спешили домой. Богачи шагали домой. Мальчик бежал домой из хедера 6. Мой папа возвращался домой. Кино-то еще не было. Вот люди и ходили либо домой, либо в лавку. Вот что мне запомнилось после корыта. Конечно, не считая неба и звезд. Потому что еще были звезды — безмолвные звезды моего детства. Они шли со мной в хедер, ждали меня на улице и провожали домой... Мои бедные звезды, простите меня. Я оставил вас на такой головокружительной высоте… Мой веселый и грустный город! Ребенком я в страхе разглядывал тебя, стоя у нашей калитки. И ты казался мне таким ясным и понятным. Если мешал забор, я забирался на пенек. Если и тогда было плохо видно, залезал на крышу. В этом не было ничего особенного — мой дед тоже любил посидеть на крыше. И вот весь город лежал передо мною. Здесь, на Покровской улице, я пережил второе рождение. II На картинах флорентийцев бывают такие второстепенные персонажи с нестриженными бородами, карими и в то же время как будто пепельными глазами и лицами цвета жженой охры в буграх и морщинах — вот примерно так выглядел мой отец. В пасхальной Агаде есть такой кошерный простак 7 (извини, папа!)... Помнишь, я как-то нарисовал тебя? Мне хотелось передать ощущение, какое возникает при взгляде на мигающую свечу, которая еще горит, но вот-вот погаснет… Ее запах — это запах сновидения. Муха жужжала, и клонило в сон... Есть ли смысл говорить о моем отце? Чего стоит бесценный человек, кто не имеет цены? И именно потому, что он был таким «бесценным», трудно подобрать слова. Мой богобоязненный дед, сам учитель, не придумал ничего лучше, чем отдать старшего сына на работу в селедочный подвал, когда тот был еще подростком, а младшего 8 — в ученики к парикмахеру. Предполагалось, что отец станет чем-то вроде подрядчика. Но из этого ничего не вышло — тридцать два года он фактически прослужил простым рабочим 9: таскал пятипудовые бочки. Мое сердце съеживалось, как турецкая булка, когда на моих глазах отец ворочал эти жуткие тяжести под присмотром толстопузого хозяина или голыми руками возился в ледяном селедочном рассоле... 33 Так что, мне кажется, я хорошо чувствую особую поэтическую безропотность народной души. Практически до самой смерти отец зарабатывал около двадцати рублей в месяц, не считая жалких чаевых (6–10 копеек) от покупателей. Но при этом мой папа был не из бедняков. Отнюдь. Судя по фотокарточке, запечатлевшей его в молодости, да и по содержимому нашего гардероба, отец на момент свадьбы был физически крепким и вовсе не нищим. Он подарил своей невесте модную шаль. Мама была еще совсем юной девушкой 10 небольшого росточка и подросла уже после замужества. Женившись, отец перестал отдавать деду свое недельное жалованье и начал сам вести хозяйство. Но сперва позвольте мне завершить рассказ о моем чернобородом деде. Я не знаю, как долго он учительствовал. Говорят, он был уважаемым евреем. Лет десять назад 11 мы с бабушкой побывали на его могиле. Увидев его надгробие, я окончательно убедился, что он был хорошим евреем. Безупречным. Праведным. Он лежит у реки возле почерневшей изгороди. Пенится, убегая, быстрая мутная вода. Рядом могилы других, давным-давно почивших праведников и мудрецов 12. Буквы на камне почти стерлись, но мне все-таки удалось разобрать надпись: «Здесь лежит мудрец». Бабушка указала: «Вот могила твоего деда, отца твоего отца и моего первого мужа» 13. Ее губы зашептали что-то. До меня долетали какие-то невнятные слова — то ли молитвы, то ли ее собственные. Наклонившись к надгробию, она заговорила так, словно этот камень и эта земля и были моим дедушкой. Создавалось впечатление, что она обращается к чему-то в глубине земли или говорит в шкаф, куда навсегда упрятали какую-то ценную 34 вещь: «Давид, молись о нас! Давид, молись о своих детях. Это я, твоя Башева. Помолись о твоем хвором сыне Хаце14, худеньком Зусе и об их детях. Чтобы они выросли хорошими людьми. Праведными и милосерд­ ными». С бабушкой со стороны папы мне было проще 15. Казалось, она вся состоит из платка, платья и маленького сморщенного личика. Крохотная старушка немногим больше метра. Больше всего на свете она любила своих детей и женский молитвенник. После смерти мужа она получила у ребе разрешение выйти за моего деда, отца моей матери, тоже овдовевшего. Ее муж и его жена умерли в том же году, когда поженились мои родители. Семейный трон перешел к моей матери. У меня всегда будет сжиматься сердце: во сне, или при внезапном уколе памяти, или когда мы приходим на кладбище в годовщину ее смерти — маминой смерти 16. Мама, мысленным взором я вижу, как ты медленно-медленно приближаешься ко мне, так медленно, что хочется тебя остановить. Ты улыбаешься моей улыбкой. Да, это моя улыбка. Мать родилась в Лиозно, в том самом Лиозно, где я написал дом священника, перед домом — забор, перед забором — свиней… Мать была старшей дочерью деда, который полжизни провел на печи, четверть в синагоге, а оставшуюся четверть в мясной лавке. Не выдержав всего этого, бабушка умерла во цвете лет. Тогда дед забеспокоился. Коровы и телята тоже… Правда ли, что мама была такой маленькой и неприметной? Ведь до свадьбы отец ее не видел 17. Маловероятно! Нам, детям, она казалась женщиной редкой выразительности, во всяком случае по провинциальным меркам. Но я не хочу расхваливать мать. Ее уже нет. Какие тут могут быть слова? Тем более что 35 чаще всего это не слова, а слезы… Там, у кладбищенских ворот, легче пламени, воздушнее тени… Я бегу туда плакать… Я вижу реку, мост, а за ним — кладбищенский «вечный» забор и надгробия 18. Вот где моя душа. Ищите меня здесь. Здесь все мои картины, все мое искусство. Моя тоска. Вот ее портрет. Или мой — не важно. Кто я? (Наверное, ты улыбнешься, прохожий, недоуменно пожмешь плечами, рассмеешься.) Море печали. Волосы, поседевшие до срока, глаза, в которых стоит целый город слез, душа, которой почти нет, мозг, от которого ничего не осталось. Так что же есть? Я помню, как она вела хозяйство и управляла моим отцом, с какой неутомимостью строила дома 19, открывала бакалейную лавку, нанимала извозчиков, а однажды, не имея ни копейки денег, привезла — взяв в кредит — целую телегу товара. Что слова? Невозможно описать, как она, улыбаясь, стоит у двери или сидит за столом, в ожидании покупателя. Сколько мудрости в ее речах и в ее печали. Или как вечером после субботней трапезы, когда отец задремывал за столом, всегда на одном и том же месте, посредине благословения (папа, на коленях прошу тебя, не обижайся) 20, ее глаза грустнели, и она обращалась к нам, своим восьмерым детям: — Дети, давайте споем мелодию ребе 21. Все вместе! Помогайте мне! Дети пели, пока сами не засыпали. У мамы на глаза наворачивались слезы, и я говорил: — Опять начинаешь?.. — Все-все, не буду больше. Я хочу сказать, что где-то в ней таился весь мой талант, что она отдала мне все, что имела. Пожалуй, кроме мудрости. Вот она подходит к моей комнате (во дворе у Явичей), стучится и спрашивает: 36 — Сынок, ты здесь? Что поделываешь? С Бертой 22 виделся? Есть хочешь? — Посмотри, мама! Тебе нравится? Она внимательно-внимательно вглядывается в мой рисунок, в самую его глубину. Одному Богу ведомо, что значит выражение ее глаз. Я жду маминой оценки. Наконец, она говорит задумчиво и печально: — Да, сынок, я вижу: у тебя талант. Но, послушай, может быть, тебе все-таки лучше заняться торговлей? Мне тебя жалко. Что ты будешь делать с такими плечами ?23 И откуда взялись у нас такие плечи?.. Уже много лет прошло со дня ее смерти. Маму похоронили недалеко от входа, у ограды. Рядом — могилы других женщин. Из Лиозно и Могилева 24. Инфаркт. Инсульт. Грипп. Я все это знаю. От сердца умерла моя молодая светловолосая розовощекая бабушка. Дед все больше лежал на печи или пропадал в синагоге, а она работала, работала и надорвалась. «Непревзойденный мясник» тоже умер от сердца, в синагоге на Йом Кипур, после поста, в первое полнолуние нового года. Мой дорогой, вечно юный дед! Как же я любил тебя! Как радовался, когда приезжал в Лиозно и входил в твой дом, пропахший дублеными коровьими шкурами. Овчины мне тоже нравились. Да. Все твои вещи всегда висели в прихожей у двери: одежда, шляпы, хлыст и прочие сокровища. Они удивительно смотрелись на фоне серой стены. В их расположении было что-то особенное, что-то такое, что мне и сейчас трудно выразить. Вот такой у меня был дед. Каждый день забивали по две-три коровы. Свежее мясо продавали помещику и простым обывателям. В дедовом хлеву стоит молодая телка с отвисшим брюхом. Она упрямо смотрит в сторону. Дед подходит к ней и говорит: «Ну-ка стой тихо. Сейчас мы свяжем тебе ноги. Нам нужно мясо, понимаешь?» 37