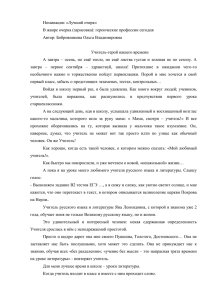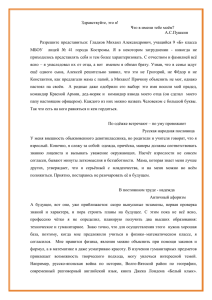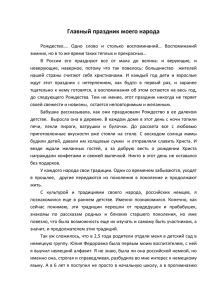Мартинелли Елена Арвидовна
advertisement
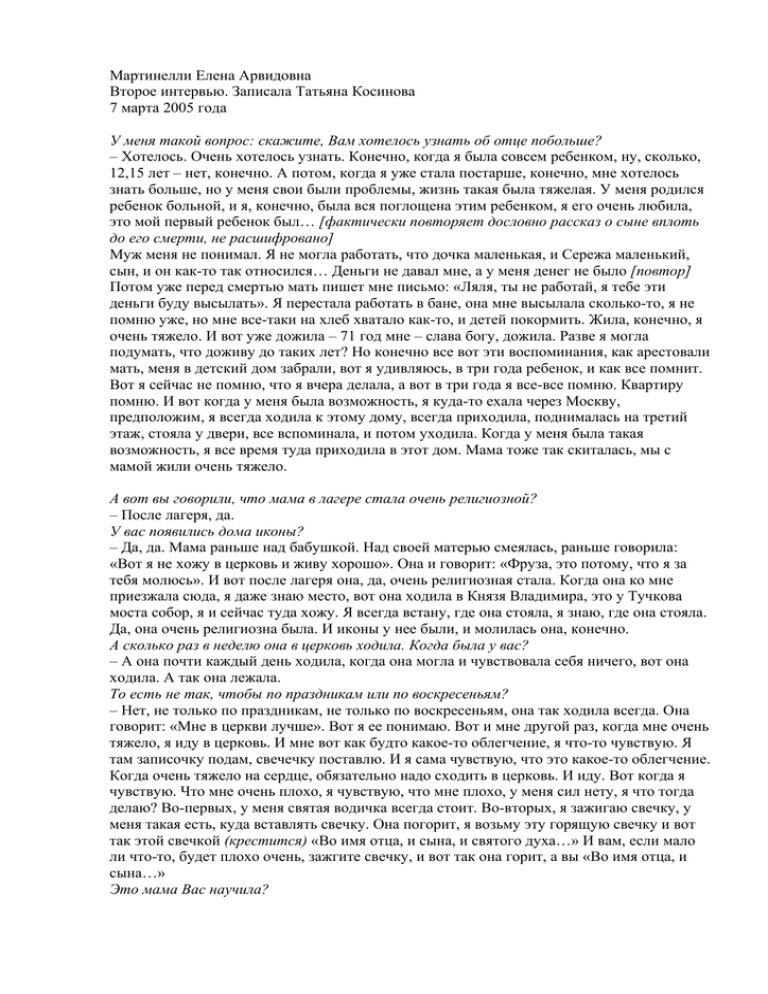
Мартинелли Елена Арвидовна Второе интервью. Записала Татьяна Косинова 7 марта 2005 года У меня такой вопрос: скажите, Вам хотелось узнать об отце побольше? – Хотелось. Очень хотелось узнать. Конечно, когда я была совсем ребенком, ну, сколько, 12,15 лет – нет, конечно. А потом, когда я уже стала постарше, конечно, мне хотелось знать больше, но у меня свои были проблемы, жизнь такая была тяжелая. У меня родился ребенок больной, и я, конечно, была вся поглощена этим ребенком, я его очень любила, это мой первый ребенок был… [фактически повторяет дословно рассказ о сыне вплоть до его смерти, не расшифровано] Муж меня не понимал. Я не могла работать, что дочка маленькая, и Сережа маленький, сын, и он как-то так относился… Деньги не давал мне, а у меня денег не было [повтор] Потом уже перед смертью мать пишет мне письмо: «Ляля, ты не работай, я тебе эти деньги буду высылать». Я перестала работать в бане, она мне высылала сколько-то, я не помню уже, но мне все-таки на хлеб хватало как-то, и детей покормить. Жила, конечно, я очень тяжело. И вот уже дожила – 71 год мне – слава богу, дожила. Разве я могла подумать, что доживу до таких лет? Но конечно все вот эти воспоминания, как арестовали мать, меня в детский дом забрали, вот я удивляюсь, в три года ребенок, и как все помнит. Вот я сейчас не помню, что я вчера делала, а вот в три года я все-все помню. Квартиру помню. И вот когда у меня была возможность, я куда-то ехала через Москву, предположим, я всегда ходила к этому дому, всегда приходила, поднималась на третий этаж, стояла у двери, все вспоминала, и потом уходила. Когда у меня была такая возможность, я все время туда приходила в этот дом. Мама тоже так скиталась, мы с мамой жили очень тяжело. А вот вы говорили, что мама в лагере стала очень религиозной? – После лагеря, да. У вас появились дома иконы? – Да, да. Мама раньше над бабушкой. Над своей матерью смеялась, раньше говорила: «Вот я не хожу в церковь и живу хорошо». Она и говорит: «Фруза, это потому, что я за тебя молюсь». И вот после лагеря она, да, очень религиозная стала. Когда она ко мне приезжала сюда, я даже знаю место, вот она ходила в Князя Владимира, это у Тучкова моста собор, я и сейчас туда хожу. Я всегда встану, где она стояла, я знаю, где она стояла. Да, она очень религиозна была. И иконы у нее были, и молилась она, конечно. А сколько раз в неделю она в церковь ходила. Когда была у вас? – А она почти каждый день ходила, когда она могла и чувствовала себя ничего, вот она ходила. А так она лежала. То есть не так, чтобы по праздникам или по воскресеньям? – Нет, не только по праздникам, не только по воскресеньям, она так ходила всегда. Она говорит: «Мне в церкви лучше». Вот я ее понимаю. Вот и мне другой раз, когда мне очень тяжело, я иду в церковь. И мне вот как будто какое-то облегчение, я что-то чувствую. Я там записочку подам, свечечку поставлю. И я сама чувствую, что это какое-то облегчение. Когда очень тяжело на сердце, обязательно надо сходить в церковь. И иду. Вот когда я чувствую. Что мне очень плохо, я чувствую, что мне плохо, у меня сил нету, я что тогда делаю? Во-первых, у меня святая водичка всегда стоит. Во-вторых, я зажигаю свечку, у меня такая есть, куда вставлять свечку. Она погорит, я возьму эту горящую свечку и вот так этой свечкой (крестится) «Во имя отца, и сына, и святого духа…» И вам, если мало ли что-то, будет плохо очень, зажгите свечку, и вот так она горит, а вы «Во имя отца, и сына…» Это мама Вас научила? – Да, это бабушка. Бабушка, с которой я жила, у нее муж священник. А сама она преподаватель была. Она мне очень много читала Пушкина, Лермонтова, много стихотворений, она такая была развитая бабуля моя. И в то же время она была очень религиозная. Вот в Рождество, помню, она говорила: «Нельзя кушать, пока первая звезда не появится» И вот бывало, кушать-то хочешь, а я все выбегаю, смотрю, скоро ли эта звезда появится на небе. Вот это я запомнила. Потом помню, как бабушка меня крестила. Мне почему-то кажется, что она меня крестила вот именно в этой церкви. А я уже большая была, потому что помню, меня посадили в купель, а я стала коленки мыть это водой. Ага, сижу, там батюшка читает что-то. а я ноги натираю. Но это я была большая. Обычно детей-то крестят, когда ребенок родится, на месяц, два, три. А я уже после детского дома. Значит, в 1939 меня взяли. А я 1934, это 5 , да, лет. То есть в 6-7 она меня крестила. А почему мама стала такой религиозной? – А вот я не могу я понять. Потому что, видимо, когда у человека очень много горя всякого, он, действительно, к богу обращается. Потому что люди, другой раз, не помогают. Люди внимания не обращают. А вот ты к богу обратишься, как-то попросишь, и как будто тебе легче становится. Не знаю, вот я сама так. Это про себя я вот так думаю. Ну и наверное. Мама тоже также. Пережила она очень много, конечно, и все. Наверное, это и послужило тому, что она стала очень религиозна после этого. А папу она всегда вспоминала только хорошо? – Только хорошо. Всегда его ждала. Ну и хорошо, что она так и не узнала, что его в 1938 расстреляли. Она надеялась на что-то всегда, до последнего дня она надеялась. Даже без сознания была, но она говорила: «Вот самолет летит, папу надо встретить». Жили. Видимо, они хорошо. Потому что вот мама ездила, как я сейчас помню, у нее были такие вещи были, неизвестно какая-то кофточка, вот на память так и лежит… Потом она рассказывала, как она в Японии была, халат такой очень красивый она тогда привезла, такой черный атласный, и вышито чем-то ярким-ярким, тут поясок. Как обычно они носят (показывает длину выше колена) и тут пояс, вот такие рукава широкие. Что-то мне вот этот халат очень запомнился. Потом уже после всего этого, когда она вернулась, она уже не тот человек была совсем. Совсем не тот. И она мне сказала так: «Ляля, поезжай в Ленинград, устраивай свою жизнь, как можешь, я тебе дать ничего не могу, и помочь я тебе ничем не могу». Я тогда приехала сюда, дальние родственницы какие-то, тетки на улице Мира, на Петроградской они жили, сейчас они умерли все. Они, конечно. Так на меня посмотрели… Я их попросила: «Устройте меня куда-нибудь на работу, на стройку там…» А они такие все образованные. Все с высшим образованием: «Ну, что ты. Ляля! Ты будешь там на стройке кирпич таскать по лесенке». – «Да я, – говорю, – не боюсь работы, но вы устройте меня». Но они что-то тянули или не хотели, я не знаю, почему. Они и прописывать меня не хотели. Я без прописки жила, а раньше это было очень сложно все. В конце концов я у них там прислуживала, а потом заболела, попала в больницу, полгода отлежала в больнице, и потом я вернулась к маме, да. А пока лежала в больнице, познакомилась со своим мужем. Любви, конечно, у меня не было никакой, но у меня было безвыходное положение. Я маме сказала, а она говорит: «Смотри сама, если не поедешь, будешь прозябать здесь. Здесь ничего нет». В Костромской области мама снимала, не снимала, а просто она за кем-то ухаживала, коридорчик нам дали какой там. Кровать там стояла, и все. «Вот хочешь так жить? А в городе все-таки, может быть. Устроишься где-то что-то, работать или что». Вот так мне и пришлось сделать. Так вот я вышла замуж. Почему, как вы думаете, такие несчастья свалились на мамину голову? Отчего это? Что это? – Ну, это, видимо, из-за отца. Тогда репрессии-то начались, мама была арестована, когда вот этого… [забыла фамилию Блюхера] арестовали, отец пришел и говорит: «Да, началось что-то…Скоро и нам не сдобровать всем». Блюхера, вот! Ну вот. А потом вот эти репрессии начались. Он уехал в командировку в Хабаровск, он по командировкам ездил, и там как раз вот его и арестовали. Он маме. Видимо. Телеграмму прислал, что его арестовали. Ну вот. И тут же маму арестовали. Так что… Я все так наглядно помню, как все это происходило, как-то это запомнилось все на всю жизнь, на всю жизнь… Вы говорили, что хотели бы забыть это… – Да очень тяжело все это, тяжело. Сколько пережито… Всё… Тяжело. Вот, говорят, есть какой-то способ стереть все из памяти, вот если бы мне все это можно было стереть. Это надо же, в три года ребенку все так запомнить… Мне, конечно, жалко, что я детства не видела, родителей своих… Отца я вообще не помню. Мать помню уже после войны… Тяжело все это вспоминать. Помню, вот с бабушкой гуляю около Выборгского дома культуры, там раньше деревянные дома стояли, бабушка выведет меня… И вот там дети: «Мама!.. Папа!..» Я стою, рот раскрою, смотрю, как это: «Мама? Папа?» Бабушка подходит, меня за руку берет, уводит сразу. Когда взяли меня в 1939 из детского дома, у меня открытая форма туберкулеза началась, я очень заикалась – на нервной почве все. Я все время там плакала. Ну, а потом еще когда блокада началась, тоже вот это еще добавило. И я когда пошла в 1-й класс, как раз в 1941 году, мы отучились, может быть, месяц. Около Выборгского дома культуры скверик был, там зенитки стояли, конечно, зенитки стреляют. И тут рядом Военно-медицинская Академия, военные заводы – немец так это бомбил, обстреливал. Конечно, нас не стали учить. А потом, когда я уже пошла в 1-й класс, когда мы эвакуировались, я вообще первое время говорить не могла. А у мегня и сейчас есть, когда вот я понерничаю, у меня и сейчас проявляется, но сей час я старая уже, а когда была молодая, я очень хотела учиться. Я работала там. В Солигаличе, где мы жили в Костромской области, я на сырзаводе сначала работала (повтор про масло, вышивки матери. Увольнение как ребенка врага народа, поросят…) Вот извините, Таничка, я когда замуж вышла и первую ночь стала спать, думаю: «Боже мой, что же это такое?..» А сама поросят-то случала (смеется – первый раз за два интервью смеется!), и видела. Я так была поражена! 19 лет – вот что дура-то! Да что ж это такое-то, думаю… И я закончила сколько?.. 8, по-моему, классов или 9, и думала, что я сюда приеду, буду работать и поступлю учиться. Я очень хотела учиться. Правда, мне было тяжело в том смысле, что я заикалась. Думаю, я как-нибудь справлюсь, возьму себя в руки, может быть, как-нибудь… Так ничего и не получилось. Все, как говорится, по другому, думала одно, а получилось все по-другому. А папа вам никогда не снился? – Нет, никогда. Никогда не снился. Конечно, хотелось бы мне узнать. Я знаю, что… Даже какой-то фильм смотрела, Мартинелли тоже была фамилия. Наш фильм, какой-т военный фильм показывают, я даже помню, на Невском я смотрела. Там был кинотеатр «Молния», вот я туда ходила и смотрела артиста Мартинелли. Мне так хотелось кого-то вот так найти… У меня сейчас вот что. Единственное, что вот дочка. Ну. У меня внуки (повтор про внуков). Я помню, вы рассказывали, что свекровь ваша очень неприязненно о вас говорила, что она такое говорила? Из-за чего она вас обижала? – Это не свекровь, а тетя мужа. Она, конечно, помогала, где могла. Но иногда она меня очень колола. Она упрекала меня, что я «дочь врага народа». Вот это очень как-то меня бесило всегда. Но вот это ее квартира, между прочим. Она, Мария Ансовна, одна осталась. Да, вы рассказывали – (повторяет про племянницу, уехавшую в Румынию, смерть тетки, квартиру) Ваш папа из Латвии. Мария Ансовна – тоже, это все равно не сближало вас? – Да, папа из Латвии. Я и сейчас считаюсь «латышка». Какая я латышка? Я вот когда новый паспорт стала получать, говорю: «Как бы мне это снять? Потому что я не латышка, я русская». А мне и сказали, что сейчас не пишут национальность. Ну, я говорю, и ладно. Да они, между прочим, сами Кавуш – это тоже что-то с Прибалтики. То есть для них неважно было, что вы латышка? – Нет. Но вот она меня подкалывала этим всем… Ну этим… Ей было жалко площадь или что? Я не знаю, ну она какая-то… С одной стороны, она вроде бы и добрая была. С другой – она вот так подкалывалась всегда. Подкалывала чем? – Вот этим, что вот, у вас с матерью ничего нет, вот ты сюда приехала на все готовое и все такое. А чего готовое? У моего мужа у Вадима мать сама уборщицей работала на нашем заводе. Что она могла детям дать? Да ничего она не могла. Вот эта Мария Ансовна помогала. А у нее институт закончен, она в Монетном дворе работала, она такая образованная женщина, интеллигентная была. Другой раз она упрекала, частенько упрекала. Даже здесь она меня. Уже больная была, не вставала, а … Я как-то сижу тут плачу, а пришла какая-то ее знакомая и говорит: «Лен, что ты плачешь?» А я говорю: «Вы знаете, что я стараюсь для нее, в се. А она, говорю, все на меня обзывается да попрекает». «Лен, – она говорит, – ты пойми, что она вот (крутит пальцем у виска). У нее уже крыша поехала. Не обращай ты внимания на нее. Не обращай. Уже старый человек: ей 90 лет». Ну, я потом как-то не стала внимания обращать, так ухаживала за ней до последнего дня. (повтор про смерть Марии Ансовны, диктофон выключен) Скажите, у мамы не было чувства вины какого-то? – По-моему нет. И перед вами она вины не испытывала? – По-моему, нет. Я тогда еще, конечно, плохо разбиралась в этом. Но мне кажется, нет. Вот ко мне у нее появилось какое-то ко мне чувство, наверное, вот за год до смерти. Когда она мне написала письмо, что «Ляля, бросай работу, сиди с детьми, я буду это присылать…» Вот за год у нее какое-то чувство появилось такое. А так я не чувствовала, что она чувствовала. Бывало, ко мен приезжала она на Куйбышева, я говорю: «Мама, вот апельсинчик я тебе… « Она берет, и под подушку скорее. Я говорю: «Мама, да чего ты, никто же не возьмет». – «Нет, дай сюда, дай сюда». И все под подушку прятала. Вот я сейчас понимаю. Конечно, у нее с головой было не все в порядке. Горчичник тоже (повтор) А вот как вы думаете, может, она так вела себя по отношению к вам потому, что вы напоминали ей то ее хорошее прошлое, которое она навсегда утратила? Напоминали отца, вызывали память о нем? Может быть, поэтому она не была с вами ласкова? – Нет, вы знаете, что, мне кажется, сказалось на ней все вот это пережитое. Вся вот эта тяжелая жизнь, все вот это на ней сказалось. Она, по-моему, ко всем так относилась и к моей бабушке, которая меня воспитывала. Какие-то вещи для нее берегла и все, она ее даже колотила и все. Конечно, это ненормальный совершенно человек. А вас она как-то обижала? – Да, она и била, и обзывалась по всякому. Да, все это было. Но вот я теперь, конечно. Понимаю, что это все от того, что… От пережитого,, что у нее уже мозги были не в порядке, конечно, нервы не в порядке. А чем это было вызвано? Были какие-то причины в вашем поведении? Ну, например, вы что-то сделали не так, она была чем-то недовольна? – Я уже так и не помню, но она очень была жестокая. Она пришла очень жестокая. Вот один момент я запомнила, как она моего зарезала козленка. Я никак не могла прийти в себя. У нас была с бабушкой коза и козленочек. Я так любила его, всегда играла с ним. Прихожу – козленка нет. Я говорю: «А где козленочек?» Как-то его там было звать…все молчат. Бабушка молчит. Мать молчит. Потом мне кто-то так потихоньку и сказал: «Мать зарезала его. Вот суп ешь, видишь, стоит». Я так плакала. И после этого я так возненавидела… И потом я не только возненавидела, я ее и побаивалась. Что раз она козленка зарезала, она может и любого зарезать. Вот это все у нее сказалось, что она пережила. У нее. Конечно. Не в порядке было с головой от всего пережитого. А не было такого, что, например, она считала, что ваш отец – он причина ее несчастий? – Нет, что вы! Она когда-то сказала мне… Арвид – это для нее был святой человек. А папа, вот как она рассказывала, сказал как-то… Он был коммунистом. Вот у кого-то там жена уехала за границу, что-то изменила или что, и папа сказал: «Если бы моя жена вот так сделала, я бы ее своими руками застрелил». Он был какой-то такой вот… Ну, это партийный человек, что он всю душу работе отдавал, всю. Он очень был такой честный. Мать говорит, что он очень честный был. Даже люди приходили там, ну. Просили там что-то помочь, он старался по возможности, он старался людям помогать. Я вот вам рассказывала, как вот уже мать арестовали, как соседка выше ребенка задушила? Такой же, как я, маленькая девочка была, мне три года было, ей, может быть, поменьше, взяла и задушила. Когда ее пришли арестовывать, говорят: «Что же вы сделали?» – «А я не хзочу, чтоб мой ребенок мучился». Вот эти слова я очень часто вспоминала, что, может быть, действительно, эта женщина и права. Эта женщина, может быть, и права. Предвидела, чем это все кончится, и какая жизнь будет у ее ребенка. А вы с кем-то могли говорить о папе? – После того. Как мама умерла, больше не с кем. Я и с мамой-то мало говорила. Вот сейчас бы я ее расспросила обо всем, а тогда – нет. А мамины письма у вас сохранились? – Нет. Нет? Вы тогда мне говорили, что будто бы они есть, ее письма к вам из Москвы? – Нет. По-моему, нет. Не помню. Знаете, может быть, где-то сейчас и есть, но я не помню. А вот то, как вы родились, что это была за ситуация? – У мамы просто роды были тяжелые. Тяжелые роды, и вот я когда родилась, акушерка ей сказала: «Да, у вашего ребенка будет тяжелая жизнь». Как бы предсказала. Ой, господи, тяжело. Тяжело – все эти воспоминания. А ваши отношения к маме и к папе были разными? То, как вы относились к маме, отличалось от отношения к папе? – Да собственно-то говоря, я же родителей и не знала. Я в три года осталась, в детском доме была. Это мать потом пришла. В 1948 году она пришла. 5 лет у нее был срок, и так как война была, она как вольнонаемная там была, а в 1948 она пришла. Вот только я с тех пор знаю. И все. А отца я и не помню, не знаю, что он и как. Это в три года без отца. Не знаю, не могу сказать. Но вы же хорошо вспоминаете отца? А от мамы пришлось столько всего перенести? – Ну, потому что я не знаю, какой бы пришел отец, если бы он пришел. Я не знаю. Ну. А вот мать пришла такая. Отца я не знаю. А как вы думаете, все люди такими возвращались? – Да я думаю, большинство, наверное, таких. Потому что их все-таки жизнь сломала. Жизнь сломала. Потому что они пережили очень тяжелое время. Очень тяжелые пытки, очень тяжелое все. Как мама рассказывала. Как они даже… Вот я говорю: «Так вы что, мама, там работали или что?» – «Да, говорит, мы овец пасли, пасли отары». Это степь там, воды нету, жара такая. Ужасно мы там. Говорит. Мучались. Не попить. Ничего. Мы даже падали в обморок. А зимой там очень холодно. Мы спали вместе с овцами. Ни в бараках, никаких, а прямо в сарае, где овцы. Так что вот какая жизнь. А я говорю: «Мам, а мытьсято как? Баня?» – «Да какая баня?... (повтор про мытье в параше мочой) Я говорю: « Как? Прямо в этом?» – «Да, – говорит, – прямо в этом. А вот руки наколоты (их посылали там пропалывать), болят, ноги, – мы только все мочой. И натирали, и мылись, – все мочой». После такой жизни: она любили отца, она ездила везде – и попасть сразу вот в такую жизнь, она, конечно, сломила сразу. Это вот как мы сейчас живем, мы привычные ко всяким переживаниям. Мы бы, может, не так бы реагировали, как то поколение. Не знаю, вес очень тяжело. Все очень тяжело. Главное, сейчас вот, на старости лет, очень тяжело, и даже обидно то. что вот мы, дети. Незаслуженно столько пережили, столько перенесли, и вот сейчас, сейчас, нас к старости жмут-жмут-жмут. Не знаю, до каких пор нас будут жать? Даже вот с оплатой там и все такое. А со временем они … Вот если я сейчас за квартиру плачу 50%, то через год это точно уже все … Ну вот. Раньше я платила за себя 50 и за дочку – 50 рублей. Так сейчас за себя – 50%, а за дочку целиком плачу… Жить очень тяжело. Главное. То, что обидно: за что же мы, дети-то страдали? За что? А вы знали каких-нибудь люде, которые тоже вернулись? – Нет. Никого я не знала. Не было никаких знакомых, и в Москве у мамы – тоже? – Нет. Никого не было. А когда вы узнали подробности арестов, когда подавали на оформление своей реабилитации? – Да. Я получила справку из военной прокуратуры Хабаровска и так плакала. Я, наверное. Целую неделю плакала. Там так подробно было все написано. Где отец? Что отец? Что расстрелян он. У меня же лежит свидетельство, что он умер в 1945 году от воспаления легких. В 1945. Поэтому мама как-то всегда надеялась, что вот… А когда я стала уже эти документы хлопотать, они уже все подробно написали. А что там написано? – А у меня тут где-то есть, я сейчас даже не помню. Подождите. (приносит справки о реабилитации) Здесь написано, что он работал «начальником управления Дальлага НКВД». А вы чтонибудь об этом знали? – Нет. Ничего не знала. И с мамой тоже ничего не обсуждали? Кем работал папа? – Нет. Она говорила, что он был военным? – Нет, она говорила, что он работает в органах НКВД. Все, больше ничего не знаю. Когдато у меня была фотография, я ее разорвала. В какой-то газете – фотография. Папа был сфотографирован с Горьким. Он и Горький. Горький приезжал где-то там, в какой-то там лагерь, они что-то чего-то. И вот отец был с ним сфотографирован. Я почему-то вот потом разорвала. Она долго у меня была и я разорвала. А почему? – Не знаю (резко и заметно громче). Не знаю, не знаю. Вот что-то на меня нашло, я разорвала. Откуда была эта фотография? Это от мамы? – Нет-нет, в какой-то газете была напечатана. Вот в какой-то газете. Это было давно, в 1990-х годах что-то вот так. В какой-то газете. Мне одна наша работница позвонила и говорит: «Лен, знаешь что. Вот в газете…» Я говорю: «Нина, принеси газету». Мы еще работали тогда. Вот она мне принесла. Я говорю: «Да это мой отец». Вот так. А потом у меня долго лежала она, а потом я чего-то разорвала. Вот тоже у меня все документы отца, которые тут были. А бабушка, с которой вы жили, она что-нибудь вспоминали о папе? – А я ее не знала. Она меня отправила в детский дом, и все. Я ее больше не видела. Это я у бабушкиной сестры воспитывалась. А та бабушка старше была, и меня ей не отдали. Ее там в подвал куда-то спустили. Я там была перед самой войной, 1940-й или в 1941 году меня вот эти тетки как-то привозили туда, одна ехала в командировку. И меня, видимо. Бабушка попросила, или как, не знаю, вот я так была удивлена, и боялась. Меня за руку ведут. А там вниз по лесенке, как сейчас вот тут у нас, такой подвал. Потом темно-темно, по лесенке. Потом какие-то доски настелены, потом комната такая. Помню, сундук у бабушки стоял, стол, керосинка и кровать. Я была тогда в 1940 или 1941. Ну еще брат был, значит, наверно, 1940 год был скорее всего. Потому что в 1941 Генку взяли в армию, и он под Москвой в танке сгорел. Он на 17 лет меня старше был. Но это не отца сын, а он его усыновил. Он тоже Мартинелли Геннадий Арвидович. И все, больше я ничего не знаю. Во время войны она умерла. Бабушкина сестра, которая вас воспитывала, что-нибудь рассказывала о маме, о папе? – Нет. Не рассказывала. Она. Собственно-то говоря и не знала, она жила совсем отдельно. Папа с мамой в Москве жили, а они-то жили в Могилевской или где-то там. А маму вы просили рассказать о папе? Кто был папа, каким он был? – Я бы сейчас с удовольствием ее расспросила, а тогда-то я как-то. мне было, знаете… Но она сама, другой раз, что-нибудь рассказывала. Да она особо и не рассказывала. Потому что я еще была в таком возрасте. Мама умерла, мне было 24 или 26 лет. Я бы сейчас бы ее расспросила, действительно, как? Что? Чего? Тогда меня это не очень интересовало. У меня свои заботы тогда были ребенок и все такое. Вот так. То есть не было случаев, чтобы кто-то что-нибудь нехорошее говорил о маме или о папе? – Нет. Нет. Никто не вспоминал? – Кому вспоминать? Никто не знал ни мою мать, ни … Вот единственное, когда мы эвакуированными были. Маму с работы выгоняли. Она, по-моему, бухгалтером устроилась в одном месте. Ее сразу выгнали, так как она жена врага народа. И работать ей не давали. Вот единственное, что было. Но по документам так. А так – ничего не было.