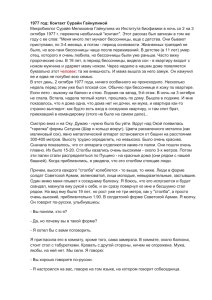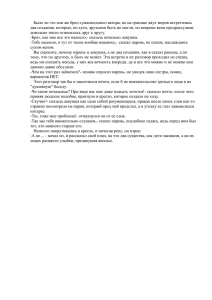Джон Фаулз КОЛЛЕКЦИОНЕР Перевод с
advertisement

Джон Фаулз КОЛЛЕКЦИОНЕР Перевод с английского. Впервые в журнале «Урал» 9,10,11,12 1989 года. I Когда она приезжала из этого своего Пансиона домой, я часто видел ее, иногда почти ежедневно, потому что ее дом находился прямо напротив Городского муниципального банка. Они вместе со своей младшей сестрой без конца то входили в дом, то выходили из него, то вообще шли куда-то гулять надолго, часто с молодыми людьми, которые, понятно, мне не нравились. Когда у меня бывали минуты, свободные от копий и гроссбухов, я часто стоял у окна и смотрел вниз, через дорогу, через изморось на стеклах, и иногда видел ее. В такие дни я обычно делал вечером отметку в своем перекидном календаре сначала буквой X, а потом, когда узнал ее имя, то и буквой М. Я видел ее несколько раз и на улице. Один раз даже стоял за ней в очереди в публичную библиотеку на Кроссфилд-стрит. Она ни разу не взглянула на меня, но я долго смотрел сзади на ее волосы, на туго заплетенную длинную косу. Волосы у нее были очень бледные, шелковистые, как дымчатый мотыльковый кокон. Они всегда были стянуты в косу, которая или была перекинута через плечо, или спускалась по спине почти до талии. Только однажды, еще до того, как она стала моей гостьей здесь, мне удалось видеть ее с распущенными волосами. Помню, у меня даже захватило дыхание, до того это было красиво. Как русалка. В другой раз, в одну из выходных суббот в банке, когда я ездил в Национальный исторический музей, я возвращался из него с ней вместе в одном вагоне. Она сидела от меня через три скамьи и чуть сбоку и читала книгу, так что я мог наблюдать за ней тридцать пять минут. Видеть ее для меня всегда было примерно, будто я подкрадываюсь к чему-то очень редкому, будто ступаю осторожно, боясь спугнуть, в то время как у самого сердце, как это говорится, уже просто выпрыгивает из груди. К Бледной Крапчатой Желтянке 1, например. Я всегда думал о ней как о чем-то в этом роде, понимая под такими словами обязательно что-то неуловимое, и Здесь и далее названия бабочек даны в дословном переводе с английского. (Примеч. пер.) 1 2 страшно редкое, и очень изящное. Совсем не как другие, пусть даже и очень красивые. По большей степени для настоящих знатоков. В тот год, когда она училась еще в этой своей закрытой школе, я не знал, кто она, знал только, что отец у нее известный доктор Грей, а однажды краем уха слышал на собрании в Секции членистоногих разговор о том, что ее мать пьет. Слышал один раз и разговор ее матери в магазине. Говорила она, конечно, этак очень правильно, «изысканно», показывая всем своим тоном, что она тут «белая кость», и со стороны сразу было заметно, что она типичная пьяница, слишком сильно накрашенная и вообще... Ну, а потом как-то в местной газете напечатали заметку о первой премии, которую она получила, сдавая экзамены в колледж, и о том, как она эрудированна и как умна, и о том, что ее имя так же прекрасно, как и она сама, Миранда. Так, из газеты, я узнал и то, что она поехала в Лондон учиться живописи. Надо признаться, что это много значило для меня, такая вот статья. Казалось, мы теперь стали ближе, после нее. Хотя, понятно, все так же не были знакомы друг с другом в прямом смысле. Не знаю, как сказать точно, что все это было. В самый первый раз, как я ее увидел, я уже знал, что она единственная. Конечно, я не сумасшедший, я понимал, что это только мечта, несбыточно, и что это так и должно быть, когда у тебя нет денег. Я часто мечтал о ней, фантазировал, выдумывал всякие истории, как мы знакомимся, как я выполняю все ее желания, как мы женимся и все такое. Но без всякой грязи. Надо признаться, что такого у меня не было никогда. До той самой поры, о которой я скажу позже. Она рисовала свои картины, а я занимался своей коллекцией (в мечтах, конечно). В мечтах всегда выходило, что она любила и меня, и мою коллекцию, рисовала ее, подкрашивала; мы работали вместе в прекрасном современном доме, в большой комнате с такими, какие еще бывают, огромными стеклянными окнами, принимали там гостей из Секции членистоногих, и сам я почти не разговаривал, чтобы не сделать какойнибудь ошибки, но, тем не менее, мы были всем известны как гостеприимные хозяин и хозяйка. Она была красива с этими ее светлыми белокурыми волосами, и, конечно же, все остальные мужчины умирали от зависти и без конца увивались вокруг. И только иногда случались дни, когда помечтать мне о ней не особенно удавалось, это бывало, когда я замечал ее с одним самоуверенным молодым парнем, шумным, вечно что-то громко кричащим учеником, конечно же, как и она, частной школы, у которого, кстати, был свой красный спортивный автомобиль. Я стоял рядом с ним однажды в Брэклайс, чтобы заплатить по счету, и слышал, как он сказал кассиру: «Я возьму пятерками», и вся суть шутки заключалась в том, что чек-то всего был на десятку. Уж такие они все. 3 И вот я видел ее иногда, как она садилась в его машину, или встречал их на машине уже в городе, и в эти дни я бывал часто очень резок со всеми в конторе и не делал, как обычно, пометок Х в своем перекидном энтомологическом календаре (это было, конечно, до ее отъезда в Лондон, с отъездом она того парня бросила). В такие дни я позволял себе мрачные мысли. Я воображал, как она плакала или как это делается, стояла на коленях. Один раз мне даже представилось, что я ее ударил по лицу, как это сделал один парень в каком-то телефильме. Возможно, так было в то время, когда все это уже началось. Мой отец разбился на машине, когда мне было два года. Случилось это в 1937 году. Он был пьян, но тетя Энни всегда говорила, что это мать заездила его до пьянства. Мне никогда не рассказывали, что случилось на самом деле, но вскоре после смерти отца и мать куда-то уехала, оставив меня тете Энни. Она, видимо, просто хотела пожить свободной. Моя кузина Мэйбл однажды сказала мне (когда мы были детьми и в ссоре), что моя мать была уличной женщиной и что она сбежала с иностранцем. Я был глуп, я пошел тогда сразу к тете Энни и прямо спросил ее об этом, и если было, что скрывать от меня, то, конечно, она тогда это сделала. Сейчас мне уже все равно, жива ли мать вообще, и встретиться с ней я бы не хотел тоже, мне это уже неинтересно. Тетя Энни всегда говорила, что нужно только радоваться такому избавлению, и в конце концов, я с ней соглашался. Так что воспитан я был тетей Энни и дядей Диком вместе с их дочерью Мэйбл. Тетя Энни моему отцу старшая сестра. Дядя Дик умер, когда мне было пятнадцать, в 1950-м. Мы поехали рыбачить на водохранилище, и я, как обычно, убежал со своим сачком в поле. Когда же я проголодался и вернулся назад, где его оставил, то увидел там толпу народа. Я подумал сначала, что это он поймал какуюнибудь большую рыбину. А его хватил удар. Его принесли домой, но он уже больше не сказал ни слова, да толком и не узнал никого из нас. Дни, которые мы провели вместе, не совсем вместе, конечно, потому что я всегда бегал пополнять свою коллекцию, а он сидел у своих удочек, и вместе мы только обедали и добирались туда и домой, но те дни (кроме еще тех, о которых я скажу позже) были самыми лучшими в моей жизни. Тетя Энни и Мэйбл, когда я был маленький, презирали моих бабочек, а дядя Дик всегда за меня заступался. Он всегда мог понять, что такое хороший улов, умел им восхищаться и чувствовал то же, что и я, когда разглядывал нового имаго, и способен был сидеть и наблюдать, как расправляются и обсыхают крылья и бабочки начинают мягкими движениями пробовать их. Он также разрешил мне пользоваться небольшой каморкой в его сарае, где я понаставил банок с гусеницами, чтобы выкармливать их. Когда я получил приз среди любителейэнтомологов за домик Нимфалиды, он дал мне фунт, с условием, что я не 4 скажу об этом тете Энни. Что и говорить, он был для меня все равно, что отец. Когда я держал в руках тот выигрышный чек, он был единственный, кроме, конечно, Миранды, о ком я подумал. Я бы купил ему самые хорошие удочки, и любые снасти, и все, что бы он ни пожелал. Но этому не суждено было случиться. Я выиграл за неделю до своего совершеннолетия. Каждую неделю я делал одну и ту же пятишиллинговую ставку. Старый Том и Кручли, ходившие со мной на игры, и несколько девчонок, ставившие в складчину и делавшие одну большую общую ставку, всегда подбивали меня присоединиться к ним. Но я все равно держался в стороне и продолжал действовать в одиночку. Я никогда не любил ни Старого Тома, ни Кручли. Старый Том был лизоблюд и подхалим, вечно лебезил перед местными властями и подмазывался к мистеру Уильямсу, главному муниципальному казначею. А Кручли был полон грязных мыслей, и он был садист, он никогда не упускал случая посмеяться над моими пристрастиями, особенно если кругом еще и были девчонки. «Фред выглядит утомленным, он провел пикантный уикенд с Белой Капустницей», — часто говорил он, или еще: «Кто была та Румяная Дама, с которой я видел тебя прошлой ночью?» Старый Том ухмылялся, а за ним хохотала и Джейн, девчонка Кручли из сансектера, она вечно торчала в нашей конторе, болтая и хихикая. В ней как раз было все те, что отсутствовало в Миранде. Я всегда ненавидел вульгарных женщин, особенно девиц. Поэтому я и делал свою собственную игру, как уже говорилось. Чек был на 73091 фунт и сколько-то, там, шиллингов и пенсов. Я позвонил мистеру Уильямсу в пятницу вечером, как только служащие с тотализатора подтвердили чек и сказали, что все в порядке. Могу себе представить, как ему не понравилось то, что я так внезапно увольняюсь, хотя сказал-то он, что рад за меня и не сомневается, что все будут рады, чему я уже позволил себе, конечно же, не поверить. Он даже посоветовал мне вложить деньги в пятипроцентный заем! Честное слово, некоторые у нас в банке просто потеряли чувство реальности. Я сделал то, что мне советовали парни с тотализатора, поехал вместе с тетей Энни и Мэйбл прямо в Лондон на все то время, пока суматоха в городе не стихнет. Старому Тому я послал чек на пятьсот фунтов и попросил разделить его с Кручли и остальными. На их благодарственное письмо я не ответил, так что, надо думать, они мой намек поняли. Ну, и единственной ложкой дегтя была Миранда. Она была дома все время каникул в этой своей художественной школе, но видел я ее только однажды, в то торжественное субботнее утро вручения чека. И все время в Лондоне, куда мы приехали, чтобы тратить и тратить налево и направо деньги, я уже думал, что больше не захочу ее видеть; я был теперь богатый человек и выгодный жених, к тому же я снова вспомнил, что это все ведь лишь глупые мечты, бред и что люди, как бы там ни было, женятся по 5 любви, в особенности такие, как Миранда. Были даже моменты, когда я думал уже, что смогу забыть ее. Но, как говорится, вы полагаете, а обстоятельства располагают. Забыть — это от вас не зависит. Это должно случиться само. Со мной этого не случилось. Будь ты рвач, да еще безнравствен, как многие в наши дни, только и мечтающие иметь миллион, и я думаю, тебе не пришлась бы ломать голову над тем, как хорошо распорядиться этими большими деньгами, когда они вдруг на тебя свалятся. Но сразу должен сказать, что я-то никогда таким не был, меня вот даже в школе никогда не наказывали. Тетя Энни была свободной от предрассудков и никогда не заставляла меня ходить в церковь или что-то там в этом роде, но вырос я все равно именно в такой атмосфере и в строгости, пусть даже дядя Дик и похаживал изредка втихаря в бар, чтобы там хорошо тяпнуть. Курить тетя Энни мне разрешила только после множества скандалов, и то уже когда я вернулся из армии, причем, так до конца и не смогла с этим примириться. И даже при всех этих деньгах и трате их она продолжала говорить, что это все против ее принципов. За что Мэйбл тайком от меня набрасывалась на нее, я слышал, как она это делала однажды. Но, как бы там ни было, я сказал тете Энни, что деньги эти мои, и это мой долг, и что она может позволить себе все, что захочет, если нет — так нет, но что нигде не сказано, что нельзя брать дары людям, свободным от предрассудков. Единственное, к чему привела меня вся эта строгость, это лишь к тому, что я слегка напился один или два раза в армии, когда был в Германии в платном корпусе. Но вот с женщинами у меня так ничего и не было никогда. До Миранды я вообще о них особо не думал. Я знаю, во мне нет того, что женщинам надо. Того, что есть, например, в таких парнях, как Кручли, который мне лично казался просто совершенно грубым, но вот он умел обращаться с девчонками. Такие хорошо ладят с ними. Знал я и несколько девчонок в банке, и это было на самом деле отвратительно, все эти взгляды, которые они бросали на Кручли. Это была та грубая животность, которая во мне отсутствовала. (И я рад, что такого у меня нет, если бы большинство людей были такими, как я, по моему мнению, мир стал бы лучше). Когда у тебя нет денег, всегда думаешь, что все будет совсем подругому, если они у тебя появятся. Но оказалось, что я не стал хотеть чегото больше, чем хотел раньше и чем мне раньше требовалось. Никаких излишеств. Но надо было видеть, как все кругом, начиная с обслуживающих в отеле, при всем их показном уважении к нам, презирали нас за то, что мы, имея деньги, не знали, как ими распорядиться. Еще и старались исподтишка унизить меня тем, что я простой клерк. Ничего хорошего не получалось и из «швыряния» деньгами, из наших попыток вести богатую жизнь. Как только мы открывали рот или делали что- 6 нибудь, мы сразу выдавали себя. И весь их вид говорил: не надо нас дурачить, мы знаем, кто вы есть; почему вы не убираетесь туда, откуда приехали?.. Я запомнил вечер, который мы провели за ужином в шикарном ресторане, который был в списке, составленном для нас ребятами с тотализатора. Еда была хорошая, мы ели, но я почти не чувствовал вкуса из-за того, как смотрели на нас люди, как стройная высокая официантка с иностранным акцентом и все остальные презрительно обращались с нами и как все в зале, казалось, глядят на нас свысока. Из-за того, что мы не так воспитаны, что не научены делать то, что умеют делать они. Я прочел на другой день в одной газете статью о классовом чувстве — я тоже мог бы добавить тогда кое-что на эту тему. Если бы меня спросили, я бы ответил, что Лондон весь устроен для тех, кто может вести себя как выходец из частной школы, и ты в нем ничего не добьешься, если у тебя нет врожденных манер и правильного, как и положено их «белой кости», произношения. Я имею в виду богатую, Западную часть, Лондона, конечно. Однажды вечером — было это как раз после того шикарного ресторана, и я чувствовал себя каким-то подавленным — я сказал тете Энни, что хочу пройтись, и ушел. Я гулял и вдруг почувствовал, что мне хочется женщину. Не в каком-то там смысле, просто знать, что у меня наконец была женщина. У меня был записан номер телефона, который мне дал один парень после церемонии вручения чека, на случай, если захочешь немного, ну, сам знаешь, чего. И я достал телефон и позвонил. Женщина ответила, что она занята. Я спросил, не знает ли она еще какой-нибудь номер, и она дала мне два. И, в конце концов, я поехал по второму адресу. Я не буду говорить, что там произошло, скажу только, что я оказался, как это говорят, не на высоте. Я слишком нервничал, я старался показать, что все об этом знаю, и она, конечно же, поняла все сразу. Она была стара, и она была ужасна, ужасна. Я имею в виду и то, как она себя вела, и как выглядела. И она была общая, затасканная, всем доступная. Как тот экземпляр, который ты обязательно выбросишь, просматривая, из коллекции. Я подумал о Миранде, если бы она видела меня там, в тот момент. В общем, как я уже сказал, я попробовал, но оказался не на высоте, да и, признаться, не слишком старался. Мне всегда не хватало грубой силы и напористости. Всегда у меня были, как это говорится, более возвышенные устремления. Кручли часто говорил, что в наше время хочешь жить, умей вертеться, и если желаешь что-то иметь, то надо добиваться. Он часто повторял, посмотри на Старого Тома, вот увидишь, куда приведет его лизоблюдство. Кручли часто был очень фамильярен, даже слишком, для того чтобы его можно было вынести, как я уже говорил. Но он тоже знал, когда нужно полебезить, поувиваться, если это приносит выгоду. Вокруг мистера Уильямса, 7 например. Немножко больше жизни, Клегг, сказал мне мистер Уильямс на торжестве вручения чека, людям нравится, когда человек хоть изредка пошутит или улыбнется, не все мы рождены такими способными, как Кручли, но можно же попробовать, вы понимаете? Все это мне страшно надоело. Банком я был сыт по горло, я все равно собирался уходить оттуда. И все же я не был каким-то особенным, и я бы мог доказать это. Одной из причин того, что мне стала вдруг надоедать тетя Энни, было то, что я начал интересоваться книгами, которые покупаются в магазинчиках Сохо. Книги с совершенно голыми женщинами и так далее. Я бы мог незаметно пронести и спрятать журналы, но мне хотелось купить и книги, но я не мог, боясь, что она обнаружит их. Потом, мне всегда хотелось заниматься фотографией, и, конечно, я сразу же купил фотоаппарат, «Лейка», самый лучший, телеобъектив и так далее. Главной мыслью было делать фотографии из жизни бабочек, как, например, знаменитые бабочки С. Бюфо. Но прежде чем начать делать фотографии для своей коллекции, я неожиданно стал фотографировать парочки в ситуациях, какие, знаете, не для посторонних глаз. Так что во мне было и это тоже. Конечно, тот случай с женщиной на меня сильно подействовал, но вдобавок ко всему было еще и другое. Например, тетя Энни загорелась страстным желанием совершить круиз по морю в Австралию, чтобы увидеться с сыном Бобом, дядей Стивом и еще одним ее младшим братом, у которого тоже была семья. И она хотела, чтобы и я поехал с нею, но, как я уже говорил, мне не улыбалось больше уже оставаться с тетей Энни и Мэйбл. Не то чтобы я ненавидел их, нет, но просто каждый может понять, что они из себя представляют, даже гораздо лучше, чем я. Всем ясно: маленькие люди, которые никогда не покидают дома. Например, они всегда ждали меня, чтобы делать все вместе, ждали, чтобы я рассказал им, чем занимался, где был, если случалось, что я провел час вне дома. После того дня, о котором я упоминал, я заявил прямо, что не поеду в Австралию. Они приняли это довольно мирно, без особых возражений, я думаю, что у них было время заключить, что это были мои деньги, в конце концов. Первый раз я пошел взглянуть на Миранду через несколько дней после возвращения из Саутгемптона, куда я ездил провожать тетю Энни. Десятого мая, если быть точным. Я вернулся в Лондон. У меня не было никаких определенных планов, я сказал тете Энни и Мэйбл, что, может быть, поеду за границу, но я не знал в точности. Тетя Энни была в сильном расстройстве, в ночь перед отъездом у нее был со мной серьезный разговор о том, как бы я здесь не женился, она сказала, что надеется, я не женюсь, прежде чем она не увидится с моей невестой. Она много наговорила мне о том, что это мои деньги и мое дело, и о том, какой я щедрый и все такое, но я видел, она действительно беспокоится, что я 8 могу на самом деле жениться на какой-нибудь девчонке, и они лишатся всех тех денег, которых они в то же время так стыдились. Я не обвиняю ее, все это понятно, особенно когда у тебя еще и дочь калека. Но я думаю, что таких людей, как Мэйбл, надо бы просто безболезненно устранять, для пользы общества же, впрочем, это уже к делу не относится. Что до того, чем я подумывал заняться (готовясь к этому, я даже купил в Лондоне специальное снаряжение), — это съездить в несколько районов, где водились очень редкие виды и абберанты, и поймать их по целой серии. То есть ехать и останавливаться, где угодно и насколько захочется, и опять путешествовать, и ловить, и фотографировать. Я взял несколько уроков вождения еще до того, как они уехали, и купил специальный легковой фургон. Поймать мне хотелось много: Ласточкин Хвост, например, Прожилчатую Мраморницу, Гигантскую Голубянку, редкие виды нимфалид, Вересковую и Каллиму. То есть то, на что большинство коллекционеров решаются только раз в жизни. Еще я думал про мотыльков. Я думал, что смогу попробовать заняться и ими. Всем этим я хочу сказать: то, что она оказалась потом моей гостьей здесь, случилось внезапно, и у меня совершенно ничего не было в мыслях, когда на меня свалились эти деньги. Конечно, как только тетя Энни и Мэйбл перестали мне мешать, я купил себе все те книги, какие хотел. В некоторых из них были такие вещи, о существовании которых я даже и не подозревал. По сути дела, мне было противно. Я думал тогда, что вот, я торчу в отеле со всей этой дрянью, и все это так сильно отличается от того, о чем обычно я мечтал, думая о Миранде. И вдруг я поймал себя на мысли, что я совсем перестал о ней думать, что она как-то незаметно совсем выпала из моей жизни, как будто мы и не живем всего в нескольких милях друг от друга (я к тому времени переехал в отель на Пэддинктон) и как будто я не располагаю теперь всем временем, какое только у меня в жизни есть, для того, чтобы уж, по крайней мере, узнать, где она живет. Отыскать адрес оказалось делом несложным. Художественное училище Слейда я нашел в телефонном справочнике, и в одно утро подождал ее снаружи у входа, сидя в машине. Фургон мой был единственной роскошью, какую я себе позволил. Там было специальное оборудование в кузове, в том числе походная кровать, которую можно было откидывать, чтобы спать на ней в дальнем путешествии. Машину я купил, чтобы возить с собой все свое снаряжение, и еще я думал, что если я возьму фургон, мне не придется катать тетю Энни и Мэйбл, после того как они вернутся. Но, покупая, я совсем не думал о том, для чего я потом его использовал. Вся идея пришла мне в голову внезапно, почти как озарение. В первое утро она мне не встретилась. Но на следующий день я ее увидел. Она вышла в толпе других студентов, по большей части молодых парней. У меня часто забилось сердце, и я почувствовал слабость. У меня 9 лежал наготове фотоаппарат, но я его не решился поднять. Она была все та же. Все та же легкая походка, низкие каблуки, поэтому-то она и не семенила ногами, как большинство других. О мужчинах она, казалось, вообще не задумывалась и двигалась свободно, как птица. Все время она говорила с черноволосым парнем, очень коротко постриженным, с оставленной маленькой челкой на лбу и выглядевшим, как это говорится, очень живописно. Их было шестеро, но с этим парнем она .перешла на другую сторону улицы. Я вышел из машины и направился следом. Шли они недалеко, в кофе-бар. Я вошел за ними следом; вдруг, не знаю почему, будто меня что-то втолкнуло, против своей воли даже. Внутри было полно народа, студенты и художники и всякие на них похожие. Большинство с внешностью, напоминающей битников. Мне запомнилось множество странных масок и картин на стенах. Должно быть, это был африканский бар. Я так думаю. Народу было так много и стоял такой шум, что я почувствовал себя не в своей тарелке и из-за этого не увидел ее сразу. Она сидела во втором зале у стены. Я сел на табурет у стойки, откуда мог наблюдать за ней. Часто смотреть я не решался, да и свет в той комнате был слабый. Потом она оказалась прямо около меня. Я притворялся, что читаю газету, поэтому не заметил, как она подошла. Я почувствовал, что все лицо у меня стало красным, я смотрел в газету, но не мог прочесть ни слова. Поднять глаза на нее я не решался, в то же время она стояла, почти касаясь меня. На ней было клетчатое платье, темно-голубое с белым, руки загорелые и открытые, распущенные волосы лежали на спине. Она сказала: «Дженни, мы совершенные банкроты, сделай милость, дай нам две сигареты». Девушка позади, стойки ответила: «Опять?» — или что-то в этом роде, и она сказала: «Завтра, клянусь», и потом еще: «Дай бог тебе здоровья», - когда девушка подала ей пару сигарет. Все произошло в течение пяти секунд, и она снова ушла со своим парнем, но от звука ее голоса, от ее слов, услышанных так близко, она вдруг превратилась для меня из какой-то мечты и фантазии в реального человека. Не знаю, как это произошли и что особенного было в ее голосе. Конечно, говорила она все так же правильно и хорошо, как это у них принято, но не строя из себя невесть что. И в то же время подхалимства в ее голосе тоже не было, она не вымаливала сигареты, но и не требовала их, а просила совершенно естественно, просто, без всякого высокомерия. Можно сказать, что она говорила так же, как и шла, это, наверное, было бы точно. Я как можно быстрее расплатился и пошел в машину, а потом в гостиницу и сразу в номер. Чувствовал я себя совершенно как побитый, совершенно не в себе. Частично это было от мысли, что вот ей приходится брать в долг сигареты, потому что у нее нет денег, в то время как у меня их шестьдесят тысяч (десять я отдал тете Энни), и все их я был готов сложить 10 к ее ногам, потому что это было единственное, чего мне только и хотелось в жизни. Мне хотелось лишь видеть ее, быть с ней рядом, и я готов был сделать все, чтобы только доставить ей радость, стать ей другом, иметь возможность смотреть на нее открыто, а не шпионить из-за угла. Чтобы показать, что я тогда чувствовал, скажу лишь, что тут же вложил в конверт чек на двадцать пять фунтов, все, что было при мне, и подписал: Художественное училище Слейда, Миранде Грей... Только, конечно, я его не отправил. Я бы его отправил, если бы мог увидеть, какое у нее будет лицо, когда она его откроет. Это был тот день, когда впервые в моем воображении возникла идея, фантазия, сделавшаяся впоследствии реальностью. Началось с того, что я вообразил, что на нее нападает какой-то мужчина, и я ее спасаю. Потом как-то само получилось, что это я этот мужчина, который на нее нападает, только я совершаю это иначе, не делая ей ничего плохого. Я похищаю ее и увожу в своем фургоне в уединенный домик. И там держу ее своей пленницей в прекрасных условиях. Все так хорошо и счастливо складывается, что она, узнав меня, привязывается ко мне, и тут мои мечты превращались уже в картины совместной жизни в прекрасном современном доме, мужем и женой с детьми и всем прочим. Это стало преследовать меня, сделалось навязчивой идеей. Я не мог спать, днем я забывал, чем хотел заняться накануне. Я только и делал, что сидел и сидел в отеле. Это уже не были мечты, это уже превратилось в то, что я намеревался сделать в действительности (конечно, я все равно думал, что это всего лишь намерения). Поэтому я сидел и думал о способах и возможностях – обо всех мелочах, которые я должен был предусмотреть и устроить, как все сделать и так далее. Я все так же понимал, что познакомиться и сойтись с ней обычным путем я никогда не смогу, но я думал, если она будет рядом и увидит мои настоящие намерения, она оценит и поймет. Мысль о том, что она поймет, была всегда. Следующая вещь, какой я занялся в то время, это было чтение столичных бульварных газет, из-за чего я стал ходить в национальную галерею и галерею Тейта. Не скажу, что я получал от этого большое удовольствие. Это было что-то вроде как бывать в зале субтропических видов в энтомологическом отделе национального исторического музея. Видишь, как все они прекрасны, но они не известны тебе, я имею в виду, что не знаешь их так, как свои, английские. Но я все равно ходил, чтобы потом иметь возможность с ней разговаривать, чтобы не выглядеть невежественным. В одной воскресной газете в отделе объявлений, реклам и предложений вложить капиталы я увидел объявление о продаже дома. Я не искал его специально, объявление само бросилось мне в глаза, как только я открыл 11 страницу. «ВДАЛИ ОТ БЕЗУМСТВУЮЩИХ ТОЛП» - так и было написано. И дальше шло: «Старый коттедж, очаровательный уединенный домик, большой сад, в часе езды на машине от Лондона, в двух милях от ближайшей фермы», и так далее. На следующее утро я поехал посмотреть. Я позвонил агенту по продаже домов в Льюис и договорился о встрече с кем-нибудь на месте. Я купил карту Суссекса и устроил все, что касалось денег. Так что препятствий никаких не было. Я ожидал увидеть какую-нибудь развалину. Но дом выглядел старым и добротным. Черный брус, покрашенный белым снаружи, черепичная крыша. Расположен на отшибе. Агент по продаже вышел мне навстречу, когда я подъехал. Мне казалось, что он должен был быть постарше, он оказался одних лет со мною, но со всеми замашками выпускника закрытой школы, со всеми этими его глупыми замечаниями, который, понятно, должны были обозначать шутки и говорить о том, что для него вообще низко что-либо продавать, но что все же торговать в магазине и торговать домами в этом есть большая разница. Он мне сразу не понравился тем, что был очень любопытным. Но я подумал, что дом все-таки надо осмотреть, не обращая на его настырность внимания. Комнаты в доме были не очень большие, но со всеми удобствами, электричеством, телефоном и так далее. Дом сначала принадлежал какомуто адмиралу, но после его смерти перешел в собственность какого-то другого хозяина, который тоже неожиданно умер, после чего дом уже и был выставлен на продажу. И все-таки надо сказать, что я приехал сюда еще без намерения узнать, можно ли здесь содержать тайного гостя. Я даже не могу объяснить, с каким намерением приехал. Я просто не знаю. Часто делаешь такие вещи, которые совсем не связываются с тем, что ты делал и думал до этого. Парень поинтересовался, самому ли мне нужен дом. Я ответил, что тете. Это была правда, я сказал, что хочу сделать сюрприз для нее, когда она вернется из Австралии и так далее. Он спросил: «А как на счет денег?». У меня куча денег, ответил я, чтобы его осадить. Мы как раз спускались по лестнице, когда он спросил это, поняв уже, конечно, кто мы есть, и я собирался даже еще добавить, что все это не то, для нас тесновато, чтобы осадить его еще больше, и в это время он сказал: ну и еще остался винный погреб. Надо было выйти наружу с задней стороны дома, и рядом с задней дверью находилась еще одна дверь. Он достал ключ из-под цветочного горшка. Электричества, конечно, не было, но он захватил фонарь. Без солнца здесь, внизу, было холодно, сыро и мрачно. Вниз вели каменные 12 ступени. Внизу он посветил фонарем вокруг. Стены кем-то белились, но это было очень давно, известь облупилась, и штукатурка висела клочьями. Длина во весь дом, сказал он, и здесь — тоже... Он посветил фонарем, и я увидел другую дверь в углу стены, противоположной лестнице, по которой мы пришли. Это был другой огромный подвал, четыре большие ступени опускались туда из первого. Но у этого потолок был более низким и немного сводчатым, какой иногда можно видеть внизу старых церквей. Ступени входили в подвал по диагонали с одного угла, поэтому комната казалась расширяющейся. Как раз место для оргий, сказал он. Для чего это строилось, спросил я, не обращая внимания на его глупые замечания. Он ответил, что полагают, это сделано из-за того, что дом стоит на отшибе. Хозяевам приходилось запасать много продуктов. А еще это могло быть тайной римской католической часовней. Один из электриков как-то предположил даже, что это было убежище контрабандистов, которым они пользовались по дороге в Лондон из Нью-Гавен. Наконец мы поднялись по лестнице опять наверх. Когда он закрыл дверь и положил ключ под цветочный горшок, все стало таким, как будто там, внизу, ничего не было. Это было как два мира. И странно, так осталось на все время. Несколько дней потом я просыпался, и все это казалось сном, пока я не спускался вниз снова. Он посмотрел на часы. Это интересно, сказал я. Очень интересно. Я был взволнован, он взглянул на меня удивленно, и я добавил: я думаю, что куплю этот дом. Так и сказал. Я сам себе удивлялся. Потому что до этого я все время хотел что-нибудь поновее, так сказать, посовременнее, как это выражаются, на уровне последних требований. А не такой старый и заброшенный. Он стоял на пороге открыв рот, удивляясь тому, что я так заинтересовался, удивляясь вообще тому, что у меня есть деньги (это было странно для большинства из них, я думаю). Потом он засобирался обратно в Льюис. Ему надо было встретить еще каких-то интересующихся, поэтому я сказал, что останусь в саду и обдумаю все, перед тем как приму окончательное решение. Сад был хороший, он тянулся позади дома до самого поля, которое было тогда засеяно люцерной, любимой травой бабочек. Поле шло в гору, заканчиваясь на холме (он был на севере). К востоку был лес, стоящий по обе стороны от дороги, ведущей из долины в сторону Льюиса. Западнее тоже были поля. У подножья холма, в трех четвертях мили отсюда, стоял фермерский домик, ближайший дом. С юга был прекрасный вид, его только немного закрывала живая изгородь и несколько больших деревьев. Также был хороший гараж. 13 Я вернулся к дому, достал ключ и снова спустился вниз. Внутренний подвал находился, должно быть, на пять или шесть футов под землей. В нем было сыро, стены как стылое дерево зимой. Я мало что мог различить вокруг, со мной была только одна зажигалка. Было немного жутковато, впрочем, я не из суеверных. Может показаться, мне очень повезло: я нашел то, что мне надо, сразу, но в то же время не случись так, я бы все равно рано или поздно отыскал что-нибудь подобное. У меня были деньги. И у меня было желание найти. Смешно, но у Кручли это называлось «добиваться», у него это называлось «натиском». Мне этого не требовалось в банке, банк был не для меня. Но я хотел бы посмотреть, как бы Кручли устроил все то, что я проделал этим летом, и получилось ли бы это у него, сумел ли бы он довести все задуманное до конца? Я не собираюсь заниматься саморекламой, но всетаки, надо признаться, это было не так просто. Я прочел на следующий день в газете (в рубрике «Мысли дня»): «Цель для ума, что кровь для тела». И по моему скромному разумению, это верно. Когда Миранда стала целью моей жизни, я, как оказалось, сделался таким же, как и любой другой. Мне пришлось заплатить на пять сотен больше, чем указывалось в объявлении. Другие потом тоже не зевали на мой счет, все норовили меня ободрать. Землемер, плотник, маляры, люди, которые привезли мне мебель из Льюиса, когда я решил обставить дом. Я не обращал внимания. Стоило ли? Деньги не имели значения. Я получил длинное письмо от тети Энни и ответил ей, назвав цену дома вполовину меньше. Я нанял электриков сделать в подвале электропроводку, а также водопровод и раковину. Выписал все, что нужно было для плотницких работ и для фотодела, и подвал должен был стать моей мастерской. Это было в общем-то, недалеко от правды, у меня был отличный плотницкий инструмент, и потом я сам отпечатал внизу несколько фотографий, которые нельзя было отдать проявлять в мастерскую. Ничего безобразного. Просто парочки. В конце августа рабочие работу закончили, и я въехал. Начну с того, что первое время я чувствовал себя как в сказке. Но кончилось это довольно скоро. Оказалось, что я тут совсем не так одинок, как предполагал. Приходил человек, который всегда работал в саду и который желал продолжать за ним ухаживать, и он наговорил мне кучу гадостей, когда я отослал его обратно. Потом явился приходский священник из деревни, и мне тоже пришлось обойтись с ним грубо. Я сказал, что хочу остаться один, я не хожу в церковь, и я не хочу иметь с деревней никакого дела, и он ушел с оскорбленным и высокомерным видом, изображая что-то там из себя напоследок в раздражении. Потом несколько раз приезжали люди на продуктовом фургончике, и мне пришлось и их спровадить. Я сказал, я все покупаю в Льюисе. 14 Телефон я отключил тоже. Скоро я завел привычку закрывать на ключ переднюю калитку. Она была всего лишь решетчатая, но все же имела замок. Раз или два я видел, как через нее заглядывал торговец, но, кажется, скоро люди поняли, что я недаром поселился на отшибе, что я живу затворником и лучше оставить меня в покое. Я почувствовал себя в одиночестве и после этого мог заняться своим делом. Я проработал больше месяца, воплощая в жизнь все, мной задуманное. Все это время я пробыл совершенно один. Что ни говори, а не иметь ни одного настоящего друга в чем-то даже хорошо. (Бывших моих сослуживцев нельзя было назвать друзьями, они не жалели обо мне, я не жалел о них). В свое время я многому научился у тети Энни и дяди Дика. Из меня мог бы, наверное, получиться и плотник и еще кто-нибудь. Подвальную комнату я отделал очень хорошо, хотя, конечно, это на мой взгляд. Сам себя не похвалишь, как говорится... После того как я просушил ее, я положил на пол несколько слоев войлочной изоляции, а сверху красивый ярко-оранжевый палас (из овечьей шерсти), привел в порядок стены (побелив их). Внес кровать, шкаф. Стол, кресло и так далее. В одном из углов я поставил ширму и за ней установил туалетный столик и походный туалет, ну и все прочее — получилась как маленькая отдельная комната. Я сделал массу других вещей, в том числе полки, на которые поставил несколько романов и разные книги по искусству, чтобы придать комнате жилой вид, чего в конце концов и добился. Картины я не рискнул повесить, я понимал, что у нее может оказаться очень развитый вкус. Главной сложностью была, конечно, дверь и звуконепроницаемость. В проеме, ведущем в ее комнату, были хорошие старые дубовые косяки, но не было двери, поэтому мне пришлось сделать ее самому. Это оказалась самая сложная моя работа. Первая дверь у меня вообще не получилась, но вторая вышла уже получше. Вышибить ее не смог бы даже и мужчина, не говоря уже про нее. Дверь была из двухдюймовых плах, выпиленных из выдержанной древесины, которую я изнутри обил листом железа, чтобы нельзя было добраться до дерева. Тяжелая она была страшно, и установить ее было очень трудно, но в конце концов я и с этим справился. Я закрепил ее снаружи десятидюймовыми болтами. Потом я сделал вообще нечто очень умное. Я сделал что-то, напоминающее книжный шкаф, только для инструментов и всякой мелочи, сделал его из кусков старых досок и на деревянных задвижках навесил на дверной проем снаружи, так что при случайном взгляде на дверь ее можно было принять просто за старое углубление в стене, нишу, в которой расположены полки. Снимаешь их, и становится видна дверь. К тому же полки являлись еще и дополнительной звукоизоляцией. Также я еще сделал засов с железной стороны двери, который уходил в отверстие намного ниже уровня пола, так что я был 15 спокоен. А также еще и сигнализационное устройство со звонком, самое простейшее, так, на ночь. В первом же подвале я установил кухонную плиту и купил все, что нужно для приготовления еды. Я не был уверен, что не объявится какойнибудь любопытный, а такому показалось бы очень странным, что я все время бегаю, таская поднос с едой вверх и вниз. Правда, пользуясь дверью на задах дома, я не особенно беспокоился, свидетелями здесь, в общем-то, могли быть только поля да лес. Все-таки с двух сторон сад был огорожен стеной, по третьей стороне тянулась живая изгородь, через которую тоже ничего нельзя было разглядеть. Была у меня и еще идея. Я подумывал о том, чтобы сделать лестницу, ведущую вниз прямо из дома, не это обошлось бы дорого, да и я не хотел рисковать, вызывая подозрения, теперешние рабочие хотят знать решительно все, Но все это время я ни разу не думал, что это всерьез. Я понимаю, такое звучит странно, но это было именно так. Я часто говорил себе, я никогда, конечно, этого не сделаю, это всего лишь намерения. Но надо сказать, что у меня даже и намерений бы никаких не было, не имей я всех этих денег и не получи возможность распоряжаться своим временем по своему усмотрению. Я думаю даже, что множество людей, что кажутся сейчас счастливыми и всем довольными, занялись бы тем же, что и я, или чемнибудь похожим, появись у них тоже деньги и время. Я имею в виду, дали бы волю всему тому, о чем сейчас, они считают, не имеют права себе позволить даже думать. Власть портит, как всегда говорил в школе наш учитель. А деньги и есть власть. Ну и последнее, что я сделал, это купил для нее в Лондоне множество всякой одежды. Я купил все в первом же магазине, где увидел продавщицу точно ее роста, и только сказал, какого цвета платья мне нужны, назвав те цвета, какие она обычно носила. А также купил все, что, мне сказали, может понадобиться девушке. Я рассказал историю о подруге с Севера, у которой украли весь ее багаж, и что я хочу сделать ей сюрприз и так далее. Не думаю, что продавщица особенно мне поверила, но, как бы там ни было, это была выгодная для них покупка — я выложил в то утро около девяноста фунтов все ж таки... По вечерам, сидя внизу, я обдумывал меры предосторожности. Я спускался к ней в комнату, садился на стул и выискивал способ, к какому она может прибегнуть, чтобы попробовать выбраться. Я подумал, что она может знать об электричестве, все можно ждать от девушек в наши дни, поэтому я стал ходить все время на каучуковой подошве и никогда не включал свет, не взглянув предварительно на выключатель. Я купил специальную мусоросжигательную печь, чтобы сжигать ее мусор. Я понимал, что ничего от нее не должно выходить за пределы дома. Никаких прачечных также. Всегда можно что-нибудь придумать, 16 Ну и, наконец, я поехал в Лондон, в свой отель. Несколько дней я разыскивал ее, пытался ее встретить, но мне все никак не удавалось. Это было очень беспокойное для меня время, я искал ее всюду. Фотоаппарат я с собой не брал, я понимал, что это слишком рискованно, да и делом я был занят гораздо более важным, чем просто уличный снимок. Раза два я заходил в кофе-бар и даже просидел там однажды два часа, притворяясь, что читаю книгу, но она так и не появилась. Мне начали приходить в голову дикие мысли, что, возможно, она умерла или, возможно, уже больше не учится живописи. Потом, в один прекрасный день (я не хотел примелькаться со своим фургоном и поэтому пользовался метро), на станции Уоррен-стрит я все же ее увидел. Она вышла из поезда, пришедшего с Севера к противоположной платформе. Дальше было просто. Я пошел за ней следом со станции и посмотрел, как она направилась в сторону колледжа. В следующее утро я уже ждал ее на станции. Но, видимо, она не всегда ездила на метро, добираясь до дома, поэтому я опять не видел ее в течение двух дней. Но на третий все же дождался. Она перешла дорогу и вошла на платформу. И я выяснил, где она выходит. В Хемпстеде. Я сделал то же и здесь. Я дождался ее приезда сюда на следующий день и пошел за ней. Мы шли минут десять по маленьким, коротким улочкам до того места, где она жила. Я прошел мимо дома, в который она вошла, и прочел номер, а потом в конце улицы узнал и название ее. Это был удачный день. В своем отеле я рассчитался за три дня до этого и каждую ночь останавливался в новом, рассчитываясь на следующее же утро, так что выследить меня было нельзя никак. Койку в фургоне я всегда держал наготове, готовыми у меня были и шарфы, ремни. Я собирался употребить хлороформ, я им однажды пользовался для морилки. Дал мне его один парень из диагностического центра. Это не было слабым средством, но я для уверенности решил его смешать с чуточкой углететрахлорида, или, как его называют, КТК, который можно купить в любой аптеке. Я объехал кругом Хемпстеда и изучил его в подробностях, а также узнал, как быстрее добраться до магистрали в Фостерс. Все было готово, и теперь мне оставалось только следить, а как представится случай, воспользоваться им. Я был совершенно не похож на себя в эти дни, я продумал все до тонкостей, как будто занимался этим всю жизнь. Как будто я был секретный шпион или тайный агент полиции. Наконец после десяти дней получилось то, что часто бывает в поле. Я имею в виду, часто приходишь на место, где, знаешь, должен водиться очень интересный вид. И как раз ни одной бабочки. Но в следующее мгновение, уже перестав искать и думать, вдруг видишь ее прямо перед собой на цветке, как будто преподнесенную тебе на тарелочке. 17 В тот вечер я, как обычно, ждал у выхода метро, оставив машину на соседней улице. День был неплохой, хотя и пасмурный, и собиралась гроза. Я стоял в дверях магазина напротив выхода и увидел ее, когда она поднималась по ступеням среди толпы прибывших пассажиров. Я обратил внимание, что на ней не было плаща, одна кофта. Она сразу забежала за угол в главный корпус станции. Я перешел дорогу, у выхода толкалось много народа. Она была в телефонной будке. Затем вышла и вместо того, чтобы пойти, как обычно, в гору, направилась по другой улице. Я пошел следом, я еще подумал, что все это некстати, и было непонятно, что она собирается делать дальше. Потом она перебежала на другую сторону улицы, где находился кинотеатр, и вошла в него. Тогда я понял, в чем дело: она позвонила туда, где жила, сказать, что начинается дождь и что она собирается переждать в кино, пока гроза кончится. Я понял, что мне представляется случай, если, конечно, никто не придет ее встречать. Я подошел и посмотрел, когда фильм кончится. Кино должно было идти два часа. Я решил положиться на удачу, возможно, я еще хотел дать судьбе шанс остановить меня. Я зашел в кафе и поужинал. Потом пошел к своей машине и поставил ее там, откуда можно было видеть кинотеатр. Чего ждать, я еще не знал, возможно, она еще могла, например, встретиться с другом. Внутри у меня было такое ощущение, как будто меня куда-то несет, как будто на пороги, и я могу сломать себе что-нибудь, а могу и проскочить. Она вышла одна, точно два часа спустя. Дождь более или менее кончился, но было темно, небо закрывали тучи. Я посмотрел, как она идет назад своим обычным путем в гору. Потом я проехал по этому ее пути до места, где, я знал, она должна была переходить дорогу. Это было в районе, где улица, на которой она жила, ответвлялась от другой большой улицы. С одной стороны там были деревья и кусты, с другой — громадный многоэтажный дом на строительной площадке. Я знал, что он не был еще заселен. Дальше были другие дома, тоже все большие. Остальной ее путь проходил по улицам, освещенным слишком ярко. Получалось, что это было единственным удобным местом. У меня был приготовлен специальный пластиковый пакет, вшитый в карман плаща, в который я налил немного хлороформа и КТК, и марлевая подушечка, уже пропитанная и готовая. Клапан был опущен, и поэтому запаха не было, но если бы понадобилось, я бы мог вытащить марлечку в одну секунду. На дороге появились две старые женщины с зонтами (снова начал накрапывать дождь) и пошли навстречу мне. Это было как раз то, чего мне было совсем не нужно. Я знал, что по времени она должна вот-вот появиться, я уже был на полпути к мысли бросить свою затею в этот день и в этом месте. Но все же пригнулся вниз, и женщины прошли мимо, они прошли, без умолку болтая, и я думаю, что даже не заметили ни меня, ни 18 фургона. Где-то внутри квартала остановилась машина, и заглушили мотор. Прошла минута. Я вышел из машины и открыл заднюю дверку. Именно так, как и намеревался это сделать заранее. А затем появилась и она. Она вышла из-за угла и повернула в мою сторону, даже и не видя меня. До нее было всего метров двадцать, и шла она быстро. Если бы вечер был ясный, еще не знаю, сделал ли бы я это. Но был этот ветер. Деревья шумели от порывов. Было видно, что позади нее никого нет. Потом она оказалась прямо рядом со мной, ступив на тротуар. Странно, но она еще и что-то напевала сама себе. Я сказал, извините, пожалуйста, вы понимаете что-нибудь в собаках? Она остановилась, удивленная. «В каких собаках?» — сказала она. Ужасно, я только что ее переехал, сказал я. Она выскочила. И я не успел ничего сделать. Но она не мертва. Я заглянул в дверь с очень расстроенным видом. «О, бедняжка!» — сказала она. Она подошла ко мне посмотреть, я как раз на это и надеялся. Крови нет, сказал я, но она не двигается. Потом она обошла открытую дверку фургона, и я посторонился, как бы давая ей возможность заглянуть внутрь. Она наклонилась вперед, я бросил взгляд назад, на дорогу, никого не было, тогда я схватил ее. Она не издала ни звука и лишь как-то очень удивленно посмотрела на меня, я выхватил марлю из кармана и прижал ее ей к носу и рту, другой рукой продолжая крепко прижимать саму ее к себе. Марля была от меня близко, и я почувствовал сильный запах. Она вырвалась, как черт, но все же оказалась слабее, даже чем я ожидал. В горле у нее что-то булькнуло. Я снова посмотрел на дорогу, я подумал, ну вот, если она еще будет продолжать сопротивляться, мне придется либо уже сделать ей что-нибудь плохое, например, оглушить, либо уже бежать. Я уже почти готов был смыться поэтому. Но тут она покачнулась и ослабла, и мне уже не надо было ее сдерживать, а нужно было лишь поддержать. Я наполовину втолкнул ее в фургон, затем, резко дернув, открыл вторую дверцу, залез сам и втащил ее за собой. Затем быстро захлопнул двери. Перевернув, я поднял ее на койку. Она была моя, я чувствовал страшное волнение, теперь я уже знал, что сделал это. Первым делом я завязал ей рот, потом привязал ее саму, без спешки, без паники, как и обдумал заранее. Затем вышел и пересел на водительское сиденье. Все заняло не больше минуты. Я выехал на дорогу не торопясь, спокойно, и свернул на хемпстедский пустырь, который приглядел уже давно. Там я снова перешел назад и привязал ее как следует шарфами и всем прочим, так что ей не должно было быть больно, но и так, чтобы она не смогла кричать, или стучать по кузову, или еще что-нибудь. Она была все еще без сознания, но дыхание чувствовалось, я слышал его, как будто у нее был катар, так что я понял, что с ней все в порядке. 19 Около Редхила я, как и думал, съехал с главной дороги на дорогу с односторонним движением, а потом уже опять заглянул назад, чтобы проверить ее. Я прикрыл фонарь так, чтобы он лишь слегка осветил ей лицо. Она уже очнулась, глаза ее казались огромными, но они не были испуганными, скорее, даже наоборот, решительными, и смотрела она гордо, как будто решила ни за что ничего не пугаться, что бы там ни было. Я сказал, не беспокойтесь, я вам не сделаю ничего плохого. Она продолжала смотреть на меня. Я несколько смешался, не зная, что еще сказать. Потом спросил, у вас все в порядке, вы ничего не хотите? Но это прозвучало глупо. Конечно же, я понимал, что она хочет выйти отсюда. Она стала трясти головой, и я догадался: она дает понять, что кляп мешает ей. Я сказал, мы в миле от города, никто не услышит, даже если сильно кричать, но если вы все же будете кричать, я завяжу кляп снова, понимаете? Она кивнула головой, и я снял шарф. Прежде чем я успел что-либо сделать, она подняла голову, насколько это было возможно, и ее начало тошнить. Это было ужасно. Я почувствовал запах хлороформа и тошноты. Она не проронила ни слова и лишь тяжело вздохнула. Я растерялся, я не знал, что делать. Вдруг я почувствовал, что мы должны как можно быстрее добраться до дома. Поэтому я завязал кляп снова. Она сопротивлялась, я слышал ее слова из-под ткани, нет, нет, это ужасно, но я заставил себя завязать его, потому что знал, это лишь для того, чтобы все быстрее кончилось; Потом я снова сел на водительское место, и мы поехали. Мы добрались в половине одиннадцатого. Я въехал в гараж, вышел и осмотрелся кругом, чтобы удостовериться, что в мое отсутствие ничего не случилось. Не то, чтобы я ждал чего-то, просто не хотелось все испортить из-за какой-нибудь ерунды. Я вошел в ее комнату, все было нормально, не слишком душно, потому что я оставлял дверь открытой. Я уже спал здесь одну ночь, чтобы проверить, хватает ли здесь воздуха, и все оказалось в порядке. На столе был приготовлен чай, печенье и всякая всячина. Все было чисто и опрятно. Итак, настал главный момент. Я вошел в гараж и открыл фургон. Как завершение операции это тоже было продумано. Я снял с нее ремни и помог сесть. Ноги ее, разумеется, все еще были связаны. Какое-то время она пыталась освободить их, и мне пришлось сказать, что, если она не успокоится, я опять применю хлороформ и КТК (я показал пузырек), но что, если она будет вести себя тихо, я не сделаю ей плохого. Это была хитрость, но это подействовало. Я поднял ее на руки, она оказалась легче, чем я думал, я спустился с ней очень легко, она еще немного посопротивлялась у двери своей комнаты, но это было единственное, что 20 она могла сделать в ее положении. Я опустил ее на постель. Дело было сделано. Лицо ее было бледным, на темно-синем джемпере остались следы того, что ее тошнило. Выглядела она очень слабой, но глаза не были испуганными. Это было даже странно. Она только смотрела на меня и ждала. Я сказал, это ваша комната. Если вы будете меня слушаться, с вами не случится ничего плохого. Не надо кричать, вас снаружи не услышат, даже если бы можно было, то все равно некому. Сейчас я вас оставляю, здесь несколько бисквитов и бутербродов (я купил их в Хемпстеде), и, если хотите, я могу приготовить чай или кокао. Приду я завтра утром. Я видел, что она хочет, чтобы я снял кляп, но я не стал его развязывать. Я развязал ей только руки и затем сразу же вышел. Она начала срывать со рта повязку, но я закрыл дверь первый и задвинул засов. Я слышал ее крик: вернитесь! Затем еще раз, но негромко. Потом она тронула дверь, не очень сильно. Потом она начала стучать по двери чем-то твердым. Я подумал, что это, должно быть, щетка для волос. Доносилось это слабо, все же я поставил фальшивую полку и понял, что снаружи никто ничего не услышит. Я постоял еще с час во втором подвале, просто на всякий случай. Это не было уже обязательным, в комнате она бы не нашла ничего, чем могла бы сломать дверь, даже если бы и была сильна. Чашки и блюдца я купил пластмассовые, чайник, ножи, ложки алюминиевые и так далее. В конце концов я поднялся наверх и лег в постель. И все-таки она была у меня, своего я добился, столько времени я мечтал об этом. Я долго лежал без сна, думая о разном. Я чувствовал в себе некоторые сомнения, не был ли мой фургон замечен, впрочем, существуют сотни таких фургонов, как мой, и единственное, что меня действительно беспокоило, это те две женщины, что прошли мимо. Так я лежал, думая о ней, находящейся внизу и тоже, конечно, лежащей без сна. Я размечтался, мне полезли в голову мысли, одна лучше другой, например, как бы было здорово спуститься сейчас вниз и утешить ее. Я начал думать на эту тему и от этого страшно разволновался. Возможно, я зашел слишком далеко в своих мечтах, но я не раскаивался, я знал, что моя любовь достойна ее. Затем я заснул. Позже она сказала мне, что все, что я сделал, было очень плохо, и что вообще, как только я посмел решиться сделать такое. Но на это я могу ответить единственное, что в тот вечер я был очень счастлив, как я уже говорил, и это было больше для меня, чем если б я сделал что-нибудь отчаянное и страшно смелое, скажем, забрался бы на Эверест, предпринял бы рискованную вылазку на территорию врага. Я испытывал огромное счастье, потому что мои намерения были самые хорошие и чистые. Это было как раз то, чего она не смогла понять никогда. 21 Подводя итог, скажу, что эта ночь была лучшее, что вообще было в моей жизни (выигрыш на тотализаторе — первое). Это как снова поймать Голубого Кардинала или Жемчужную Королеву Испании. То есть я имею в виду то, что тебе удалось сделать в жизни лишь однажды, а то и вообще не удалось. То, о чем ты больше мечтал, чем надеялся увидеть когда-то случившимся на самом деле. Проснулся я еще до того, как зазвонил будильник. Я спустился вниз, закрыв дверь наружного подвала за собой на замок. Это я тоже предусмотрел заранее. Я постучал в ее дверь и крикнул, пожалуйста, вставайте, потом подождал десять минут, вытащил засов и вошел. Я принес с собой ее сумку, которую, естественно, проверил. В ней не было ничего, чем она могла бы. воспользоваться, кроме пилочки для ногтей и бритвы, которые я и вынул. Свет был включен, и она стояла около кресла. Одета она была полностью и в то, в чем была прежде, и снова она смотрела на меня пристально, без страха и даже скорее с вызовом. Все это было странно, она совершенно отличалась от той, какой я ее всегда помнил. Хотя, конечно, я никогда не видел до этого ее так близко. Я сказал, надеюсь, вы хорошо спали? «Где я нахожусь, кто вы и зачем вы привезли меня сюда?» — она произнесла все это очень холодно и с полнейшим самообладанием. Я не могу вам ответить. «Я требую, чтобы меня немедленно освободили. Это какая-то дикость». Мы стояли, глядя друг на друга. «Отойдите в сторону. Я собираюсь выйти», — и она пошла прямо на меня, к двери. Но я остался на месте. Одно мгновение я думал, что она решится броситься на меня, во, видимо, она поняла, что это было бы глупо. Я стоял твердо, и ей со мной не удалось бы справиться. Она остановилась прямо передо мной и сказала: «Уйдите с дороги». Я сказал, вам пока еще нельзя уйти. Пожалуйста, не заставляйте меня снова применять силу. Она бросила на меня холодный презрительный взгляд и отошла прочь. «Я не знаю, правильно ли вы понимаете, кто я. Если вы считаете, что я дочь богатых родителей, то вас ждет сильное разочарование». Я знаю, кто вы, сказал я. Это не из-за денег. Что еще добавить, я не звал. Нервничал я ужасно. Я был страшно взволнован, видя ее наконец здесь, у себя, так сказать, во плоти. Мне так и хотелось глядеть на нее, лицо ее было передо мною, и эти ее красивые, милые волосы. И вся она, маленькая, славная, но я не мог, так пристально она меня рассматривала. Вдруг она сказала, как на дознании: «А не знаю ли я вас?» 22 Я начал краснеть и ничего не мог поделать с этим. К такому я был не готов, я никогда не думал, что моё лицо может оказаться ей знакомым. «Городской муниципальный банк», — произнесла она медленно. Я не понимаю, что вы имеете в виду, сказал я. «У вас были усы», — добавила она. Я все еще не понимал, откуда она меня может знать. Она могла видеть меня несколько раз в городе. Такое я мог предположить, а возможно, она видела меня иногда из окна своего дома. Я ничего не соображал, в голове у меня все путалось. «Ваша фотография была в газете», — сказала она. Мне всегда противно было быть обнаруженным. Не знаю почему, всегда зачем-то казалось нужным объясняться, оправдываться, я имею в виду выду-мывать всякие истории. Вдруг я нашел, как выйти из положения. Я сказал, это был приказ. «Приказ? — спросила она. — Чей приказ?» Я не могу вам ответить, но я исполнял приказ. Она продолжала меня разглядывать. В то же время держалась она от меня на расстоянии. Видимо, она считала, что я все-таки только выжидаю момент, чтобы сделать что-нибудь с ней, например, брошусь на нее... «Чей приказ?» — спросила она снова. Я постарался придумать чей. Не знаю почему, но мне показалось, что имя только одного человека, известного мне, могла знать и она, это мистер Синглетон. Он был управляющим в Бэрклайс. Я помнил, что ее отец держит у него деньги. Я видел, как он разговаривал с мистером Синглетоном несколько раз, когда бывал там. Приказ мистера Синглетона, сказал я. Она по-настоящему изумилась, поэтому я продолжил побыстрее. Я не хотел говорить вам этого, сказал я, он убьет меня, если узнает. «Мистер Синглетон?» — переспросила она, как будто не расслышала, как следует. Вы не знаете, кто он есть на самом деле. Внезапно она села на ручку кресла, как будто это было для нее уже слишком. «Вы хотите сказать, что мистер Синглетон приказал вам похитить меня?» Я кивнул. «Но я знакома с его дочерью. Он... о, это безумие», — сказала она. Вы помните девушку с Пенхарст-стрит? «Какую девушку с Пенхарст-стрит?» Ту, что исчезла три года назад. Это как раз было то, что я придумал. Надо признаться, голова у меня в то утро работала нормально. Поэтому я так быстро и нашелся. «Наверное, я в это время была в школе. А что с ней случилось?» Не знаю. Только это он сделал. «Что сделал?» 23 Я не знаю. Я не знаю, что с ней случилось. Но только это он сделал, что бы там ни было. С тех пор о ней больше не слышали. Вдруг она произнесла: «У вас есть сигареты?» Я немного растерялся от неожиданности, потом вытащил из кармана пачку, достал зажигалку, подошел к ней и неловко передал ей и то и другое. Я не знал, надо ли мне дать ей прикурить, но подумал, что, наверное, это выглядело бы глупо. Вы ничего не ели, сказал я. Она взяла сигарету, очень женственно, между пальцами. Кофту она уже почистила, но воздух в комнате был спертым. Она будто была совсем несообразительной. Это было странно. Я же понимал, что она не может не видеть, что я лгу. «Так вы говорите, что мистер Синглетон сексуальный маньяк и похищает девушек, а вы помогаете ему?» Я сказал, я вынужден. Я украл деньги в банке и попаду в тюрьму, если это станет известно, и он этим, понятно, пользуется. Все это время она смотрела на меня. Глаза у нее были большие, открытые, взгляд настойчивый и все время чего-то ждущий, изучающий (но не настырный в то же время). «Вы получили главный приз, не так ли?» Я понял, что все, что я наговорил, рушится. Я вдруг почувствовал себя усталым. «Почему вы тогда не отдадите деньги? Сколько там было — семьдесят тысяч? Вы ведь не украли столько? Или, может быть, вы помогаете ему за вознаграждение?» Этого я тоже не могу вам сказать. Только я в его власти. Она встала, держа руки в карманах юбки. Машинально взглянула на себя в зеркало (металлическое, конечно, не стеклянное), висящее на стене. «Что он собирается сделать со мной?» Я не знаю. «Где он сейчас?» Он должен прийти. Я его жду. С минуту она молчала. Вдруг выражение ее лица изменилось, будто она представила что-то отвратительное, будто то, что я сказал, могло оказаться в какой-то мере правдой. «Понятно. Это может быть его домом в Суффолке». Да, сказал я, думая, что все-таки удачно нашелся. «Но у него нет дома в Суффолке», — сказала она очень холодно. Я не знаю, ответил я, но это, конечно, прозвучало глупо. Она хотела еще что-то сказать, но я почувствовал, что должен остановить ее вопросы. Я не предполагал, что она окажется такой быстрой и находчивой. Гораздо находчивее, чем многие люди. 24 Я пришел спросить вас, что вы хотели бы на завтрак, есть яйца, каша и так далее. «Не хочу я никакого завтрака, — сказала она. — Эта чудовищная комната. И этот наркоз. Что это было?» Я не думал, что от него вам будет так плохо. Правда. «Но мистер Синглетон должен был предупредить вас», — сказала она, причем произнесла это с издевкой. Было ясно, что она не верила в него нисколько. Я торопливо спросил, чего бы вы хотели, чаи или кофе, и она ответила: «Кофе, только если вы будете пробовать его первым». После чего я и ушел в наружный подвал. Перед тем как закрыться двери, она сказала: «Вы забыли вашу зажигалку». У меня есть еще, не возвращаясь, ответил я (хотя у меня и не было). «Благодарю вас», — сказала она. И забавно, но она почти улыбнулась. Я приготовил «Nescafe’», принес его, она посмотрела, как я пью, и после этого выпила немного сама. Все время она меня спрашивала, и даже не то чтобы спрашивала, все время я чувствовал, что, задавая вопрос, она пытается выведать что-то другое, ей нужное, и поймать меня, застав врасплох. Интересовалась, например, как долго она здесь пробудет и почему я так добр к ней. Я отвечал, но видел, что ответы мои не получаются, за ней мне было не угнаться, было трудно следить за всеми ее уловками и хитростями. В конце концов, я сказал, что собираюсь по магазинам, и она может заказать мне все, что нужно. Я сказал, я куплю ей все, что она захочет. «Все?» — сказала она. В разумных пределах, ответил я. «Это мистер Синглетон поручил вам?» Нет. Это я сам. «Единственное, чего я хочу — это быть свободной», — проговорила она. И больше я уже не смог вытянуть из нее ни слова. Это было ужасно, что ей вдруг совсем расхотелось разговаривать. И мне так и пришлось уйти ни с чем. Во время ленча она продолжала не разговаривать. Ленч я приготовил в наружном подвале и принес его ей. Но вряд ли что-то было съедено. Она продолжала пытаться подействовать на меня своим молчанием, держась со мной опять холодно как лед, но на этот раз я не поддался. Вечером после ужина, до которого она тоже чуть дотронулась, я присел около двери. Некоторое время она курила, сидя в кресле. Глаза ее были закрыты, как будто мой вид утомил их. «Я долго думала. Все, что вы говорите мне о мистере Синглетоне, выдумки. Я не верю в это. Во-первых, он не такой человек. А во-вторых, 25 если бы это и было так, он не стал бы действовать через посредника, через вас. Не стал бы устраивать все эти фантастические приготовления». Я не ответил. Я даже не решался поднять на нее глаза. «Вы сильно потратились. Вся эта одежда здесь, эта искусствоведческая литература. Я подсчитала стоимость книг сегодня днем. Сорок три фунта. — Казалось, она разговаривает сама с собой. — Я ваша пленница, но вы хотите, чтобы мне было хорошо в моем заточении. Отсюда следуют два вывода, два предположения: вы меня держите ради выкупа и вы член какой-то банды или чего-то там еще». Нет. Я вас уверяю. «Вы знаете, кто я. Вы должны знать и то, что мой отец не какой-то там богач. Следовательно, дело не в выкупе». Слушать, как она рассуждает вслух сама с собой, было просто даже жутко. «Тогда остается второе: секс. Вы что-то хотите со мной сделать». — Она смотрела на меня. Это уже был вопрос. И мне стало даже досадно. Все совсем не так. Я буду относиться к вам с совершеннейшим уважением. я не собираюсь вас оскорблять. Я не такой человек. Ответ мой прозвучал довольно резко. «Тогда вы, видимо, сумасшедший, — сказала она. — Это, конечно, утешительно, но вы подтверждаете, что вся эта история с мистером Синглетоном неправда?» Я только хотел смягчить, сказал я. «Что смягчить? — спросила она. — Изнасилование? Убийство?» Ну, разве я говорил что-нибудь такое, ответил я. Получалось, что она все время заставляла меня оправдываться и защищаться. Мечталось это мне совсем по-другому. «Почему я здесь?» Вы моя гостья. Я хочу, чтобы вы были моей гостьей. «Гостьей?!» Она встала, обошла вокруг кресла и, упершись руками в спинку, наклонилась вперед, взгляд ее был все время на мне. Сейчас она была без своей голубой кофты и стояла лишь в темно-зеленом платье из шотландки, напоминающем школьную форму, надетом на белую блузку с кружевным воротничком и открытой шеей. Волосы у нее были стянуты сзади в косу. Милое, красивое лицо. Выглядела она смелой. Не знаю почему, но я вдруг представил ее сидящей у меня на коленях, очень тихой, и я глажу ее волосы, мягкие и светлые, распущенные совершенно свободно, как я видел это потом позже. Вдруг я сказал, я люблю вас. Это сводит меня с ума. «Я вижу», — сказала она, и в голосе у нее прозвучала странная печаль. Больше она уже не смотрела на меня. 26 Я знал, что это старомодно — говорить о своей любви женщине, я никогда не предполагал этого делать В воображении у меня всегда выходило так, будто мы однажды посмотрели друг на друга, и поцеловались, и уже больше ничего не надо было говорить. Один парень в армии в Германском корпусе, по прозвищу Хлыщ, который о женщинах знал абсолютно все, всегда твердил, что нельзя никогда говорить женщине, что ты ее любишь. Даже если это и так. Если уж нужно сказать «я люблю тебя», то скажи это шутя, он считал, что этот прием привязывает их к вам. Чтобы чего-то добиться, надо всегда поступать в соответствии с умом. Конечно, было глупо с моей стороны сказать ей такое. Я двадцать раз говорил себе перед этим, что не должен объясняться ей в любви, это должно прийти само, с обеих сторон. Но в то время, видя ее здесь, у себя, рядом, я просто терял голову и часто говорил такие вещи, говорить которые совершенно не собирался. Не то чтобы я рассказал ей все. Я только рассказал ей о своей работе в банке и о том, как следил, наблюдал за ней, как о ней думал, о ее привычках, о том, что и как она делала, где гуляла, и обо всем том, что она значила для меня, и о том, что, даже имея деньги, я знал, что она все равно на меня не взглянет, из-за денег даже тем более, и о своем одиночестве. Когда я кончил, она сидела на кровати и смотрела на ковер. Мы молчали, казалось, страшно долго. Было слышно, как шуршит вентилятор в наружном подвале. Мне вдруг стало стыдно, я начал постепенно краснеть. «Вы считаете, что можете заставить мена полюбить вас, держа меня в неволе?» Я хотел только, чтобы вы узнали меня ближе «До тех пор, пока я тут, вы для меня лишь насильник, неужели вы этого не понимаете?» Я поднялся. Мне захотелось уйти как можно быстрее. «Подождите, — сказала она, подходя ко мне. — Я дам вам обещание. Я все понимаю. Правда. Отпустите меня. Я никому не скажу. И никто ничего не узнает». Это было первый раз, когда она смотрела на меня добрым взглядом. Она все говорила, уверяла меня, такая сейчас простая и искренняя. Глаза ее смотрели на меня снизу вверх, вокруг них собрались маленькие морщинки. Вся она была сплошное ожидание. «Вы можете. Мы станем друзьями. Я смогу помогать вам». Глядя на меня снизу вверх. «Еще не слишком поздно...» Не могу даже сказать, что я чувствовал, но только я понял, что должен был уйти немедленно, она просто вынимала из меня душу, причиняла боль. Поэтому я закрыл дверь и ушел. И даже не пожелал ей спокойной ночи. 27 Кто поймет? Все будут думать, что им прекрасно известно, что мне от нее было надо. А ведь все не так. Перед тем как она попала сюда, я, глядя в эти свои книги, еще как-то думал об этом, но не знал, как к этому отнестись. Но только все стало совсем по-другому, когда она появилась здесь. Я уже больше не вспоминал об этих книжках и о том, что она может тоже выглядеть как позирующие женщины в какой-нибудь из них, все подобные вещи были для меня противны, и это было потому, что я знал: все они противны и ей. Было в ней что-то такое чистое и хорошее, что делало и тебя чистым, и ты убеждался сразу, что грязного о ней нельзя позволить себе даже думать. Что она не из тех остальных женщин, которых ты не уважаешь, с которыми можешь себе позволить все, что угодно. То есть, я хочу сказать, с ней рядом все остальные казались просто грязными и ничего не стоящими. Ее уважаешь, перед ней преклоняешься, и это заставляет тебя быть в ее присутствии очень сдержанным. Я очень плохо спал в эту ночь, потому что был страшно раздосадован тем, как все обернулось, тем, что я так много ей наговорил в первый же день и что в конечном счете, она выставила меня дураком. Был момент, когда я уже думал плюнуть на все, спуститься вниз и отвезти ее обратно в Лондон, как она того и хотела. Я мог бы уехать за границу, в конце концов. Но потом представил ее лицо и косу, перекинутую через плечо и спускающуюся сбоку, то, как она ходит и стоит, и ее милые, открытие глава. И я понял, что не смогу сделать этого. После завтрака — в то утро она съела чуть-чуть каши и выпила немного кофе, причем все это время мы не разговаривали вообще; одета она была, как и прежде, хотя постель и была заправлена по-другому, значит, она спала в ней, — когда я собрался уже уносить посуду, она остановила меня. «Мне бы хотелось с вами поговорить». Я остался. «Сядьте», — сказала она, и я сел на стул около ступенек. «Поймите, это сумасшествие. Если вы любите меня, в любом смысле слова «любить», вы не можете хотеть того, чтобы я постоянно находилась здесь. Вы же видите, мне плохо. Этот воздух, я не могла ночью дышать, я проснулась с головной болью. Я умру, если вы будете держать меня здесь долго». — Она действительно выглядела встревоженной. Это не будет долго. Я обещаю. Она поднялась и встала около тумбочки, глядя на меня. «Как вас зовут?» — спросила она, Клегг, ответил я. «Ваше имя?» Фердинанд. Она бросила на меня быстрый взгляд. «Вы обманываете», — сказала она. 28 Я вспомнил, что в кармане пиджака у меня есть бумажник с моими инициалами, вытесненными позолоченными буквами, я достал его и показал ей. Она бы все равно не узнала, что Ф обозначает Фредерик. Как это ни глупо, но мне всегда нравилось имя Фердинанд, и давно, даже до того, как я ее увидел. Было в нем что-то иностранное и значительное. Дядя Дик часто называл меня так. Лорд Фердинанд Клегг, маркиз де Клоп, повелитель членистоногих. Вот, совпадает, сказал я. «Наверное, дома вас зовут Фердю. Или Ферд?» Нет, только Фердинанд. «Послушайте, Фердинанд. Я не знаю, что вы нашли во мне. Я не знаю. почему вы полюбили меня. Может быть, и я могла бы полюбить вас тоже где-нибудь в другом месте. Я... — казалось, она не знала, как сказать, чтобы это вышло попроще. — Но если я могу вообще полюбить, то только мягкого, доброго мужчину. Я не в состоянии влюбиться в вас в этой комнате, я не смогу влюбиться здесь ни в кого. Никогда». Я только хотел познакомиться с вами, сказал я. Все это время она сидела на тумбочке, глядя на то, как действуют на меня ее слова. Поэтому в меня вкрались подозрения. Я начал понимать, что это хитрость. «Но вы же не можете похищать людей, только чтобы познакомиться с ними. Мне хотелось узнать вас ближе. Мне бы не представилось случая в Лондоне. Я не столь умен и все такое. Не вашего класса. Вы бы не обратили на меня внимания там. «Это все не страшно. Я не сноб. Снобов я ненавижу. Я всегда отношусь к людям без предубеждения». Я не виню вас, сказал я. «Я ненавижу снобизм. — Она была действительно взволнована. Несколько слов она произнесла как-то очень сильно, выразительно. — Кое-кто из моих лондонских друзей... ну, в общем, как это говорится, из рабочего класса. По происхождению. Мы просто не думаем об этом». Как Питер Катесби, сказал я (это был тот парень со спортивным автомобилем). «О ком вы?! Я не видела его уже несколько месяцев. Это элементарный буржуа с окраины, неотесанный как пень». Я все еще помнил, как она садится в его сверкающую MG, и потому не знал, верить ли ей. «Я думаю, что об этом уже написано во всех газетах». Я не смотрел. «Вы можете не на один год попасть в тюрьму». Это стоит того. Это стоит даже жизни, сказал я. 29 «Я обещаю, я клянусь вам, что, если вы меня отпустите, я никому не скажу, я выдумаю какую-нибудь историю. Я устрою все так, чтобы мы встречались столько, сколько вы захотите и сколько позволят мои занятия. Никто никогда не узнает обо всем этом, кроме нас». Я не могу, сказал я. Не сейчас. Я чувствовал себя жестоким тираном, королем-деспотом, которого умоляют о свободе, так она это делала. «Если вы отпустите меня сейчас, я буду восхищаться вами. Я буду думать, я была в его власти, но он все же оказался рыцарем и поступил как настоящий джентльмен». Я не могу, сказал я. Не просите меня. Пожалуйста, не просите. «Я буду думать, такой человек стоит внимания и стоит того, чтобы быть с ним знакомой». — Она полусидела на краю тумбочки, глядя на меня. Я должен сейчас идти, сказал я и так заторопился, уходя, что запнулся о верхнюю ступеньку. Она спустилась с тумбочки и теперь стояла, глядя на меня в двери со странным выражением. «Пожалуйста», — сказала она. Очень мягко и ласково. Это было трудно вынести. Это все равно как ловить бабочку голыми руками. Когда не имеешь под рукой сачка и ловишь нужный тебе экземпляр большим и указательным пальцами (я в этом специалист), подходишь сзади и медленно берешь ее, но ты должен схватить ее обязательно за грудную клетку — и все, она трепещет в твоих пальцах. Это делать не легче, чем иметь дело с морилкой, примерно то же самое. А с ней мне было еще труднее, потому что ее-то смерти я не хотел, этого уж мне меньше всего хотелось. Она часто начинала говорить о своей ненависти к классовым различиям, но я никогда особенно не брал эти ее разговоры во внимание. Люди часто говорят, что они не придерживаются никаких различий и не разделяют общего мнения. Но достаточно было посмотреть на ее манеры, привычки, на то, как она держится, чтобы увидеть, как она воспитывалась и все остальное. Я не говорю, что она была ломакой или строила из себя «белую кость», как другие, но, в общем-то, это было одно и то же. Это можно было понять уже по тому, какой насмешливой и язвительной становилась она, когда я не мог правильно выразиться или что-то делал не так, как надо. «Хватит вам, бросьте говорить о классовых различиях», — говорила она. Как богатый говорит бедному: «Хватит, бросьте думать о деньгах». Я не хочу ничего сказать этим против нее, я ее не обвиняю. Многие из тех обидных слов, которые она говорила, и многие из тех жутких вещей, которые она делала, она говорила и делала, наверное, еще и для того, чтобы показать, что она не какая-то там особенная, без всех этих изящностей, простая. Но она была особенная. Когда она сердилась, она сразу выдавала себя и показывала себя в лучшем своем виде, разделываясь 30 со мной с высоты своего положения и в соответствии со всеми правилами, принятыми в их обществе. Так что классовость между нами была всегда. Утром я поехал в Льюис. Первое, что я хотел, это посмотреть газеты, и я накупил их целую кучу. В каждой из них было что-нибудь. В некоторых дрянных газетенках было даже очень много. В двух напечатали фотографии. Читать все эти сообщения было забавно. Для меня это было что-то новое. «Пропала длинноволосая блондинка, студентка факультета искусств, двадцатилетняя Миранда Грей, которая в прошлом году получила главную премию на конкурсе в Лондонскую высшую художественную школу Слейда. Во время семестра она жила на Хамнет Роуд, 3, у своей тети мисс Ванбру-Джонс, которая вчера поздним вечером и обратилась в полицию. После занятий в четверг Миранда позвонила домой предупредить, что собирается пойти в кино и что будет дома вскоре после восьми. Это было последнее, что от нее слышали». Тут же была помещена большая фотография с подписью: «Не встречали ли вы эту девушку?» Другая газета даже рассмешила меня: «Жители Хемпстеда обеспокоены возрастающим числом жертв похитителей, увозящих девушек на автомобилях. Пирс Броутон, сокурсник и близкий друг Миранды, сказал мне в баре, в котором мы встретились, что он часто приводил сюда Миранду и что они даже договаривались с ней пойти вместе сегодня на выставку. Он сказал: Миранда прекрасно отдавала себе отчет в том, что такое Лондон. Она никогда бы не стала садиться в чужую машину и никогда бы не воспользовалась еще какой-либо подобной помощью. Меня очень беспокоит все это». Представитель школы Слейда заявил: «Она одна из наших наиболее способных второкурсниц. Мы уверены, что ее исчезновение не таит в себе ничего серьезного. Художественно одаренные натуры всегда непредсказуемы, у них бывают свои странности и причуды. Тем не менее, тайна исчезновения все еще не раскрыта. Полиция просит всех, кто видел Миранду в четверг вечером или кто слышал или заметил что-нибудь подозрительное в районе Хемпстеда, сообщить об этом в ближайший участок». Перечислялась одежда, в которой она была, и так далее. Здесь тоже была фотография. В другой газете сообщалось, что полиция собирается спустить воду из пруда на хемпстедском пустыре. Еще она писала снова о Пирсе Броутоне и о том, что они с ней были неофициально обручены. Я подумал, не тот ли это битник, которого я видел с ней. Еще в одной говорилось: «Она одна из самых любимых студенток, всегда готовая откликнуться на просьбу и прийти на помощь». Во всех говорилось, что 31 она красива. Прикладывались фотографии. Была бы она уродина, ей бы отвели две строчки на последней странице. Читал я газеты в машине, остановив её на обочине дороги на обратном пути. Все написанное о ней заставило меня испытать чувство какой-то силы, не знаю почему. Может быть, потому, что люди пытаются найти ответ, а я его знаю. Когда я снова двинулся домой, я твердо решил ничего не говорить ей. Как и следовало ожидать, первый вопрос, который она задала, когда я вернулся, был о газетах. Есть ли что-нибудь о ней? Я сказал, я не смотрел и не собираюсь смотреть. Я сказал, я не интересуюсь газетами, в них печатают одну ерунду. Она не настаивала. Газет я ей ни разу не давал. Я не дал ей также и приемника, чтобы она не могла слушать радио, и телевизор не стал покупать. Еще до того, как она попала ко мне, я читал как-то книжку «Секреты гестапо» — все о пытках и прочем, что немцы делали во время войны. И там было написано: «Для заключенных самый лучший способ смириться со своим положением — это не знать, что происходит за пределами тюрьмы». То есть они не давали совершенно никакой возможности заключенным чтонибудь знать, даже не разрешали им разговаривать друг с другом, чем их совсем отрезали от прежнего мира. И это их ломало. Я не хочу сказать, что я собирался сломить ее, как того хотели гестаповцы, проделывая все это. Но я думал, что будет лучше, если она все-таки будет меньше связана с миром, тогда ей придется больше думать обо мне. Поэтому, несмотря на все ее попытки заставить меня принести ей газеты и радио, я так и не дал ей ни того, ни другого. В первые дни я не хотел, чтобы она читала о том, что делает полиция и так далее, потому что это бы только расстроило ее. В конце концов, это была почти забота. Если, конечно, так можно выразиться. Ужин я ей приготовил из свежезамороженного зеленого горошка и замороженного цыпленка, сделав его с белым соусом, и она все съела, и, мне показалось, ей понравилось. После ужина я спросил, могу ли я остаться ненадолго. «Если вам хочется», — сказала она. Она сидела на кровати, подложив под спину между собой и стеной одеяло в виде подушки и подобрав под себя ноги. Некоторое время она лишь курила и смотрела один из альбомов какого-то художника из тех, которые я ей купил. «Знаете ли вы что-нибудь об искусстве?» — спросила она. Как бы вы выразились: не освоил. «Вижу, что «не освоили». Иначе бы вы не заключили в тюрьму невинного человека». Не вижу связи, сказал я. Она закрыла книгу. «Расскажите мне о себе. Расскажите, что вы делаете в свободное время». 32 Я энтомолог. Я коллекционирую бабочек. «Да, я помню, — сказала она. — Об этом писалось в газете. Теперь вы коллекционируете меня». Мне показалось, что она произнесла это как шутку, и поэтому я добавил: так сказать. В переносном смысле. «Нет, не в переносном, буквально. Вы прикололи меня булавкой в этой маленькой комнате и теперь можете приходить и любоваться». Я вообще не думал об этом в таком роде. «А вы знаете, что я из буддистов? Я ненавижу все, что отнимает жизнь. Даже жизнь насекомых». Но вот вы ели цыпленка, сказал я. На этот раз я все же ее поймал. «Да, и я презираю себя за это. Если бы я была лучше, я бы была вегетарианкой». Я сказал, если вы мне посоветуете перестать ловить бабочек, я перестану. Я сделаю все, что вы ни скажете. «Кроме лишь того, чтобы позволить улететь мне». Нам лучше не говорить об этом. У нас из этого ничего не получается. «Тем не менее, я не могу уважать человека, особенно мужчину, который делает что-либо лишь для того, чтобы угодить мне. В моем представлении мужчина совершает поступки потому, что считает это правильным», — все время она старалась меня уколоть. Думаешь, что ты с ней разговариваешь о чем-то совершенно безобидном, и вдруг она начинает придираться, высмеивать тебя, делать из тебя дурака. Я промолчал. «Как долго я здесь пробуду?» Не знаю, сказал я. Там видно будет. «Что будет видно?» Я ничего не ответил. Тут трудно было ответить. «Влюблюсь ли я в вас или нет?» Это было как повторение одного и того же, пять, десять, двадцать раз... «Да ведь если я влюблюсь и у нас будет любовь, я уж точно останусь здесь навечно, до самой своей смерти». Я не ответил. «Уходите, — сказала она. — Уходите и подумайте над этим». На следующее утро она предприняла первую попытку бегства. То, что она не застала меня врасплох, это правда, но она преподнесла мне хороший урок. Она съела завтрак и потом сказала мне, что кровать качается, это задняя дальняя ножка, в самом углу, я думаю, она скоро отвалится, сказала она, гайка ослабла. И я, как дурак, пошел помочь ей придержать кровать, как вдруг она, сильно меня толкнув, так что я потерял равновесие, проскочила мимо и бросилась к двери. Моментально, как молния, она оказалась у ступенек, потом на них. Я был вынужден броситься за ней, там был предохранительный крючок, держащий дверь 33 приоткрытой, и клин, который она как раз пыталась выдернуть, когда побежал я. Но она бросила дверь и кинулась дальше, крича: помогите, помогите, помогите! — и вверх по ступенькам к наружной двери, которая, конечно, была закрыта на замок. Она толкнула ее, потом ударила и стала колотить и продолжать кричать, но в это время я ее уже нагнал. Мне было противно это делать, но делать было надо. Я схватил ее за талию, зажав одной рукой рот, и потащил вниз. Она пиналась и вырывалась, но, понятно, я оказался сильнее, и чтобы справиться, мне не надо было быть Гераклом, хотя я и на самом деле не из слабых. Наконец она затихла, и я выпустил ее. Мгновение она стояла на месте, потом вдруг развернулась и ударила меня по лицу. Это было не настолько уж и больно, но удар получился ужасно подлым и сделан был тогда, когда я уже меньше всего ожидал этого, и после того, как вел себя очень благоразумно, в то время как другой мог бы на моем месте потерять голову. Затем она вошла в комнату и захлопнула за собой дверь. Я уже хотел обидеться и рассердиться на нее, и даже поссориться, но я понимал, что она была в ярости. Во всяком случае, во взгляде у нее горела просто настоящая ненависть. Поэтому я только запер дверь и повесил ложную полку. Затем она перестала разговаривать. В ленч она не проронила ни слова, хотя я и пытался заговорить и даже сказал, ладно уж, кто старое помянет, тому глаз вон. На что она лишь усмехнулась и презрительно посмотрела на меня. То же было и вечером. Когда я пришел убраться, она подала мне поднос и повернулась ко мне спиной, ясно этим дав мне понять, что не хочет, чтобы я оставался. Я решил, что это пройдет, но на следующий день было еще хуже. Она не только не говорила, она перестала и есть. Не надо этого делать, сказал я. Это плохо. Но она не произнесла ни слова и даже на меня не взглянула. И на другой день было то же самое. Она не говорила и не ела. Я все ждал, что она начнет носить какую-нибудь одежду из той, что я ей купил, но она все так же продолжала надевать свою белую блузку и зеленую клетчатую форму. Я начал по-настоящему беспокоиться. Я не знал, как долго могут люди быть без пищи, а, на мой взгляд, она уже выглядела бледной и очень слабой. Все время она сидела на своей кровати, в углу, повернувшись лицом к стене, и была такой жалкой, что я не знал, что и делать. На следующий день я принес на завтрак и кофе, и несколько очень хороших тостов, и кашу, и мармелад и вставил все это стоять, чтобы она видела, как это вкусно. Потом я сказал, я не жду от вас, что вы в меня влюбитесь, как это обычно получается у людей, или поймете меня, как понимают люди, я только хочу, чтобы вы попробовали меня понять хоть немного и попробовали полюбить тоже хоть чуточку, если это, конечно, возможно. Она не двинулась. 34 Тогда я сказал, давайте договоримся. Я скажу вам, когда я вас отпущу, и мы совершим сделку. Не знаю, почему я так сказал, В мыслях у меня никогда и общем-то не было того, что я ее отпущу, что смогу отпустить. И в то же время нельзя сказать, что это была совсем неправда. Иногда мне приходило в голову, что она обязательно выйдет отсюда, когда мы подружимся; как говорится, надежды и мечты... А иногда я думал, что все равно не смогу отпустить ее... Она повернулась и взглянула на меня. Это был за три дня первый признак жизни. Я сказал, мои условия будут в том, чтобы вы ели, чтобы разговаривали со мной, как вначале, и не пытались убежать тоже, как тогда. «С последним я никогда не соглашусь», — сказала она. А как насчет первых двух, сказал я. (Я подумал, что даже если она не согласится с последним и не пообещает не делать попыток убежать, я всегда могу принять меры предосторожности, так что это было несущественно, это последнее условие). «Но вы не сказали когда...» — сказала она. Через шесть недель. Она лишь отвернулась снова. Тогда пять недель, сказал я чуть позже. «Я останусь здесь на неделю, и ни днем больше». Ну, я же не могу с таким согласиться, сказал я, и она опять отвернулась. Потом она заплакала. Было видно, как вздрагивают ее плечи, мне хотелось подойти к ней, и я уже шагнул к кровати, но она так резко повернулась, что я подумал, она все еще боится меня, боится, что я все-таки могу с ней сделать что-нибудь. Глаза ее были полны слез. Щеки мокрые. Я действительно не мог видеть ее такой. Пожалуйста, рассудите здраво. Вы же знаете, что вы значите для меня сейчас, разве вы не понимаете, что я не делал бы всех этих приготовлений, чтобы только оставить вас здесь на неделю. «Я вас ненавижу, ненавижу». Я вам дам слово, сказал я. Когда придет время, вы сможете уйти сразу, как только захотите. Она никак не отреагировала. Она сидела как-то странно, плакала и глядела на меня. Лицо ее было очень бледным. Я думал, что она опять собирается меня ударить, выглядела она именно такой, как будто хотела сделать как раз это. Но потом она начала вытирать глаза. Потом закурила сигарету. И, наконец, сказала: «Две недели». Я сказал, вы называете две, я называю пять. Я соглашусь, чтобы это был месяц. Это будет 14 ноября. Некоторое время она молчала, а потом проговорила: «Четыре недели — это будет одиннадцатое ноября». 35 Я очень беспокоился за нее, и мне хотелось быстрее прийти к соглашению, поэтому я сказал, я имел в виду календарный месяц, но согласен и на двадцать восемь дней. Я прибавляю вам еще три лишних дня. «Очень вам благодарна», — язвительно, разумеется. Я подал ей чашку кофе, и она взяла. «У меня есть несколько условий тоже»,- сказала она, прежде чем начать пить. — Я не могу все время жить здесь внизу. Мне необходима время от времени ванна. У меня должны быть материалы для рисования. Мне нужен проигрыватель и радиоприемник. Мне также нужны аптечные принадлежности. У меня должны быть фрукты и зелень. И у меня должна быть возможность двигаться». Если я вам позволю выйти наружу, вы убежите, сказал я. Она выпрямилась. Ей следовало бы сказать все это немного раньше, она слишком быстро все перевернула. «Знаете ли вы, что такое честное слово?» Я сказал, да. «Вы можете выпустить меня под честное слово. Я обещаю не кричать и не стараться убежать». Я ответил, позавтракайте, я подумаю над этим. «Нет! Это немного, то что я прошу. Если дом действительно вдали от других, риска нет никакого». Вдали, это верно, сказал я. Но я не могу решить сразу. «Тогда я продолжаю голодовку», - и она отвернулась. Она опять, как это говорится, взобралась на своего конька. У вас, конечно, будут все материалы для рисования, сказал я. Вам стоит только попросить. И граммофон. Любые пластинки, какие вы захотите. Книги. То же и с едой. Я повторяю, нужно только сказать. Все это будет. «Свежий воздух?» - она все еще сидела ко мне спиной. Это слишком опасно. Наступило молчание. Правда им она говорила больше, чем словами, и в концов я согласился. Возможно, ночью. Я посмотрю. «Когда?» — она обернулась. Я должен подумать. Мне придется связать вас. «Но я же дала вам честное слово». Одно из двух. «Ванна?» Я что-нибудь приспособлю, сказал я. «Я хочу принимать настоящую ванну, в настоящей ванной комнате, такая должна быть наверху». Вообще-то как раз об этом я и думал, столько об этом мечтал: показать ей свой дом, всю обстановку. Видеть ее среди всего этого. Когда я 36 представлял ее себе в мечтах, она была, конечно же, со мной наверху, а не в подвале. Меня это увлекло, и я согласился, я иногда действовал по первому побуждению и шел на риск, на который другие, может быть, и не отважились бы. Я подумаю, сказал я. Мне нужно кое-что приготовить. «Если я даю вам слово, я не нарушу его». Я в этом уверен, сказал я. В общем, на этом мы и порешили. Было похоже, что небо стало проясняться, как это говорят. Я уважал ее, она станет больше уважать меня в дальнейшем. Первое, что она сделала, это написала мне список вещей, какие ей были нужны. Я должен был отыскать в Льюисе художественный магазин и купить специальной бумаги, карандашей всех сортов и такие вещи, как сепия, китайские чернила и кисточки из особых волос, разных размеров и разного изготовления. Потом ей нужно было кое-что купить в аптеке, дезодоранты и т.д. Конечно, это могло оказаться подозрительным, что я покупаю женские вещи себе, но я решил рискнуть. Еще она написала, какие продукты мне надо покупать, ей был нужен натуральный кофе, много фруктов, овощей и зелени — обо всем этом она написала очень подробно. Кроме того, с тех пор как она взяла за правило записывать то, что нужно купить, почти каждый день она стала говорить мне еще, как готовить то или другое, и это было почти как иметь жену, жену-больную, которая сама не может передвигаться и ходить за покупками. В Льюисе я был осторожен, я никогда не заходил в один и тот же магазин подряд два раза, чтобы не могло показаться, что я покупаю слишком много для одного человека. Что бы там ни было, я все же подумывал о том, что люди могут поговаривать, зная, что я живу затворником. В тот же первый день я купил и граммофон. Правда, небольшой, но выглядел он вполне прилично. Мне не хотелось, чтобы она думала, что я ничего не понимаю в музыке, но я увидел пластинку с оркестровой музыкой Моцарта и купил ее. И это оказалось удачной покупкой, пластинка ей понравилась, а следовательно, и я, за то, что купил ее. Однажды, много позже, когда мы с ней слушали ее, я видел, как она плакала. То есть я имею в виду, глаза у нее стали мокрыми. Потом она сказала, что он умирал, когда писал это, и знал о том, что умирает. Для меня пластинка показалась такой же, как и все остальные, но она, конечно, была музыкальна. На следующий день она опять напомнила мне о ванной и свежем воздухе. Я не знал, как быть, и пошел в ванную все обдумать, без какихлибо еще обещаний. Окно ванной комнаты выходило на улицу над крыльцом подвальной двери. На задах дома, что было, в общем-то, безопасным. И, в конце концов, я принес досок и привинтил их шурупами 37 снаружи на оконный проем для полной уверенности. Чтоб она не смогла выбраться или просигналить светом. Хотя я и понимал, что вряд ли кто появится с этой стороны дома поздно вечером. Но береженого бог бережет, как это говорится, Это что касается ванной комнаты. Следующее, что я сделал, это отрепетировал наш выход, представив, что мы уже с ней поднимаемся по лестнице, чтобы увидеть, где еще может таиться для меня опасность. В коридоре, ведущем к лестнице, были на окнах внутренние деревянные ставни, было несложно закрыть их и запереть (позже я повесил замки), так что она не смогла бы привлечь к себе внимания через окно, и ни один ротозей не смог бы в него заглянуть и что-нибудь увидеть. В кухне для полной гарантии я убрал ножи и все, чем можно было бы воспользоваться. Я все продумал, все, что она могла бы предпринять для побега, и, в конце концов, пришел к выводу, что подготовлен. Ну и конечно, после ужина она опять завела разговор о ванной, я ей дал снова немножко побыть надутой, а потом сказал, ладно, иду на риск, но если вы нарушите ваше обещание, вы останетесь здесь. «Я никогда не нарушаю обещаний». Вы даете мне свое честное слово? «Я даю вам честное слово, что не предприму никаких попыток к бегству». И не будете подавать сигналы. «И не буду подавать сигналы». Мне придется связать вам руки. «Но это же оскорбление». Я ведь не обвиню вас, если вы нарушите слово, сказал я. «Но я...» — она не закончила и только передернула плечами, потом повернулась ко мне спиной и сложила сзади руки. Шарф у меня был наготове, и я связал их достаточно крепко, хотя и не настолько, чтобы ей стало больно. Потом я собрался завязать ей рот, но сначала она меня заставила собрать все банные принадлежности, которые ей могли бы понадобиться, и (я очень рад был видеть это) кое-что из той одежды, которую я для нее купил. Я нес ее вещи и шел первым, сначала в наружный подвал, где она подождала, пока я открою замок на двери, и затем уже, предварительно послушав, нет ли кого-нибудь поблизости, я разрешил ей выйти наружу. Была, конечно, темнота, но небо чистое, и можно было видеть звезды. Крепко держа ее за руку, я дал ей постоять здесь пять минут. Я слышал ее глубокое дыхание. Все это было так романтично, голова ее почти касалась моего плеча. Можно слышать, как далеко мы здесь отовсюду, сказал я. 38 Когда время кончилось (мне пришлось стронуть ее с места), мы вошли в дом через кухню и столовую, прошли в коридор, а затем и наверх в ванную комнату; Здесь нет замка на двери, сказал я, я забил его, вы даже не сможете закрыться, но я буду соблюдать наш договор и ваше уединение при условии, что вы своего слова не нарушите. Я буду тут. На лестничной площадке у меня уже было приготовлено кресло. Сейчас я развяжу вам руки, но прежде дайте мне слово, что со рта повязку вы снимать не будете. Кивните головой. В общем, она кивнула, и я развязал руки. Она слегка потерла их, думаю, что это уже специально для меня, потом вошла в ванную. Все прошло без всяких волнений. Я слышал, как она налила воду и стала мыться, плескаясь и все такое, но я совершенно растерялся в момент, когда она вышла. Во-первых, у нее на рту не было повязки. Это была первая неожиданность. Второй неожиданностью было то, что она совершенно изменилась в этой ее новой одежде и со свежевымытыми волосами. Волосы у нее были влажные и лежали, распущенные, на плечах. После ванны она стала как-то мягче, даже моложе, совсем не такой, какой она бывала, когда вела себя резко и грубо. Наверное, я выглядел глупо, глядя на нее сердито из-за отсутствия повязки и в то же время не имея возможности на нее сердиться, такой в этот момент она была красивой. Она заговорила очень быстро. «Понимаете, она так ужасно давила. Я вам уже давала слово. Я даю его опять. Вы можете завязать кляп снова, если желаете, вот, пожалуйста. Но я бы уже могла закричать и сейчас, если бы хотела». Она подала мне повязку, и что-то было в ее взгляде такое, что я не смог надеть ее снова. Руки все-таки свяжу, сказал я. На ней была ее зеленая форма-кофта, но надета она была с одной из тех юбок, что я для нее купил, и, я думаю, с новым бельем внизу. Я завязал ей сзади руки. Простите, что я так недоверчив, сказал я. Но вы — это все, что есть ценного у меня в жизни. Момент для такого объяснения был, конечно, неподходящий, я понимал это, но видеть ее здесь, вот так вот, было выше моих сил. Я сказал, если вы уйдете, я думаю, я повешусь. «Вам нужен доктор». Я лишь вздохнул. «Мне бы хотелось помочь вам». Вы думаете, я сумасшедший, потому что я сделал такое?.. Я не сумасшедший. Просто у меня больше никого нет. И никогда никто не был мне нужен, кроме вас. 39 «Это самая тяжелая форма болезни, — сказала она. Все это время она стояла ко мне спиной, а я связывал ей руки. Она смотрела себе под ноги. — Мне жалко вас». Затем она переменила тему, она сказала: «А как насчет стирки? Я постирала несколько вещей. Могу я их где-нибудь повесить? Или их следует отдать в прачечную?» Я сказал, я высушу их на кухне. Вам нельзя ничего посылать в прачечную. «Ладно... Ну, а что теперь?» И она огляделась вокруг. Иногда в ней просыпалось что-то такое, озорное и ребяческое, как будто она так и искала приключений на свою голову. В хорошем смысле. Вроде как поддразнивала. «Разве вы не хотите показать мне свой дом?» И она действительно по-настоящему улыбнулась, и я в первый раз увидел ее улыбку. Я ничего не мог с собой поделать и только улыбнулся в ответ. Очень поздно, сказал я. «Сколько лет этому дому?» — она спросила, как будто и не слышала меня. Над входом есть кирпич с цифрой 1621. «Этот ковер неправильно подобран по цвету. Вам бы следовало лучше положить камышовую циновку или что-то в этом роде. И эти картины — ужасны!» Она прошлась по лестничной площадке посмотреть их. Оценивая. Стоят они достаточно, сказал я. «Тут дело не в деньгах». Даже не могу сказать, как удивительно все это было. Мы стояли рядом, здесь, и она делала свои замечания по поводу дома, как самая обыкновенная женщина. «Могу я заглянуть в комнаты?» Я был сам не свой. Я не мог противиться удовольствию, поэтому я стоял с ней в дверях и показывал спальни, одну, приготовленную для тети Энни, другую — для Мэйбл, если они вообще приедут, и мою. Миранда осмотрела очень тщательно каждую из них. Конечно же, окна в комнатах были зашторены, и я был рядом с ней на случай, чтобы она что-нибудь все-таки опять не выкинула. Мне пришлось тут поработать, чтобы все это устроить, сказал я, когда мы находились в дверях моей комнаты. «Вы очень аккуратны». Она взглянула на несколько старинных картин с бабочками, которые я купил в антикварном магазине. Это я сам выбирал, сказал я. «Это здесь единственные приличные вещи». 40 Вот так. Мы стоим в моей комнате, в моем доме, она делает мне комплимент, а я отвечаю, что очень ей признателен. Потом она сказала: «Как тихо. Машин совсем не слышно. Мне кажется, это может быть Северным Эссексом». Я понимал, что она хитрит, потому что она опять следила за мной. Вы догадались правильно, сказал я, изображая удивление. Вдруг она сказала: «Странно, я должна бы дрожать от страха. Но я чувствую себя в полной безопасности с вами». Я никогда не сделаю вам ничего плохого. Если вы только сами меня не вынудите. Неожиданно стало сбываться все, на что я надеялся. Мы узнавали друг друга ближе, и она начинала видеть меня, видеть, кто я есть на самом деле. «Какой прекрасный тут воздух, — сказала она. — Вы не можете себе представить. Даже один этот воздух. Это свобода. Это все то, чего у меня нет». И она повернулась и стала спускаться вниз, и мне пришлось последовать за ней на лестницу. Внизу, остановившись в коридоре, она сказала: «Могу я посмотреть здесь?» Двум смертям не бывать, подумал я, тем более, что ставни были закрыты и шторы тоже опущены. Она вошла в зал и осмотрелась, поворачиваясь кругом себя и разглядывая все с руками, связанными за спиной, что выглядело довольно комично, конечно. «Славная комната. И гнусно набивать ее всей этой претенциозной безвкусной дрянью. Совершеннейшая гадость!» И она на самом деле вдруг пнула одно из кресел. На лице у меня, видимо, было написано, что я в этот момент чувствовал (некоторую обиду, видимо), поэтому она сказала: «Но вы же должны видеть, что это плохо! Эти ужасные «шикарные» бра и... — вдруг она заметила и их, — и эти псевдокитайские дикие фарфоровые утки!» Она посмотрела на меня просто с лютой ненавистью, потом снова на уток. «У меня болят руки. Почему вам не пришло в голову завязать мне их, к примеру, спереди?» Мне не хотелось портить настроение, да и я не видел ничего в этом страшного. Как только я снял повязку с рук (я вообще-то был готов ко всему), она повернулась ко мне и вытянула руки перед собой, чтобы я завязал их снова, что я и сделал. И когда я завязал, она просто меня испугала, я даже оторопел. Она подошла к камину, где находились дикие утки, там их висело три штуки, в тридцать монет каждая, и не успел я, как это говорится, я глазом моргнуть, как она посрывала их с крючков и разбила о плиту перед камином. Вдребезги. Очень вам благодарен, сказал я как можно язвительнее. «Такой старый дом, как этот, имеет душу. Нельзя подобной мерзостью опошлять такую старую, старую комнату, в которой жило так много, много людей. Можете вы понять это?» 41 У меня очень мало опыта в меблировке, сказал я. Она лишь молча взглянула на меня и прошла мимо, в противоположную комнату, которую я называл столовой, хотя мебельщики и называли ее смешанной, она была наполовину оборудована для моей работы. Здесь стояли три моих шкафа, которые она увидела сразу. «Разве вы не собираетесь показать мне моих собратьев по заключению?» Конечно, большего я и желать не мог. Я вытащил один или два наиболее интересных ящика. С бабочками одного и того же вида, ничего серьезного, так, чтобы только показать что-нибудь покрасивее. «Вы их покупаете?» Конечно, нет, сказал я. Все или пойманы мной или выведены, я классифицировал и выделывал их сам. Почти все. «Выполнены они прекрасно». Я показал ей ящик с Мраморницами и Голубым Адонисом, у меня была прекрасная вариация ceroneus Adonis и несколько абберантов Мраморницы, и я указал на них. Вариация ceroneus была лучше, чем та, что представлена в Национальном Историческом музее. Я испытывал гордость, что могу что-то ей рассказать. Например, она никогда не слышала о абберации и нетипичных бабочках. «Все это красиво. Но печально». Все печально в таком виде, сказал я. «Но ведь это вы делаете их такими! — она смотрела на меня, стоя напротив, по ту сторону ящика. — Сколько бабочек вы убили?» Вы их всех видите. «Нет, не всех. Я имею в виду всех тех бабочек, которые могли произойти от этих, если бы вы оставили их в живых. Я думаю о всей той живой красоте, развитию которой вы положили конец». Зачем так говорить? «Вы даже не делитесь этим. Кто их видит? Вы, как Скупой рыцарь, прячете всю эту красоту в этих ваших ящиках». Я был по-настоящему разочарован, слова ее мне казались такими неумными. Что может значить десяток пойманных экземпляров для целого вида?.. «Я ненавижу ученых, — сказала она. — Я ненавижу людей, которые собирают явления и вещи, классифицируют их, дают им имена и затем совершенно о них забывают. То же самое люди всегда делают и в искусстве. Они называет художника импрессионистом, или кубистом, или еще кем-то, и затем кладут его в ящик, и уже не воспринимают больше его как живую индивидуальность... Но, конечно, могу согласиться, что сделаны они все прекрасно». Она постаралась под конец немного исправить положение и снова стать хорошей. 42 Следующее, о чем я ей рассказал, это о том, что я занимаюсь еще я фотографией. У меня было несколько снимков леса позади дома, а также моря, накатывающегося на мол в Сифорде, в самом деле хорошие фотографии, я печатал их сам. Я положил их на стол, чтобы она могла их посмотреть. Она взглянула, но ничего не сказала. Они не очень большие, сказал я. Я занимаюсь этим недавно. «Они мертвы, — она посмотрела на меня как-то странно и отвела глаза. Не в частности эти, вообще. Все фотографии. Когда вы рисуете что-то, это живет, но когда фотографируете, это умирает». Это как пластинки, сказал я. «Да. Все сухо и мертво». Тут я хотел возразить, но она быстро продолжила, она сказала: «Но они умны. Это хорошие фотографии, насколько они как фотографии могут быть хорошими». После некоторого молчания я сказал, мне бы хотелось сделать несколько ваших снимков. «Зачем?» Вы, что называется, фотогеничны. Она опустила глаза, потом посмотрела на меня и сказала: «Хорошо. Если вы так хотите. Завтра». У меня даже жарко стало в груди. Все действительно совершенно менялось. Затем я сказал, что пора идти вниз. Она не сильно возражала, лишь только вздрогнула и передернула плечами, когда я завязывал ей рот. И все прошло спокойно, как и на пути наверх. Внизу, когда мы уже спустились, она попросила чашку чая (чай я купил особый, китайский, какой она и велела). Я снял повязку со рта, и она вышла в наружный подвал (руки все же оставались связанными) посмотреть, где я готовлю для нее еду и все такое. Мы молча стояли около плиты, и это было очень хорошо. Начинающий закипать чайник, и она рядом. Время от времени я, конечно, не выдерживал и искоса посматривал на нее. Когда чай был готов, я сказал: мог бы я заменить мать? «О, это жуткое слово». Что в нем плохого? «Это то же самое, как с теми дикими утками. Оно затаскано, избито и мертво, и оно... как бы это сказать, с окраины, оно правильно в плоско, совершенно правильно, как стул, до невозможности. Понимаете?» Я думаю, что вам бы пошло быть матерью. И тут получилось странное. Она улыбнулась, как будто собираясь уже засмеяться, и затем вдруг остановилась, отвернулась и ушла в свою комнату, куда и я вошел следом, неся поднос. Она пила чай, но что-то уже изменилось, что-то рассердило ее. На меня она не смотрела. Я не хотел вас обидеть, сказал я. 43 «Я вдруг подумала о моей семье. Они вряд ли будут смеяться сегодня за вечерним чаем». Четыре недели, сказал я. «Не напоминайте мне об этом!» Она была как настоящая женщина. Непредсказуема. Могла улыбаться в одно мгновение и ненавидеть тебя в следующее. Она сказала: «Вы омерзительны. Вы и меня заставили быть омерзительной». Это недолго. И тогда она сказала вообще такое, что я никогда и не слышал от женщины. Это меня просто совершенно потрясло. Я сказал, мне не нравятся такие выражения. Это грубо. Тогда она сказала это снова, прямо выкрикнула мне. Бывали периоды, когда я не мог угнаться за всеми сменами ее настроений. На следующее утро она была как ни в чем не бывало, хотя извиниться и не подумала. Кроме того, когда я вошел, две вазы из ее комнаты лежали разбитыми на ступеньках у двери. Как всегда, она была уже на ногах и ждала меня, когда я войду с завтраком. Ну и первое, чем она поинтересовалась, это собираюсь ли я вывести ее на дневной свет? Я сказал, идет дождь. «Почему бы мне тогда не выйти хотя бы в другой подвал, чтобы пройтись туда и обратно? Мне нужно движение». Некоторое время мы снова торговались. В конце концов, соглашение было принято, и мы решили, что, если она хочет гулять здесь в дневное время, она должна быть обязательно с повязкой на рту. Я не позволял себе слишком рисковать, кто-нибудь мог случайно оказаться с задней стороны дома, пусть даже это и было маловероятно: калитку и дверь гаража я всегда закрывал на замок. А ночью достаточно было только связанных рук. Я сказал, я не могу обещать ванну чаще одного раза в неделю. И совсем ничего не могу обещать про прогулки на улице днем. Какое-то время я уже думал, что она опять впадет в это свое дурное настроение и надуется, но, видимо, она поняла, что дурное настроение ни к чему не приводит, поэтому мои условия она приняла. Возможно, я был уж слишком строг, я вообще-то, конечно, понимаю, что, может быть, иногда перегибал палку. Но мне надо было быть очень осторожным. Например, в уикенды было очень сильное автомобильное движение. В хорошую погоду, в воскресенье, машины проносились мимо каждые пять минут. Часто люди, проезжая Фостерс, замедляли ход, некоторые даже возвращались назад, чтобы взглянуть еще раз на дом, некоторые даже набирались наглости и просовывали свои фотоаппараты 44 сквозь калитку и фотографировали его. Так что в уикенды я ей вообще не разрешал выходить из ее комнаты. А однажды меня остановил мужчина на машине в тот момент, когда я только выехал за ворота, чтобы спуститься в Льюис. Не я ли хозяин дома?.. Он был одним из тех сильно образованных и важных типов, с хорошими манерами и, как говорится, с сотней тысяч долларов в кармане. Этакий «мы с моим боссом..,» — что-то в таком роде. Он мне наговорил кучу всего о доме, и о том, что пишет одну статью для журнала, и не разрешу ли я ему осмотреть дом и сфотографировать его, особенно его интересовала тайная часовня. Тут нет никакой часовни, сказал я. Но, мой дорогой друг, это фантастика, сказал он, часовня упомянута в списке достопримечательностей страны. В десятках книг. Вы имеете в виду тот старый погреб в подвале, сказал я, как будто до меня только что дошло. Туда не попасть. Заложено кирпичом. Но это архитектурный памятник. Семнадцатый век. Вы не имели права такие вещи делать. Я сказал, в конце концов, она все там же. Просто вы не сможете ничего увидеть. Это было сделано еще до меня. Потом он захотел осмотреть дом внутри. Я сказал, я спешу, я не могу ждать. Он опять за свое: «Назовите мне тогда день». У меня нет свободного дня, сказал я, у меня масса таких заявок. Он продолжал все равно соваться, он даже начал грозить мне постановлением на осмотр. Общество исторических памятников (да кто бы там ни был...) поддержит его — страшно наглый и в то же время хитрый, верткий. В конце концов, он просто уехал. В общем-то, все это он только пугал, но мне было о чем подумать. В тот вечер я сделал несколько фотографий. Просто обыкновенные фотографии: она, сидящая за книгой. Получились они очень хорошо. Примерно в те же дни и она нарисовала меня, так сказать, в порядке ответной любезности. Я должен был сесть в кресло и смотреть в угол комнаты. Через полчаса, прежде чем я успел остановить ее, она порвала рисунок. (Она часто рвала. Художественная натура, я так понимаю.) Мне бы понравилось, сказал я. Но она даже не ответила, она лишь сказала, не двигайтесь. Время от времени она что-нибудь говорила. В основном так, отдельные замечания, обо мне и моей внешности. «Вас очень трудно ухватить. У вас такие неопределенные черты. Все абсолютно ничего не говорящие, без всякой индивидуальности. Я думаю о вас не как об отдельной личности, а как о представителе вида». Позже она еще добавила: «Нельзя сказать, что вы уродливы, но ваше лицо состоит почти из одних неправильных и уродливых черт. Ваша 45 верхняя губа хуже всего. Она выдает вас». Я посмотрел в зеркало напротив, но не мог понять, что она имеет в виду. А иногда вдруг она начинала задавать какие-нибудь странные вопросы, причем ни с того ни с сего. «Скажите, верите вы в бога?» — был один. Не особенно, ответил я. «На это отвечают да или нет». Я не думаю об этом. Не вижу надобности. «Вы как раз и заключены в погребе». — сказала она. А вы верите, спросил я в свою очередь. «Конечно, верю. Как любое человеческое существо». Но когда я попытался продолжить, она сказала, хватит разговаривать. Светом она была недовольна. «Этот искусственный свет. Я не могу ничего рисовать при нем. Он лжет». Я понимал, к чему она клонит, и поэтому промолчал. Потом опять — это могло быть и не в тот первый день день, когда она меня рисовала, я не помню, в какой день это было — у нее вдруг вырвалось: «Вы счастливы, что у вас нет родителей. Моих удерживаем вместе только я и моя сестра». Почему вы так думаете, сказал я. «Потому что моя мать сама мне говорила, — ответила она. — И отец тоже. Моя мать — сука. Отвратительная, самоуверенная, буржуазная сука. Она пьет». Я слышал, сказал я. «Я никогда не могу удержать при себе друзей». Сочувствую, сказал я. Она бросила на меня быстрый взгляд, но я говорил серьезно. Я рассказал ей о своем пившем отце и о своей матери. «Отец у меня слабый человек, но я все равно очень люблю его. Знаете, что он сказал мне однажды?.. Он сказал, я не понимаю, как два таких скверных родителя могли произвести на свет двух столь хороших дочерей. Это сказано, в общем-то, было больше, конечно, про мою сестру. Она на самом деле умница и способная». Вы тоже очень способная. Вы получили первую премию. «Я хороший рисовальщик, — сказала она. — И могу стать очень хорошим художником. Но я никогда не стану великим художником. По крайней мере, мне кажется, что нет». Вам не нужно так говорить, сказал я. «Я недостаточно эгоцентрична. Я женщина. Мне недостаточно полагаться только на саму себя, — сказала она. — Мне обязательно нужно прикрытие, поддержка». Не знаю почему, но она вдруг сменила тему: «Вы застенчивы?» Почему, нет. 46 И, разумеется, покраснел. «Этого не надо стыдиться. Большинство хороших людей таковы». Потом она добавила: «Вы ищете во мне поддержку. Я это смогла почувствовать. Мне сдается, это все из-за вашей матери. Вы ищете свою мать». Я не верю во всю эту чепуху, сказал я. «Нам никогда не было бы хорошо вместе. Мы оба ищем поддержку в другом». Я бы мог быть для вас поддержкой в денежном отношении, сказал я. «А я для вас в чем-то еще?.. О, мама мия! Прости меня, господи...» Затем она сказала «вот» и протянула мне рисунок. Он на самом деле был очень хорошим, я, по правде, даже удивился сходству. На нем я выглядел гораздо симпатичнее и внушительнее, что ли, чем в жизни. Вы собираетесь мне его продать, спросил я. «Нет, не собираюсь, но могу. Двести гиней». Идет, сказал я. Она опять бросила на меня быстрый взгляд. «Вы бы дали мне за него двести гиней?» Да, сказал я. Потому что это вы делали. «Дайте мне его». . — Я подал рисунок, и прежде чем успел что-то понять, . она порвала его пополам. «Это же плохо, плохо!» Но потом она как-то бросила его мне. «впрочем, вот. Это вы. Положите его в ящик с вашими бабочками...» В следующий раз, когда я был опять в Льюисе, я купил ей опять пластинок, все, какие только мог найти, Моцарта, потому что, как мне казалось, он ей очень нравился. На другой день она рисовала вазу с фруктами. Она нарисовала ее около десяти раз и потом приколола все рисунки на ширме и попросила меня выбрать лучший. Я сказал, они все очень красивые, но она все равно продолжала заставлять меня, и поэтому я выбрал один. «Но это худший, — сказала она, — это умная добросовестная студенческая работа, — сказала она. — Но один из них действительно получился у меня хорошо. Я знаю, что он хорош. Он ценнее всех остальных в сотню раз. Если вы угадаете его с трех попыток, вы можете забрать его себе даром, когда я выйду отсюда. Если выйду. Если не угадаете, вы дадите мне за него десять гиней». И вот я начал, каждый раз сопровождаемый ее насмешками, пытаться выбрать. Но все три раза оказались неудачными, угадать у меня не получилось. Тот, который она имела в виду, был тоже хорош, но, на мой взгляд, он выглядел немного незаконченным, трудно даже было сказать, какие фрукты здесь нарисованы, и все они были немного кривобоки. 47 «Здесь я в преддверии того, чтобы сказать что-то о сути этих фруктов. Я не сказала по-настоящему, но возникает ощущение, что я могу, в состоянии. Вы понимаете это?» По правде сказать, нет, сказал я. Она сходила и принесла книгу с репродукциями Сезанна. «Вот, — сказала она, указывая на одну цветную картинку с яблоками на тарелке. — Он здесь не только говорит все об этих яблоках, но и все о всех яблоках вообще, все о их цвете и форме». Я верю вам на слово. Вы вообще хорошо рисуете, у вас все рисунки хорошие, сказал я. «Фердинанд, — сказала она. — Вас бы следовало назвать Калибаном2...» Однажды (дня через три или четыре после ванной) она вдруг сделалась очень беспокойной. После ужина она ходила взад и вперед из наружного подвала во внутренний, садилась на койку, снова вставала. Я смотрел рисунки, какие она сделала днем. Все они были копиями картин из альбомов, очень умные, я полагаю, и очень похожие. Вдруг она сказала: «Можем мы пойти погулять?» Но там сыро, сказал я. И холодно. Была вторая неделя октября. «Но я схожу с ума здесь взаперти. Можем мы просто погулять по саду?» Она подошла ко мне вплотную, чего она обычно избегала делать, и протянула свои запястья. Волосы у нее были убраны назад и свободно падали на спину, связанные наверху темно-голубой лентой. Это была одна из написанных ею в списке вещей, которые я должен был купить. Волосы в ней мне всегда нравились больше всего, я никогда не видел более красивых волос. Часто я бывал уже на полпути к тому, чтобы коснуться их. Просто погладить, потрогать. И мне всегда перепадал случай сделать это, когда я завязывал ей повязку на рту. Поэтому мы и пошли. Была совершенная ночь, луна выглядывала из-за туч, которые быстро ползли по небу, хотя внизу ветра почти не чувствовалось. Первое время, когда мы вышли, она просто стояла глубоко дыша. Потом я уважительно, чтобы не показаться поспешным, взял ее за руку и повел по тропинке вдоль стены, которая тянулась между ней и газоном. Мы прошли вдоль бирючиной изгороди и вошли во фруктовый сад с овощными грядками под фруктовыми деревьями. Я уже говорил, что у меня никогда не было грязных намерений воспользоваться своим положением или удобной ситуацией, я был всегда к ней уважителен до тех пор, пока она не сделала того… того, что она сделала), но тут, может быть, из-за того, что была темнота, и мы шли рядом, и я чувствовал ее руку сквозь рукав ее платья, мне просто страшно захотелось взять ее в руки и 2 Персонаж из пьесы В. Шекспира «Буря». 48 поцеловать. По правде сказать, я весь дрожал. Я должен был что-то сказать, или я бы потерял голову. Вы, конечно, не поверили мне, когда я говорил вам, что я очень счастлив, ведь так, сказал я. Она, понятно, не могла ответить. Потому что вы думаете, что я не могу чувствовать по-настоящему, что у меня не может быть глубоких чувств. А я просто не могу выразить их, как вы это можете, сказал я. А ведь то, что не можешь выразить чувств, еще не значит, что их нет или они ненастоящие, сказал я. Все это время мы шли под нависающими над нами в темноте ветвями. Все, о чем я прошу, сказал я, это чтобы вы поняли, как я вас люблю, как вы мне нужны, и как все это настоящее. И мне приходится сдерживаться, сказал я, иногда. Я не хотел хвастаться, но мне хотелось, чтобы она хоть на мгновение поняла, что бы мог сделать с ней какой-нибудь другой, будь она в его власти. Мы подошли к газону с другой стороны, и затем по противоположному краю к дому. Послышался звук мотора, приблизился, и внизу холма, позади дома проехала по проселку машина. Я крепче взял ее за руку. Мы подошли к подвальной двери. Я сказал, не хотите ли пройтись еще? К моему удивлению она отрицательно покачала головой. Понятно, я отвел ее вниз. Когда я снял повязки со рта и рук, она сказала: «Мне хочется чаю. Будьте добры, сходите и заварите его. Дверь закройте, я подожду здесь». Я приготовил чай. Когда я вошел и налил его, она заговорила. «Я хочу вам что-то сказать, - сказала она. – Я должна вам сказать это». Я поставил чайник на поднос. «Вам хотелось поцеловать меня там, на улице, так ведь?» Извините меня, сказал я. И, как всегда, начал краснеть. Прежде всего, я должна поблагодарить вас за то, что вы не сделали этого, потому что я не хочу, чтобы вы целовали меня. Я сознаю, что я в вашей власти, и сознаю, что это счастье для меня, что вы столь деликатны и сдержанны в этих интимных вещах». Это больше не повторится, сказал я. «Я вот хочу сказать. Если это случится опять… и хуже… и вы решитесь сделать это. Я хочу, чтобы вы пообещали мне кое-что». Это больше не повторится. «Не прибегайте к тому способу. Я имею в виду, не надо меня лишать сознания или усыплять хлороформом, или еще там что-то. Я не буду сопротивляться, я позволю вам сделать все, что вы захотите». Это больше не повторится, сказал я. Я забылся. Трудно объяснить… 49 «Только об этом прошу, потому что, если вы сделаете такое, я никогда, никогда не смогу уважать вас, я никогда, никогда не буду уже разговаривать с вами. Вы понимаете?» Я уверен, что больше такого никогда не будет, сказал я. Я был красный как рак в тот момент. Она протянула руку. Я пожал. Не знаю даже, как я выбрался из комнаты. Что и говорить, разделала она меня в тот вечер по всем статьям. В общем, каждый день начинался одинаково, я приходил между восемью и девятью, готовил ей завтрак, выносил ведро, иногда мы немножко разговаривали, она наказывала, что мне нужно купить в магазине (иногда я оставался дома, но чаще все же ездил за молоком или свежими овощами, которые она любила), почти каждое утро после возвращения из Льюис, я убирался в доме, потом готовил ей что-нибудь на ленч, потом мы обычно сидели и немного говорили, или она ставила пластинки, которые я потом снимал, или она сидела и рисовала, а я наблюдал за ней; чай она пила одна, не знаю почему, но у нас было что-то вроде соглашения, что чай она пьет в одиночестве. Потом ужин, и после ужина мы часто разговаривали немного больше. Иногда она встречала меня с радостью, обычно ей хотелось прогуляться, выйти в наружный подвал. Иногда же он отсылала меня, как только ужин заканчивался. Когда она разрешала, я ее фотографировал. Несколько раз и она фотографировала меня. Я сделал много ее фотографий, в разных позах, конечно, совершенно приличных. Мне хотелось, чтобы она, когда снималась, надевала что-то из одежды, которая мне нравилась, но я не решался попросить. Не знаю, зачем вам нужны все эти фотографии, все время говорила она. Вы можете видеть меня каждый день. Так что ничего особенного не происходило. Просто все эти вечера мы проводили, сидя вместе, и невозможно было себе представить, что это больше никогда не будет. Казалось, нас в мире было только двое. Никому не объяснишь, как счастливым мы были. Конечно, в основном, я, но были моменты, когда я понимал, что не смотря ни на что, если бы она задумалась, она бы поймала себя на том, что и ей в определенные минуты было хорошо тоже. Если бы только можно было, я сидел бы у нее весь день, просто глядел бы на ее голову, на волосы, на то, как они спускались на плечи, распадаясь особенным плавным изгибом на две половины в форме ласточкиного хвоста. Они были как вуаль или облако, они как бы лились в виде шелковых нитей, падающих в беспорядке и спутанных, но в то же время так красиво разбросанных по плечам. Как бы я хотел описать все это, как это делают поэты и художники. У нее была особая манера отбрасывать волосы за спину, когда они слишком уж перевешивались вперед. Такое совершенно простое и естественное движение. Иногда мне даже хотелось сказать ей, пожалуйста, повторите еще раз, пусть они снова 50 свесятся вперед и вы закинете их за спину. Только, конечно же, это выглядело бы совершенно глупо. И все, что она ни делала, было в точности так же красиво. Даже то, как она переворачивала страницы. То, как она вставала или как садилась, как пила, курила – все абсолютно. Даже и то, что в ком-то могло бы посчитаться за некрасивое, например то, как она зевала или потягивалась, она и это умудрялась красиво делать. Все заключалось в том, что она просто не могла делать некрасивых вещей. Слишком она для этого была прекрасна. И чистоплотной она была точно такой же. От нее никогда не пахло иначе, как чем-то свежим и душистым, в отличие от других женщин, как я это мог заметить. Она ненавидела грязь так же, как и я, хотя и высмеивала всегда во мне мою чистоплотность. Однажды она даже сказала, что это признак сумасшествия, желать, чтобы все вокруг было чистым. Если это так, то мы тогда были сумасшедшими с ней оба. Конечно, не все было тишь да гладь, несколько раз она пыталась убежать, вернее, просто использовала подвернувшийся удобный случай. Мое счастье, что я всегда был начеку. Однажды она меня почти провела. Она была жутко изобретательна. Один раз, когда я утром вошел, то увидел, что она лежит в кровати. Выглядело она очень больной, была страшно бледной и ее тошнило. В чем дело, в чем дело, начал я, но она только лежала не шевелясь, будто ей было очень больно. «Это аппендицит», наконец проговорила она. Почему вы так думаете, спросил я. «Я думал, умру этой ночью», - сказала она. Она говорила так, будто ей было очень трудно. Я сказал, что это может быть и что-нибудь другое. Но она лишь отвернулась лицом к стене и проговорила, о господи. Ну, а когда я пришел немного в себя, я подумал, что, может быть, это хитрость. Но тут она сложилась прям-таки вдвое, как будто от приступа, затем села, посмотрела на меня и сказала, что она готова пообещать все, что угодно, но ей нужен врач. Или в больницу, сказала она. Это для меня конец, сказал я. Вы им расскажете. «Я обещаю. Я все обещаю», проговорила она. И совершенно убедительно. Она могла играть очень натурально. Я заварю вам чай, сказал я. Мне надо подумать. Но тут она скорчилась снова. Повсюду на полу были следы того, что ее тошнило. Я вспомнил, как тетя Энни говорила, что от аппендицита можно умереть, лишь год назад у мальчика рядом, в соседней квартире, он был, и она сказала, что с операцией затянули – тетя Энни знала всегда обо всем – и просто по счастливой случайности он остался жив. Я решил, что надо что-то делать. 51 Я сказал, здесь внизу есть дом с телефоном. Я сбегаю. «Отправьте меня в больницу, - сказала она. - Это безопаснее для вас». Какое это теперь имеет значение, сказал я, как будто я на самом деле был в отчаянии. Это уже значит конец. Это уже значит прощайте, сказал я. До зала суда. Я тоже иногда мог кое-что изобразить. Затем я бросился наружу, в совершенном расстройстве, оставив дверь открытой, пробежал наружный подвал и только там остановился. И, конечно же, она вышла. Через минуту. Не более больная, чем я. Она лишь взглянула на меня и совершенно спокойно пошла обратно вниз. А я сделал рассерженное выражение лица, чтобы хоть попугать. Настроения у нее менялись так быстро, что часто я не поспевал за ними. Ей вообще нравилось оставлять меня с носом и делать все так, чтобы я не мог угнаться за ней (как она это сказала однажды: бедный Калибан, все-то ему никак не угнаться за своей Мирандой), иногда она называла меня Калибаном, иногда Фердинандом. Иногда она бывала по-настоящему зла и груба. Она издевалась надо мной, высмеивала, передразнивала мои движения, заставляла меня отказаться уже ото всех своих надежд, донимала вопросами, на которые я не мог ответить. А потом, в другое время, бывала спокойна и добра, приветлива, и я видел, что она понимает меня, как никто со времен дяди Дика, и я чувствовал, что готов сносить от нее все. Я запомнил множество мелких подробностей. Один раз она сидела, рассказывая мне о секретах некоторых картин — секретами были те особые вещи, о которых надо было думать, когда смотришь на картины, — секреты пропорции и гармонии, как она назвала. Мы сидели рядом, между нами лежала книга, и она показывала мне картины. Мы сидели на кровати (к тому времени она заставила меня сделать у стены подушки и застелить их пледом), близко, но не касаясь друг друга. Я за собой следил после той истории в саду. И вдруг она сказала, да не будьте таким скованным, я не убью вас за то, что ваш рукав коснется моего. Хорошо, сказал я, но продолжал сидеть все так же. Тогда она пододвинулась, да так, что мы соприкоснулись не только рукавами, но и плечами. И все время, пока она продолжала говорить и говорить о картине, которую мы рассматривали, мне казалось, что она совершенно не думает о нашем прикосновении, но через некоторое время она сказала: «Вы не слушаете». Нет, я слушаю, сказал я. «Нет, вы не слушаете. Вы думаете о том, что наши руки соприкасаются. Вы весь одеревенелый. Расслабьтесь». Я ничего не мог с собой поделать. Это было плохо, она заставляла меня все время быть таким напряженным. Она поднялась. На ней была узкая 52 голубая юбка, купленная ей мною, большой черный джемпер и белая блузка, цвета эти очень шли ей. Она встала передо мной, постояла и наконец сказала: о, господи. Потом она подошла к стене и ударила об нее кулаком. Случалось, она делала такое изредка. «У меня был друг, который целовал меня всякий раз, когда только встречал, и для него это ничего не значило — его поцелуи абсолютно не имели никакого значения. Он целовал всех. Он ваша противоположность. Вы не прикасаетесь ни к кому, а он целовал всех. Вы оба одинаково ненормальны». Я улыбнулся. Я всегда улыбался, когда она на меня нападала, это было что-то вроде защиты. «И прекратите так гнусно улыбаться». Это единственное, что я еще могу делать. Вы всегда так во всем правы. «Но я не хочу быть всегда правой. Скажите, что я ошибаюсь, заблуждаюсь». Нет, вы правы, сказал я. Вы знаете, что вы правы. «О, Фердинанд!» — сказала она и потом еще дважды: «Фердинанд, Фердинанд» — и изобразила что-то вроде мольбы к богу и еще что-то означающее великую скорбь, так что мне пришлось рассмеяться, но она внезапно сделалась серьезной или притворилась такой. «А ведь это не мелочь. Это же ужасно, что вы не можете относиться ко мне как к человеку, как к другу. Забудьте о том, что я женщина. Просто расслабьтесь». Я постараюсь, сказал я. Но в этот раз она уже не села со мной рядом. Она прислонилась к стене, читая другую книгу. В другой раз, это было внизу, она закричала. Без всякой причины. Я прикреплял рисунок, который она сделала, чтобы посмотреть его на стене, и вдруг, сидя на своей кровати, она закричала. У меня даже волосы встали дыбом, я отпрыгнул в сторону и выронил листок. А она только рассмеялась. Что такое, спросил я. «Просто мне захотелось попробовать покричать», — сказала она. Она была непредсказуема. Она все время критиковала то, как я говорю. Один раз, я запомнил, она сказала: «Знаете, что вы делаете? Вы видели, как дождь обесцвечивает все, когда идет. Похожее вы делаете с английским языком. Вы компрометируете его всякий раз, как только открываете рот». Это лишь один пример того, как она цеплялась ко мне, подковыривала и донимала по каждой мелочи. В другой раз она провела меня в истории со своими родителями. Она четыре дня твердила о том, как они, должно быть, переживают и болеют с горя, и о том, кто я такой после того, что не разрешаю ей дать им о себе 53 знать. Я сказал, я не могу рисковать. Но однажды после ужина она заявила: «Я скажу вам, что надо сделать, все будет без всякого риска. Вы надеваете перчатки, приходите на почту и, не снимая их, покупаете бумагу и конверт. Вы диктуете мне, что писать. Потом едете в ближайший большой город и опускаете конверт. Следов никаких, отыскать вас нельзя, это может быть любым почтовым отделением в стране. Так она уговаривала меня долго, и в один прекрасный день я сделал, что она предлагала, и купил бумаги и конвертов. Вечером я дал ей лист и продиктовал, что писать. «Я в безопасности, и мне ничего не угрожает», — сказал я. Она написала, проговорив: «Сказано это, конечно, скверно, но пусть так». Пишите, что я говорю, ответил я и продолжил: «Не пытайтесь искать меня, это невозможно». «Найти невозможно,- сказала она, не переставая дразнить: - И потом, нет ничего невозможного». «Обо мне очень хорошо заботится мой друг», — продолжил я и потом сказал, это все, напишите только еще свое имя. «Могу я прибавить: м-р Клегг шлёт вам свой сердечный привет?» Очень остроумно, сказал я. Она дописала что-то еще и подала мне листок. Там было добавлено: «Скоро увидимся, мои любимые», — и в самом визу: «Нанда». Что это спросил я. «Это мое уменьшительное имя. Они будут знать, что это от меня». Мне больше нравится Миранда. По мне, так это более красиво. Когда она подписала конверт, я вложил листок внутрь и затем — хорошо, что заглянул вглубь его. На самом дне конверта лежал маленький листочек бумаги, нес больше спичечной коробки. Не знаю, как она умудрилась положить его туда, он должен был быть приготовлен заранее, и она всунула его незаметно. Я достал листочек и взглянул на нее. Она смотрела без всякого смущения и лишь откинулась на спинку стула, продолжая глядеть. Буквы на листочке были очень мелкими, но написано все было ясно и читалось хорошо. Эта записка была совсем не такая, как первая: «П.М. Похищена сумасшедшим. Имя Ф. Клегг, клерк городского муниципального банка, получивший в прошлом году первый приз на футбольном тотализаторе. Заключена в подвал одинокого деревянного коттеджа с цифрой 1621 над входом, холмистая местность, два часа езды от Лондона. Безумно страшно. Жутко предусмотрительный и безумно осторожный. М.». Я был страшно задет и зол и не знал, что делать. В конце концов, я сказал, вам страшно? Она не ответила, а лишь кивнула. 54 Но что я такого сделал, сказал я. «Ничего. Поэтому мне и страшно». Я не понимаю. Она опустила глаза. «Я жду, что вы все-таки что-то будете делать». Но я же обещал вам, я давал вам слово и готов дать опять, сказал я. Вы так высокомерны и заносчивы и много себе позволяете, потому что я не принял и не положился на ваше слово. Не знаю почему, но для меня между вашим и моим словом существует большая разница. «Простите меня». Я вам доверял, сказал я. И мне казалось, вы понимаете, что я все-таки веду себя по-доброму. Но я не собираюсь быть игрушкой в ваших руках и терпеть, чтобы меня водили за нос. Мне это ваше письмо совсем не нужно. Я засунул конверт себе в карман. Долгое время стояла тишина, я знал, что она глядит на меня, но сам я на нее не смотрел. Потом вдруг она поднялась и, подойдя, остановилась передо мной и положила мне руки на плечи, так что я вынужден был на нее посмотреть. Ода заставила меня взглянуть прямо ей в глаза. Не знаю, как объяснить, но когда она была искренна ее иной, у меня просто все обрывалось внутри, она могла делать из меня все, что угодно, я становился в ее руках мягким, как воск. Она сказала: «Сейчас вы ведете себя как маленький мальчик. Вы совсем забыли, что держите меня здесь силой. Я готова допустить, что это очень мягкая и деликатная сила, но менее страшно от этого не становится». Все время, пока вы держите свое слово, я буду держать свое, сказал я. И конечно, начал краснеть. «Но я не давала вам слова, что не буду стараться убежать отсюда, не так ли?» Все время, что вы тут жили, вы только и делали, да и делаете сейчас, это ждете- не дождетесь, когда мне придет конец, сказал я. Я все так же никто для вас, ведь так? Она полуотвернулась в сторону. «Я жду не дождусь, когда придет конец моему заточению, не вам». И потом, сумасшедший, сказал я. Вы думаете, стал бы сумасшедший вести себя с вами так, как я? Я могу сказать вам, что бы сделал сумасшедший. Он бы вас давно убил. Как тот уголовник Христи. Мне иногда кажется, что вы тоже меня считаете любителем вырезать по дереву и всякое такое. (Я был действительно страшно зол, она довела меня в этот день.) Как вы можете быть такой глупой? Ладно, вы считаете меня ненормальным, потому что я посадил вас сюда и держу. Ладно, возможно, это и так, пусть. Но я вот вам скажу, что таких ненормальных было бы во много раз больше, если бы люди, большее количество людей, имели бы для такого деньги и время. Да что говорить, их и сейчас больше, чем 55 некоторые предполагают. Полиция знает, сказал я, но цифра такая большая, что они не решаются даже ее назвать... Она смотрела на меня все это время не отрываясь. Как будто мы с ней были незнакомы. Может быть, я и на самом деле выглядел странно, я наговорил тогда столько, сколько никогда не говорил «Не смотрите так, — сказала она. — То, чего я боюсь в вас, вы, может быть, даже и сами в себе не осознаете». Да про что вы? Я был все еще зол. «Не знаю. Это прячется где-то всюду здесь, куда ни посмотри, таится и в доме, и в этой комнате, в этой ситуации, и ждет только момента, чтобы вырваться. В какой-то степени мы, может быть, даже оба против этого». Это все просто слова. «Мы все всегда хотим то, чего мы иметь не можем. Быть порядочным человеком — это значит примириться с таким положением вещей». Мы всегда берем то, что можем взять в данный момент. И если чего-то большую часть жизни у нас нет, мы работаем, стараемся и добиваемся того, чтобы это у нас было, сказал я. Конечно, вам этого не понять никогда. Она улыбнулась на мои слова так, будто была намного старше меня. «Вы нуждаетесь в психиатре». Единственное, в чем я нуждаюсь, так это в том, чтобы вы относились ко мне как к другу. «Но ведь я и отношусь, отношусь, — сказала она. — Неужели вы не видите?» Мы надолго замолчали, потом она опять заговорила: «Разве вы не чувствуете, что это продолжалось уже достаточно долго?» Нет, сказал я. «Вы не хотите сейчас меня отпустить?» Нет. «Вы бы могли связать меня, завязать мне рот и увезти обратно в Лондон. Об этом не узнала бы ни одна душа». Нет. «Но должно же быть что-то, что вы хотите в отношении меня?» Я просто хочу быть с вами. Все время. «И в постели?» Я сказал вам, нет. «Но вы хотите этого?» Я лучше не буду говорить на эту тему. Тогда она замолчала. Я не разрешаю себе думать о том, что, я знаю, является плохим. То, о чем вы говорите, я считаю, хорошим не является. «Вы неповторимы!» Спасибо, сказал я. 56 «Если вы отпустите меня, я захочу снова с вами встретиться, потому что вы меня очень заинтересовали». Как млекопитающее в зоопарке, спросил я. ... «Мне будет интересно постараться понять вас». У вас это никогда не получится. (Признаюсь, мне вообще-то понравилась в нашем разговоре тема загадочного человека. Это хоть давало ей понять, что она не все на свете знает.) «Не думаю, что когда-нибудь бы смогла». Потом совершенно неожиданно она встала передо мной на колени, воздела высоко вверх руки и опустила их себе на голову, как это делают на Востоке. Она повторила так три раза. «Простит ли великий загадочный повелитель свою бедную презренную рабыню?» Я подумаю над этим, сказал я. «Презренная рабыня очень сожалеет о предательском письме и раскаивается в недобром поступке». Я невольно рассмеялся, она могла изобразить все, что угодно. Она продолжала стоять на коленях, опустив руки на пол рядом с собой, уже более серьезная, и смотрела на меня долгим взглядом. «Может быть, в таком случае вы все же отправите письмо?» Я поупрямился еще некоторое время и затем согласился. И это чуть ли не стало самой большой ошибкой в моей жизни. На следующий день я поехал в Лондон. Я сказал ей, что собираюсь ехать, как последний дурак, и она дала мне список вещей, какие мне нужно было купить. Там было много чего. (Позже я понял, что это — чтобы подольше меня занять.) Я должен был купить какой-то особенный заграничный сыр, потом съездить в несколько мест в Сохо, где продают немецкие колбасы, которые она любила, были в списке и несколько пластинок, и одежда, и другие вещи. Нужны ей были и картины одного художника, просто именно картины, одного определенного художника. Я был по-настоящему счастлив в этот день, ни о чем не беспокоился. Я думал уже, что она забыла об этих четырех неделях, ну не забыла, так примирилась с мыслью, что это может оказаться и немного больше. Так сказать, пустые мечты… Я не успел ко времени чая и поэтому, конечно, когда приехал, сразу спустился к ней вниз, но я сразу, как только вошел, почувствовал, что чтото не так. Она вообще не выглядела обрадованной моему приходу и даже не взглянула на все то, что я купил. А скоро я и увидел, в чем дело. Она расшатала и вытащила четыре камня из стены для того, чтобы, как я думаю, сделать подкоп. На ступенях была грязь. Я заметил ее сразу. Все это время она сидела у себя на постели, не глядя на меня. За теми камнями, что она вытащила, опять шли 57 камни, так что тут все было в порядке. Но я разгадал ее игру — все эти колбасы и картины и так далее. Все это было только предлог. Вы хотели убежать, сказал я. «О, замолчите!» — закричала она. Я начал искать, чем она могла это сделать. Вдруг что-то пролетело позади меня и брякнулось на пол. Это был старый шестидюймовый гвоздь, не знаю, где она только могла взять его. Это был последний раз, когда я оставлял вас надолго, сказал я. Я не могу больше доверять вам. Она лишь отвернулась и не стала говорить, я вдруг испугался, что она начнет свою голодовку снова, и поэтому не стал продолжать и ушел. Чуть позже я принес ей ужин. Она как воды в рот набрала. Поэтому я опять ушел. На следующий день она вела себя, как ни в чем не бывало, но о попытке побега не обмолвилась ни словом, как будто ее и не было только вот накануне, и она вообще о ней никогда больше не упоминала, будто ее и не было вообще. В то же время я заметил, что запястье у нее сильно поцарапано, и она каждый раз менялась в лице и слегка морщилась, сжимая карандаш в руке, чтобы нарисовать что-то. Я так и не отправил ее письмо. Полиция в таких вещах страшно дотошная. Брат одного парня, которого я знал по городскому казначейству, работал в Скотланд-Ярде, и он рассказывал, что им иногда надо всего щепотку пыли, и они уже скажут, откуда ты пришел и все остальное. Когда она спросила меня о нем, конечно, покраснел, но объяснил: это оттого, что я знаю, она все равно мне не поверит, ну и так далее. Она не стала спорить и, похоже, согласилась с этим. Должно быть, это было плохо по отношению к ее родителям, но от того, что она им написала, им вряд ли стало бы намного легче, и потом, нельзя же думать обо всех. Своя рубашка все-таки ближе к телу, как это говорится. Так же я поступил и с деньгами, которые она хотела, чтобы я перечислил в фонд антиядерного движения. Я тогда выписал чек и показал ей, но не отослал его. Она просила потом в доказательство расписку, но я ответил, что отправил анонимно. Я соглашался на это, чтобы сделать ей приятное (выписал чек), но смысла в том, чтобы тратить деньги на то, во что не веришь, я не видел. Я знаю, богатые люди жертвуют на подобные вещи деньги, но, на мой взгляд, они это делают лишь для того, чтобы о них написали в газетах. Или чтобы обхитрить налогового инспектора. Каждый раз, когда она принимала ванну, мне приходилось приворачивать на окно доски заново. Мне не хотелось оставлять их на окне постоянно. И все шло спокойно. Однажды — это было уже поздним вечером, часов в одиннадцать, и погода снаружи была очень ветреная, 58 настоящая буря — я, как обычно, снял с нее повязку, как только мы вошли, и она скрылась в ванной, потом она опять появилась, и мы спустились вниз, и она захотела посидеть в гостиной (надо заметить, что я так стал называть зал), руки были связаны, опасности большой не было, я включил электрокамин (она сказала мне, что искусственные дрова — это уже смерть и что мне следует зажигать настоящие дрова, что я в дальнейшем и делал). Мы сидели, она сушила, сидя на ковре, свои только что вымытые волосы, и, конечно же, я смотрел на нее. На ней был легкий свободный халат, который я ей купил, она выглядела в нем очень красивой, вся в черном, лишь с тонким красным воротником и такими же отворотами. Весь день до ванной она ходила с волосами, заплетенными в две косы, и для меня одной из самых главных радостей была возможность видеть, как каждый день волосы у нее были уложены по-новому. Хотя здесь, у камина, они у нее были распущены и свободны, что мне нравилось больше всего. Но просидела она недолго, через некоторое время поднялась, обошла вокруг комнату и принялась ходить по ней, повторяя одно слово — «скучно», «скучно». Снова и снова. Звучало это странно, еще и под завывания ветра снаружи. Вдруг она остановилась передо мной. «Развлекайте меня. Сделайте что-нибудь». Но что, спросил я. Фотографии? Но фотографий она не хотела. «Ну, не знаю. Спойте, станцуйте, что угодно...» Я не умею петь. И танцевать. «Расскажите мне какую-нибудь смешную историю, любую, какую знаете». Но я не знаю, сказал я. И это была правда, я не мог припомнить ни одной. «Но вы должны знать. Я думаю, что все мужчины должны знать неприличные анекдоты». Я бы не стал рассказывать вам такое, даже если б и знал. «Почему?» Они для мужчин. «А как вы думаете, что рассказывают друг другу женщины, когда они одни? Могу поспорить, что я знаю больше неприличных анекдотов, чем вы». Я этому не удивлюсь, сказал я. «О, вы как старый пень, вас не расшевелишь». Она отошла прочь, но вдруг схватила подушку с кресла, повернулась и бросила ее прямо в меня. Я, конечно, удивился, я встал, и тогда она проделала то же с другой, а потом и третья пролетела мимо и сбила чайник с бокового столика. Полегче, сказал я. 59 «Ну, поспевай, черепашье отродье!» — крикнула она мне (цитата из книги, я думаю). И в этот же момент она схватила графин от сервиза из трех предметов, стоящего на камине, и бросила его в меня. Я думал, она предлагает мне его поймать, но я не поймал, и он разбился о стену. Да успокойтесь вы, сказал я Но вместо этого вслед за графином полетел и стакан. Все это время она не переставала смеяться. Нельзя сказать, что она делала это со злостью или злонамеренностью, она больше походила на расшалившегося, расхулиганившегося ребенка. Около окна висела красивая зеленая тарелка с рельефно изображенным на ней домиком, она сорвала со стены и эту тарелку и тоже разбила ее. Не знаю почему, но эта тарелка мне всегда нравилась, и мне стало неприятно, что она и ее разбила. Да хватит, в конце концов, сказал я поэтому уже довольно резко, перестаньте! Но единственное, что она сделала, это показала мне нос, а потом еще и неприличный жест, и высунула язык. Она просто была как уличный мальчишка. Я сказал, ведите себя прилично. «Ведите себя прилично,- повторила она, передразнивая. Потом она добавила: - Пожалуйста, отойдите в сторону, я тогда смогу дотянуться до тех чудных тарелок, что позади вас». Там их висело две, около двери. «Если, конечно, вы не желаете разбить их сами». Прекратите, сказал я еще раз. Достаточно. Но она вдруг проскочила позади дивана по направлению к тарелкам. Я встал между ней и дверью, она попробовала пробежать у меня под рукой, но я ее поймал. Тогда она вдруг сразу затихла. «Отпустите», — сказала она, уже совершенно переменившаяся. Я, конечно, не отпустил. Я подумал, что, может быть, это она опять разыгрывает меня. Но тогда она повторила «отпустите» таким грубым голосом, что я сразу разжал руки. Она отошла и села у камина. Через некоторое время она сказала: «Принесите веник. Я уберу». Я сделаю это утром. «Но я х о ч у убраться». Как настоящая дама-благотворительница. Я уберу сам. «Это вы виноваты». Конечно. «Вы самый совершеннейший экземпляр, заурядной буржуазией добропорядочности, какой я только в жизни встречала». Я? «Да, вы. Вы презираете весь класс буржуа за их снобизм, манерность и высокомерие, за их снобистский тон в поведении и голосе. Презираете, 60 ведь так? Но вы хотите быть на них похожими. И единственное, что вы усвоили - это маленькую, гаденькую, гнусненькую добродетель: не иметь неприличных желаний и мыслей, не совершать неприличных поступков, не быть неприличным в поведении, А знаете ли вы, что все великие события, какие только происходили в истории, и все великие произведения прекрасного, какие только создавались людьми, создавались и происходили всегда естественным путем, который вами называется неприличным, или побуждались чувствами, которые вы тоже называете грязными, неприличными. Страстью, любовью, ненавистью, правдой. Знаете ли вы это?» Я не понимаю, о чем вы говорите. «Конечно, откуда вам понять... Почему вы все носитесь с вашими идиотскими словами: грубый, плохой, грязный, приличный, правильный? Почему вы так озабочены приличиями? Вы как та гаденькая старая дева, которая считает, что замужество — это грязь и мерзость. И все вокруг, кроме чашки слабого чая, в этой захламленной старой комнате и есть мерзость! Почему вы все время отнимаете жизнь у всего живого? Почему вы убиваете все прекрасное?» У меня никогда не было ваших возможностей. Вот почему. «Но вы ведь можете это исправить, вы молоды, у вас есть деньги. Вы можете учиться. А что делаете вы? Вы придумали себе мечту, вообразили себе такое, что, наверное, воображают себе маленькие мальчики, занимаясь онанизмом, и из кожи вон лезете, чтобы только быть со мной пристойным, чтобы только не допустить к себе мысли, что основная-то причина моего нахождения здесь неприличная, неприличная, неприличная...» Внезапно она остановилась. «Это все не то, — сказала она. — Я, должно быть, говорю как по-мексикански». Понимаю, сказал я, я необразован. И тут она почти закричала: «Вы туп! До непроходимости!..» «У вас есть деньги. Если разобраться — вы далеко не глупы, вы можете стать, кем только захотите. Для этого вам нужно однажды и навсегда проститься с вашим прошлым. Вам нужно только решиться сжечь и тетю, и дом, в котором вы жили, и людей, с которыми вы жили в нем. Вам нужно стать новым человеком». Она все так перевернула и разложила, будто мне это сделать было легче легкого, раз плюнуть. Но в том-то и дело, что все было не так просто. Это только мечты, сказал я. «Смотрите, что вы можете сделать. Вы могли бы... вы могли бы собирать картины, коллекционировать картины. Я бы подсказала вам, какие именно надо собирать, я бы познакомила вас с нужными людьми, которые рассказали бы вам все о коллекционировании картин. Подумайте, 61 скольким бедным художникам вы могли бы помочь. Вместо глупой школьной страсти уничтожать бабочек». Много очень умных людей коллекционировали бабочек, сказал я. «Ох уж, умных... Какая польза от этого? Разве они люди?» Что вы имеете в виду, спросил я. «Если вам и это надо объяснять, то бесполезно объяснять вам что-либо». Потом добавила: «У меня создается впечатление, что я всегда заканчиваю разговор так, что последнее слово остается за мной. Мне это не нравится. Это все вы. Вы всегда пресмыкаетесь на одну ступеньку ниже меня». Время от времени она бралась за меня таким образом, устраивая мне разносы. Я не обижался. Как не обиделся и в этот раз, хотя мне и было неприятно. Все, что она ни предлагала мне, всегда мне не подходило, все это было для какого-то другого человека, каким я быть не мог. Например, всю ночь после того, как она сказала мне, что я могу коллекционировать картины, я думал об этом. Я представлял, что коллекционирую картины, у меня большой дом, в котором знаменитые картины висят на стенах, и люди приходят смотреть их. Но я все время понимал, что это глупо. Я никогда не смог бы коллекционировать ничего, кроме бабочек. Картины для меня ничего не значили. Я не мог бы заниматься этим по собственному желанию, так зачем было об этом говорить? Но разве она могла это понять?.. Она сделала с меня еще несколько рисунков, которые были во всем хороши, но что-то все-таки было в них такое, что мне не нравилось. Она перестала заботиться о правильном сходстве, чтобы, как она сказала, передать мой характер, поэтому иногда она и делала мой нос таким острым, что он мог проткнуть тебя, а губы тонкими, неприятными, вернее, я хочу сказать, еще более неприятными, чем на самом деле, потому что на самом-то деле я знаю, что я некрасив. О заканчивающихся четырех неделях я даже не решался думать, я не знал, как там все должно получиться, но я просто как-то думал, что мы опять поспорим, она подуется, побудет в этом своем плохом настроении, и все опять устроится, и она останется еще на четыре недели — то есть, конечно, я думал, что мне придется тут немного использовать свою власть, и она вынуждена будет согласиться. Я жил тогда одним днем, в самом деле. В смысле, что совершенно не думал о том, что произойдет. Я просто ждал. Я даже уже и полицию ждал. Мне приснился страшный сон, в котором полиция уже пришла, и я был должен убить ее прежде, чем они войдут в комнату. Это выглядело как долг, и у меня для того, чтобы ее убить, была одна подушка. И я все ее бил, бил ею, а она смеялась, тогда я прыгнул на нее и начал душить, и она затихла, а когда я приподнял подушку, она опять там смеялась, она только 62 притворялась, что умерла. Я проснулся в холодном поту, это было первый раз в жизни, когда мне приснилось, что я убиваю кого-то. Она начала говорить об этом еще за несколько дней до срока. Она без конца повторяла, что не скажет ни одной живой душе, и, конечно же, я отвечал, что верю ей, хотя прекрасно понимал, что даже если она и на самом деле решила бы не говорить, то родители и полиция все равно вытянули бы в конце концов из нее это. Еще она все говорила о том, что мы будем друзьями, и она будет помогать мне выбирать картины, и сведет меня с необходимыми людьми, и будет заботиться обо мне. Все эти дни она вела себя со мной очень хорошо, не без причины, конечно. Ну и, наконец, этот последний день (десятое ноября, одиннадцатого — я ее выпускаю) настал. Первое, что она спросила, когда я принес ей ее кофе, будем ли мы вечером праздновать нашу дату? Как насчет гостей, сказал я, пошутив, хотя мне и было, надо признаться, не до шуток. «Нет, только вы и я. Потому что... о, ведь мы выпутались из такой истории, разве не так?» Потом она добавила: «И наверху. В вашей гостиной». Я согласился. Выхода у меня не было. Она дала мне список того, что мне следовало купить, найдя лучший магазин в Льюисе, и потом она еще спросила, не куплю ли я шампанского и хереса, и я, конечно, ответил, что куплю. Я никогда не видел ее такой возбужденной, и мне казалось, что и я стал таким возбужденным тоже. Даже в такой ситуации, даже в этот раз. Все, что чувствовала она, чувствовал и я. Чтобы заставить ее улыбнуться, я сказал: в вечернем платье, конечно. И она сказала: «О, я бы хотела, чтобы у меня было красивое платье. И еще мне нужно горячей воды, чтобы вымыть голову». Я сказал, я куплю вам платье. Только скажите мне, какого цвета и все прочее, и я посмотрю, что есть в Льюисе. Вот так вот, я всегда был таким осторожным, а тут — пожалуйста, я начал краснеть. Она бросила на меня взгляд и улыбнулась. «Я знаю, что это Льюис. На одной из подушек была этикетка. Вот, и я бы хотела черное платье, или лучше нет, сиены, кирпичного цвета, — сейчас, подождите... — И она подошла к своему ящику и смешала краски, как она делала уже один раз, когда ей нужен был шарф особого цвета, в тот день, когда я собирался ехать в Лондон. — Вот такое. И оно может быть обычное, недлинное, лишь до колен, рукава вот такие (она нарисовала их) или без рукавов, что-то вроде вот этого или вот этого». Мне всегда нравилось, как она рисовала. Так это было быстро, будто она перелетала с места на место над листом, и казалось, она просто не может дождаться, когда закончит все то, что ей приходило в голову. 63 Но, естественно, мои мысли были все же далеко не радостные в этот день. Я все еще продолжал не заглядывать наперед, не думать, что меня ждет и что должно случиться. Я даже не знал тогда и до последнего момента не думал о том, выполню ли я наше соглашение или нарушу его и возьму, как это говорится, свои обещания назад. Как бы там ни было, я отправился в Брайтон и там, пересмотрев множество платьев, отыскал в маленьком магазинчике как раз то, что было нужно, с первого взгляда было видно, что это настоящий первый класс, его сначала даже не хотели продавать без примерки, хотя оно и было как раз нужного размера. Потом, по дороге к своей оставленной на углу машине, я прошел мимо еще одного магазина, ювелирного, и мне вдруг пришла в голову мысль, что ей, может быть, было бы приятно получить что-нибудь в подарок, к тому же это могло бы облегчить мое положение, когда дело коснется главного. В витрине на квадрате из черного бархата лежало ожерелье из сапфиров и бриллиантов, как сейчас помню, в виде сердца, то есть я имею в виду, выложено было в форме сердца. Я вошел и узнал цену триста фунтов — я уже чуть было сразу не вышел, но тут взяла верх моя лучшая половина. В конце концов, у меня же были деньги... Продавщица в магазине надела его себе на шею, и оно действительно выглядело красиво и дорого. Единственное — это только камни небольшие, сказала она, но все они чистейшей воды, и все они в викторианском духе. Я вспомнил, Миранда говорила, что она очень любит викторианский стиль, и я купил его. С чеком, конечно же, вышла задержка. Продавщица сначала отказывалась принимать его, но я заставил ее позвонить в мой банк, после чего она сменила свой тон очень быстро. Конечно, если бы я мог разговаривать этим их «поставленным» голосом или назвался бы каким-нибудь графом Монтекристо... впрочем, сейчас у меня нет времени говорить на эту тему. И странно, как одна мысль порождает другую. В то время как я покупал ожерелье, я увидел кольца, и это подсказало мне, что можно сделать. Я мог попросить ее выйти за меня замуж, и если она ответит «нет», это будет значить, что я могу задержать ее снова. Это могло стать выходом из положения. Я знал, что «да» она все равно не ответит... Так что я купил и кольцо. Оно было недорогим, но вполне хорошим. Как раз для того, чтобы показать. Дома я вымыл ожерелье (мне было противно думать, что оно касалось кожи какой-то другой женщины) и спрятал его так, чтобы можно было достать в нужный момент. Затем я приготовил все, как она велела, цветы — на столе, бутылки на боковом столике, и все разложил, как в лучших домах, но, конечно, с обычными предосторожностями. Мы договорились, что я должен прийти за ней в семь часов. После того как я принес ей покупки, мне было запрещено туда входить, и все это напоминало свадебные приготовления. 64 Кроме всего прочего я решил позволить ей на этот раз выйти с несвязанными руками и без повязки на рту, это было рискованно, но я решил смотреть за ней в оба и на всякий случай сделал так, чтобы у меня наготове всегда был хлороформ, если все же что-то случится. Скажем, если кто-то постучит в дверь, я смогу тотчас достать марлю и, быстро связав ей руки и завязав рот, унести на кухню. И уже тогда открыть дверь. Наконец в семь часов я надел свой лучший костюм, рубашку, новый, только что купленный галстук и спустился к ней. На улице шел дождь, все это было как нельзя кстати. Она заставила меня подождать еще десять минут, а потом вышла сама. И тут я просто уже остолбенел от того, какой она вышла. В первый момент я даже думал, что это не она, настолько она выглядела особенной. От нее сильно пахло французскими духами, которые я ей купил, и в первый раз с тех пор, как она была со мной, я увидел ее подкрашенной. И она была в новом платье, оно было как будто как раз для нее, кремового цвета, оставляющее руки и шею голыми, очень простое, но очень, как это говорится, элегантное. Это уже не было совсем девичьим платьем, она выглядела как настоящая женщина. Волосы она сделала тоже необычно, как никогда прежде, собрав их все наверху, тоже очень элегантно. Ампир, как сказала она. Выглядела она будто настоящая натурщица с обложки журнала. Я просто поразился тому, какой она могла выглядеть, если этого хотела. Помню, глаза у нее тоже были особенные, они были так обведены черными линиями, что она стала выглядеть какойто искушенной. Искушенной, да, это точное слово. Я совершенно растерялся, она, конечно же, заставила меня почувствовать себя неуклюже и неловко. Похожее чувство, к примеру, испытываешь, когда наблюдаешь рождение нового имаго, прежде чем умертвить его. То есть я хочу сказать, что красота подавляет тебя, оставляет в замешательстве, не знаешь уже, что ты должен еще делать дальше после этого, и должен ли вообще что-то делать... «Ну, как?» — спросила она. Она повернулась кругом, демонстрируя себя. Очень хорошо, сказал я. Красиво. «И это все?» — Она смотрела на меня ожидающим взглядом. Выглядела она просто как картинка. Прекрасно, сказал я. Я не знал, что добавить, мне только хотелось без конца смотреть и смотреть на нее, и в то же время я не мог. Потому что чувствовал что-то еще и вроде страха. Я видел, что мы с ней еще дольше друг от друга, чем прежде. И все больше понимал, что не смогу отпустить ее. Ну что, сказал я, идем мы наверх? «Без веревки, без кляпа?» Это уже ни к чему, сказал. С этим уже покончено. 65 «Мне кажется, то, что вы собираетесь сегодня сделать – и завтра - будет самым лучшим поступком, какой только вы совершали в вашей жизни». Самым печальным, сыт этим не будешь, «Нет, все не так. Это начало новой жизни. И нового вас», - она протянула свою ладонь, взяла меня за руку и повела вверх по лестнице. На улице дождь лил ручьями, и она сделала один глубокий вдох, прежде чем вошла в кухню, а затем и через столовую в зал. «Хорошо. О, очень хорошо», - сказала она. Мне казалось, что для вас это слово ничего не значит. «Кое-каким вещам оно подходит. Можно мне выпить бокал хереса?» Я налил нам обоим. И потом, все так же стоя и держа в руках бокал, она начала смешить меня, представляя, будто комната полна народу, кругом гости, и она улыбается всем вокруг, со всеми раскланивается, а потом и тем, что стала всех представлять мне, а им меня, и рассказывать всем о моей новой жизни, потом она поставила пластинку, и это была тихая музыка, и сама она была прекрасна. Она изменилась совершенно, глаза у нее будто ожили, и от этих ее французских духов, и от хереса, и жара камина, от настоящих дров я вдруг умудрился даже забыть о том, что я должен сделать позже. И даже несколько раз глупо пошутил, хотя она, правда, все равно смеялась. Потом она выпила еще бокал, в затем мы перешли в другую комнату, где я незаметно положил перед ней на стол свой подарок, который она увидела сразу же. «Это мне?» Просто откройте, сказал я. Она развернула обертку, и там была темноголубая, из кожи, коробочка, она надавила на кнопку и больше уже не могла говорить. Она только смотрела на них. «Они настоящие?» — Она была просто в восхищении, в настоящем восхищении. Конечно. Одно только, камни мелкие, но все они высшего качества. «Невероятно красиво, — сказала она. Потом она протянула коробку мне. — Я не могу принять это. Я понимаю, мне кажется, я понимаю, почему вы мне дарите их, и очень ценю это, но… Я не могу их взять». Они для вас, сказал я. «Но... Фердинанд, если молодой человек делает девушке такой подарок, это может значить только одно», Что, спросил я. «У большинства людей разные дурные мысли на этот счет». Я очень хочу, чтобы вы их взяли. Пожалуйста. «Я надену их на сегодня. Я представлю, будто они мои». Они ваши, сказал я. Она вместе с коробочкой обошла вокруг стола. 66 «Наденьте их, — сказала она. - Если вы дарите девушке бриллианты, вы должны надеть их сами». Она стояла, глядя на меня снизу вверх, совсем рядом, потом повернулась, когда я, вытащив ожерелье, надел его ей на шею. Мне пришлось долго повозиться с замком, руки у меня дрожали, это был первый раз, когда я касался ее кожи, если не считать случаев, когда я завязывал ей руки. От нее так пахло, что я готов был простоять так весь вечер. Все было как будто в рекламном ролике кино. Наконец она повернулась ко мне и стояла, глядя на меня. «Хорошо?» Я кивнул, говорить я не мог. Хотя мне и хотелось сказать ей что-нибудь приятное, какой-нибудь комплимент. «Хотите, чтобы я вас поцеловала в щеку?» Я не ответил, она положила руки мне на плечи, немного привстала и поцеловала меня в щеку. Я, должно быть, даже вспотел, я и так был красный как рак, а тут, наверное, вообще об меня уже было можно зажигать спичку. Потом мы съели готового цыпленка с гарниром, я открыл шампанское, и оно было очень хорошим, я удивился и пожалел, что не купил еще одну бутылку. Пить его оказалось очень легко, и оно не слишком опьянял. Хотя смеялись мы много, она на самом деле была очень остроумной и так могла разыгрывать сцены с разными людьми, которых здесь не было, и так далее. После ужина мы приготовили вместе кофе на кухне (я, конечно, держал ухо востро) и принесли его в зал, она поставила пластинку с джазом, которую я покупал для нее, и мы даже сидели рядом на диване. Потом мы играли в шарады. Она что-то изображала или называла несколько букв, а я должен был отгадать. Правда, у меня плохо получалось, и загадывание и отгадывание, Я помню одно слово, которое она загадала, было «бабочка». Она изображала мне его снова и снова, и я все никак не мог угадать. Я говорил: «аэроплан», перебрал всех птиц, каких только помнил, и, в конце концов, она рухнула на стул и сказала, что я безнадежен. Затем были танцы. Она учила меня танцевать джайв и самбу, не это значило, надо было опять прикасаться к ней, и я был очень неловок и не мог никак попасть в ритм. Должно быть, она заключила в конце, что я порядочный медведь. Ну, а потом ей вдруг понадобилось выйти. Я ничего не мог поделать, хоть мне это и не понравилось, вниз ее направить уже было нельзя. Пришлось ей разрешить подняться на второй этаж, сам я встал на лестнице, откуда мог следить, не выкинет ли она какой-нибудь фокус со светом (досок не было, я их открутил). Окно было высоко, и я знал, что из него нельзя выбраться, не наделав шума, да и оно вообще было как щелка. Но она вышла без всякой задержки и сразу увидела меня на лестнице. 67 «Разве вы уже не можете мне доверять?» Голос ее прозвучал резко. Я сказал, это не оттого. Мы спустились обратно в зал. «А отчего?» Если вы убежите сейчас, вы можете сказать, что я держал вас силой. А если я вас привезу домой сам, я могу сказать, что это я освободил вас. Я понимаю, это глупо, сказал я. Конечно, мне пришлось притвориться немного. Положение мое было трудным. Она лишь молча посмотрела на меня. Потом она сказала: «Давайте поговорим. Идите сюда и сядьте рядом со мной». Я подошел и сел. «Что вы намереваетесь делать, когда меня не будет?» Я не думал об этом, сказал я. «Захотите ли вы продолжать со мной встречаться?» Захочу, конечно. «Вам надо обязательно переехать жить в Лондон, как вы на это смотрите? Мы из вас сделаем настоящего современного молодого человека. Интересного и развитого». Вы будете стыдиться меня перед своими друзьями. Все это было неосуществимо. Я знал, что это она просто притворяется, точно так же, как и я сам. У меня начала болеть голова. Все шло одно к другому. «У меня очень много друзей. И знаете почему? Потому что я не стыжусь никого. Мне ни с кем не стыдно общаться. Вы даже были бы, кстати, не самый особенный. У нас есть тоже один человек, совершенно безнравственный тип. Но он прекрасный художник, и ему все прощается. И он тоже ничего не стыдится. Вы будете чувствовать себя так же. Неловко вам не будет. Я вам помогу. Это нетрудно, если постараться». Момент был подходящий. И потом, как бы там ни было, я уже не мог терпеть больше. Пожалуйста, сказал я, выходите за меня замуж. Я нащупал кольцо в кармане и держал его наготове. С минуту было тихо. Все, что у меня есть, это вы, сказал я. «Замужество предполагает любовь», — сказала она. Мне ничего от вас не надо, сказал я. Ничего, что бы вам не нравилось, что бы вам было неприятно. Вы можете делать все, что захотите, учиться, рисовать, и так далее. Я ничего больше не буду у вас просить, ничего больше, только называться моей женой и жить со мной в одном доме. Она сидела, глядя на ковер. Вы можете иметь отдельную спальню и закрываться в ней на замок каждую ночь, сказал я, 68 «Но это же ужасно. Это бесчеловечно! Мы же никогда не поймем друг друга. У нас никогда не сможет быть родства душ». Но у меня есть душа, тем не менее, сказал я. «Я на все смотрю только: красиво это или нет. Неужели вы не можете этого понять? Я не думаю о том, плохо это или хорошо. Лишь — красиво или безобразно. И многие хорошие вещи я считаю безобразными и многие безобразные, наоборот, красивыми». Это только игра словами, сказал я. Она лишь посмотрела на меня долгим взглядом, это единственное, что она сделала, потом улыбнулась, поднялась и встала у камина, все такая же прекрасная. Но уже отдалившаяся. Недосягаемая. Я думаю, вы влюблены в Пирса Броутона, сказал я. Мне хотелось уколоть ее чем-нибудь. И надо сказать, она очень удивилась. «Откуда вы знаете о нем?» Я сказал, это было в газете. Там говорилось, что вы с ним неофициально обручены. Я сразу понял по ее лицу, что это было не так. Она рассмеялась: «Это последний человек, за кого я могла бы выйти замуж. Тогда бы я уж лучше вышла за вас». Так за чем дело стало? «Да за тем, что я не могу выходить замуж за человека, которому не принадлежу вся без остатка. Я должна принадлежать ему целиком. Чтобы мои мысли были его мыслями, моя душа его душой, мое тело его телом. Точно так же, как и он должен быть весь мой». Но я принадлежу вам целиком. «Да нет же. Принадлежность — это значит обоюдность. Наличие двух, того, кто отдает, и того, кто соглашается принять даваемое. Вы не можете принадлежать мне, потому что я не могу согласиться принять вас. Я не смогу ничего дать вам взамен». Мне немного нужно. «Я знаю, что немного. Только самую малость. Только как я смотрю, как я разговариваю, как двигаюсь. Но во мне есть и много другого. И я все должна отдавать. И я не могу отдать это вам, потому что я не люблю вас». Я сказал, тогда это многое меняет, не так ли? Я поднялся, голова у меня раскалывалась. Она поняла, что я имел в виду, сразу (я видел это по ее лицу), но притворилась, что еще не догадывается. «Что вы имеете в виду?» Вы знаете, что я имею в виду, сказал я. «Я выйду за вас. Я выйду за вас, когда только вы захотите». Ха, ха, сказал я. «Вы именно это хотели мне сказать?» Вы думаете, я не знаю, что нам нужны будут свидетели и все прочее, сказал я. 69 «Ну и что?» А то, что я не доверяю вам ни на пенни, сказал я. То, как она посмотрела, заставило меня почувствовать себя просто плохо. Она посмотрела так, будто я и не человек был вовсе. И не с насмешкой. А просто как будто я был из другого мира. Нечто невиданное. Вы думаете, я не понимаю, почему вы так залебезили, сказал я. Она лишь произнесла: «Фердинанд!» Вроде как призыв. Еще одна из ее хитростей. Не называйте меня Фердинандом, сказал я. «Вы обещали. Вы не можете нарушить свое обещание». Я могу все, что я захочу. «Но я же не знаю, что вы хотите от меня. Как я могу убедить вас, что я вам не враг, если вы никогда не даете мне возможности даже попробовать доказать вам это?» Хватит разговаривать, сказал я. И тут она начала действовать. Я знал, что так будет, и поэтому был уже готов, но я не учел, что снаружи может появиться машина. Как только в доме послышался звук работающего мотора, она поставила на решетку камина ногу, как будто для того, чтобы погреть ее, и вдруг вытолкнула ею прямо на ковер горящее полено, и в то же самое время закричала и побежала к окну, потом, увидев, что оно завешено и закрыто, к двери. Но я оказался около двери первый. У меня не было при себе хлороформа, он находился в шкафу, далеко. Все в этот момент решала скорость. Она вырывалась, царапалась, колотила меня кулаками, все так же крича, но я не был расположен церемониться, я скрутил ей руки и зажал рот. Она извивалась, рвалась, пиналась, но я тогда был в панике. Я схватил ее под мышки и потащил к шкафу, где у меня на полке стояла полиэтиленовая коробочка. Увидев, что это, она постаралась увернуться, бросаясь головой из стороны в сторону, но я вытащил марлю и все-таки дал ей ее. Все это время, конечно, я продолжал слушать. И следить за поленом, оно тлело, лежа на ковре, комната была полна дыму. Наконец, как только она утихомирилась, я опустил ее, сходил и убрал угли. Потом полил это место водой из вазы. Действовать приходилось очень быстро, мне надо было спустить ее вниз, что наконец я и сделал. Я положил ее на кровать, потом снова поднялся наверх, чтобы убедиться, что огня нет и поблизости тоже никого нет. Я открыл переднюю калитку, которой пользовался редко, но там никого не оказалось, так что все было в порядке. Потом я спустился вниз снова. Она все еще была без сознания, на кровати. Выглядела она как на картине, одна лямочка платья спустилась с плеча. Не знаю почему, но это на меня страшно подействовало, я ужасно разволновался, и это натолкнуло меня на мысль посмотреть ее вообще раздетой. Это было бы 70 еще и как наказание, я бы этим показал ей, кто на самом деле в доме хозяин. Лямочка с ее плеча сползла совсем, и мне еще был виден ее чулок, в самой его верхней части. Не знаю, отчего именно, но я вдруг вспомнил один виденный мной американский фильм (или это было в журнале), о том, как один мужчина подобрал и привел домой пьяную девчонку, совершенно пьяную, и раздел ее, и уложил в постель, без всяких там гадостей, просто все это проделал и больше ничего, и она проснулась утром в его пижаме? Я так и сделал. Я снял с нее платье и чулки и оставил самое необходимое, лишь бюстгальтер и все такое, чтобы уж совсем не заходить далеко. Она выглядела совсем как из фотостудии, на этих их фотоснимках, лежа передо мной, как сказала бы тетя Энни, все равно что ни в чем (она еще говорила, вот почему женщины сейчас стали больше болеть раком). Как будто на ней было бикини. Это был счастливый случай, какой можно было только ждать. Я принес старую камеру с треногой и сделал несколько снимков, я бы сделал больше, но она начала двигаться, поэтому я быстро сложил все и вышел. Я проявил пленку и напечатал фотографии сразу же. Получились они хорошо. Может быть, не очень качественно и мастерски, или, как это еще называют, художественно, но все равно они были очень интересными. Я так и не мог спать в эту ночь, я был в страшном волнении. Были моменты, когда я уже думал снова спуститься вниз, дать ей опять хлороформа и еще сфотографировать, это было безобразно. Потому что на самом-то деле я не такой, таким я был только в ту ночь. Это на меня все случившееся так подействовало, и потом, это ожидание, под тяжестью которого я весь день находился. И еще шампанское, конечно, оно тоже много значило. И потом, все, что она сказала. Это получилась, как говорится, кульминация. Как бы там все ни складывалось, ничто не повторяется, раз уж это было и прошло. Все, что случилось в то время, дало мне понять, что нам никогда не быть вместе, никогда она не сможет понять меня, и, я думаю, она могла бы сказать, что никогда я не понимал ее, да и не смогу понять, как бы там ни было. Что же касается того, что я раздел ее, то, когда я подумал об этом позже, я понял, что это было не настолько уж плохо; немногие смогли бы сохранить контроль над собой и ограничиться лишь фотографиями, так что это даже говорило в мою пользу. Я долго думал, как выйти из положения, и решил, что письмо — это будет лучшее. И вот что я написал: «Я прошу прощения за прошлую ночь. Думаю, вы уже решили, что мне никогда не заслужить себе прощения. 71 Я говорил вам, что не применю силу, если только меня к этому не вынудят обстоятельства. Думаю, вы согласитесь, что на этот раз вы вынудили меня сами тем, что вы сделали. Пожалуйста, поймите, что я не сделал ничего больше необходимого. Я снял с вас платье, потому что подумал, что вам может снова стать плохо. Я отнесся к вам с полный уважением, какое возможно было в таких обстоятельствах. Пожалуйста, возьмите в расчет хотя бы то, что я не позволял себе ничего, что бы мог сделать другой на моем месте. На этом я заканчиваю. Добавлю только, что мне придется задержать вас еще на некоторое время. С искренним уважением и т. д.». Я не мог придумать никакого другого начала. Я не мог решить, как обратиться к ней. Дорогая Миранда — выглядело бы слишком фамильярно. Уважаемая — тоже не подходило. Так что я оставил все как есть. Вот с этим письмом я и спустился вниз, неся ей завтрак. Все было так, как я и ожидал. Она сидела в кресле и молча смотрела на меня, Я сказал, доброе утро, она не ответила. Я сказал еще что-то: вам кукурузу с медом или хлопья? — она лишь продолжала смотреть. Поэтому я просто оставил ей завтрак на столе вместе с письмом и подождал снаружи. Когда я вошел, на подносе ничего не было тронуто, но письмо лежало открытое, и она все так же сидела на своем месте, глядя на меня. Я понимал, что говорить бесполезно: обижаться и дуться на меня у нее было, конечно, причин предостаточно. Так продолжалось несколько дней. Как я заметил, она только пила воду. По крайней мере, один раз в день, когда я входил с едой, от которой она отказывалась, я старался договориться с ней. Я снова подложил письмо, и она прочла его в то время, пока меня не было, по крайней мере, оно было открыто, значит, она брала его. Я пробовал все: я говорил по-доброму, я притворялся сердитым, злым, я просил ее, но ничего не действовало. В большинстве случаев она просто сидела ко мне спиной, будто и не слыша меня. Я приносил всякие деликатесы, импортный шоколад, черную икру, все самое хорошее, что, имея деньги, можно купить (в Льюисе), но она ни к чему не притрагивалась. Я стал по-настоящему беспокоиться. Но потом, в одно утро, когда я вошел, застав ее, как всегда, сидящей ко мне спиной, она вдруг повернулась и произнесла: доброе утро. Но очень необычным голосом. Полным злобы. Доброе утро, сказал я. Очень рад снова услышать ваш голос. «Что вы говорите? Не может быть. По-моему, вам бы больше понравилось вообще его никогда с этих пор не слышать». Почему вы так решили, ответил я. 72 «Я собираюсь убить вас. Я поняла, что вы решили сделать со мной именно это, дав мне умереть с голоду. Это как раз то, чего вы добиваетесь». Или я не старался кормить вас все эти дни? Она не ответила, а лишь продолжала смотреть на меня молча, как и прежде. «Я у вас уже не пленница больше. Теперь я у вас уже смертник». Как бы там ни было, поешьте немного, сказал я. Ну, и с этого времени она стала есть, но все было уже не так, как раньше. Она почти не говорила, а если и говорила, то всегда коротко и язвительно, она была в таком плохом настроении все эти дни, что нельзя даже было оставаться с ней. Если я без особой надобности задерживался у нее больше одной минуты, она сразу устраивала так, что мне приходилось убираться оттуда. Как-то я принес ей тарелку тостов с прекрасной бобовой запеканкой, и она схватила эту тарелку и кинула ее мне в голову. Я просто почувствовал острое желание отодрать ее за уши. К тому времени она уже порядком поднадоела мне своими выходками, и, главное, ведь ничего не было такого страшного и ужасного, из-за ерунды, и потом, я все же старался, но она постоянно припоминала мне тот вечер, а это уже говорило о том, что мы с ней дошли до точки. Но потом в один прекрасный день она совершенно просто обратилась ко мне с просьбой. Я уже по привычке собрался побыстрее унести после ужина посуду, пока она на меня не наорала, но на этот раз она попросила меня задержаться на минутку. «Я хочу принять ванну». Неподходящее время, сказал я. Я не готов к этому сегодня. «А завтра?» Почему бы нет, завтра, я думаю, можно. Под честное слово «Я даю слово», — сказала она, но так гадко произнесла это, что сразу было видно, ее слово теперь ничего не значит. «И я хочу погулять по подвалу», — она протянула перед собой руки, и я связал их. Первый раз за много дней я снова к ней прикоснулся. Как обычно, я сел на ступеньки наружного подвал, а она стала ходить взад и вперед, как она это всегда делала, немного забавно даже. Была очень ветреная ночь, даже здесь, внизу, это было слышно: только ее одинокие шаги и ветер наверху. Долго она молча шагала, но, не знаю почему, я все же чувствовал, что ей очень хочется заговорить. «Ну, и хорошо ли вам живется?», - наконец спросила она. Не особенно, ответил я. На всякий случай. Она прошла туда-обратно еще пять или шесть раз. Потом она поставила пластинку с песней без слов. Хорошая мелодия, сказал я. «Вам нравится?» 73 Да, сказал я. «В таком случае, мне с этих пор - нет». Она еще два или три раза поднялась и спустилась. «Поговорите со мной». О чем? «О бабочках». О чем о бабочках? «Почему вы их собираете. Где ищете. Начинайте. Просто говорите я все». Понятно, это было смешно, но я начал говорить. Каждый раз, когда я останавливался, она повторяла: продолжайте, продолжайте. Я, наверное, говорил с полчаса, пока она сама не остановила меня и не сказала «достаточно». Она спустилась к себе вниз, я развязал веревку, и она сразу же подошла к своей кровати и села на нее спиной ко мне. Я спросил, не хочет ли она чаю, она не ответила, и вдруг совсем неожиданно я понял, что она плачет. Во мне все так и перевернулось. Когда она плакала, я этого не мог вынести, у меня не было сил, я не мог видеть ее такой несчастной. Я подошел поближе и произнес, скажите, чего вы хотите, и я куплю вам все, что угодно. Но она повернулась прямо ко мне, лицо у нее действительно было заплакано, но глаза сверкали, она поднялась и пошла прямо на меня, повторяя: убирайтесь отсюда, убирайтесь, убирайтесь. Я даже попятился от нее. Выглядела она совершенно как сумасшедшая. На следующий же день она была совершенно тихой. Ни окрика, да и вообще ни единого слова. Я прикрутил доски, все проверил, она показала мне, что готова (опять все в полном молчании). Я связал ей руки, завязал рот и повел ее вверх по лестнице, и она вымылась в ванной и потом вышла и подставила руки и сразу же голову, чтобы я завязал рот. Я все время выходил из кухни первым, держа на всякий случай ее за руку, к тому же там была ступенька на выходе, я сам упал там один раз, и, может быть, поэтому, когда она споткнулась, это выглядело вполне естественно и правдоподобно, и я так же естественно воспринял и то, что щетки, бутылочки и всякие другие мелочи, которые она несла завернутыми в полотенце (руки у нее были связаны спереди, так что она всегда носила свои вещи перед собой), с шумом попадали на крыльцо. Она поднялась с пола и с совершенно невинным видом стала тереть себе ногу, и я, как дурак, опустился на одно колено, чтобы собрать все ее принадлежности. Конечно, я держал ее все равно за полу халата, но на некоторое время выпустил ее из своего поля зрения, и это чуть не стоило мне жизни. Первое, что я почувствовал, это был страшный удар по голове. Мое счастье, что он пришелся не прямо в голову, а еще и по плечу, и воротник пиджака тоже смягчил его. Но, как бы там ни было, я упал набок, отчасти 74 еще и для того, чтобы избежать следующего удара. Равновесие я потерял и до ее рук тоже не мог дотянуться, хотя все еще продолжал держать ее за край халата. Я рассмотрел, что в руках у нее что-то есть, а потом наконец догадался что. Это был старый дровяной топор. Только этим утром я обрубал им у яблони в саду ветку, надломанную ночью ветром. И мгновенно понял и то, что наконец-то я попался, допустил ошибку. Я оставил топор на подоконнике в кухне, и она, конечно, его приметила. Всего одна ошибка, и тебе конец. Одно мгновение я был в ее власти, и это чудо, что она меня не прикончила. Она ударила еще раз, я только успел протянуть руку, чтобы прикрыться, и почувствовал жуткий, с хрустом удар в висок, в голове у меня зазвенело, и мне показалось, что кровь хлынула тотчас. Не знаю, как это у меня получилось, видимо машинально, но я дернулся в сторону, уворачиваясь, и она упала набок, почти на меня, я услышал, как топор брякнулся о камень. Я накрыл его рукой и оттащил в сторону, а потом забросил в траву, затем схватил ее за руку, чтобы не дать ей сорвать со рта повязку, потому что она именно это как раз старалась в тот момент сделать. У нас произошла борьба, но лишь в течение нескольких секунд, должно быть, она поняла, что все уже ни к чему, свой шанс она упустила, она резко перестала сопротивляться, и я втолкнул ее в дверь и потом спустил вниз. Действовал я грубо, было мне очень плохо, кровь заливала лицо, я впихнул ее, захлопнул за ней дверь и поставил засов на место. Перед тем как двери захлопнуться, она оглянулась и посмотрела на меня очень странным взглядом. Я выбрался наверх и ни о кляпе, ни о повязке на руках в этот момент даже и не позаботился, решив, пусть это будет ей еще и наказанием. Затем, выбравшись наверх, я пошел и промыл рану, я думал, что упаду в обморок, когда увидел себя в зеркале, кровь была везде. Но, как бы там ни было, мне еще очень повезло, что топор был не слишком острым и пришелся больше скользом. Рана была широкая и страшная, но не такая глубокая. Я долго просидел, прижимая к ней какой-то обрывок. Я никогда не думал, что смогу потерять столько крови и выдержать. Честное слово, я сам себе удивлялся в тот вечер. Ну, и, конечно же, зол на нее я был изрядно. Если бы я не почувствовал себя слабым в тот момент, не знаю даже, что бы я еще и сделал. Это была уже, как говорят в таких случаях, последняя капля, которая переполняет чашу терпения. Мне уже всякие мысли приходили в голову. И не знаю, что бы было, если б она продолжила вести себя со мной так, как вела... Впрочем, об этом опять не сейчас и не здесь. На следующее утро я спустился вниз все еще с головной болью, и я уже готов был повести себя грубо, возьмись она опять за свои фокусы, но я был совершенно удивлен: первое, что она сделала, когда я вошел, это 75 встала и поинтересовалась моим самочувствием. Сейчас я понимаю, что это она старалась загладить свою вину и начать вести себя по-другому. Подоброму. Хорошо уже, что остался жив, сказал я. Она была бледной и выглядела очень серьезной. Она протянула мне руки. Кляп она сняла, но спать ей все равно пришлось с веревкой на руках (она все еще была в халате). Я развязал. «Разрешите, я посмотрю». Я попятился от нее, я ее все еще боялся «Смотрите, у меня ничего нет в руках. Вы промывали?» Да. «Продезинфицировали?» Да, все в порядке. Тогда она пошла и принесла маленькую бутылочку детоловой мази, наложила ее на марлечку и подошла ко мне. Что за шутки опять у вас, сказал я. «Я только хочу слегка помазать. Сядьте. Сядьте». И она так сказала это, что я сразу понял, плохого она мне делать не собирается. Странно, но иногда бывали такие ситуации, когда я верил ей сразу и безо всякого. Она отлепила пластырь и убрала вату, сделав все это очень осторожно. Я заметил, как она вздрогнула, когда увидела рану (еще бы, зрелище было не из приятных), но потом она очень легко протерла ее и наложила вату снова. Премного благодарен, сказал я. «Извините меня, я... за то, что я делала. И я должна еще поблагодарить вас за то, что вы не ответили мне тем же. Вы имели на это полное право». Все не так легко, когда ты в таком положении. «Я ни о чем не хочу говорить. Просто я хочу сказать, что очень виновата». Я принимаю ваши извинения. Все это было, конечно, формально, она повернулась к своему завтраку, а я вышел наружу. Когда я постучал в дверь узнать, можно ли унести посуду, она была там уже полностью одета и постель ее была тоже заправлена. Я спросил, не хочет ли она чего, и она ответила, что нет. Она сказала, что мне надо купить себе стрептоцидовой мази, подала мне поднос и даже чуть заметно улыбнулась и поклонилась при этом. Это было совсем немного, но означало очень многое, это обещало огромные перемены. Я даже подумал, что такое стоило вообще моей головы. Я был просто счастлив в то утро. Как будто солнце выглянуло снова. Затем дня два или три ничего особенного не происходило. Ни плохого, ни хорошего. Говорила она немного, но уже совсем без злости и резкостей, даже без намека на все это. Затем, как-то после завтрака, она попросила меня посидеть, как я делал это в самом начале, чтобы она могла 76 нарисовать меня. Я так понял, что ей нужен был просто предлог, чтобы поговорить. «Я хочу, чтобы вы помогли мне», — проговорила она. В чем дело, спросил я. «У меня есть подруга, девушка, которую любит один молодой человек». Так, сказал я, и что дальше. Она остановилась. Я полагаю, чтобы посмотреть, понимаю ли я. «Он так сильно ее любит, что даже похищает. И потом держит ее своей пленницей». Какое совпадение. «Не правда ли?.. Ну, так вот. Она хочет снова быть свободной, но не хочет делать ему плохо, и она просто не знает, как быть. Что бы вы посоветовали?» Набраться терпения, сказал я. «Что должно произойти перед тем, как он освободит ее?» Многое может произойти. «Хорошо, не будем играть в прятки. Скажите мне, что я должна сделать, чтобы быть свободной?» Я не мог тут ответить. Если бы я сказал: «Жить со мной всегда», это вернуло бы нас к тому, с чего мы начали. «Замужество не подходит. Вы не доверяете мне». Пока нет. «А если я начну спать с вами?» Она прекратила рисовать. Я не стал отвечать. «Ну?» Я всегда думал, что вы не такая, сказал я. «Я просто пытаюсь установить вашу цену». Как будто это была новая стиральная машина, которую она собиралась купить и прикидывала все за и против. Вы знаете, чего я хочу, сказал я. «Но это как раз то, чего я не хочу!» Ну вот, вы все прекрасно понимаете. «О, господи. Слушайте, отвечайте просто: да или нет. Вы хотите, чтобы я была ночью с вами?» Не в таком смысле, как вы сейчас говорите. «А в каком смысле я сейчас говорю?» Я думал, вы более понятливая. Она тяжело вздохнула. Но мне понравилось, что я хоть немного ее осадил. «Вы считаете, что я лишь ищу способ выбраться отсюда? Все, что бы я ни сделала, все будет только для этого. Так?» Я сказал, да, так. 77 «А если бы вы решили, что это по какой-то другой причине. Например, из-за того, что вы мне понравились. Или просто ради забавы. Что тогда? Как бы вы к этому отнеслись? Были бы вы рады этому?» То, о чем вы говорите, я могу в любое время купить в Лондоне за наличные, сказал я. Это заставило ее уже замолчать надолго. Она начала рисовать снова. Чуть позже она сказала: «Вы похитили меня не потому, что я вам нравлюсь и привлекаю вас как женщина». Вы мне очень нравитесь и привлекаете меня как женщина, сказал я. Больше, чем кто-либо. «Вы как китайский черный ящик, — сказала она. Потом она опять стала рисовать и больше уже не заговаривала. Я было попробовал, но она сказала, что это портит позу. Я понимаю, что именно некоторые могут подумать. Они могут подумать, что я вел себя как-то странно, не как другие, по-особенному. Я знаю, большинство мужчин на моем месте только бы и ждали момента, чтобы воспользоваться своим положением и преимуществом, и, конечно же, нашли бы массу для этого удобных случаев. Я бы, по крайний мере, мог, например, использовать хлороформ. Чтобы сделать все, что мне хочется. Но я просто не такой человек, это совершенно точно, не такой человек вообще. Она как та торопливая гусеница, которой положено питаться три месяца, чтобы вырасти, а она пробует сделать это в три дня. Понимаю, ничего хорошего и не могло из этого получиться, она постоянно была в вечной спешке. Люди сейчас всё время хотят сразу все получить, они не успевают еще даже подумать о чем-нибудь, а уже хотят держать это в своих руках, но я другой, как это говорится старомодный, мне приятно думать о будущем и позволять событиям идти своим чередом. Тише едешь — дальше будешь, как любил повторять дядя Дик, когда бывал в хорошем настроении, не надо создавать суеты, всему свое время. И то, чего она так никогда и не смогла понять, это — главного. Для меня главным было то, чтобы она была со мною, только это. И для меня такого было совершенно достаточно. Ничего не надо было больше делать. Только со мною, ну и цела и невредима, конечно же. Прошло два или три дня. Она ни разу не говорила много, но потом однажды после ленча спросила: «Я пленница или я смертник?» Я понял, что это она просто опять начала играть словами, и поэтому не ответил. «А не стать ли нам лучше снова друзьями?» Я всегда за, сказал я. «Мне бы хотелось сегодня принять ванну». Хорошо. «Тогда не могли бы мы и посидеть наверху? Этот погреб!.. На этот раз я сойду с ума в нем». 78 Я сказал, хорошо, я подумаю. Ну и конечно, я растопил камин и приготовил все, что нужно. А для полной уверенности убрал все, чем она могла бы меня ударить. Не было уже смысла притворяться, что я по-старому доверяю ей. Она вышла, вымылась, и все было как обычно. Когда она появилась из ванной, я связал ей руки, рот не стал завязывать и проводил ее вниз. Я заметил, что она сильно надушилась своими французскими духами, волосы она забрала наверх, как это делала прежде, и на ней был краснобелый домашний халат, который я ей купил. Она попросила налить ей вина, того, что мы не допили (там еще оставалось полбутылки), и я налил ей, и она встала около камина, глядя на горящие поленья и грея попеременно около них свои голые ноги. Мы оба стояли, держа в руках стаканы, и ничего не говорили, но она раза два посмотрела на меня как-то странно, будто она звала что-то, чего я еще не знал, и это заставляло меня нервничать. Потом я налил ей еще один бокал, и она выпила его сразу и попросила налить опять. «Сядьте», — сказала она, и я сел на диван, туда, куда она указывала. С минуту она разглядывала меня сидящего, потом подошла и встала передо мной как-то очень странно, глядя на меня сверху вниз и покачиваясь с ноги на ногу. Затем чуть повернулась боком и вдруг села ко мне на колени. Я даже растерялся от неожиданности и не знал, что сказать. Как-то она сумела обнять меня руками за шею, и следующее, что она сделала, — это вдруг поцеловала меня прямо в губы. А потом уткнулась лицом мне в плечо. «Не будьте таким заторможенным», — сказала она. Я был как оглушен. Этого я от нее никак не ожидал. «Обними меня, — сказала она. — Вот так вот. Разве тебе не приятно? Я не тяжелая?» Она снова положила мне голову на плечо, я же в это время обнимал ее за талию. Я чувствовал, какая она теплая, и от нее пахло духами, и еще халат у нее имел очень глубокий вырез, а полы его распахивались прямо на коленях, но она как будто не замечала этого и, напротив, даже еще положила ноги на диван. Что все это значит, сказал я наконец. «Ты такой одеревенелый. Расслабься. Тебе не о чем беспокоиться». Я постарался. Она лежала тихо, но я все равно чувствовал, что происходит что-то непоправимое. «Почему ты меня не поцелуешь?» Я уже понимал, что сейчас что-то случится, что-то произойдет жуткое, и я не знал, что делать и как быть. Я поцеловал ее в голову. «Да не так же». Я не хочу, сказал я. 79 Она села, все еще оставаясь у меня на коленях, и посмотрела на меня. «Ты не хочешь?» Я отвернулся и сторону. Это было нелегко, ее связанные руки лежали у меня на плечах. Я хотел что-нибудь сказать, остановить ее, но не знал как. «Почему ты не хочешь?» Она подтрунивала надо мной. Я могу зайти слишком далеко. «Так и я могу!..» Я понимал, что она смеется надо мной, она опять меня вышучивала. Я знаю, кто я. Не тот, кто вам нужен. «А разве ты не знаешь, что бывают моменты, когда любой человек может быть нужен? Даже пень в весенний день. Эй?» — она вроде как потрясла руками мою голову, как будто я был совсем тупица. Это может завести неизвестно куда. «Меня абсолютно не волнует, куда это может завести. Ты совершеннейший чурбан». И тут она вдруг поцеловала меня опять, да так, что я даже почувствовал ее язык. «Разве это не хорошо?» Понятно, мне пришлось сказать, что хорошо. Я никак не мог взять в толк, что на самом деле значат все эти шутки, и от этого очень нервничал, и помимо моей воли нервничал еще и из-за всех этих поцелуев и всего остального. «Ну, так давай тогда, что же ты!» И она потянула меня за шею, и я вынужден был это сделать, и губы у нее были сладкие и теплые. И очень мягкие. Я понимаю, я был слаб. Мне бы следовало сразу прямо сказать ей, чтобы она прекратила это, еще в самом начале. Потому что это было плохо, неправильно. Но у меня не было совсем воли, и я был как бы без сил, и все, казалось, происходило против моего желания. Она положила голову так, чтобы можно было смотреть мне в лицо. «Я первая девушка, которую ты целуешь?» Прекратите эти глупости. «Успокойся. Не нервничай. И не надо ничего стыдиться». Потом она подняла голову и стала целовать меня снова, с закрытыми глазами. Конечно, она выпила три стакана хереса. Но то, что произошло потом, заставило меня почувствовать такое смущение, что я даже не знал, куда вообще деться. Я понял, случилось то, чего я и опасался. А я всегда знал (об этом часто говорили, и я слышал о таком в армии), что джентльмен обязан контролировать себя при любых обстоятельствах и держать в руках до самого последнего момента, и потому я был в страшной неловкости. Я подумал, что это ее может обидеть. И поэтому сел попрямее, как только она перестала меня целовать. 80 «Что-нибудь не так? Я делаю тебе больно?» Да, сказал я. Тогда она спустилась с моих колен и сняла руки с шеи, но села все равно очень близко. «Не развяжешь ли мне руки?» Я поднялся. Мне было очень стыдно, и я должен был отойти к окну и притвориться, будто что-то делаю с занавеской, поправляю ее. Все это время она наблюдала за мной поверх спинки дивана, потом забралась на него с ногами и встала на колени. «Фердинанд, что случилось?» Ничего не случилось, сказал я. «Это не страшно». Я не боюсь. «Тогда вернись сюда. Погаси свет. Пусть у нас горит только камин». Я сделал, что она просила. Свет выключил, но остался у окна. «Ну, скорей», — она уже звала. Я сказал, все это неправильно. Вы только притворяетесь. «Я?» Вы сами знаете, что вы только притворяетесь. «Почему бы тебе тогда не подойти и не проверить?» Я не двигался, все это время я понимал, что происходит ужасная ошибка, непоправимая. Тогда она подошла к камину и встала у огня. Я уже не чувствовал возбуждения больше, внутри у меня все вдруг стало как лед. Это было даже удивительно. «Подойди. Сядь здесь». Мне и тут хорошо, сказал я. Тогда она подошла сама, взяла мою руку двумя своими и привела к камину. Я не сопротивлялся. Там она протянула руки и так посмотрела на меня, что я развязал их. И сразу после этого она подошла ко мне близко и поцеловала, для чего ей пришлось подняться почти на носки. Затем она сделала вообще нечто немыслимое. Я не верил своим глазам. Она отступила на шаг и расстегнула халат, и под ним у нее ничего не было. А потом она вообще сбросила его на пол. Она была совершенно голая!.. Я взглянул на нее всю лишь мельком и больше уже не смотрел. Она стояла передо мной, улыбаясь и ожидая, что будет, — это можно было видеть по ее лицу, она ждала, что я буду делать. Потом она подняла руки и стала распускать волосы. И это было уже совсем как провокация, сознательно рассчитанное действие: стоять передо мной голой в полумраке, в свете камина, и распускать волосы. Я не мог себе поверить, больше даже, я должен был, но не мог. Поверить в то, что все это на самом деле, а не кажется, я был не в состоянии... 81 Это было что-то такое страшное, что я почувствовал себя противно, дурно, меня стало трясти, мне было так стыдно, что я хотел в этот момент оказаться где-нибудь на краю земли. Это было хуже, чем с проституткой, ту я не уважал, она была для меня ничто, но Миранда... Я чувствовал, что не могу вынести этого... Мы стояли, она заканчивала передо мной развязывать волосы, потом встряхнула ими, совершенно распущенными, и я почувствовал, что стыдно мне становится все больше. А она еще и подошла ко мне и стала снимать и с меня пиджак, потом галстук, потом она расстегнула на моей рубашке все пуговички, одну за другой. Я был как пластилин в ее руках, как замазка. Потом она стала стаскивать с меня рубашку. Я все продолжал думать, перестаньте, перестаньте, так нельзя, это неправильно, но я был совершенно безволен. И вот наконец я тоже оказался голый, и она, подойдя, прижалась ко мне грудью, но я был весь уже совершенно пустой, внутри у меня все умерло, это уже был будто другой я и другая она. Я понимаю, что оказался тогда совсем не тем, чем следовало, совсем ненормальным, потому что был как деревянный и не делал того, что в такой ситуации делать нужно. Она, заметив это, попробовала сделать еще и такое, о чем я даже не хочу говорить, кроме единственного: никогда не думал, что она на это способна. Она лежала со мной на диване и так далее, но внутри я уже весь изнывал. Она заставила меня выглядеть совершенным дураком. Я знал, она могла подумать, вот почему он всегда был таким деликатным и уважительным, никогда не делал ничего грубого. Я хотел уже попытаться, хотел доказать, что мое уважение к ней всегда было настоящим. Я хотел, чтобы она видела, я способен на это; тогда бы я мог сказать, что мне этого просто не надо, что это ниже меня, что это ниже и ее и что это вообще только гадость. Но у меня ничего не получилось. Мы еще немного полежали тихо и не двигаясь, я чувствовал в это время, что она презирает меня как урода. В конце концов, она спустилась с дивана и присела около меня на колени, мягко коснувшись моей головы. «Это случается почти с каждым мужчиной, это пустяки». Можно было подумать, что она по этой части была уже опытнейший человек в мире. Она вернулась назад к камину, надела свой халат и села там же, глядя на меня. Я оделся. Я сказал ей, я знаю, что у меня никогда не получится это. Я наплел дикую историю, чтобы ей стало меня жалко, все это было вранье, я даже не знаю, поверила ли она мне; о том, как я могу любить, но что этого у меня никогда быть не может. Вот почему я и решил похитить ее. «Но разве вам не было приятно касаться меня? Мне показалось, вам хотелось меня целовать». Я сказал, я говорю о том, что после поцелуев. 82 «Мне не следовало наносить вам такой удар». Это не ваша вина, сказал я. Я не такой, как другие. Этого никому не понять. «Я это могу понять». Я бы только мечтал об этом, сказал я. Я никогда не смогу стать полноценным человеком. «Как Тантал. Танталовы муки». Она объяснила, что это. Она долго сидела совершенно молча. Мне уже чуть ли не захотелось дать ей хлороформа. Спустить ее вниз и кончить все это. Я хотел остаться один. «Какой врач сказал вам, что этого у вас не может быть?» Просто врач. (Это все было вранье. Я никогда не ходил ни к какому врачу, конечно.) «Психиатр?» В армии, сказал я. Психиатр. «Какие сны вам про меня снились?» Всякие. «Не эротические?» Она просто не могла без этого. Ее так и тянуло говорить на эту тему. Я обнимаю вас, сказал я. Это все. Мы спим бок о бок, а на улице ветер, дождь или еще что-нибудь. «Не хотите попробовать?» Ничего хорошего не получится. «Если вы хотите, я готова». Я не хочу, сказал я. Я не хочу, чтобы вы больше говорили об этом, сказал я. Она замолчала. Казалось, это длится страшно долго. «Почему, вы думаете, я сделала это? Только ради освобождения?» Но не из-за любви, сказал я. «Сказать вам? — она поднялась. — Я сегодня перешагнула через свои принципы, через саму себя, через все, что мне всегда было дорого. Да, и чтобы стать свободной. И об этом я тоже думала. Но я думала и о том, чтобы помочь вам. И вы должны этому верить. Я хотела показать вам, что эротика — эротика только действо, действо, как многое-многое другое. Это не грязь, это не малость, но это и не много. Это когда два человека играют своими телами, как игрушками. Это как танец. Как игра». Похоже, она решила, что я собираюсь что-то сказать, но я не стал вмешиваться. «Я позволила себе с вами то, чего ни разу не позволяла себе ни с кем в жизни, сделала для вас такое, чего не получал от меня еще никто. И, разумеется, я думаю, что и вы отплатите мне чем-нибудь подобным». Я сразу понял ее игру, конечно. Она была всегда такой искусной оборачивать свои намерения во всякие разные слова. Чтобы заставить тебя 83 почувствовать, что ты ей действительно что-то должен, как будто она и не выполняла свое желание в самую первую очередь. «Пожалуйста, скажите что-нибудь». Что, сказал я. «Что вы, по крайней мере, поняли, что я вам сказала». Я понял. «Это все?» У меня нет желания разговаривать. «Вы могли остановить меня в самом начале». Я пытался, сказал я. Она присела на колени у камина. «Это невероятно. Мы еще дальше друг от друга, чем раньше». Я сказал, раньше вы меня ненавидели. Сейчас, я думаю, вы меня презираете. «Я жалею вас. Мне жалко вас, жалко потому, что вы такой, и потому, что вы не понимаете меня, не видите, какая я». Отчего не вижу, какая вы. Отчего вы думаете, что я не вижу. Это прозвучало резко, я уже сыт был ею по горло, мне все уже надоело. Она оглянулась, очень быстро повернув голову, потом опустила ее и спрятала лицо в ладонях. Чтобы немножко поплакать, я думаю. Ну и наконец она сказала очень тихим голосом: «Пожалуйста, отведите меня вниз». Что я и сделал. Когда мы уже были внизу и я, сняв с нее веревку, собирался уходить, она повернулась ко мне и сказала: «Мы были голыми друг перед другом. Мы уже не можем быть чужими больше». Я как с ума сошел, когда выбрался наружу. Не могу даже объяснить. Я не спал всю ночь, я все вспоминал, снова и снова, как я стою там, как лежу голый, и как там все со мной было, и что она должна была подумать. Я даже представил себе, как она смеется сейчас надо мной внизу. Каждый раз, как только я представлял себе эту сцену, у меня просто все тело становилось красным. Я мечтал, чтобы ночь никогда не кончалась. Мечтал, чтобы темнота продолжалась вечно. Я ходил наверху несколько часов. В конце концов, я вывел машину и поехал к морю, на огромной скорости, я совсем не думал о том, что может случиться. Я вообще тогда мог сделать все что угодно. Я мог бы убить ее. Все, что произошло потом, я думаю, было уже именно из-за этой ночи. Как будто она была совершенно глупой, будто не было ума абсолютно, как у беспросветной тупицы. Я понимал, конечно, что она не была такой на самом деле, просто она не могла найти правильного пути, как меня любить. У нее была масса способов угодить мне, если уж она этого хотела. 84 Но она как любая другая женщина: только одно-единственное на уме. Я уже больше никогда не смог начать уважать ее снова. И я испытывал что-то вроде ненависти к ней очень долгое время. Потому что ведь я-то знал, что я могу... Фотографии (того дня, когда я дал ей наркоз), вот на что я смотрел иногда в те дни. С ними мне было легче. Они не донимали меня вопросами. Вот чего она уже не узнала никогда. Что делать, я спустился вниз на следующий день, и там все было так, будто вчера ничего не случилось. Она не сказала об этом ни слова, как и я. Я приготовил ей завтрак, она сказала, что в Льюисе ей ничего не надо, потом она вышла пройтись в наружный подвал, и затем я закрыл ее снова и ушел. Понятное дело, мне нужно было хоть немного поспать. Но вечером все было по-другому. «Я хочу поговорить с вами». Слушаю, сказал я. «Я перепробовала все. И мне осталось единственное средство. Я снова собираюсь начать голодовку. Я не буду есть до тех пор, пока вы меня не выпустите». Спасибо за предупреждение, сказал я. «Это если...» О, тут еще есть если, сказал я. «Если мы не придем к соглашению». Казалось, она выжидала. Раньше я от вас такого не слышал, сказал я. «Я готова согласиться с тем, что вы не отпустите меня сразу. Но я не согласна больше оставаться здесь, внизу. Я хочу быть пленницей наверху. Мне нужен дневной свет и свежий воздух», Всего только это, сказал я. «Да, всего только это». И с сегодняшнего вечера, я полагаю. «В очень скором времени». Я полагаю, следует пригласить плотника и маляра и купить люстру. Тогда она вздохнула, она начала понимать, что к нему. И сменила пластинку. «Не будьте таким. Ну, пожалуйста, не будьте таким, — она посмотрела на меня своим особенным взглядом. — Вся эта ваша ирония. Я не собираюсь вам делать ничего плохого». Все уже не действовало. Она убила главное, она уничтожила все возвышенное и стала обыкновенной, заурядной женщиной, как и все, я не мог уже больше уважать ее, почитать не мог, преклоняться перед ней уже не мог, не за что уже было преклоняться. Все эти ее хитрости, я же 85 понимал, что стоит только ей выбраться отсюда наверх, и сразу — поминай как звали. Но в то же время и вся эта затея с голоданием мне тоже не нравилась, поэтому самое лучшее было — это потянуть время. Как скоро, сказал я. «Вы можете держать меня в одной из ванных комнат. Вы можете обить ее железом и досками всю. Я смогу спать там. Потом, возможно, вы могли бы, связав меня и завязав мне рот, разрешать изредка посидеть у открытого окна. Это все, что я прошу». Это все, сказал я. Интересно. Что подумают люди, увидев набитые как попало доски на окнах? «Тогда лучше умереть с голоду, чем остаться здесь. Держите меня там на цепи. Что угодно. Но дайте мне возможность дышать свежим воздухом и видеть дневной свет». Я подумаю об этом, сказал я. «Нет. Сейчас». Вы забываете, кто хозяин. «Сейчас». Я не могу ответить сейчас. Мне надо подумать. «Хорошо. Завтра утром. Или вы разрешаете мне перейти наверх, или я не притрагиваюсь к еде. И тогда это будет убийство». Выглядела она злой и противной. Я лишь повернулся и закрыл за собой дверь. Я думал об этом весь вечер. Я понял, что мне надо выиграть время, мне надо притвориться, что я буду это делать, что я этим занят. Как говорится, активно делать вид. И еще я придумал одну вещь, какую я смогу сделать заодно, когда подойдет для этого время… Когда я на следующее утро спустился вниз, я сказал, что все обдумал, что учел все ее требования, прикинул в деталях и так далее — одну комнату можно выбрать и приспособить, но мне потребуется неделя. Я думал, она начнет дуться, но она выслушала и согласилась. «Но если вы опять станете тянуть, я начну голодовку. Понятно?» Я начну завтра. Но потребуется много материала, досок и специальный брус. Это займет день или два. Чтобы привезти все это. Она бросила на меня прежний строгий взгляд, но я только отвернулся и взял ее ведро. После этого у нас все шло нормально, за исключением того, что мне все время приходилось притворяться. Мы говорили мало, но и резкой со мной она не была. В один из дней она захотела принять ванну, а заодно и посмотреть, как я готовлю комнату. Я знал, что она этого захочет, поэтому 86 я уже заранее принес досок и сделал все так, чтобы казалось, будто я на самом деле заделываю окно (это была задняя ванная комната). Она сказала, что хочет сюда кресло в старом королевском стиле Виндзор (совершенно как по-прежнему, когда она просила что-нибудь для себя). Я его купил на следующей день и, понятно, снес вниз показать. Она не захотела держать кресло у себя там, оно должно было быть унесено обратно наверх. Она сказала, что не хочет, чтобы вещи, которые у нее были внизу (из мебели), перешли с нею. Это сложности не составляло. После того как она посмотрела комнату и дыры для шурупов в оконном проеме, она на самом деле начала верить, что я действительно окажусь таким простаком, пущу ее наверх и поселю открыто. Сцена ее перехода в дом ею была задумана такая: я должен был спуститься вниз и привести ее наверх, где мы поужинаем, и она проведет свою первую ночь наверху и утром увидит рассвет. Она была совершенно как ребенок иногда. А теперь еще я повеселела. Видимо, считала, что меня уже провела. Я смотрел на нее, и мне даже иногда приходилось смеяться про себя над ней. Я сказал — смеяться, но вместе с тем я чувствовал себя очень неспокойно, когда этот день настал. Когда я спустился вниз в шесть часов, она сказала, что от меня заразилась насморком, который я подхватил в Льюисе в парикмахерской. Она была вся оживленная, сияющая и довольная и посмеивалась, конечно, время от времени надо мной в кулак. Но теперь смеяться приходило мое время. «Вот тут вещи, которые мне понадобятся на ночь. Остальные вы можете принести завтра. Там все готово?» Она уже спрашивала это за ленчем, и я сказал, что да. Я сказал, да, готово. «Пойдемте тогда быстрее. Будете меня связывать?» Только тут одно но, сказал я. Одно условие. «Условие?» — В лице у нее что-то изменилось. Она поняла сразу. Я вот что подумал, сказал я. «Что?» — Глаза у нее просто горели. Мне бы хотелось сделать несколько фотографий. «Моих? Но вы их уже сделали множество». Я имел в виду не такие. «Я не понимаю». Но я видел, что она поняла. Я хочу сфотографировать вас в таком виде, в каком вы были в тот вечер, сказал я. Она села на край кровати. «Продолжайте». И вы должны иметь вид на снимках, как будто вам нравится фотографироваться, сказал я. И принимать позы, какие я скажу. 87 Она продолжала сидеть, не говоря ни слова. Я думал, что она вот-вот устроит мне сцену. Но она просто сидела на кровати, шмыгая носом. «А если я не соглашусь?» Я должен иметь гарантии в таком деле. Я должен, себя чем-то обезопасить. Мне нужно несколько ваших фотографий, которые вам бы было стыдно показать кому-либо еше. «Вы хотите сказать, что я должна позировать вам для непристойных фотографий, с тем чтобы вы могли меня скомпрометировать, вздумай я в случае моего бегства обратиться в полицию?» Да, именно такая мысль, сказал я. Не непристойные. Просто фотографии, которые вам не хотелось бы видеть напечатанными. Как художественное фото. «Нет». Я лишь прошу того, что вы уже делали без всякой моей просьбы. «Нет, нет, нет». Я понял вас в таком случае, сказал я. «То, что я сделала тогда, было плохо. Я сделала... сделала это от отчаяния, в отчаянии, что между нами нет ничего, кроме подозрительности, низости и ненависти. А то, что предлагаете вы, это совсем другое. Это гнусно». Я не вижу разницы. Она встала и прошла к противоположной стене. Вы это сделали один раз. Можете сделать и снова. «Господи, господи, это сумасшедший дом». — Она обвела комнату глазами, как будто меня совсем и не было, как будто был кто-то еще, кто мог ее слышать, или будто она собиралась сейчас вот обрушить стены. Или вы это делаете, или вы не выйдете отсюда вообще. Ни гулять. Ни ванной. Ничего. Я сказал, вы думали, что вам удастся меня провести. Вам пришла в голову новая идея. Как выбраться отсюда. Околпачить меня и сдать полиции. Вы не лучше, чем обыкновенная уличная женщина, сказал я. Я уважал вас, я преклонялся перед вами, потому что думал, вы выше всего этого, выше того, что вы сделали. Не как остальные. Но вы такая же. Вы сделаете любую гадость, лишь бы добиться того, что вам нужно. «Остановитесь, остановитесь», — прокричала она. Я могу найти таких умелиц, как вы, сотни в Лондоне, и даже более умелых, чем вы. В любое время. И делать с ними все, что захочу. «Вы отвратительный, грязный, тупоголовый ублюдок!» Продолжайте, сказал я. Это как раз ваш язык. «Вы извращаете все законы человеческой порядочности, все правила приличия и такта, растаптываете все хрупкое и интимное, что есть в человеческой природе вообще. Вы опошляете все, к чему только ни 88 прикоснетесь. И вы наконец опошлили все, что было или могло быть хрупкого и интимного между нами как между мужчиной и женщиной». Пошел горшок перед котлом хвалиться, сказал я. Вы раздевались, вы просили. Сейчас вы это получили. «Вон! Вон!» Это был настоящий вопль. Да или нет, сказал я. Она повернулась, схватила со стола чернильницу и бросила ее в меня. Это последнее, что она успела сделать. Я вышел и закрыл дверь на засов. Ужина я ей не дал, оставил вариться в собственном соку. Я съел цыпленка, которого купил на всякий случай, и выпил шампанского, а остальное вылил в раковину. Я чувствовал удовлетворение, не знаю почему. До этого я все время понимал, что был нерешителен, безволен, теперь я ей отплатил ее же монетой за все, что она говорила и думала обо мне. Я прошелся наверху, посмотрел на ее комнату, и это заставило меня даже рассмеяться, подумав о ней, там, внизу; она именно как раз из тех, кто должен оставаться внизу в прямом и переносном смысле, и если она, может быть, и не заслуживала этого сначала, то она все сделала для того, чтобы оставаться именно там теперь. У меня были все основания преподнести ей урок, показать, что к чему, и посмеяться последним. В конце концов, я лег спать, я посмотрел прежние фотографии и несколько журналов, и у меня появились кое-какие мысли. Среди журналов был один под названием «Туфли», и в нем были очень интересные снимки девушек, в основном их ног, обутых в разного рода туфли, причем некоторые девушки были лишь в туфлях и с поясками на талиях. Это были на самом деле очень необычные фотографии, в действительности художественные. Что бы там ни было, утром, когда я спустился вниз, я, как всегда, прежде постучался и подождал перед тем, как войти. Но я очень удивился, когда увидел, что она все еще в постели. Она проспала всю ночь в одежде, лишь накрывшись верхним одеялом, и в первое мгновение, казалось, даже не понимала, где она и кто я. Я стоял, ожидая, когда она опять напустится на меня, но она лишь села на край кровати и, поставив локти на колени, обхватила голову руками, как будто все вокруг — это продолжающийся ночной кошмар и как будто она все никак не может проснуться. Она кашлянула. Кашель прозвучал немного гулко. И выглядела она неважно. Поэтому я не стал на этот раз много говорить и только пошел и приготовил ей завтрак. Она выпила кофе и съела каши, голодание, видимо, откладывалось, и потом снова села в прежнюю свою позу. Я видел, что это 89 очередной ее фокус, ей просто надо было меня разжалобить, дождавшись момента, когда я упаду перед ней на колени и начну просить прощения. Дать вам аспирина, спросил я. Я видел, что простужена она все-таки довольно сильно. Она кивнула, все так же не поднимая головы. Я сходил и принес таблетки, и, когда пришел, она сидела в той же позе. Можно было видеть, что старается она хорошо. Но такой прием уже был, это было похоже на плохое настроение. Поэтому я подумал, ладно, дадим настроению пройти. Я могу подождать. В ленч, когда я спустился, она была в постели. Она посмотрела на меня из-под простыни и сказала, что хочет лишь бульону и чаю, что я ей и принес и затем опять ушел. Примерно то же было и за ужином. Она попросила у меня аспирина. К еде она почти не, притронулась. Но и это уже было знакомо, я видел такое прежде. За весь день мы с ней не сказали и двадцати слов. На следующий день все продолжалось. Когда я вошел, она опять была еще в постели. Хотя я заметил, что она уже не спала, потому что лежала с открытыми глазами. Глядя на меня. Ну как, сказал я. Она не ответила, она лишь продолжала лежать. Я сказал, если вы думаете, что этим своим лежанием и всеми вашими штучками сможете запудрить мне мозги, то на этот раз вы ошибаетесь. Это заставило ее открыть рот. «Вы не человек. Вы просто маленький грязный вонючий онанист». Я сделал вид, что не слышал ее, и только сходил и принес ей завтрак. Когда я подошел к ней, чтобы поставить на стол кофе, она сказала: «Не подходите ко мне близко!» Полным ненависти голосом. Я ведь могу вообще не приходить, сказал я, дразня ее. Что тогда? «Если бы у меня были силы убить тебя. Я бы убила тебя не задумываясь. Как скорпиона. Я это сделаю еще, когда поправлюсь. Ни в какую полицию я не пойду. Тюрьма слишком хороша для тебя. Я просто приду и убью тебя». Я понимал, что она злится оттого, что ее планы разгаданы. У меня тоже была простуда, и я знал, что это не слишком опасно. Вы очень много говорите. Вы забываете, кто хозяин. Я могу просто забыть про вас тут. Никто не узнает. На это она лишь закрыла глаза. Тогда я ушел, я поехал в Льюис и купил еды. В ленч она, казалось, спала. Я сказал, все готово, она пошевелилась, и я, убедившись, что она слышала, оставил еду и ушел. В ужин она все еще была в постели, но сидела и читала Шекспира. Я спросил ее, не стало ли ей лучше. С иронией, конечно. 90 Но она лишь продолжала читать, ничего не ответив. Я было уже чуть не выхватил книгу, чтобы поучить ее, но сдержался. Через полчаса, после того как я сам поужинал, я вернулся к ней, и она все еще ничего не ела, а когда я ей это заметил, она сказала: «Я болею. Мне кажется, у меня грипп». Но и тут она не утерпела, чтобы не добавить: «Что вы станете делать, если мне понадобится врач?» Поживем — увидим, сказал я. «У меня внутри все болит. Когда я кашляю». Это простуда, сказал я. «Это не простуда». Она прямо выкрикнула мне это. Конечно, это простуда, сказал я. И перестаньте притворяться. «Я не притворяюсь». Ну, конечно же, нет. Вы не притворялись ни разу в своей жизни. «Боже милосердный, вы не мужчина, если вы вообще когда-то были им». Повторите свои слова, сказал я. Я выпил за ужином немного лишнего, почти полбутылки шампанского (я нашел в Льюисе магазин, где продавали его по полбутылки), поэтому у меня не было настроения терпеть все ее глупости. «Я сказала, вы не мужчина». Ладно, ответил я. Хватит. Вставайте е постели. Теперь я отдаю приказы. Я терпел достаточно, большинство мужчин сделало бы это раньше. Я пошел и сорвал с нее простыню и схватил за руку, чтобы стащить с кровати, она стала сопротивляться, царапать мне лицо. Я сказал, ладно, я вас проучу. В кармане у меня были ее веревки, и после небольшой борьбы я связал ее и потом привязал и кляп, и это была ее вина, что веревки оказались затянутыми слишком туго; я прикрутил ее дополнительным куском веревки к кровати и затем пошел и принес камеру с треногой и вспышку. Она еще посопротивлялась, конечно, она боролась, трясла головой, испепеляла взглядом, как это говорится, пробовала даже подлизываться, стать ласковой, но я не поддался ни на что. Я снял с нее все, что на ней было, и сначала она не хотела делать то, что я говорил, но в конце концов она и лежала и стояла так, как я велел (я отказывался фотографировать, если она не соглашалась в этом участвовать). Так что фотографии свои я получил. Тут не было моей вины. Откуда я мог знать, что она была более больна, чем выглядела. Она выглядела, будто у нее просто была простуда. Я проявил и отпечатал фотографии этим же вечером. Мне больше нравились те, где ее голову не было видно. С кляпом она, конечно, выглядела не слишком красиво. Лучшими из них были те, где она стояла 91 на высоких каблуках, снятая сзади. Привязанные к кровати руки придавали ей, как это называется, дополнительную пикантность. Надо признаться, я был совершенно доволен тем, что получилось. На следующий день к моему приходу она уже встала и была в халате, по всему было видно, что она ждала меня. Но то, что она сделала, меня очень удивило. Она шагнула ко мне и опустилась передо мной на колени. Как будто была совершенно пьяная. Лицо у нее горело, что было, то было, это правда, это я видел. Она смотрела на меня и плакала и так продолжала стоять, не поднимаясь с колен. «Я больна ужасно. У меня пневмония. Или плеврит. Вызовите доктора». Я сказал, встаньте и ложитесь обратно в постель. Потом я сходил, чтобы принести ей кофе. Когда я вернулся, я сказал, вы же сами понимаете, что это не пневмония, если бы это была пневмония, вы бы даже не смогли встать с постели. «Я не могу дышать по ночам. Вот здесь у меня болит, мне приходится лежать на левом боку. Пожалуйста, возьмите мой градусник». Я взял градусник, и на нем было 39,1, но я знал, как можно набивать на градуснике температуру. «Здесь очень мало воздуха. Я здесь задыхаюсь». Тут полно воздуха, сказал я. Она была сама виновата в том, что уже выкидывала подобные шутки прежде. Но все же я съездил в Льюис и привез ей из аптеки и слабительное от запора, которое она просила, и специальные, какие мне посоветовали, противогриппозные таблетки, и ингалятор, и она все это взяла и таблетки выпила. Она попыталась немного поесть за ужином, но не смогла, и ее вырвало, вид у нее в это время был действительно очень неважный, и, надо признаться, я в первый раз подумал, что в ее словах содержится доля правды. Лицо у нее было красным, волосы слиплись от пота и торчали космами, хотя это тоже можно было сделать специально. Я убрал за ней рвоту, дал ей лекарство и собрался уже уйти, когда она попросила меня сесть на постель рядом с ней, потому что она не могла говорить громко. «Думаете, я бы стала разговаривать с вами, если бы не была ужасно больно после всего, что вы сделали?» Вы сами напросились на это, сказал я. «Вы должны понять, что я действительно больна». Это грипп, сказал я. Им в Льюисе многие болеют. «Это не грипп, у меня пневмония. Что-то жуткое. Я не могу дышать». Все будет хорошо, вы поправитесь, сказал я. Эти желтые таблетки вам помогут. Аптекарь сказал это лучшее средство. «Не вызвать врача — это убийство. Вы собираетесь меня убить». 92 Я же говорю вам, что вы поправитесь. Это грипп, сказал я. Как только она опять упомянула о враче, у меня снова возникли подозрения. «Вы не протрете мне платком лицо? Пожалуйста, он тут на стуле». И странно, я сделал, что она просила, и первый раз за все эти дни, как ни удивительно почувствовал к ней жалость. Она сказала: спасибо. Тогда я пойду, сказал я. «Не уходите Я умру. Она на самом деде постаралась ухватить меня за руку. Не будьте такой глупой, сказал я. «Вы должны уступить, вы должны». И вдруг она заплакала снова, я видел, как ее глаза наполнялись слезами, и она стала поворачивать голову из стороны в сторону, перекатывая ее по подушке. В то время мне ее уже было жалко, и поэтому я сел на край кровати, подал ей платок и сказал ей, что я никогда бы не отказался вызвать врача, если бы она была на самом деле больна серьезно. Если бы она была серьезно больна, я бы вызвал его тотчас. Я даже сказал, что я все еще люблю ее, и даже попросил у нее прощения и всякое такое. Но слезы у нее продолжали бежать, и, казалось, она не слушала. Даже когда я сказал, что она выглядит много лучше, чем за день до этого, что было, в общемто, не совсем правда. В конце концов, она успокоилась, некоторое время лежала с закрытыми глазами и тихо, но потом, когда я двинулся, она произнесла: «Можно мне вас попросить кое о чем?» О чем, спросил я. «Можете вы сегодня остаться здесь со мной и открыть дверь для воздуха?» Я согласился, и мы выключили свет в ее комнате. И оставили только свет снаружи и еще работающий вентилятор, и я сел около нее уже надолго. Одно время стояла тишина, и она лежала тоже тихо, потом она стала дышать как-то странно часто, как будто она бежала вверх по лестнице, и время от времени начинала говорить, один раз произнесла чтото вроде «пожалуйста, не надо», в другой раз мне послышалось мое имя, но все это было неразборчиво, — ну, а потом я почувствовал, что она заснула, и, когда я позвал ее, она не ответила, и я вышел и закрыл за собой дверь и поставил будильник на раннее утро. Я еще подумал о том, что она заснула как-то очень быстро, я даже не успел заметить как. И подумал еще о том, что это к лучшему, и подумал, что, может быть, эти желтые таблетки ей помогут, и ей к завтрашнему утру станет лучше, и она пойдет на поправку. Я даже решил — где-то это хорошо, что она заболела, потому что, если бы она не заболела, и все бы шло по-старому, у нас бы с ней долго еще было неизвестно что. Что я хочу всем этим сказать, так это только то, что все случившееся потом было для меня совершеннейшей неожиданностью. Сейчас я 93 понимаю, все сделанное мной на следующий дань было ошибкой, но тогда, в то время, в тот день, я считал, что поступаю правильно, что делаю все к лучшему и что я имею на это право. II 14 октября Семь часов вечера. Я постоянно думаю только об одном, если только люди видела. Если только о н и видели. Соучастие в преступлении... А сейчас я пытаюсь все поведать вот этому дневнику, этой тетрадке, которую он купил мне сегодня утром. Заботливый... Тихо. Глубоко под землей я начинаю чувствовать все больший и больший страх. Это только поверхностная тишина... Никаких непристойностей, никакого секса. Но глаза у него сумасшедшие. Серые, с серыми, исчезающими в глубине искорками. Начать с того, что мне приходится следить за ним постоянно. Я все равно думаю, что это должен быть секс, и если поворачиваюсь к нему спиной, то на значительном от него расстоянии и только так, чтобы он не мог на меня внезапно броситься, и мне нужно постоянно слышать его и знать, где он находится в комнате. Сила. Как отчетливо я начинаю понимать эти сейчас. Я сознаю, что ядерное оружие для человечества — это плохо. Но быть такой беспомощной в подобной ситуации, мне кажется, плохо тоже. Как бы я хотела сейчас владеть дзюдо. Чтобы заставить его молить о пощаде. Этот склеп... Тут так душно. Стены давят, я все время прислушиваюсь, где он, пока пишу. Все мои мысли сейчас как плохие рисунки, которые нужно рвать тут же, на месте, не раздумывая. Бежать, бежать, бежать. Единственная мысль... ...Странная вещь. Он меня любит. Я от этого испытываю к нему только еще большее отвращение. И презрение. Не могу выносить этой комнаты. Кто угодно обезумеет здесь с горя... Могу представить себе их теперешнее безумное горе... Как он может любить меня? Как можно любить человека, которого не знаешь?.. Он положительно хочет мне понравиться, вот как раз на кого похожи все эти сходящие с ума м у ж и к и . Они бессознательно, невольно 94 сумасшедшие, они и должны быть в определенном смысле безумными, как все те, кто решается наконец на что-то ужасное. Кстати, это только последние день-два я могу так о нем говорить. А весь тот путь сюда в фургоне — это был сплошной кошмар. Когда тебя тошнит и ты боишься, что задохнешься под кляпом от собственного же приступа рвоты. И потом сам приступ рвоты... Думаешь, что сейчас тебя затащат в кусты, изнасилуют и убьют. Когда машина остановилась, я была уверена, что сейчас это и начнется. Наверное, потому меня и вырвало. Совсем не от его гнусного хлороформа. (Я помнила эти жуткие истории Пенни Лестер, которые она рассказывала ночью в спальной комнате, о том, каким образом ее мать осталась жива, будучи изнасилованной японцем, помнила эти ее слова: ни сопротивляйся, не сопротивляйся! А потом еще кто-то в Пансионе говорил, что для изнасилования нужно двое мужчин. Что женщины, которые позволяют себя изнасиловать одному человеку, хотят быть изнасилованными.) Сейчас я уже знаю, что это не будет его способом. Он опять прибегнет к хлороформу или к чему-нибудь еще. Но та первая ночь: не сопротивляйся, не сопротивляйся!.. Я благодарна судьбе, что осталась жива. Я ужасная трусиха, я не хочу умирать, я так люблю жизнь, так страстно люблю, я никогда раньше не знала, что мне так хочется жить. Если я выйду отсюда, я уже больше никогда не буду прежней. Мне все равно, что он будет со мной делать. Лишь бы я осталась жива... Вся эта невыразимая мерзость, которую он м о ж е т сделать... Я все обыскала в стремлении найти какое-нибудь оружие, но нет ничего, что можно было бы в качестве него использовать. Будь я даже сильной и опытной. Каждую ночь я подпираю дверь стулом, так, по крайней мере, я хоть уверена, что он не войдет неуслышанным. До безобразия примитивные умывальник и туалет. Огромная глухая железная дверь. Ни скважины. Ничего. И тишина. Сейчас я к этому уже немного привыкла. Но это у ж а с н о . Ни малейшего звука. Это заставляет меня все время чего-то ждать. Жива. Жива в том смысле, что вот эта смерть и есть жизнь. Целая серия книг по искусству. Стоимостью почти в пятьдесят фунтов, я подсчитала. В ту первую ночь меня осенило, что они предназначены для м е н я . Что я не случайная жертва, ко всему прочему. Потом полный шкаф одежды: юбки, кофты, платья, разных цветов чулки и совершенно экстравагантный подбор нижнего — «в Париж на субботу и воскресенье» — белья, ночные сорочки. Я заметила, что все примерно моего размера. Слишком вызывающие, но он сказал, что видел меня все время в ярких платьях. 95 Все сейчас в моей жизни кажется удивительно прекрасным. Вот был Д. П. Даже это кажется необыкновенным. Восхитительно. Все — восхитительно! А теперь вот это... Я немного поспала при включенном свете, не разбирая постели. Я бы с удовольствием попила воды, но боюсь, в нее что-нибудь подмешано. Я все еще не перестала опасаться, что в пище может быть какое-нибудь снотворное. Прошло семь дней. А будто семь недель. Он был таким невинным и расстроенным, когда остановил меня. Сказал, что переехал собаку. Я подумала, что это может быть Мисти. Он как раз тот человек, про которого такого совсем не подумаешь. Абсолютно не похож на похитителя. Как падение с обрыва в бездну. Так внезапно оказаться на самом краю… Каждую ночь я делаю то, чего не делала уже целую вечность. Я лежу и молюсь. Я не становлюсь на колени, я знаю, что Бог презирает унижающихся. Я лежу и прошу его, чтобы он утешил М., и П., и Минни, и Каролину, которая, должно быть, чувствует себя такой виноватой, и всехвсех остальных, и даже тех, кто был бы рад моим несчастьям — или несчастьям других людей. Как Пирс и Антуанетта. Я прошу его помочь и этому несчастному, во власти которого нахожусь. Я прошу его помочь мне. Не в том, чтобы избежать изнасилования, или надругательства, или убийства. Я прошу у него света. Буквально. Дневного света. Я не могу выносить этой абсолютной тьмы. Он купил мне ночники. И сейчас я ложусь спать, обязательно включив один из них. До этого я спала с верхним светом. Пробуждение — это хуже всего. Я просыпаюсь и первое мгновение думаю, что я дома или у Каролины. Затем это обрушивается на меня. Не знаю, действительно ли я верю в Бога. Я молилась ему неистово в машине, когда думала, что мне предстоит умереть (это как раз доказывает п р о т и в о п о л о ж н о е , сказал бы Д. П.). Но от молитвы становится легче. Все это куски и обрывки. Я не могу сосредоточиться. Я думала о стольких вещах, а сейчас не могу думать ни об одной. Но когда пишешь, успокаиваешься. Иллюзия, конечно. Но все-таки. Это как занимать себя подсчитыванием денег, сколько было и сколько осталось. И сколько истрачено. 15 октября У него никогда не было родителей, и воспитала его тетя. Я хорошо представляю себе ее. Тощая женщина с бледным лицом и безобразными, брезгливо сжатыми тонкими губами, и, я думаю, еще-серые глаза, и 96 неизменная бежевая шляпка, как колпак на чайнике, и, помимо всего, сор я грязь. Сор и грязь всюду в этом ее маленьком вонючем мире задворок. Я сказала ему, что это он ищет себе мать, которой у него никогда не было, но он, конечно, не стал слушать… В Бога он не верит. От этого только еще больше захотелось верить. Я рассказывала о себе. О П. и М. Коротко и без всяких сантиментов, лишь основное. О М. он знал. Я думаю, об этом уже весь город знает. Мое заключение такое: я нужна ему как утешение. Срок в заключении. Нескончаемый срок... То первое утро. Он постучался в дверь и подождал десять минут — как он всегда делает. Нельзя сказать, что это были слишком приятные десять минут. Вся моя решимость, какой я набралась за ночь, улетучилась, как дым, и я опять осталась наедине со своими мыслями и страхами, одинокая, беспомощная и растерянная. Я стояла тогда и только повторяла себе: если он будет это делать, не сопротивляйся, не сопротивляйся. Я готовилась уже сказать, делайте что хотите, только не убивайте меня. Не убивайте меня, и вы сможете это повторить снова. Вроде как я произведена для многократного употребления. И не линяю при стирке... Все оказалось по-другому. Когда он вошел, он лишь встал около двери, очень застенчиво и неловко, и я сразу, как только увидела его лицо без шляпы, узнала его. У меня хорошая зрительная память, в этом я уже много раз убеждалась, лица людей я запоминаю непроизвольно. Я вспомнила, что он был клерком в городском муниципальном банке и выиграл баснословную сумму денег. Его фотография была в газете. Мы тогда еще все решили, что встречали его около банка. Он пытался это отрицать, но стоял весь красный. Он краснеет ото всего. Спровоцировать его ничего не стоит. Типичное лицо обиженного или «страдальца». Само воплощение страдания. Робкий и застенчивый, как овечка. Нет, скорее как жираф. Как долговязый, неуклюжий жираф. Я огорошила его вопросами, не дав ему даже времени собраться с мыслями, и испугала его этим насмерть, и единственное, что он смог сделать в этой обстановке, — только смотреть на меня с каким-то упреком, будто я спрашивать не имею права. Будто уж э т о г о он совсем от меня не ожидал. Он никогда не имел дела с девушками. Во всяком случае, с такими, как я. Лилейный мальчик-с-пальчик, этакий недотрога. Ростом он под метр восемьдесят. Сантиметров на двадцать выше меня. Тощий, поэтому кажется еще выше, чем есть. Нескладный. Руки слишком большие, отвратительно телесного, бело-розового цвета. Не мужские руки. Кадык слишком большой, кисти слишком большие, подбородок совсем уже огромный, верхняя губа обрублена, ноздри, сбоку красные. Аденоиды. 97 Смешно говорит в нос, как раз та манера, посредством которой необразованные люди стараются казаться образованными. От этого еще больше проигрывает. Лицо слишком длинное. Блеклые черные волосы. Вьющиеся, зачесанные назад, совершенно по-плебейски. Скованный. Постоянно сдержан. На нем всегда пиджак спортивного покроя, и фланелевая рубашка, и галстук. И даже запонки. Он как раз из таких, кого называют «положительными молодыми людьми». Абсолютно бесстрастный. Выглядит, по крайней мере, так. Имеет манеру стоять, свесив руки по бокам или держа их позади себя, как будто вообще не зная, что ими можно делать. Предупредительно ждет моих приказаний. Глаза рыбьи. Они наблюдают. И это все. Никакого выражения. Он так и провоцирует меня быть капризной. Вести себя как вздорная богатая клиентка — а он продавец в отделе тканей. Это, его линия поведения. Притворно смиренный. Виноват — простите. Я сижу, ем, читаю книгу, а он н а б л ю д а е т меня. Я говорю ему «иди» —он идет. Он следил за мной тайно около двух лет. Он любит меня безнадежно, он очень одинок и знал, что я всегда буду «выше» его. Это было жутко, он говорил так неуклюже, у него привычка всегда стараться обойти суть дела, ходить вокруг да около и все оправдываться. Я сидела и слушала. Я не могла поднять на него глаза. Это было то, что в его душе. Угадывалось как сквозь чудовищно толстую мандариновую корку. После того, как он кончил, мы долго молчали. Когда он поднялся, чтобы идти, я постаралась сказать ему, что я все поняла, что я никому не скажу, если он меня отпусти домой, но он лишь еще больше заторопился. Я постаралась выглядеть очень сочуствуюшей и понимающей, но эти, видимо, его только испугало. На следующее утро я попробовала снова, я узнала, как его зовут гнусное совпадение, - я все объяснила ему очень толково, я строила ему глазки, я старалась его обворожить, и опять это повергло его только в страх. Во время ленча я сказала ему, что вижу, что он уже стыдится своего поступка, он уже раскаялся, и еще не слишком поздно... Пытаешься подействовать на его совесть, взываешь к сознанию, но это не срабатывает совершенно. Да, я стыжусь, скажет он; я знаю, что мне должно быть стыдно, скажет он. Я объяснила ему, что он не похож на безнравственного человека. Он сказал, это единственная безнравственная вещь, которую он сделал в своей жизни. Вероятно, так и есть. Но все равно это самооправдание. 98 Иногда он мне кажется очень умным. Он старается подкупить меня, вызвав к себе сочувствие, изображая из себя жертву обстоятельств, зажатую в тиски постоянных неудач и невезучести. Этим вечером я попробовала держать себя с ним не совсем прилично, как этакая стерва, вздорно, капризно. Он только принял еще более, чем прежде, несчастный вид. У него очень хорошо получается принимать вид несчастного. Опутывая меня паутиной этой своей «несчастности». Этой своей непринадлежности к моему «классу»… Я вообще-то знаю, кто я для него. Бабочка, которую он всегда мечтал поймать. Я вспомнила, как Д. П. говорил — это было в первый раз, когда я встретилась с ним, — что коллекционеры есть худшая из всех пород двуногих скотин. Он говорил о коллекционерах в искусстве, конечно. Я тогда это не очень-то поняла, я думала, что он просто рисуется, пытается своей циничностью и грубостью произвести впечатление на Каролину, да и на меня тоже. Но он, конечно, был прав. Это антижизнь, атиискусство, анти-, что бы там ни было. Я пишу в этой жуткой, как бесконечная ночь, тишине, как будто со мой все нормально. А ведь это не так. Мне так плохо, так одиноко, так страшно. Одиночество невыносимо. Каждый раз, когда дверь открывается, мне хочется броситься туда и бежать. Но я знаю, что должна терпеть до поры до времени и таиться. Чтобы усыпить его бдительность. Все продумать наперед и использовать момент внезапности. Выжить. 16 октября Полдень. Мое место среди живых людей. По-прежнему ли существует мир? По-прежнему ли светит солнце? Этой ночью я почувствовала себя мертвой. Это и есть как смерть. Это преисподняя. В аду как раз и не должно быть больше других людей. Или только один, похожий на него. Дьявол не может быть еще дьяволистее и безобразнее. Еще отвратительнее... Я рисовали его сегодня утром. Я хотела уловить на его лице как раз это, чтобы проиллюстрировать. Но ничего не вышло, и рисунок ему понравился. Он сказал, что заплатит за него д в е с т и гиней. Сумасшедший. И это все я. Я его сумасшествие... Годами он выискивал, на кого бы излить это свое сумасшествие, и выбрал меня. Я не могу писать в этом вакууме. И не для кого. Когда я рисую, например, я всегда думаю о ком-нибудь вроде Д. П., стоящем за моим плечом. 99 Всем родителям надо быть похожими на наших, тогда сестры вырастут действительно настоящими сестрами. Они вынуждены быть друг для друга тем, чем стали мы с Минни. Моя милая Минни. Я здесь провела уже целую неделю, и мне очень не хватает тебя, и мне не хватает воздуха и новых лиц, всех тех людей, которых я так ненавидела, сталкиваясь с ними в метро, новостей, всего того живого, что случается каждый день на каждом шагу, если только ты имеешь возможность в этом участвовать.. Живой жизни. И чего мне не хватает больше всего — это живого света. Я не могу жить без него. Искусственное освещение лжет и почти заставляет тебя страстно желать, чтобы лучше уж вообще не было никакого света. Я не рассказала тебе как я пробовала бежать. Я думала об этом всю ночь, не могла спать, было так душно, да еще животик мой разболелся – он старается готовить как можно лучше, насколько это в его силах, но все бесполезно. Я сказала ему, что у меня что-то случилось с кроватью, он полез посмотреть, а я вскочила и побежала. Но я не смогла открыть наружную дверь, запертую на ключ изнутри, и он поймал меня в другом подвале. Но я видела через скважину дневной свет. Он предусматривает абсолютно все, он такой пунктуальный. Но это все равно того стоило. Скважина дневного света за семь дней заключения. Затем я три дня третировала его, предоставляя ему обозревать мою спину и наблюдать мою дутую физиономию. Я голодала. Я спала, когда была уверена, что он не войдет, я поднималась и немножко танцевала, я читала книги, пила воду. Но к еде не притрагивалась. И я принудила его установить срок. Его условиями были шесть недель. Неделю назад мне и шесть дней показались бы вечностью. Я поплакала. Заставила снизить срок до четырех. Но менее жутко мне с ним не стало. Я изучила каждый сантиметр этого мерзкого тесного погреба, я уже начинаю обрастать им, как обрастают каменными панцирями все эти черви в реках. Но четыре недели - это еще не самое главное. У меня пропала энергия, воля, во мне нет силы, у меня во всех смыслах запор. Минни, вчерашний поход с ним наверх. Самое первое — это наружный воздух. Быть в пространстве большем, чем три на три и на шесть — я вымерила ужа все это, и быть под звездами, и дышать этим восхитительным, восхитительным, пусть даже сыро и туманно, восхитительным воздухом. Я подумала о том, что можно было бы побежать. Но он держал мою руку крепко, и я была связана и с кляпом во рту. Было так темно. Так пустынно. Ни огонька. Только тьма. Я даже не знала, в какую сторону бежать... 100 Дом — старый коттедж. Мне кажется, что снаружи он должен быть деревянным, внутри полно деревянных балок, полы прогнувшиеся, и потолки очень низкие. Славный старый дом, действительно славный, и обставлен в «самом хорошем вкусе», согласно лучшим женским журналам. Плебейские мертво-бледные обои, смесь разных стилей, разнородная мебель, полно всякой провинциальной чепухи, поддельные антикварные статуэтки, совершенно жуткие латунные украшения. И картины! Ты не поверишь мне, если я опишу тебе всю чудовищность этих картин. Он назвал мне несколько фирм, которые обставляли его дом. Должно быть, они избавились от всего хламья, какой только смогли найти в своих запасниках. Ванная была прелестна. Я понимала, что он мог вломиться в любую минуту — на двери никакого замка, даже прикрыть ее нельзя плотно, подсунута и привинчена какая-то деревяшка, но в то же время я почему-то была уверена, что врываться он не будет. И было так приятно видеть полную ванну горячей воды и настоящий туалет, которым я почти и не воспользовалась. Я его заставила ждать долго. Снаружи, по-рыцарски. Похоже, у него ничего не было в мыслях. Он был «хорошим». Но я придумала способ, как послать весточку. Можно опустить в унитаз какой-нибудь пузырек с запиской. Можно еще привязать к нему яркую ленту. Вдруг в один прекрасный день кто-нибудь где-нибудь ее увидит. В следующий раз я это сделаю обязательно. Я надеялась услышать машины, но их не было. За все время ни одной. Слышала сову. И самолет. Если бы люди знали, над чем они пролетают. Мы все как люди в этом самолете. К окну ванной привинчены доски. Огромными шурупами. Я везде искала себе что-нибудь вроде оружия. И под ванной, и за трубами. Но нигде ничего. _Да если б я и нашла, не знаю, как бы смогла его применить. Я слежу за ним, он следит за мной. И мы никогда не предоставляем друг другу удобного случая. Он на вид не очень сильный, но все же намного меня сильнее. Тут может помочь только внезапность. Все закрыто и перезакрыто, он такой пунктуальный. Он даже на двери моей камеры повесил колокольчик, Предусматривает все. Я думала послать записку в прачечную, но он ничего не отсылает. Когда я спросила о простынях, он сказал, я куплю новые, скажите только, когда вам понадобятся. Минни, я пишу не тебе, я просто разговариваю сама с собой... Когда я вышла, надев наименее жуткую кофточку из тех, которые он для меня купил, он поднялся. Он все это врямя сидел у двери. И тут я почувствовала себя девушкой на балу, появляющейся из парадной двери. Я просто его потрясла. Я думаю, это все из-за того, что он увидел на мне свою рубашку. И еще из-за моих распущенных волос. 101 А возможно, просто из-за того, что я сняла повязку со рта. Как бы там ни было, я улыбнулась, пококетничала, я он разрешил мне остаться без кляпа и позволил осмотреть дом. Но был все время рядом со мной, и я понимала, что, как только сделаю малейшее подозрительное движение, он меня тотчас схватит. Весь верхний этаж, ванные комнаты — просто чудо, но все очень старомодное, и нежилое, и имеет странный мертвый вид. Внизу комната, которую он называет «зал», очень хороша, просто превосходна, она намного больше других и неожиданно кажется совершенно правильной формы, несмотря на огромную поперечную балку, поддерживаемую тремя колоннами, стоящими прямо посередине комнаты, потом все эти остальные поперечные балки, и эти закоулки, очаровательные укромные уголки, которые у архитекторов получались только раз в тысячелетие. И все, конечно, задавлено, уничтожено новой обстановкой. Дикие утки на прелестном старом камине. Их я уже не могла стерпеть, я заставила его перевязать мне руки, чтобы они были спереди, и потом сорвала эти чудовища и разбила о каминную плиту. Это на него подействовало почти так же, как мой недавний удар по лицу, в тот раз, когда я влепила ему пощечину за то, что он не дал мне убежать. Это меня совсем разъярило. Он будто специально напрашивается на то, чтобы его высмеивали, дергали, щипали, дразнили. Мне даже захотелось кривляться, улюлюкать, прыгать вокруг него. Он такой неповоротливый, скучный, безжизненный. Как цинковые белила. Я понимаю, что это у меня реакция на его деспотизм, на эту его особую форму тирании. Он просто вынуждает меня вытворять над ним всякие мелкие пакости. Худший вид тирании — это тирания слабых людей. Так Д. П. сказал однажды. Заурядная личность — это пагуба цивилизации. Но он настолько заурядный, что этим даже незауряден. Он, например, фотографирует. Он хочет сделать \мой «портрет». Потом, эти его бабочки, которые, я должна признаться, довольно красивы. Да, хорошо, красиво обработаны, аккуратно засушены, с этими их слабенькими маленькими крылышками, развернутыми у всех под одним и тем же углом. И я посочувствовала им, бледным мертвым бабочкам, моим собратьям по несчастью. И особенно гордится он теми бабочками, которых называет н е т и п и ч н ы м и ! Когда мы спустились вниз, он разрешил мне постоять и посмотреть, как он заваривает мне чай — это в наружном подвале, — и сказал что-то забавное, заставил меня рассмеяться или почти рассмеяться Ужасно. Я вдруг осознала, что тоже становлюсь сумасшедшей и что он дьявольски хитрый. Он уже выбросил из головы все, что я наговорила ему про него, и то, что я разбила этих его чудовищных уток, и шутит со мной 102 — это сумасшествие, ведь он похитил меня, — и заставляет над собой смеяться, и наливает мне чай в чашку, как лучшей своей подруге. Я устроила ему хорошую сцену. Я целиком дочь своей матери. Такая же стерва. Вот такие дела, Минни. Я хотела бы, чтобы ты была здесь, и мы могли бы поговорить с тобой в темноте. Если бы только можно было поговорить с кем-нибудь всего несколько минут. С кем-нибудь, кого любишь. Я заставляю себя держаться гораздо бодрее, чем я есть на самом деле. Я опять начинаю плакать. Все это т а к несправедливо. 17 октября Мне противно то, какой я стала. Я слишком быстро со многим смирилась. Во-первых, я все время думала, что должна следить за собой и заставлять себя быть с ним только в деловых отношениях, не поддаваться его сумасшествию. Но он мог спровоцировать и это. Он заставляет меня держаться в точности так, как ему нужно. Это не просто немыслимая ситуация. Это немыслимое отклонение от немыслимой ситуации. То есть вот сейчас он подавил меня своим благородством, он не делает того, чего каждый ожидал бы от него. И это вынуждает меня испытывать к нему фальшивую признательность. Я так одинока. Он же понимает это. Ему так легко всего добиться. Я на грани. Я совсем не так спокойна, как кажусь, если почитать все эти записки... Еще столько времени. Нескончаемый, нескончаемый, нескончаемый срок… Все, что я пишу, неестественно. Это примерно то, когда люди вымучивают из себя фразы, чтобы не дать заглохнуть разговору. Совершенно противоположная вещь рисованию. Там проводишь линию, и сразу видишь, хорошо она или нет. А тут выводишь строчку, и она всегда кажется такой правильной, а потом еще и прочесть ее можно… Вчера вечером ему захотелось меня сфотографировать. Я разрешила. Я подумала, вдруг по какой-нибудь его небрежности фотографии кто-то увидит. Но мне кажется, он живет совершенным бирюком. Должен, по крайней мере. Наверное, провел весь вечер, печатая фотографии. (Что бы ему отдать их в мастерскую! Но на это я и не надеюсь…). Перевел меня вспышкой на глянцевую бумагу. Не люблю искусственный свет. От него болят глаза… Весь день сегодня ничего существенного не происходило, за исключением того, что мы пришли к определенному соглашению относительно моего моциона. Он разрешил мне выходить пока еще не на улицу — в наружный подвал. Я чувствовала в себе какое-то раздражение, 103 и поэтому попросила его уйти сразу после ленча, и то же самое — после ужина, и он оба раза ушел. Он исполняет все, что ему ни скажешь. Он купил мне проигрыватель и пластинки, и все из того огромного списка, который я ему вручила. Ему нравится для меня покупать. Мне разрешается просить все, что угодно. За исключением свободы. Он дал мне дорогие швейцарские часы. Я сказала, что попользуюсь ими, п о к а я з д е с ь , и отдам их назад, когда уйду. Я заявила ему, что не могу больше выносить этот апельсиновый палас, и он купил мне три индийских коврика и прекрасный темно-бордовый, оранжевый с умброй и белый по краям турецкий ковер — он сказал, это все, что у «них» было, так что покупка не говорит о его хорошем вкусе. Ковер придал погребу жилой вид. Пол мягкий и пружинистый. Все эти пепельницы, вазы и плошки я переколотила. Не должно существовать в мире уродливых украшений. Я повелеваю тут. Разумеется, я сознаю, что это звучит дико и безумно самонадеянно. Но это действительно так. И получается, что положение заставляет меня держаться с достоинством и честью. Я чувствую, что обязана все время показывать ему, как порядочные люди должны вести себя и жить. Он само воплощение уродства. Но нельзя же расколотить человеческую уродливость. Три дня назад вечером случилась странная вещь. Я так взвинчена жизнью в этом склепе. Едва удается держать себя в руках. И вдруг все это совершенно неожиданно показалось мне таким великолепным, грандиозным приключением, о котором в скором времени мне будет приятно рассказать знакомым людям. Что-то наподобие игры со смертью, из которой я вышла невредимой. Восхитительно острое ощущение завершенности приключения. Будто он уже отпускает меня. Сумасшедшая. Я дала ему имя. Я теперь буду называть его Калибаном. Пьеро. Провела с Пьеро весь день. Я прочитала о нем все. Я просмотрела все его репродукции в альбоме, я жила им. Как я могу стать хорошим художником, если так плохо знаю математику и геометрию? Надо заставить Калибана купить мне учебники. Я стану заправским геометром. Разрешу все сомнения насчет авангардистского искусства. Я подумала, что Пьеро стоит выше Джексона Поллока, нет, даже Пикассо, Матисса. Все, говорит Пьеро, в твоих руках. У тебя за манжетой, за пазухой. Я всегда это знала, это повторено всеми тысячу раз, говорила это и я. Но сегодня я это почувствовала. Я поняла, что весь наш век целиком — это подделка и обман. Все эти разговоры о ташизме и кубизме, о том изме и этом изме, все эти длинные слова, которые люди употребляют – все это 104 лишь мешанина слов и болтовня. Все это для того, чтобы уйти от главного, очевидного: можешь ты писать или нет. Я хочу писать, как Берта Морисот. Я не имею в виду ее цвета и формы, или еще что-то физическое, лишь так же просто и светло. Я не хочу быть умной, великой или «содержательной», или удостоенной чести всех этих топорных мужланских разборов. Я хочу написать солнечный свет на детских лицах, или цветы в заборе, или улицу после апрельского дождя. Суть. Не вещи сами по себе. Отблески света на простейших вещах. Или я сентиментальна? Тоска... Я так далеко от всего этого. От нормальности. От обычности. От света. От того, кем я хочу быть. 18 октября Д. П. Пишите всем своим существом. Это самое главное, чему надо научиться, остальное дело везения. Положительное решение: я не должна впадать в уныние. Сегодня утром я сделала целую серию быстрых набросков, рисуя вазу с фруктами. С тех пор как Калибаном овладело желание делать для меня покупки, я не забочусь о том, сколько бумаги я трачу. Я вывесила рисунки и попросила его выбрать лучший. Он, конечно, указал на те, на которых наиболее похоже была изображена эта несчастная ваза. Я начала объяснять ему (одним эскизом я по-настоящему гордилась). В конце концов, он утомил меня. Все это для него ничего не значило. По одному этому его ужасному «я полагаюсь на ваш выбор» уже было видно, что ему все безразлично. Для него я всего-навсего забавляющееся дитя. Глухой, глухой, иной мир. Это моя вина. Я была высокомерна. Как он мог что-то увидеть или оценить, как мог понять суть и очарование живописи — не моей, вообще живописи – если я была так заносчива. После ленча у нас с ним был «диспут». Долгий разговор. Он всегда спрашивает меня, может ли остаться. Иногда я чувствую себя настолько одиноко и плохо от собственных мыслей, что позволяю ему. Я даже х о ч у , чтобы он остался. Что делает тюрьма. Бежать, бежать, бежать. Разговор возник из-за вопроса о ядерном разоружении. У меня были сомнения еще недавно. Но не теперь. Диалог между Мирандой и Калибаном. М. (Я курила, сидя на своей кровати. Калибан на своем дежурном стуле у железной двери, за дверью шумел вентилятор). Как вы относитесь к существованию ядерной бомбы? К. Вобщем-то, никак. 105 М. Но вы должны всё же что-нибудь думать на этот счет. К. Надеюсь, она не упадет на меня. Или на вас. М. Мне кажется, что вы никогда не жили с людьми, воспринимающими вещи серьезно, и вообще ни разу в жизни серьезно не разговаривали ни с кем. (Лицо его приняло свое обиженное, страдальческое выражение). Что ж, давайте попробуем ещё раз. Что вы думаете о существовании атомной бомбы? К. Когда я говорю с вами серьезно, вы меня серьезно не воспринимаете. (Я продолжала смотреть на него, пока он не сказал: ну, тут же все ясно. С этим ничего не поделаешь. Это приходится принимать, и все.) М. Вас не беспокоит, что происходит с миром? К. Что изменится, если я начну беспокоиться? М. О, господи! К. Мы же тут не властны, мы ничего не можем. М. Смотрите. Если нас, тех, кто считает, что атомная бомба — это зло, и что ни одна порядочная нация, как бы там ни было, не может и думать применять её, ни при каких обстоятельствах, если нас, таких, достаточно, то правительство обязано будет что-то предпринять. Разве не так? К. Это все надежды, если вы меня спрашиваете. М. Как вы думаете, с чего началось христианство? Или с чего начинается все? с маленькой группы людей. Которые не теряют надежды. К. А ёсли случится, что придут русские, что тогда? М. (Хороший вопрос, он думает.) Если придётся выбирать между тем, чтобы сбросить на них бомбу, и между тем, чтобы пустить их к нам завоевателями, то тогда второе, в любом случае. К. (Шах и мат) Это пацифизм. М. Конечно, пацифизм, мистер великий чурбан. Между прочим, да будет вам известно, что я от начала до конца прошла весь путь от Алдермастона до Лондона, участвуя а в марше протеста, в марше за ядерное разоружение. Да будет вам известие, что я трачу колоссальное количество времени на то, чтобы распространять листовки, подписывать конверты и спорить с такими же жуткими чурбанами, как вы, которые тоже ни во что не верят. К. Это ничего не доказывает. М. Поистине можно прийти в отчаяние от столь чудовищного недостатка сочувствия, любви, благоразумия и мире (я немножко передергиваю, а не говорила всего этого, но я собираюсь написать и все, что я говорила, и все, что только хотела сказать). На самом деле придешь в отчаяние оттого, что никто даже не удосужится серьезно порассуждать о самой сути применения атомного оружия и возможности существования права дать приказ на его применение. Поневоле придешь в отчаяние оттого, что нас, беспокоящихся об этом, так мало. Что столько жестокости и бездушия в мире. Оттого, что абсолютно нормальные молодые люди 106 могут совершать абсолютно преступные, немыслимые поступки только потому, что у них появилось много денег. И потом делать все то, что вы со мной делаете. К. Я так и думал, что вы к этому подведете. М. Да вы только часть всего этого. Все свободное и по-настоящему порядочное всегда заключено в таких вот вонючих грязных погребах ужасными людьми, которые ни о чем не беспокоятся. К. Я понимаю, к чему вы клоните. К этим вашим великим идеям. Вы думаете, что весь этот ваш прекрасный мир устроен для того, чтобы все в нем шло, как вы для него придумали. М. Не будьте ребенком. К. Я был солдатом в армии. Не надо мне говорить. Моя «великая идея» — выполнять то, что мне сказано. (Это у него действительно хорошо получается). И без нужды не высовываться. М. Вам уже нельзя ставить себя в пример. Вы теперь иной, вы теперь богатый. Теперь вы уже далеко не солдат армии. К. Деньги тут ничего не меняют. М. Вам никто не может приказывать, заставлять. К. Вы не понимаете меня вообще. М. Наоборот, даже очень хорошо понимаю. Вы себе ставите в заслугу, что вы не какой то там барчук или щеголь, но это только потому, что вы не можете быть таким. Вы хотите представить это достоинством, а это неспособность. Потому что вы весь забитый, никчемный, замызганный, вы вот даже слово-то правильно не можете выговорить по-английски. И вы все это чувствуете, и ненавидите свою ограниченность, и единственное, что делаете, это канючите, ворчите, брюзжите. Кто-то проходит, все вокруг ломает и рушит, а вы только сидите и дуетесь и говорите, пропади он пропадом, этот мир. Палец о палец не ударю больше для человечества. Буду думать только о себе, а мир — пусть хоть провалится... Но что вам-то строить из себя, что вам-то дуться, чем конкретно недовольны вы? (Это все равно, что бить и бить человека по лицу, бить не переставая, до судорог). И откуда вы можете знать, что деньги не играют роли и не могут ничего изменить, если вы никогда ничего и не пробовали? Понимаете, наконец, о чем я говорю? К. Понимаю. М. Ну и?.. К. Ну... и вы правы. Как всегда М. Вы снова пытаетесь иронизировать? К. Вы как моя тетя Энни, честное слово. Она тоже любит говорить, что люди совсем другие стали в наши дни. Ни о чем не беспокоятся, и все такое. М. Складывается впечатление, что вы считаете все происходящее нормальным явлением. Будто так и надо. 107 К. Вы будете допивать стой чай? М. (Сверхчеловеческое усилие.) Слушайте. В порядке довода. Всем известно, что бы ты ни делал, что бы ни предпринимал в обществе, как бы ни старался, ничего никогда из того не получается Все бессмысленно. Парадоксально, но это не должно быть камнем преткновения. Потому что дело в самом тебе. Я не верю, например, что антиядерное движение как-то уж особенно влияет на правительство. И это первое, в чем надо мужественно себе признаться. Но мы все равно участвуем в маршах протеста. Чтобы сохранить уважение к себе, чтобы доказать самим себе, каждый самому себе или себе самой, что мы не равнодушные, что мы стараемся, беспокоимся. И чтобы показать другим ленивым, брюзжащим, разуверившимся, таким, как вы, что есть люди, которые борются, стараются, беспокоятся! Мы пытаемся этим пристыдить таких, как вы, заставить думать и, в конце концов, действовать. (Молчание. Тогда я закричала.) Скажите что-нибудь! К. Я понимаю, что все это плохо. М. Тогда делайте что-нибудь! (Он испуганно поднял на меня глаза, как будто я велела ему отправляться на Северный полюс или переплыть океан.) Слушайте. Один мой друг участвовал в таком марше, закончившемся на американской авиабазе в Эссексе. Знаете о такой? Им, конечно, пришлось остановиться у ворот, и через некоторое время появился сержант охраны и стал говорить с ними, и они начали спорить, и спор был жарким, потому что сержант был уверен, что они, американцы, пришли сюда, как рыцари в старые времена приходили защищать честь оказавшихся в беде девиц. Что атомные бомбы абсолютно необходимы и так далее. Постепенно, во время спора, участники марша начали осознавать, что этот американец им все больше нравится. Потому что он был истинно убежден в своих взглядах, чувствовал свою правоту и был искренен. И не один мой друг почувствовал эту симпатию к сержанту. Они все пришли к этому в конце концов. Единственная стоящая вещь — это чистота побуждения, вера и жизнь в соответствии с этой верой и побуждениями. Конечно, если цель твоих побуждений нечто большее, чем собственное благополучие. Мой друг говорил, что этот американец был ему ближе, чем вся эта толпа скалящихся идиотов, которые провожали их выкриками, когда они шествовали туда своей процессией. Это как игра в футбол, две команды борются, страстно желая победить одна другую, могут даже ненавидеть друг друга в процессе игры. Но ясли кто-то придет и скажет, что игра отменяется и что футбол — это вообще глупость и не стоит в него играть, команды сразу станут друзьями, потому что в душе они едины. Чувство, чистое побуждение, вот что главное, понятно это вам? К. Я думал, мы говорим о ядерной бомбе. М. Уходите. Вы меня измотали. Вы как море, как океан ваты. 108 К. (Он тотчас поднялся.) Очень приятно было с вами побеседовать. Я обязательно подумаю над этим. М. Да ни над чем вы не станете думать. Все, что я сказала, в одно ухо у вас вошло, а в другое вылетело и исчезло навсегда. К. А если я захочу послать чек для... на эту идею… какой адрес? М. Чтобы купить мое расположение? К. Что в этом плохого? М. Нам нужны деньги. Но вера, убеждение нам нужны гораздо больше. Но я не думаю, что в. вас возникло искреннее желание присоединиться к этому движению. В этой игре не бывает выигрышных чеков К. (После долгого неловкого молчания.) До скорой встречи тогда. (Настоящий Калибан. Я отколошматила свою подушку с такой силой, что она до сих пор еще глядит на меня укоризненно.) (Этим вечером — я понимала, что могла и должна была это сделать, — я добила его, я его убедила выписать чек на сто фунтов, который он обещал отослать завтра. И я знаю, что это правильно. Еще год назад я бы до конца стояла на своем, придерживаясь своих принципов с позиции строгой морали. Как майор Барбара. Но главное все же то, что нам нужны деньги. И неважно, откуда они приходят и почему они посланы.) 19 октября Я была на улице... Весь день я занималась копированием — с Пьеро — и дорисовалась до такого состояния, в котором в нормальной обстановке я обязательно пошла бы куда-нибудь, в кино, в кафе, куда угодно. Но только вон из дома. И я уговорами, обещаниями, чуть ли не запродав свою душу, заставила его вывести меня на улицу. Свяжите меня всю, но только выведите, сказала я. Он завязал мне руки, рот, взял меня за локоть, и мы прогулялись по саду. Какой огромный сад. Было совершенно темно, и я едва различала тропинку и близко стоящие деревья. И ни души, ни дома вокруг. В самом деле, где-то в сельской местности... И вдруг я почувствовала в темноте, что с ним что-то происходит. Я его не видела, но вдруг его испугалась. Я вдруг отчетливо поняла, что он хочет меня поцеловать или что-то еще хуже. Он пытался что-то произнести, что-то о своем счастье, и голос у него был сдавленный. Потом сказал — я, конечно, не могу себе представить, что его чувства могут быть настоящими, но, тем не менее, они у него именно такие. Я не могла отвечать, и это было самое страшное. Мой язык — это моя защита в нормальной обстановке. Мой язык и мой взгляд. А здесь я была лишена и 109 того, и другого. Потом наступило молчание, и я, так же внезапно, почувствовала, что он справился с собой. Все это время мы шли по прекрасному саду, и я дышала чудесным наружным воздухом. Он был так хорош, так хорош, что я не могу даже описать это. Такой настоящий, живой, полный запахов листвы, земли, деревьев и тысячи других загадочных влажных запахов ночи. Потом появилась машина. Оказывается, перед домом есть дорога, которой пользуются. Все время, пока доносился звук мотора, он крепче сжимал мою руку. Я молила Бога, чтобы машина остановилась. Но огни ее промелькнули где-то позади дома. Хорошо, что я подумала об этом заранее. Ведь если я попробую бежать и у меня не получится, он никогда больше не выпустит меня на улицу. Потому мне нельзя хвататься за каждый подвернувшийся случай. Кроме того, я тут, снаружи, вдруг поняла, что он скорее убьет меня, чем позволит от него отделаться. Если, скажем, я вот возьму и побегу. Впрочем, я и не могла бы этого сделать, он держал мою руку как клещами. Но это все-таки ужасно. Видеть, что люди так близко. И понимать, что ничего нельзя сделать. Он спросил, не желаю ли я пройтись еще раз. Но я отказалась. Я была слишком напугана. Уже здесь, внизу, я сказала ему, что хочу несколько прояснить вопрос эротики. Я сказала ему, что если он вдруг захочет меня изнасиловать, я позволю ему это без всякого сопротивления, позволю ему сделать со мной все, что угодно, но только я уже никогда не буду разговаривать с ним. И я сказала, что знаю, ему самому потом будет стыдно. Несчастное создание, он выглядел таким пристыженным, будто уже и на самом деле сделал это. Уверял — то была «всего лишь минутная слабость». Я заставила его пожать мне руку, но я больше чем уверена, что, когда он выбрался за дверь, он вздохнул с таким огромным облегчением, какого не испытывал никогда в жизни. Никто не сможет поверить в такую ситуацию. Я здесь самая настоящая, без всяких скидок, заключенная. Но в то же время я здесь и повелительница. И я догадываюсь, что он сознательно потворствует такому положению вещей и такому моему самоощущению. Это его дополнительное средство удержать меня от проявления недовольства, которое во мне естественно должно накапливаться. Он учитывает и использует все мои пороки и слабости. Надо признаться, это во мне есть. Прошлым летом, когда я вот так же нянчилась с этим несчастным бедолагой Дональдом, я очень возмутилась, когда он сбежал от меня в Италию. Я уже начала чувствовать — он мой, я его уже совершенно знаю. И мне очень не понравилось, что он так вот уехал, ничего не сказав мне. И не потому, что я на самом деле любила его, просто 110 он был уже более или менее мой, и на тебе — не спросил моего разрешения Он меня держит в полной изоляции. Ни газет, ни радио. Ни телевизора. Новостей мне не хватает страшно. Я раньше никогда особо не интересовалась ими. Но сейчас у меня начинает закрадываться такое ощущение, что мир перестал существовать. Я каждый день прошу его принести мне какую-нибудь газету, но это одна из тех вещей, которые мне просить не положено, тут он уперся намертво, и его не сдвинуть никак. И без всякой причины. Это даже странно, я поняла уже, что с таким же успехом я могла бы, например, просить его отвезти меня на ближайшую станцию Но я буду просить. Все равно. Он поклялся, что отправил чек в фонд антиядерного движения, но я не уверена. Надо будет спросить у него расписку. Маленький эпизод. Сегодня в ленч я попросила вустерский соус. Он практически никогда не забывает ничего из того, что я люблю. Но тут забыл соус. Поэтому он встал, подошел к двери, открыл замок, который держит дверь распахнутой, запер за собой дверь, взял соус в наружном подвале, открыл дверь, снова закрепил ее и уже тогда поставил соус на стол. И потом еще выглядел очень удивленным, когда я расхохоталась. Он никогда не нарушает установленный порядок раскрывания и закрывания двери. Ведь даже если я попаду в наружный подвал несвязанная, что я смогу сделать? Я не смогу закрыть его внутри, я не смогу выбежать наружу. Единственный шанс для меня появляется в тот момент, когда он входит с подносом в руках. Иногда у него не получается, сразу закрепить дверь. В этом случае если бы я смогла пробежать позади него, то я имела бы возможность захлопнуть дверь и закрыть ее на засов. Но он никогда не отходит от двери, если я нахожусь поблизости. Обычно я подхожу и сама беру у него поднос. Один раз я специально не стала брать. И лишь осталась стоять недалеко от выхода, прислонившись к стене. Он сказал: «Отойдите, пожалуйста». Я лишь молча смотрела на него. Некоторое время он стоял в нерешительности. Потом очень осторожно, не переставая глядеть на меня, наклонился и поставил поднос на ступеньки. И снова вышел в наружный подвал. Я была голодна. Он победил. Ничего не помогает. Не могу заснуть. Странный какой-то был сегодня день. И до сих пор мне все кажется странным. Он сделал утром очень много моих фотографий. И я вижу, что он действительно получает удовольствие, фотографируя меня. Ему нравится, 111 когда я в кадре улыбаюсь, поэтому я два раза специально делала ему свирепые рожи. Но это совсем его не рассмешило. Тогда я подняла одной рукой волосы, откинулась назад и изобразила из себя натурщицу. «Вам бы пошло быть натурщицей», — сказал он. Причем вполне серьезно. Он совершенно не понял, что это я просто шутила. Вообще-то я понимаю, почему ему нравится меня фотографировать. Он думает, что это делает его в моих глазах кем-то сродни художникам. Ну и конечно, он упускает самое главное, вернее, не понимает, что должно быть что-то еще. Он просто наводит на меня фокус, и все, никакой фантазии. Чудовищно. Непостижимо. Но у нас с ним существуют своего рода отношения. Я высмеиваю его, распекаю, но он прекрасно чувствует, когда я «добрая». Когда он может расправить крылышки и выпрямиться во весь рост, не возбудив во мне раздражения. И таким путем наше общение принимает уже форму поддразнивания-подтрунивания, которая уже есть чуть ли не дружелюбие. Отчасти это оттого, что я здесь так одинока, а отчасти делается мною сознательно: мне надо заставить его почувствовать себя просто, раскованно и ради него самого, ну и с корыстной целью дождаться однажды момента, когда он потеряет бдительность, — так что это в чем-то слабость и в чем-то хитрость, а в чем-то и человеколюбие. Но существует еще и таинственное четвертое, что я не в состоянии определить. Но ведь это не может быть дружеским чувством, он мне так отвратителен. Возможно, это просто знакомство. Просто знание о нем очень многого. А знание многих мелочей о ком-то поневоле предполагает близость. Даже если твое единственное и постоянное желание — чтобы этот человек был где-нибудь в преисподней. Первые дни я ничего не могла делать, если он находился в комнате. Я притворялась, что читаю, но не могла сосредоточиться. А сейчас я даже иногда забываю, что он находится здесь. Он сидит около двери, а я читаю в своем кресле, и мы как два человека, которые прожили в супружестве множество лет. Это не значит, что я забыла, какими бывают другие люди. Но здесь все они стали казаться нереальными. И единственный реальный человек теперь в моем мире — Калибан. Понять это невозможно. Просто это есть, и все тут. 20 октября Девять часов утра. Я только что совершала попытку бегства. На этот раз я сделала так: надо было выждать момент, когда он вытащит засов и потянет дверь на себя. И в это время надо было, как можно сильнее толкнуть дверь ему навстречу. Она обита железам только с моей стороны, сама же деревянная, но тяжелая она все равно. Я подумала, что, 112 может быть, я смогла бы сбить его и оглушить ею, главное было правильно выбрать момент. И вот, как только дверь начала открываться, я что есть силы толкнула ее вперед. Его отбросило, и я рванулась наружу, но все, конечно, строилось на том, что удар лишит его сознания. Но на это даже намека не было. Должно быть, вся сила удара пришлась ему в плечо, дверь очень туго открывалась. Как бы там ни было, он поймал меня за кофту, и на какую-то секнуду-другую я почувствовала глубинную суть его «я». Это жестокость, ненависть и непоколебимая решимость ни за что меня не отпускать. Поэтому я сказала:«0'кей, все в порядке», — выдернула у него кофту и вошла назад в комнату. Он произнес мне же больно, вы могли меня покалечить. Я ответила «Тем, что вы держите меня здесь, вы непрерывно делаете мне больно». «Я думал быть пацифистом - это значит не причинить вреда людям». Я лишь отвернулась и закурила. Но руки у меня дрожали. Он проделал весь свой утренний церемониал в молчании. Один раз потер себе плечо с явным прозрачным намеком. И на этом все кончилось. Теперь я собираюсь вплотную заняться поисками слабого места в стене, каких-нибудь качающихся камней. Вариант подкопа. Я и прежде, конечно, смотрела, но не очень тщательно, а надо буквально камень за камнем, каждую стену сверху до низу. Сейчас вечер. Он только что ушел. Приносил мне еду. Но все в совершенном молчании с упреком и выражением на лице. Я искренне рассмеялась ему в спину, когда он уходил, унося с собой поднос и посуду. Честное слово, он ведет себя так, точно я обязана испытывать угрызения совести. На трюк с дверью он теперь уже не поддается. И как назло, ни одного слабо держащегося камня. Все сплошь хорошо забетонировано. Я подозреваю, что он и это предусмотрел, как я все остальное. Сегодня я почти весь день думала. Размышляла. В основном о себе. Что со мной станется? Будущее мне еще никогда не представлялось таким расплывчатым. Что меня ждет? Что со мной будет? И не только сейчас, учитывая теперешнее мое положение. Когда и выйду отсюда. Что я буду делать тогда? Я знаю, что хочу выйти замуж, хочу иметь детей, хочу доказать самой себе, что не во всех семьях отношения между супругами должны быть похожими на отношения П. и М. Я уже точно знаю, за какого человека согласилась бы выйти замуж: за человека с умом примерно таким, как у Д. П., но гораздо моложе, подходящего по возрасту, ну и нравящегося мне внешне. И без этих слабостей Д. П. Но, с другой стороны, мне хотелось бы найти применение своим знаниям и силам. Мне не хочется, чтобы мои способности пропадали даром, не принеся больше никому никакой пользы. Я хочу 113 творить красоту. И поэтому замужество и материнство меня в то же время и пугают. Уйти целиком в этот мир домашних дел, в хлопоты, в воспитание детей, в стряпню, в хождение по магазинам. Кстати, у меня есть внутреннее чувство, что мое ленивое «я» даже обрадовалось бы такому положению вещей, радо было бы забыть о данном себе обещании свершить что-то в жизни, радо было бы обратиться в обыкновенную Ее Величество Домохозяйку. Или в мелкого ничтожного поденщика, в ремесленника, занимающегося каким-нибудь иллюстрированием или еще какой-то ерундой, выколачивая побольше денег на эксплуатации своих способностей с «благородным» оправданием «для дома, для семьи». Или стать такой же спившейся, прозябающей на свете дрянью, как М. (нет, такой мне не быть). Или хуже всего стать, как Каролина, чувствительной эстетствующей глупышкой, сходящей с ума по всему модернистскому искусству, по всем «новым» идеям, «передовым» людям, не имея возможности «сравняться» с ними, потому что в глубине души она совершенно чужда этому, хотя никак не может признаться в этом себе самой. У меня тут, внизу, много временя для размышлений. И я сейчас открываю такие вещи, о каких раньше даже и не задумывалась. Например, вот два открытия. Я никогда раньше не рассуждала о М. непредвзято, как о каком-то существующем отдельно человеке. Всегда она была моя мать, которую я ненавидела и которой стыдилась. А ведь из всех встреченных мной в жизни несчастных неудачников, заслуживающих того, чтобы их жалели, о них беспокоились и с ними нянчились, она, пожалуй, заслуживала этого больше всех. Я никогда в должной мере не пыталась сочувствовать ей. За весь последний год — с тех пор как я уехала из дома — я не уделила ей и половины того внимания, которым сейчас пользуется это варварское создание наверху. Сейчас бы я просто сокрушила ее своей любовью, затопила бы ею. Потому что так жалко мне ее не было уже много-много лет... Я всегда себя оправдывала, говорила себе — я добрая, я терпима ко всем, и единственный человек в мире, которого я не выношу, это она. В конце концов, может ведь быть исключение из правил. Мы с Минни часто осуждали П. за то, что он мирится со всеми ее выходками. А нам надо встать перед ним на колени!.. Ну, а второе — это о Д. П. После того как я с ним познакомилась, после первой нашей встречи я всем только и рассказывала, какой он необыкновенный человек. Но потом, когда первое впечатление отстоялось, я подумала, что просто облекаю его в доспехи своего глупого школьного героического идеала. Я стала воспринимать его проще, и тогда начались удивительные вещи. И это меня захватило целиком, страшно увлекло. 114 Потому что никто в моей жизни не значил для меня так много и не повлиял на меня так сильно, как Д. П. Он воспитал, сформировал меня больше, чем кто-либо. Больше, чем Лондон, больше, чем Колледж. И не потому, что он очень уж хорошо разбирался в жизни. Или был такой уж большой мастер живописи. Или очень известен. Но он всегда говорил то, что думал, и то, что думал сам. Он всегда заставлял думать и меня. А это очень много. Он меня научил анализировать самое себя. Он выбил из меня все эти детские глупости, — ну, по крайней мере, большую их часть, все эти суетные пустячные тщеславные представления о жизни и искусстве, об авангардизме. Сколько раз бывало, что я с ним не соглашалась. Но спустя неделю я вдруг ловила себя на том, что доказываю кому-то именно то, что говорил мне он. Уже забыв свои возражения и оперируя именно его категориями. Вот перечень заповедей, в истинности которых он меня убедил. Принятых мной либо сразу, либо после подтверждения их в процессе собственной жизни. 1. Если ты действительно художник, то отдаешь себя искусству целиком. Если что-то все-таки остается, то тогда ты не художник. Не творец, как это называет Д. П. 2. Если ты художник, ты не печатный станок. У тебя нет никаких готовых идей и штампованных приемов, и ты не лезешь вон из кожи, чтобы произвести впечатление на публику. 3. В политике ты обязательно левый, потому что социалисты из всех единственно неравнодушные люди, даже при всех их ошибках. Это единственные люди, которые беспокоятся, стараются, имеют чистоту убеждений. Они хотят улучшить мир. 4. Ты должен творить всегда. Если ты во что-то веришь, ты должен действовать. Говорить же о том, что ты собираешься действовать, это все равно, что расхваливать картину, которую ты еще не написал. Причем это самая безобразная форма самовосхваления. 5. Если ты испытываешь какое-то глубокое чувство, то ты не стыдишься обнаруживать его. 6. Ты должен принять как данность то, что ты англичанин. И не притворяться, что тебе больше бы хотелось быть французом, или итальянцем, или кем-то еще (Пирс всегда говорит о своей американской прабабушке). 7. Но и не прикрывайся своим происхождением. Ты должен расстаться со всем в себе, что не входит в область творчества, безжалостно зачеркнуть все лишнее. Если ты из провинции (так я определяю П. и М. — их усмешки на предмет существования «провинциальности» просто от их слепоты), ты должен расстаться с этим (и прижечь йодом). Если ты рабочий, ты должен выжечь в себе рабочего. И так во всем, не держись ни 115 за какой класс, какого бы ты класса ни был, потому что класс — это глупо и примитивно. (И ведь не только со мной так. Взять, например, то, как он поссорился с другом Луизы — сыном шахтера из Уэльса, — затеяв с ним спор на эту же тему, и как они переругались и перегрызлись тогда, и мы все были на стороне сына шахтера и против Д. П., против этого его презрения к рабочему классу и ко всей жизни рабочих людей. Он еще называл их особями. А Дэвид Эванс, весь бледный и заикающийся: «Что я, по-вашему, должен считать моего отца просто грязным животным, особью, и поддать ему ногой, отбросив подальше со своего пути?» И Д. П. сказал; «Я никогда в жизни пальцем не тронул ни одно животное. Мы всегда можем оправдать себя, причиняя зло настоящему человеческому существу, но человеческое животное заслуживает всяческой симпатии и бережного отношения». И потом, месяц спустя, появившись у меня, Дэвид Эванс признался, что тот вечер буквально переродил его.) 8. Ты не имеешь права увлекаться каким-либо ура-патриотизмом, национализмом или любой другой ура-националистической деятельностью. Все в политике и искусстве, что не является подлинным, истинным и настоящим, должно претить тебе. У тебя нет времени заниматься всякими тривиальностями и пошлостями. Ты ведешь серьезную жизнь. На глупые фильмы ты не ходишь, даже если тебе этого и хочется; не читаешь бульварных газет, не слушаешь всю эту чушь по радио и телевидению, не транжиришь время на пустую болтовню. Ты о с м ы с л е н н о расходуешь жизнь. Наверное, у меня всегда была потребность уверовать во что-нибудь подобное; признаться, я всегда смутно думала о чем-то таком, даже еще до того, как познакомилась с Д. П. Но он сделал все, чтобы я принуждена была уверовать в это до конца, он, а не я сама. И ведь именно мысль о нем заставляет меня сейчас испытывать чувство вины, когда я нарушаю эти правила. А если он сделал нечто, заставившее меня во все это уверовать, это значит — он же и сделал, сотворил большую часть моего нового «я». Если бы на свете существовали феи и я имела бы возможность загадать желание, я бы попросила: «Фея, сделай так, чтобы Д. П. был на двадцать лет моложе. И еще, фея, пожалуйста, сделай его красивым…» Как бы он запрезирал меня за все это!.. Странно — и я даже чувствую от этого себя несколько виноватой, — но мне сегодня намного лучше, чем было все эти последние дни. И у меня появилось предчувствие, что все изменится к лучшему. С одной стороны, это оттого, что я хоть что-то сегодня сделала. Утром я совершила попытку побега. И Калибан оставил это без последствий. Другими словами, это 116 кончилось для меня хорошо; я совершенно уверена, что если он соберется меня изнасиловать, то сделает это именно в такой момент, когда у него будет законный повод чувствовать себя рассерженным. Как сегодня утром. Он все-таки обладает в известном смысле незаурядной сдержанностью. И с другой стороны, мне хорошо оттого, что большую часть дня я провела не здесь. А в мыслях о Д. П. В том, в его мире. Не в этом. Мне вспомнилось так много. И захотелось все записать. И я еще это сделаю при случае. Теперешний мой мир только еще больше подчеркивает, насколько действителен, свеж и прекрасен мир тот. Даже такие жалкие остатки его. Ну и еще мне легче оттого, что я позволила себе сегодня грешные, тщеславные мысли. Я вспомнила, что Д. П. говорил обо мне и мне самой, и другим людям. Он говорил, что я во многом не как все. Я еще подумала сегодня, что я умна, что я многое понимаю в жизни, гораздо больше, чем обычно понимают в моем возрасте. Подумала даже, что мне никогда не грозит стать настолько глупой, чтобы хвалиться и гордиться всем этим, что, напротив, я всегда буду только благодарить судьбу за все мне дарованное. И даже больше того, буду всегда чувствовать себя счастливой, особенно после этого подвала, буду радоваться, что живу и что мне дано так много, что я Миранда, одна в своем роде... Я никому не покажу эти записи. Пусть даже все в моих мыслях правда, но обнаружить их было бы с моей стороны бессовестным хвастовством и тщеславием. Точно так же я никогда никому из подруг не показывала, что знаю, я хорошенькая. Никто даже и не представляет, сколько раз мне приходилось себя удерживать, чтобы не воспользоваться этим своим незаслуженным преимуществом. Все восхищенные мужские взгляды, даже самые приличные, я всегда пресекала. Мини… Однажды я напустилась на нее за платье, которое она хотела надеть, собираясь на вечер. Она просто сказала: «Заткнись. Ты так красива, что тебе даже не надо стараться нравиться...» А Д. П. сказал: «У вас безупречная внешность...» Ох, я ужасная грешница, я такая тщеславная... 21 октября Я заставляю его готовить лучше. Совершенно запретила мороженые продукты. Мне нужны свежие фрукты и велень. Я ем вырезку. Ем лосося. Вчера я заказала ему купить икры. Меня просто раздражает, что я не могу вспомнить еще какие-нибудь деликатесы. Поросенок. Телятина. Икра — это, конечно, божественно... 117 Второй раз принимала ванну. Он не осмеливается отказать мне в этом. Мне сдается, он считает, что «леди» обязательно падут мертвыми, если им не позволить выкупаться в ванной, когда им это требуется. Я отправила свое послание. Сейчас оно где-нибудь уже в пути. Маленькая пластмассовая бутылочка с привязанным и намотанным на нее куском красной ленты. Где-нибудь она развернется, и, может быть, кто-то ее увидит. Когда-нибудь. Дом отыскать будет нетрудно. Он допустил оплошность, сказав мне дату постройки, выложенную над входом. Мне пришлось добавить: «ЭТО НЕ РОЗЫГРЫШ». Оказывается, ужасно трудно добиться того, чтобы все это не выглядело мистификацией. Я еще написала, что всякий, кто позвонит П. и сообщит о находке, получит 25 фунтов. Я думаю, таким образом запускать в море (недурно) по бутылочке каждый раз, когда я буду принимать ванну. Он снял все свои немыслимые украшения вдоль лестницы и на лестничной площадке. И эти чудовищные, писанные зеленой анилиновой краской сцены рыбной ловли в лесу. Бедный дом вздохнул с облегчением. Я люблю бывать наверху. Это почти свобода. Хотя все кругом заперто. Все окна, выходящие на улицу, закрыты на внутренние ставни. На остальных замки. (Две машины проехали за вечер мимо, должно быть, это очень второстепенная дорога.) Еще я начала его просвещать. Вечером в гостиной (руки у меня, конечно, связаны) мы посмотрели один альбом с репродукциями. У него никакого присутствия мысли. Совершенно не иожет думать сам. Я даже подозреваю, что половину того, что я говорила, он не слушал. Он думал лишь о том, что мы рядом, и о том, что надо за собой следить, чтобы меня случайно не коснуться, и сидел весь одеревенелый. То ли это чувственность, то ли страх, что я могу заманить его в ловушку. Если даже он и обращал внимание на репродукции, то соглашался со всем, что бы я ни говорила. Скажи я, что «Давид» Микеланджело- это сковородка, он ответит: «Да, я понимаю». Такие вот люди. Я, должно быть, миллионы раз стояла с ними рядом в метро, проходила мимо на улице, слышала, конечно, их разговоры и знала, что они есть. Но никогда действительно не верила, что они существуют. Такие совершенно ослепшие. Это казалось попросту невозможным. Диалог. Он сидел тихо, глядел в альбом с выражением восхищения на лице (для меня старался, естественно). М. Хотите знать, какая самая главная и странная отличительная черта этого дома? Здесь нет ни одной книги. Кроме тех, что вы для меня купили. К. Есть несколько наверху. М. О бабочках? К. Не только. М. Несколько каких-нибудь жалких детективов. А прочли вы в жизни хоть одну порядочную книгу - настоящую книгу? (Молчание.) Книгу, 118 автор которой действительно думает о жизни, пытается разобраться в ней? А не макулатуру на предмет убить время в поезде. Понимаете, книгу? К. В моем вкусе больше приключенческая литература. (Он как боксер. Его так и жаждешь нокаутировать.) М. Вам бы все-таки надо прочесть «Над пропастью во ржи». Я уже почти закончила ее. Кстати, я вот ее уже читаю второй раз, а между тем я на пять лет вас младше. К. Я прочту. М. Как в наказание себе? К. Я заглядывал уже в нее, перед тем как принести вам. М. И она вам не понравилась. К. Я еще попробую. М. Мне с вами делается просто дурно. Снова наступило молчание. Я вдруг почувствовала себя какой-то не настоящей, как будто все это была какая-то пьеса, название какой я все никак не могу вспомнить, и никак не могу вспомнить, кого я играю в ней. А до этого я спрашивала его, почему он коллекционирует бабочек. К. Становишься вхож в общество хороших людей. М. Но ведь, наверное, не только поэтому. К. Из-за учителя. Был у нас учитель в школе. Он показал мне, как это делается. Он тоже коллекционировал. Не особенный там мастер. Просто делал все по старинке, старым способом (это что-то связанное с углом расположения крыльев: по современным требованиям угол должен быть прямым). И еще из-за дяди. Он тоже интересовался природой. Всегда помогал мне. М. Должно быть, он тоже был хороший. К. Люди, интересующиеся природой, всегда хорошие. Вот, например, наша Секция членистоногих, как мы ее называем. Отделение энтомологии при Обществе естественной истории. Там к себе относятся попросту. Нос не задирают, свысока на тебя не смотрят. Такого там нет. М. Но они не все там хорошие (он никакого подвоха не заподозрил). К. Конечно, общаешься там и со снобами. Но и они ведут себя, как я уже сказал. Короче, общество более лучших людей, чем ты… чем я встречаю... встречал в обычной своей жизни. М. Ваши друзья вас не презирали? Не считали это немужским занятием? К. У меня никогда не было друзей. Только люди, с которыми я работал (потом он еще добавил: вечно они со своими глупыми шутками). Я не продолжила. Но у меня бывает иногда неодолимое желание заглянуть в самую суть его внутреннего «я», в самую глубину, вытащить на свет из него то, что он в себе скрывает и о чем сам никогда не скажет. 119 Но это уже слишком. Это уже похоже на заботу о нем, похоже на то, что я интересуюсь его презренной, слюнявой, плаксивой, ничтожной жизнью. В отношении словесного выражения мыслей. Слабость слов, их недостаточность. Вот то, как Калибан сидит — будто аршин проглотил. Что это? Смущение? Или готовность броситься на меня в любой момент, когда я вздумаю бежать? Я могу это нарисовать, и это получится. Или я могу нарисовать его лицо и выражение лица, а что можно сказать словами? Они так затасканы, употребляемы таким огромным количеством людей и по такому огромному количеству поводов. Что же я напишу? «Он улыбнулся». Что это обозначает? Не более чем афишу детского театра с улыбающейся до ушей репкой и со ртом в виде полумесяца. А вот когда я нарисую улыбку... Слова грубы и так ужасно примитивны в сравнении с рисунком, с живописью, скульптурой. «Я села на кровать, и он сел около двери, и мы стали разговаривать, и я пыталась убедить его в том, что ему следует употребить свои деньги на получение образования, и он сказал, что он употребит, но я осталась в этом не уверена». Как грубая мазня. Как рисовать сломанным грифелем. Впрочем, это только мои домыслы. Мне нужно видеть Д. П. Он бы назвал мне с десяток книг, где это все объяснено с исчерпывающей точностью. Как я презираю невежество! Калибанское невежества, мое невежествое, всемирное невежество! Я бы училась, училась и училась. Впору расплакаться. Так я хочу учиться. Запертая и связанная. Засуну эту пачкотню под матрац, где ей и место, и начну молить Бога научить меня… 22 октября Сегодня две недели. Дни я отмечаю на одной из сторон ширмы, как Робинзон Крузо. У меня депрессия. И бессонница. Я должна, должна, должна бежать. Я становлюсь такой бледной. И чувствую себя нездоровой, слабой постоянно. Жуткая тишина. Он такой безжалостный. В нем нет ни капли сострадания. Чего он хочет? Чего он ждет? Чему надо случиться? Он же должен видеть, что я заболеваю. Я сказала ему сегодня вечером, что мне просто необходим дневной свет. Я заставила его посмотреть на меня и увидеть, какая я бледная. Завтра, завтра. Он никогда не откажет напрямую. 120 Сегодня я уже думала о том, что он может оставить меня здесь навсегда. Но это не будет продолжаться слишком долго, я умру очень скоро. Это нелепо, жестоко — но это правда: у меня совсем нет способа бежать. Я опять продолжаю искать слабо держащиеся камни. Может быть, я бы смогла проделать ход наружу. Но он должен быть длиной по меньшей мере, в три метра. Сквозь землю, которая в любой момент может обвалиться, и будешь там как в ловушке. Нет, такого мне не смочь, уж лучше умереть заранее. Более короткий подкоп должен получиться около двери. Но для этого тоже нужно время. Мне надо быть уверенной, что он не войдет хотя бы несколько часов. Три на подкоп, два на то, чтобы сломать наружную дверь. Я думаю, что это моя единственная возможность, которую нельзя растратить понапрасну, испортив все из-за своей недостаточной подготовленности. Не могу заснуть. Надо что-то делать. Напишу о своей встрече с Д. П. Каролина сказала: «О, это просто Миранда, моя племянница», — и продолжила разговор с ним, не преминув выставить меня в одиозном виде («однажды в субботу, бегая по магазинам в своей деревне»), и я не знала, куда деть глаза, хотя все время до этого мечтала с ним познакомиться. Она и раньше говорила о нем. Мне сразу понравилось то, как он держал себя с Каролиной: прохладно и не стараясь скрыть своего к ней отношения, сделать вид, что ему совсем не скучно. Не поддакивал ей, как обычно делают все в подобных случаях. И я поняла, почему она так настроена против него, — она говорила о нем весь обратный путь до дома. Я видела, что Д. П. неприятен ей, хотя сама она, конечно же, себе в этом не призналась бы. Как-никак две брошенные семьи, грубость, цинизм и очевидное отсутствие интереса к ее особе. Так что я сделалась защитницей Д. П. с самого начала. Затем встреча с ним в Хемпстедском парке. Я и Каролина сошлись с ним на аллее. Мне так хотелось увидеть его снова, а как увидела, снова застеснялась себя. Как он шел! Весь сосредоточенный, целиком погруженный в свои мысли, ни на кого не глядя. В старой потертой куртке летчика. Он почти не разговаривал с нами, я видела, что он на самом деле не рад встрече, но он, видимо, просто нас нагнал, не узнав сзади и идя той же дорогой. И, кажется, именно тогда, когда Каролина опять начала «вести разговоры» и строить из себя женщину передовых взглядов, что-то произошло между нами, мы переглянулись и отвели глаза. Я поняла, что он недоволен ею, а он понял, что мне неловко за нее. Поэтому он обошел с нами весь Кенвуд, несмотря на то, что Каролина без умолку продолжала болтать. 121 Но он терпел только до тех пор, пока Каролина не сказала, стоя перед Рембрандтом: «А вам не кажется, что ему было чуточку скучно писать их? Не верите, я всегда не могу понять, что мне следует понимать, когда я стараюсь понять в них хоть что-то. Вы не находите?» И она одарила его одной из своих очаровательных глупых улыбок. Я посмотрела на него и увидела, что по его лицу вдруг пробежала какаято тень, он словно удивился, как будто это для него было совершенно неожиданно. И это делалось не из расчета произвести на меня впечатление, тень почти сразу исчезла, и он только посмотрел на Каролину. Чуть ли даже не с любопытством. Но сказал другое, очень коротко и холодно. «Мне уже пора. До свидания». «До свидания» уже предназначалось мне. Этими словами он как бы отделил меня. Будто подчеркнул: и ты живешь рядом с этим? Можно даже заключить, вспоминая тот эпизод сейчас, что он преподал урок мне. Я уже должна была выбирать путь Каролины или его... И он ушел, мы даже не успели ответить. Каролина посмотрела ему вслед, потом фыркнула, взглянула на меня и сказала: «Право, очень мило». Я проводила его взглядом, пока он не исчез в дверях. Шел он все так же, засунув руки в карманы. Я была вся красная. Каролина выглядела просто взбешенной и старалась загладить неприятные впечатления («Это он так всегда. Это он сознательно делает»). По дороге домой она высмеивала все его картины («Второсортный Пол Нэш!» — причем уже это совершенно некстати). Я и злилась на ее реплики, и жалела ее в одно и то же время. Говорить я не могла. Я не могла вслух сочувствовать ей, но и то, что он прав, тоже не могла ей сказать. Каролина и М. обладают одним общим качеством, которое я терпеть не могу во всех женщинах. Долгое время после того дня я мучилась мыслью, что ведь и во мне течет та же их гнусная претенциозная кровь. Что и во мне полно этого. Конечно, было время, когда я Каролину любила. За ее живость, энергичность, отзывчивость, энтузиазм. За доброту. И даже эти ее претензии, которые так пошлы рядом с чем-то настоящим, — это всетаки лучше, чем ничего. Я помню, как меня всегда восхищал ее недоступный мир, из которого она, бывало, наезжала к нам. Помню, как я любила оставаться с ней подолгу. И ведь именно она поддержала меня в момент «великой» семейной войны за выбор моего будущего. Но все это до того, как я переехала к ней и стала у нее жить. До того, как разгадала ее, став взрослой. (Я ведь тоже из этих «сердитых молодых людей».) Через неделю у нас с Д. П. опять произошла встреча. Я заскочила в кабину лифта метро, и он там был единственным пассажиром. Я очень оживленно сказала «здравствуйте», прикинулась веселой и опять покраснела. Он только молча кивнул, как будто не хотел разговаривать. И 122 потом, внизу — тщеславие, конечно, но я не могла вынести того, что меня могут объединять с Каролиной, — я сказала, что прошу прощения за тетю в Кенвуде. Он ответил: «Она всегда меня раздражает». Я видела, что распространяться об этом ему не хочется. Когда мы пошли к платформе, я добавила: «Она боится показаться отсталой и несовременной». «В отличие, вероятно, от вас?» — он усмехнулся и посмотрел на меня равнодушным усталым взглядом. И я решила, ему не понравилось, что я уже разделила: «она» и «мы» Мы прошли мимо киноафиши, и он заметил: «Хороший фильм. Вы не смотрели? Посмотрите». На платформе он произнес: «Будет время, заходите. Только свою чертову тетю оставьте дома». И улыбнулся. Мягкой, заразительной и какой-то неожиданно озорной мальчишеской улыбкой, которая совсем не вязалась с его возрастом. Потом он ушел. Все такой же безучастный и невозмутимый. Все такой же вещь-в-себе. Поэтому я и зашла. Я заглянула к нему как-то в субботу утром, чему, в общем-то, он довольно сильно удивился. И мне пришлось просидеть минут двадцать в молчании, слушая странную индийскую музыку. Он, откинувшись прямой спиной на спинку дивана и голову держа так же прямо, слушал музыку с закрытыми глазами, как будто меня вообще в комнате не было. И я поняла, что мне приходить сюда совершенно не следовало (особенно не спросившись у Каролины), и еще я подумала, что во всем его облике слишком много демонстративного, что он позирует. Я сидела как на иголках. Под конец он попросил меня рассказать немного о себе, но вопросы задавал односложные, как будто заранее предугадывал, что я скажу, будто все это он знает и это очень скучно. И я совершенно глупым образом начала «очаровывать» его и «производить впечатление». То есть делать как раз совершенно ненужное: рисоваться. Мне все казалось, что он относится ко мне несерьезно и что вообще он лишь в шутку приглашал меня к себе. Он оборвал меня на полуслове и, не дослушав, повел в мастерскую, заставив смотреть свои картины. Мастерская у него прекрасная. Я всегда чувствовала себя в ней хорошо и просто. Тут все тихо и спокойно, он терпеть не может всякий «характерный интерьер», оригинальничание и моду. Но все равно о нем говорит каждая вещь, дух его чувствуется всюду. Антуанетта с ее глупыми бабьими домохозяйственными правилами «хорошего тона» назвала это все безвкусицей. Да ей бы следовало свернуть за такие слова шею. Потому что достаточно там осмотреться, и сразу понимаешь, что это есть индивидуальный мир человека, что человек проводит здесь все свое время, что он здесь работает, думает, существует, живет... В мастерской он потеплел. А я перестала стараться выглядеть умной. 123 Он показал мне, как он получает свой «расплывчатый» эффект. Энергичные мазки гуашью. И все свои самодельные приспособления. Пришли его друзья, Барбар и Франсез Крукшэнк. Он сказал: «Это Миранда Грей, я терпеть не могу ее тетку», — все на одном дыхании, и они рассмеялись, это были его старые друзья. Я собралась уходить. Но они тоже решили прогуляться, они и заходили за ним, так что пригласили и меня. Барбар пригласил, он сразу начал меня обхаживать и делать масленые глаза. «Нас может увидеть ее тетка, — сказал Д. П. — У Барбара дурная репутация, его знают во всем Корнуэлле», Я возразила: «Она всего лишь моя тетя. Не опекунша». Мы пошли в бар, а потом в Кенвуд. Франсез рассказывала мне о их жизни в Корнуэлле, и я первый раз в жизни почувствовала себя среди людей старшего поколения словно на равной ноге, и я понимала, что мне так просто с ними, потому что они люди настоящие, подлинные. Хотя в то же время я не могла не заметить, что Барбар слегка волочится за мной и паясничает, рассказывая двусмысленные анекдоты. Серьезным из нас оставался один Д. П. И не то, чтобы он не шутил или не был весел, как остальные. Просто он имел удивительную способность обыкновенную шутку оборачивать в серьезное. Один раз, когда он ходил за кофе, Барбар спросил меня, давно ли я знакома с Д. П. И потом добавил: «Как жаль, что в мои студенческие годы у меня не было такого человека, как он». Чуть позже и Франсез заметила, что они считают Д. П. удивительным человекам. «Он один из немногих», — сказала она. Она не объяснила, что это за немногие, но я поняла. В Кенвуде Д. П. нас развел. Он потащил меня прямо к Рембрандту и стал говорить о картине, причем, ничуть не понижая голоса, так что я почувствовала себя довольно неловко, потому что несколько незнакомых людей стали наблюдать за нами. И подумала, что мы, должно быть, смотримся как отец и дочь. Он рассказал мне все о заднем плане картины, о том, что Рембрандт, вероятнее всего, чувствовал в тот момент, к чему стремился, что хотел сказать и как он сказал это. Будто я вообще ничего ее понимала в живописи. Как будто он задался целью выбить из моей головы все те фальшивые представления, которые, по его мнению, должны были сложиться у меня об этой вещи. Мы вышли и подождали остальных. Он сказал, что эта картина всегда на него сильно действует. И он так посмотрел на меня, будто опасался, что эти слова могут вызвать у меня улыбку. И во взгляде у него промелькнула какая-то робость и застенчивость». «На меня она сегодня тоже так подействовала», — сказала я. Но он усмехнулся. «Вряд ли. Такое еще не для вашего возраста». «Почему вы так думаете?» 124 Он сказал: «Мне кажется, что на нормальных людей, понимающих большое искусство, такие вещи действуют по-другому, чище, что ли, непосредственней. Но иначе у художников. Я ни разу не встречал ни одного художника, воспринимающего искусство непосредственно. Так же и я, когда смотрю на такие картины, то думаю об одном: в них заключена та вершина мастерства, на достижение которой уйдет вся моя жизнь. И, тем не менее, я ее так и не достигну. Все равно. Вы молоды. Вы в состоянии это понять. Но вы не можете это почувствовать». Я ответила: «Мне кажется, что могу». «Тогда это плохо, — сказал он.- Вам следует быть слепой к неудачам. В ваши-то годы. — Потом добавил: — Не старайтесь быть одного с нами возраста! Эта всегда производит неприятное впечатление. Вы как маленький ребенок, старающийся заглянуть через полутораметровый забор...» Это было в первый раз. Ему очень не понравилось, что я старалась ему понравиться. Что-то в нем есть от профессора Хиггинса. Когда вышли Крукшэнк, он добавил, глядя, как они идут в нашу сторону: - Барбар порядочный бабник. Не соглашайтесь, если он предложит вам встретиться». Я взглянула на него удивленно, и он сказал, улыбаясь им навстречу: «Не из-за вас. Терпеть не могу приносить Франсез неприятности». В Хемпстеде мы расстались. Весь обратный путь я замечала, как Д. П. делал все, чтобы мы с Барбаром Крукшэнк не смогли остаться наедине. Напоследок друзья Д. П., вернее, Барбар пригласил меня заходить к ним, если я когда-нибудь буду в Корнуэлле. Д. П. в свою очередь произнес: «Как-нибудь увидимся», - как будто ему было безразлично, увидимся мы или нет. Каролине я сказала, что мы с ним встретились случайно. Что он извиняется перед ней (приврала, конечно). И если она считает, что мне не надо встречаться с Д П, я больше встречаться с ним не буду. Но я считаю, общение с ним мне было бы полезно, он на меня благоприятно действует, у него много интересных мыслей, и что такие люди мне даже н е о б х о д и м ы . Последнее с моей стороны было уже плохо, а точнее, нечестно, я хорошо понимала, что если я вопрос поставлю таким образом, то Каролина не сможет не согласиться. В конце концов, я ведь самостоятельный человек. И Каролина сказала: «Ты же знаешь, я далеко не пуританка. Но о нем много говорят такого… Ты сама знаешь, не бывает дыма без огня». Я ответила: «Слышала обо всем этом. Думаю, что могу сама постоять за себя». Тетя сама была виновата. Ей не следовало настаивать на том, чтобы я звала ее просто Каролиной и относилась и ней во многих отношениях как 125 к ровне. Как тетю я давно ее уже не воспринимала и как старшую уже не могла уважать. И советчиком она перестала быть для меня тоже. Как, однако, все меняется. Я вот думаю сейчас о Д. П. — о том, что он говорил, что говорила я, — и вижу, как мы оба не понимали друг друга. Впрочем, нет, он, мне кажется, понимал. Он всегда мыслью опережает меня на несколько ходов. Я взрослею здесь, внизу, не по дням, а по часам. Как гриб под листьями. Или это я просто выбита из обычного образа жизни, потеряла обычные ориентиры. А может быть, я вообще сплю?.. Я кольнула себя карандашом… Но, может, и это тоже во сне?.. Случись так: появись он сейчас в дверях — я бы бросилась ему на шею. И я бы не отпускала его вечность. И я верю, что могла бы полюбить его сейчас во всех смыслах, и так, как ему надо, тоже могла бы. 23 октября Дьявольщина! По отношению к К. я совершеннейшая дрянь. Совершенно безжалостна. А сверх всего еще эта оторванность. Я заставила его сегодня утром выпустить меня погулять в подвал. Мне показалось, что я слышала трактор. И воробьев. А это значит день, свет, воробьи. Самолет... Я снова плачу... В чувствах моих сейчас сплошная путаница, неразбериха. Они как напуганные обезьяны на прутьях клетки. Мне казалось сегодня ночью, что я схожу с ума, и поэтому я все писала, писала и писала. Туда, в тот мир. Быть свободной хоть в душе, если нельзя физически. Подтвердить себе, что тот мир все-таки существует. Делаю эскизы для картины, которую я напишу, когда выйду отсюда. Вид на сад через открытую дверь. На словах это эвучит глупо. Но вижу и представляю я это как нечто совершенно особенное: все черное, темнокоричневая умбра, темно-серый цвет, угловатые загадочные формы в таинственной тени, ведущей к далекому, мягкому, белесовато-желтому, медовому прямоугольнику наполненной светом двери. Что-то вроде вспышки на горизонте. Я отослала его после ужина и дочитаваю «Эмму». Я — Эмма Вудхауз. Я жила за нее, чувствовала за нее, я была ею. У меня другого рода претензии, чем у нее, я снобка в других областях. Но я понимаю и ее претензии и ее снобизм. Ее педантичность, придирчивость и надменность. Я просто восхищена ими. Я понимаю, что она поступает иеправильно во многом, пытается распоряжаться чужими жизнями, не видит, что мистер Найтли человек один из тысячи. Временами она глупа, но все равно чувствуешь, что в основе своей она совершенная умница, настоящая. Существо высшей пробы, предназначенное устанавливать правила жизни и поведения. Истинно человеческое существо. Ее недостатки — мои недостатки, ее достоинства я должна сделать своими достоинствами, творя самое себя. 126 И еще я сегодня вечером много думала - и после напишу об этом - о Д. П. Это было в тот день, когда я захватила свои работы, желая показать ему. Я выбрала те, какие, считала, ему должны были понравиться (конечно, не умные-переумные школьные работы с видом Пансиона, другие). Он не проронив ни слова, просмотрел их, ничего не сказал даже когда смотрел и такие из них, как «Кармен в Айвинхоу», которые я считаю самыми лучшими у себя или считала тогда. Ну и, наконец, он сказал, что все плохо. «По моему мнению, - сказал он. - Хотя, впрочем, несколько лучше, чем я ожидал». И это подействовало на меня как удар. И я не смогла скрыть это. Он еще добавил: «В том, как я отзовусь о ваших способностях, нет вообще никакого смысла. Я вижу, что вы хороший рисовальщик, у вас достаточно умения, есть чувство света, есть находки, наблюдательность. И все прочее. Но иначе бы вы и не учились в школе Слейда». Я уже жалела, что заставила его смотреть свои работы, но оказалось, что он сказал еще не все. Вы, очевидно, видели довольно много хороших картин. Стараетесь не подражать слишком откровенно. Но вот портрет вашей сестры — это, конечно, Кокошка, это бросается в глаза». Он, должно быть, заметил, что я покраснела, потому что спросил: «Я вас разочаровал? Ну что ж, так и должно было случиться». Это меня едва вообще не убило. Я понимаю, что он поступил совершенно правильно, было бы смешно ждать от него, чтобы он сказал не то, что думал. Изобразил бы доброго любящего дядюшку. Но это было больно. Будто пощечины одна за другой, подряд. Я настроилась на то, что какие-то мои рисунки ему понравятся. Но что было хуже всего — это его холодность, спокойствие. Он был абсолютно серьезен и клинически точен. Ни малейшего желания смягчить высказываемое, даже иронии не было. Вдруг он сделался так немного старше меня. Он сказал: «Каждый должен учиться писать хорошо — в академическом и техническом смысле. Тут у всех одна задача, и без этого, наверное; нельзя. У вас возможность учиться существует. Правда, она существует и у тысячи других. Но то, что я ценю прежде всего, процессу учебы вещь в общем-то, посторонняя. С учебой она не связана». Потом он еще добавил: «Я понимаю, вам, наверное, скверно. Дело в том, что я один раз чуть было уже не предупредил вас, чтобы вы ничего не приносили... Но потом подумал... В вас есть какая-то энергия, живучесть, вы это переживете». «Вы уже заранее знали, что всё будет плохо?» — спросила я. «Я ожидал чего-то подобного. Давайте забудем, что вы их показывали мне?» Но я поняла, что он меня проверяет, провоцирует. 127 Я попросила: «Объясните подробно, что здесь плохо?» — и подала ему одну из уличных сцен. Он сказал: «Графика тут хорошая, композиция тоже, я не могу сказать конкретно, что здесь плохо. Но это не настоящее искусство. Это не часть вашего тела. Я не жду, что вы поймете это в вашем возрасте. И научиться этому нельзя, и показать тоже. Это или приходит в один прекрасный день, или уже нет. У Слейда вас учат выражать свою индивидуальность, преимущественно индивидуальность. Но это если она есть. Представляет собой ценность. Как хорошо ты ни научись воплощать себя в линию и краску, если твоя личность не представляет интереса, не поможет ничто… А личность — это уже явление случая. Тут уж кому как повезет». Он говорил с долгими паузами и наконец вообще замолчал. Я сказала: «Мне остается их только разорвать». И он ответил: «Сейчас вы впадаете в истерику». Я сказала: «Хороший урок мне». Он поднялся. «Наверное, что-то в вас все-таки есть. Я не знаю. В женщинах очень редко бывает. Большинство из них хотят добиться совершенства, у них все сознание направлено на это, чем бы они ни занимались, и они легко становятся искусными, приобретают чутье, точность, хороший вкус. Но они никогда не могут понять, что, если ты озабочен единственным стремлением добраться до самой последней глубины предмета или до последней тайны своего собственного «я», все рамки рушатся и форма становится уже несущественной. Даже род искусства уже неважен: используешь ли ты слова, краску или звук. Не важно ничто». «Дальше», — сказала я. Он продолжал: «Это примерно как голос. Ты привыкаешь к нему и говоришь им, потому что у тебя нет выбора. Но так или иначе, главное — ч т о ты говоришь. Именно это всегда отличает настоящее искусство от всего прочего». «А эти педерастические технические совершенства никогда не стоили ни черта. Особенно в этот наш великий век всеобщего образования», - он сидел на своем диване и говорил все это моей спине. Я вынуждена была смотреть в сторону, в окно, потому что готова была вот-вот заплакать. Он сказал: «Критика всегда болтает о верхе технического совершенства. Терминологическая галиматья. Чушь. Искусство грубо. И если тебе еще многое может сойти с рук в словах, то картина — это как окно прямо в сокровенную тайну твоего сердца. А все, что вы сделали вот тут, — это множество маленьких окон в сердце, заполненное картинами модных художников». Он подошел ко мне и приподнял один из моих абстрактных рисунков, сделанных мной дома. «Здесь вы кое-что сказали о Николсоне или Пасморе. Но не о себе. Тут вы используете камеру. Trompe-l’oeil- 128 эффект.3 Что есть как раз просто искаженная фотография. Вы просто фотографируете. И только». «Тогда мне ничему никогда не научиться», — сказала я. «Да вам пора уже разучиваться, — ответил он. — Вы уже научились почти всему. Осталось только везение. Нет, немного больше, чем везение. Упорство. Терпение». Мы проговорили долго. Вернее, он говорил, а я слушала. Как ветер в солнечный день. Уносит паутину, и туман развеивается. Сейчас я записываю, и слова кажутся такими обыкновенными, а ведь было еще: как он говорил. Он единственный человек в моей жизни, который, когда говорил об искусстве, переставал быть собой, становился будто прозрачен и высказывал всю правду, какая была в нем, искренне и до конца. И это действовало невероятно. Ты верил ему совершенно и навсегда. И вздумай ты засомневаться в его правде потом, тебе самому это покажется богохульством. И без сомнения, он хороший художник, я уверена, что он будет когданибудь очень знаменит, и это на меня производит еще дополнительное впечатление. Не только то, кто он есть, но и то, кем он будет. И помнится, позже он еще сказал: «Вам и не нужно дожидаться этого глупого часа, воя на луну, это не ваша доля. Вы слишком красивы. Ваша сфера — искусство любви, а не любовь к искусству». «Мне только остается пойти и утопиться», — сказала я. «Жениться я не могу. Иметь еще один трагический роман. Разрушить все ваши идеалы. Или что-то там еще», — он скосил на меня глаза, окинув на этот раз своим «циничным» взглядом. В то же время он как будто испугался чего-то, как мальчишка. Который лукаво сболтнул что-то лишнее, чтобы проверить, как я отреагирую. И неожиданно оказался даже моложе меня. Он очень часто казался молодым. И в таких ситуациях, в каких я даже и не ожидала. И может быть, именно это подчас делало меня в моих глазах старухой, заставляя взглянуть на самое себя со стороны и увидеть, что многое, во что я верю, архаично и пошло. Все наши учителя жизни наставляют нас, вдалбливая нам в голову старые плоские мысли, старые взгляды, старые правила и поросшие мхом идеи. Это все равно, что постоянно присыпать свежие ростки старой землей, слой за слоем; и неудивительно, что робкие бедняжки, все же вырвавшись на поверхность в конце такого курса обучения, очень редко остаются бодрыми и зелеными. Но Д. П. именно таким и был. Я долго не могла распознать, что его особенность и есть это бодро-живуче-зеленое. И называла это по-другому. Но теперь я поняла... 3 Trompe-l’oeil (фр.) – рисунок по памяти, без натуры. 129 24 октября Еще один плохой день. И я убедилась, что для Калибана он был тоже плохим. Временами он так меня раздражает, что я при любом удобном случае готова заорать на него. Иногда мне даже одного его вида достаточно. Он всегда такой приличный, на брюках — стрелочка, ботинки всегда чистые. По-моему, он бы с удовольствием надевал и крахмальный воротничок. Это единственное, чего в нем не хватает для завершения картины. И потом, как он стоит... Он обладает исключительной способностью к «остолбенелости». Причем всегда с выражением «виноват-с, чего желаете-с» на лице, которое на самом-то деле есть — я уже начала понимать это — проявление величайшего самодовольства. Для него сущее наслаждение иметь меня в своей власти, осознавать, что он волен сделать со мной что угодно, и что каждый день он может смотреть на меня. Ему неважно, что я говорю и что чувствую, неважны мои мысли о нем — главное, что я с ним и его. Я могу кричать, оскорблять его ежедневно - он не обращает на это внимания. Ему нужна я, моя внешность, моя наружность, но не мой внутренний мир, не мои чувства, не мой ум, и не душа, и даже не тело!.. Ничего не нужно. Ничто человеческое. Он коллекционер. И этим все сказано. Вот суть его омертвелости. И что больше всего меня в нем раздражает — это его манера говорить. Избитыми фразами, казенными словами, штамп на штампе, и все такое старомодное, занафталиненное, как будто он всю жизнь провел среди людей старше пятидесяти. Сегодня утром во время ланча он сказал: «Я сегодня справлялся о заказе на пластинки, который они приняли к рассмотрению». Я ответила: «Почему вы не скажете просто «я сегодня спрашивал о пластинках, которые вы заказывали?» Он сказал. «Я знаю, что я часто говорю неправильно, но я стараюсь быть правильным». Тут я не стала возражать, тут он прав. Это как раз его характеризует. Он начал стараться быть правильным, начал стараться делать все «хорошо» и «прилично» еще до того, как мы оба вообще родились. Все это вызывает сочувствие, я понимаю, что он жертва этого нового мира неверующих людей с задворок, этого наплыва на мир людей с окраины, этого их жалкого застенчивого стремления походить в своем поведении на воспитанных и «благородных», принадлежащих к среднему классу. Я всегда думала, что класс, к которому принадлежит П. и М., — худший. Этот их гольф, и бридж, и джин, и карты, и хороший акцент. И хорошие деньги, и обучение в хороших школах, и презрение к искусству (театр — это лишь новогоднее шоу и «Сенная лихорадка» на городской сцене; Пикассо и Барток — бранные неприличные слева, если только они не употребляются специально для смеха). Мерзость! Но мир калибанской Англии еще мерзостнее. 130 Мне просто плохо становится от всей этой слепоты, глухоты, старомодности, тупости, и, конечно же, обжорства, и, о да, конечно же, от этого все подавляющего груза злобной зависти, гнездящейся в сердцах большинства людей, населяющих Англию. Д. П. рассказывал о иммигрантах в Париж. О невозможности, невыносимости уже находиться в Англии, даже видеть Англию. И это я хорошо понимаю. Как Англия душит, губит, давит все живое, все свежее, все оригинальное. Вот что является трагедией таких неудачников, как Мэтью Смит и Август Джон - они бежали в Париж и уже на всю жизнь остались в тени Гогена и Матисса, и всяких живших там других. Как-то раз Д П. говорил, что он одно время жил под влиянием Брака и вдруг однажды утром проснулся и понял, что все, что он сделал за пять лет, все это — ложь, потому что все это основывается на восприятии Брака, все увидено его глазами, а не им самим. Фотография… У нас я стране такая безнадежность, такой мрак для художника, что считается почти обязательным уехать куда-то в Париж или еще в какоенибудь место за границей. Но ты должен, обязан заставить себя смотреть правде в глаза и смириться с мыслью, что Париж — это уже начало падения, это бегство крыс (слово Д. П), без всякого упрека в адрес самого Парижа. Ты должен научиться выносить Англию, с ее апатичным окружением (опять слова и мысли Д. П), с ее равнодушием и непомерным мертвым грузом калибанства. И настоящие святые — это люди типа Мура и Сазерленда, которые боролись за право стать английскими художниками в самой Англии. Как Констебль, Палмер и Блейк. А вот еще один эпизод с Калибаном... Мы слушали джаз.. «Ну, как вы, рубите?» - спросила я. И он ответил: «Да, в саду…» Тогда я сказала, что он настолько плоский, настолько, что это почти невероятно. Как дождь, как бесконечный, нудный дождь. Цвета омертвелости. Я забыла записать один страшный сон, который мне приснился прошлой ночью. Да и вообще мне постоянно что-то снится здесь, я только не запоминаю, похоже, что это каким-то образом связано с духотой, устанавливающейся на ночь в комнате, когда он меня закрывает в ней на замок (И облегчение — только когда он приходит, открывая дверь и включая вентилятор. Я спрашивала у него несколько раз разрешения тотчас выйти в наружный подвал, чтобы подышать свежим воздухом, но он всегда заставляет меня прежде позавтракать. И мне сдается, выпусти он 131 меня на свои полчаса прогулки до завтрака, он уже не позволит мне гулять после, впрочем, я не пробовала еще, да это и неважно.) Сон был такой. Я написала картину. Не могу точно припомнить, что это была за картина, помню только, что она была очень хорошая. Дело происходило дома. Я вышла прогуляться и, пока ходила, поняла, что допустила один промах. Пришлось вернуться. Я вбежала в комнату, но там перед подрамником сидела М. — Минни с испуганными глазами стояла у стены, и, по-моему, Д. П. там был тоже, и еще какие-то люди были, все по своим причинам — а картина валялась на полу, искромсанная в клочья. И М. продолжала резать ее садовыми ножницами с бледным от ярости лицом. И я почувствовала то же самое. Самую дикую, жгучую ярость и ненависть. И тут я проснулась. Я никогда раньше не испытывала к М. такой ненависти, даже в тот день, когда она ударила меня по лицу, пьяная, на глазах у этого злополучного Питера Катесби. Я помню, как стояла с горящей от пощечины щекой и испытывала стыд, унижение, оскорбление, все... но в то же время и жалость к ней. Я подошла и села рядом с ней на кровать, взяла ее руку. И позволила ей выплакаться у себя на плече, и потом, вместе с папой и Минин, мы успокоили ее. Но это чувство во сне было таким взаправдашним, таким настоящим. Я смирилась с тем, что она пыталась помешать моему намерению стать художником. Что ж делать, родители всегда не понимают своих детей (но нет, своих я понимать буду!). С самого начала все было против них: предполагалось, что я должна была родиться мальчиком, на что несчастный хирург П. все никак не был способен. Вот откуда у меня Кармен... Я простила их за то, что они постоянно шли против моих желаний. Я ведь победила, и поэтому я и должна была простить. Но эта ненависть во сне... Так натуральна... И я даже не знаю, как отделаться от нее. Там бы я могла рассказать все Д. П. Но здесь, кроме как к блокноту с каракулями, мне не к кому больше обратиться... Тот, кто не жил никогда в подземелье, не может себе даже представить, насколько а б с о л ю т н а здесь тишина. Ни одного звука, кроме тех, что вызываю своими движениями я. Поэтому я и чувствую себя наполовину умершей. Похороненной. Ни звука снаружи, чтоб я смогла хоть в какой-то мере почувствовать, что я живу. Часто я ставлю пластинки. И не для того, чтобы слушать музыку, а чтоб слышать хоть что-то. И очень часто у меня возникает странное ощущение: мне вдруг кажется, что я оглохла. И мне приходится что-нибудь тронуть или пошевелить, чтобы убедиться, что я все же не глухая. Чаще всего я покашливаю, показывая себе, что все нормально. Как та маленькая девочка, найденная среди руин Хиросимы. Все вокруг мертво и лишь она поет песню своей кукле. 132 25 октября Я должна, должна, должна бежать. Сегодня я провела весь день за обдумыванием нового плана. Смешные фантазии. Он настолько хитер, что просто невероятно. Уйма предосторожностей. Застрахован на все сто процентов. Я должна показать, что оставила попытки выбраться. Нельзя предпринимать их каждый день, это настораживает его и не дает расслабиться. Мне надо растянуть попытки во времени. Но это так трудно, у меня такое искушение. Каждый день, проведенный здесь, равен неделе снаружи. Сила не действует. Остается хитрость. Для физического единоборства с ним я слаба. Я как представлю только какую-нибудь такую сцену, у меня даже слабость появляется в коленях. Помню, как однажды мы с Дональдом, бродяжничая по Лондону, оказались в рабочем квартале Ист-Энда, где увидели компанию модно одетых бездельников, глумившихся над немолодыми уже индейцами. Мы перешли тогда на другую сторону улицы, и я не знала, куда деваться от стыда. Парни окружили индейцев, хохотали, кричали, поддавали им сзади, сталкивали с тротуара на дорогу. И Дональд сказал еще: «Что может сделать один?», и потому мы оба сделали вид, что торопимся и что нам не до того. Но это было гнусно, их наглая безнаказанность, их сила и наша боязнь этой силы. Приди он сейчас просить прощения и протяни мне плетку, я сейчас уже не посмею его ударить. Бесполезно. Я пыталась заснуть целых полчаса, и все впустую. Писать здесь — своего рода наркотик. Это единственная вещь, которую я делаю с удовольствием, и даже предвкушаю это удовольствие. Сейчас я прочла то, что написала о Д. П. позавчера, и мне это показалось неплохо, читается с интересом. Я понимаю, что для меня это интересно потому, что я дополняю написанное своей фантазией и памятью, посторонним же эти фрагменты не скажут ничего. То есть опять суета и тщеславие. А кажется своего рода магией, волшебством — воспроизводить прошлое. Я сама могу его воспроизвести. Потому что в настоящем жить я не в силах. Я с ума схожу от настоящего. Сегодня я вспомнила то время, когда я познакомила с Д. П. Пирса и Антуанетту. Черные дня. Оборотная сторона его натуры. Впрочем, нет, это все моя глупость. Они заехали в Хемпстед выпить где-нибудь кофе, и единственное, куда можно было пойти, это в кино — но там оказалась очередь. Поэтому я и позволила уговорить себя повести их к нему. 133 Конечно, это было и тщеславие. Я слишком много им рассказывала о Д. П. Так что, в конце концов, они стали намекать мне, что вряд ли я столь близка с ним, если не могу их даже с ним познакомить. И я клюнула. Уже в дверях стало видно, что он нашему посещению не рад, но он всетаки пригласил войти. И, о Боже, это было просто неописуемо, неописуемо. Пирс со своим пижонством и развязностью, а Антуанетта — она просто превзошла сама себя — игривая, строящая глазки. Я еще пыталась все-таки примирить всех друг с другом, но Д. П. держался замкнуто и был в своем обычном пасмурном настроении. И он мог бы, я понимаю, терпеливо пропустить, как всегда, происходящее мимо себя, но тут он изменил своему правилу и стал груб. А ведь он мог заметить уже хотя бы то, что Пирс держался так браво и развязно только от неловкости, от чувства собственной неполноценности. Они попробовали завести разговор о его работах, он отказался поддержать эту тему и начал их оскорблять. Говорить в буквальном смысле непристойности. Извлек все то грязное о школе Слейда и о разных художниках, во что, я знала, он нисколько никогда не верил. Безусловно, прежде всего он старался поддеть Пирса и меня. Но Антуанетта его перещеголяла. Она стыдливо улыбалась, прятала глаза, ресницы ее вздрагивали, но потом она поднимала их и выдавала что-нибудь такое, что было в десять раз грубее и гнуснее, чем у Д. П. Поэтому Д. П. сменил тактику. Он начал резко обрывать нас всякий раз, как только мы пытались заговорить (и меня в том числе). И тут я сделала уже совсем неслыханную глупость, гораздо большую даже, чем ту, что привела их сюда. В разговоре возникла пауза, и он, видимо, решил, что инцидент исчерпан и сейчас мы откланяемся. Но я, как последняя дура, решила, что Пирс и Антуанетта смеются еще и потому, что не верят в мои с Д. П. дружеские отношения, о которых я столько болтала им. И я постаралась показать, что имею на него влияние. Я сказала: «Д. П., не разрешите нам послушать музыку?» Он удивленно посмотрел на меня, и первое мгновение я думала уже, что он ответит «нет», но он вдруг отвел глаза и произнес: «Что ж, давайте. Давайте послушаем, что скажет кто-нибудь другой. Для разнообразия». И он, не спрашивая нас, пошел и поставил пластинку. Слушал он, как обычно, откинувшись на спинку дивана и закрыв глаза. Пирс сразу заухмылялся и стал строить рожи, тоже изображая на лице внимание. Они с Антуанеттой, конечно же, решили, что он позирует. В довершение всего эти странные тонкие и дребезжащие звуки — я думаю, музыка была уже последней каплей. Пирс слушал, задумчиво приставив ко лбу растопыренные пальцы и время от времени прочищал ухо мизинцем. Антуанетта не смела смеяться вслух, это правда, но, тем не менее, она уже чуть ли не икала. Тогда и я улыбнулась. И позволила. Пирс закрыл глаза и стал вздрагивать при каждой вибрации инструмента (я тогда не знала, что 134 это такое). Антуанетта же просто закатывалась, пребывала уже в припадке. И все это было жутко. Я понимала, что он сейчас услышит. И он услышал. Он увидел, как Пирс еще раз прочистил ухо. И Пирс тоже заметил, что он это увидел. Он добродушно улыбнулся, изобразив на лице что-то, типа: не обращайте на нас внимания. Но Д. П. вскочил и выключил проигрыватель. «Вам не понравилось?» — спросил он. «А что, мне это должно было понравиться?» — сказал Пирс. Я сказала: «Пирс, это не смешно». «Но что я такого сделал? Я ведь не издал ни единого звука. Я же не знал, что это должно было нам понравиться». Д. П. сказал: «Убирайтесь». «Мне кажется, что я о Бахе думаю постоянно, — сказала Антуанетта. — Знаете, всегда примерно как о двух скелетах, совокупляющихся на жестяной крыше». И Д. П. (взбешенный, со страшным лицом, он иногда выглядел как настоящий дьявол) сказал: во-первых, я в восторге, что вы в таком восхищении от Баха. От этого напыщенного неудачливого капельмейстера, осмелившегося восстать против всего искусства своего времени. Во-вторых, если это единственное, что вы можете сказать о клавесине, то тогда да поможет вам Бог. И третье (Пирсу), вы мне показались самым наитупейшим балбесом, каких я только видел среди этого вашего нового поколения современных бездельников. И вы (это уже мне) — и это ваши друзья?» Я стояла и не могла ничего произнести. Слова его меня тоже привели в бешенство, и от их поведения я была в бешенстве, но в гораздо большей степени я была смущена, смущена безмерно. Пирс пожал плечами, Антуанетта изобразила, что ей крайне неловко и стыдно, но я видела, что в глубине-то души ее, дрянь, это лишь забавляет, а я стояла вся красная. Да что говорить, и сейчас, до сих пор, эта сцена при воспоминании заставляет меня краснеть. «Не берите в голову, — сказал Пирс. — Это всего лишь пластинка». Мне кажется, что он тоже был зол, иначе бы он не сказал такую глупость. «Вы думаете, это только пластинка? — сказал Д. П. — Правда? Всего лишь пластинка? Вы как эта дура, ее тупоголовая, крысоумная тетка... Как вы думаете, не было ли Рембрандту чуточку скучно, когда он писал свои картины? Или как вы думаете, Бах тоже делал забавные рожи и хихикал, когда создавал все это? Как вы думаете?» С Пирса соскочила вся его веселость, он выглядел почти испуганным. «Как вы думаете, я вас спрашиваю», — прокричал Д. П. Он был ужасен. Со всех точек зрения. И из-за того, что он сам начал все это, сам спровоцировал эту ситуацию и все свое поведение в ней. И из-за того, что совершенно открыто дал волю своей ярости, своей страсти, и в этом случае он уже был ужасен прекрасно. Потому что такого я еще не 135 видела никогда и нигде. Я выросла среди людей, которые всегда старались скрыть свои чувства, а страсть тем более. Он же был весь обнаженный, открытый, грубый... Он даже дрожал весь от своей ярости. Пирс сказал: «Мы намного моложе вас. Нам это кажется слишком сентиментальным, даже каким-то жалким. Выдает его с головой, выворачивает то, чем он на самом деле был...» «Господи, — сказал Д. П. — студенты художественной школы. Х у д о ж е с т в е н н о й школы!..» Я не в состоянии написать, что он сказал еще. Даже Антуанетту это шокировало. Мы просто повернулись и пошли. Дверь мастерской захлопнулась за нами, и мы спустились по лестнице в парадное. Я наорала на Пирса и вытолкнула их на улицу. Антуанетта сказала: «Дорогая, он ведь тебя убьет». Но я захлопнула за ними дверь и подождала. Через минуту наверху снова послышалась музыка. Я поднялась и очень медленно открыла дверь. Возможно, он и слышал, не знаю, но в мою сторону он не смотрел. Я присела на табурет около двери, подождать, пока музыка кончится. Наконец он сказал: «Что вам нужно, Миранда?» «Попросить у вас прощения, — сказала я. — И услышать то же самое от вас». Он отошел к окну и стал смотреть на улицу. Я сказала: «Признаю, я сделала глупость. Может быть, я еще недостаточно взрослая, но я не сучка». Он сказал: «Вы стараетесь». (Хочется думать, что он не имел в виду, что я стараюсь быть ею.) Я сказала: «Вы могли бы попросить нас уйти сразу. Мы бы поняли». Он не ответил. Потом он повернулся от окна и посмотрел на меня через всю мастерскую. Я сказала: «Я прошу прощения». Он сказал: «Идите домой. Спать мы с вами не будем». А когда я встала, он добавил: «А тому, что вы вернулись, я очень рад. Это очень мило с вашей стороны». Потом еще сказал: «Вы и должны были вернуться». Я вышла за дверь и стала спускаться вниз. Он появился наверху. «Я не говорю, что я не хочу с вами спать, я лишь говорю о ситуации. Не о вас конкретно. Вы понимаете?» Я ответила: «Да, я понимаю» — и стала спускаться дальше. Как настоящая баба. Чисто по-женски. Желая дать ему понять, что я оскорблена. А когда я уже открывала дверь, он произнес: «Я сегодня сказал все напрямую. Без экивоков. — И, должно быть, видя, что я все же не поняла, добавил еще: — Спьяну». Ну, и напоследок он сказал: «Я позвоню вам». 136 И он позвонил, он взял меня с собой на концерт слушать русскую музыку, пьесу Шостаковича. И вел себя очень мило. Именно, это точно сказано. Пусть даже он так и не извинился. 26 октября Я не верю ему. Дом этот — его собственность. Он его купил. Если он меня отпустит, он должен будет довериться мне. В ином случае ему надо продать дом и исчезнуть раньше, чем я смогу или смогла бы обратиться в полицию. То и другое для него неприемлемо. Это уже убийственно. Мне остается только верить в то, что он сдержит слово. Он тратит на меня страшные деньги. Должно быть, уже фунтов двести. Любые пластинки, любые книги, любые платья. У него есть все мои размеры. Я нарисовала ему, что мне надо, и даже указала цвет, смешав и сделав выкраску, как в учебнике. И даже нижнее белье и то он мне купил. Я не в силах была надевать все эти приготовленные заранее для меня черные и бежевые творения и поэтому велела ему пойти и принести чтонибудь приемлемое от Маркса и Спенсера. Он еще спросил: можно ему купить сразу много? Ему, должно быть, нелегко покупать в магазинах женские вещи, поэтому мне было понятно его желание приобрести все за один раз. Но что все-таки должны были о нем подумать? Пара плавок, десяток трусиков, лифчики и пояс. Я спросила его, что ему сказали, когда он подавал продавщице список, и он в ответ покраснел. «Мне показалось, они подумали, что я немного странный», — ответил он. И это было впервые за все время здесь, когда я от души расхохоталась. Каждый раз, когда он покупает мне что-то, я думаю — вот еще одно доказательство того, что он не собирается меня убивать или делать мне еще какую-либо неприятность. И мне, хотя и не следовало бы допускать этого, нравится, что в ленч он приходит неизменно в одно и то же время, где бы он ни был до этого и что бы ни делал в этот момент. И всегда со свертками. Как непрекращающийся, бесконечный Новый год, и даже не надо благодарить Деда Мороза. Иногда он приносит то, чего я и не прошу. И всегда цветы, что очень трогательно. Шоколад. Хотя его он съедает, в основном, сам. И каждый раз он спрашивает, что бы я хотела купить. Я понимаю, что это он, как дьявол, соблазняет меня, показывая, демонстрируя мне все то, чем я могла бы владеть. Поэтому я стараюсь не продаваться. И делаю так, что стою ему много маленьких вещей, хотя он и ждет, что я попрошу наконец чего-нибудь большего. Он с ног сбивается, чтобы заслужить мою благодарность. Но у него не получится. А сегодня мне пришла в, голову жуткая мысль: они могут подозревать в этом Д. П. Каролина обязательно назовет полиции его имя. Бедняга. Он же будет издеваться над ними, а они этого не любят. 137 Сегодня пыталась нарисовать Д. П. Безнадежное занятие. Даже странно. Никакого сходства. Роста он невысокого, всего лишь на дюйм или два выше меня (я всегда мечтала о высоком мужчине. Глупость, естественно). И он уже начинает лысеть, а нос как у еврея, хотя он и не еврей (да мне все равно, даже если б и был). И лицо слишком простецкое. Помятое и какое-то поношенное, отчасти превратившееся уже в маску, так что я никогда до конца не была уверена, какое выражение в каждый конкретный момент оно имеет. Иногда я будто замечала, как что-то проступает сквозь нее, но никогда не была убеждена на все сто процентов. Для меня он иногда надевал даже скучающее, усталое, равнодушное лицо. И это-то и был Д. П. Жизнь - это мыльный пузырь, и было бы глупо воспринимать ее всерьез. Серьезно может быть только искусство, вся остальная жизнь — это лишь игра, пустяк, она ломаного гроша не стоит. И не из-за атомной бомбы, как принято говорить. А из-за всегда существовавшего и неизбежного для каждого великого последнего дня, того момента, «когда неумолимый последний день грянет». Маленький, коренастый, простолицый, нос крючком, немного даже смахивает на турка. Совсем не английская внешность. Во мне есть это глупое представление об истинно английской внешности. Образ настоящего рекламного мужчины. Мужчина девочки из Пансиона. 27 октября Подкоп около двери — мой лучший вариант. Я уже готовлю себя к тому, что скоро должна буду им заняться. И мне кажется, что я нашла способ, как его спровадить надолго... Днем сегодня тщательно осмотрела дверь. Она деревянная и с моей стороны обита железом. Страшно тяжелая. Мне ее никогда ни сломать, ни приподнять. Он позаботился, чтобы у меня под рукой не было ничего, чем бы я могла сделать это. Я стала собирать разные «инструменты». Присмотрела выключатель, его можно разломать, и там будет что-нибудь острое. Вилка и две чайные ложки. Они алюминиевые, но пригодиться тоже могут. Ну, а больше всего мне недостает чего-нибудь острого и твердого, чем можно было бы расковырять цемент между кирпичами. Проделай я дыру сквозь них, я смогу выбраться в наружный подвал. Одна эта мысль вызвала во мне прилив деятельности. Нетерпеливой лихорадочной активности. Но я так и не сделала ничего. Но я ощутила вдруг нечто обнадеживающее. Не могу еще даже разобраться, что это и отчего, но почувствовала. 28 октября 138 Д. П. как художник. По выражению Каролины, «второсортный Пол Нэш» — глупо, но доля истины в этом есть. Нет того, что он сам бы назвал фотографией. Но не исключителен. Я думаю, это просто оттого, что он пришел к тем же выводам, что и Нэш. И неважно, понимает он, что в его пейзажах колорит Нэша, или нет. И в том, и другом случае это лишь придирки к нему. Видите ли, он не понимает этого и не говорит об этом. Я сейчас к нему объективна. Сам виноват, его школа. Он терпеть не может абстрактную живопись — даже таких художников, как Джексон Поллок и Николсон. Почему? Больше чем наполовину он и меня обратил в свою веру, убедил на уровне сознания, и все-таки некоторые картины, называемые им плохими, мне все равно нравятся. Мне сдается, он слишком придирчив. Он требует стишком многого. Я не против этого. Он терпеть не может людей, которые «не договаривают до конца» — он-то всегда договаривает. Даже слишком. И на этом он стоит насмерть. Как бы там ни было, но у него есть — если исключить его отношение к женщинам — свои непоколебимые принципы. И уже тут большинство так называемых принципиальных людей выглядят до сравнению с ним как пустые консервные банки. (Помню, он так сказал однажды о Модриане: дело не в том, нравится это тебе или не нравится, а в том, должно ли это тебе нравиться? То есть я хочу сказать, он не любил абстрактную живопись из принципа. Чувства свои он игнорировал.) Ну и под самый конец я оставила худшее. Женщины. Это, должно быть, было в четвертый или пятый раз, когда я приходила к нему. Я пришла в тот момент, когда у него находилась какая-то куртизанка. Думаю (сейчас уже), что они собирались переспать. И я вела себя, конечно, очень глупо. Но они, казалось, ничего не имели против моего прихода. Им не надо было вообще открывать на звонок. И она была очень любезна со мной, блистательно исполняя роль хозяйки дома. Должно быть, лет сорока — и что он только в ней нашел? Потом, много позже, гдето в мае, перед этим я еще заходила к нему вечером и не застала его (а может быть, он был с кем-то в спальне?), я пришла, и он оказался у себя один, и мы немного поговорили (он рассказывал мне о Джоне Минтоне), и потом он поставил свою «индийскую» пластинку, и мы притихли. Но на этот раз он не закрыл глаза и все продолжал смотреть на меня, так что я даже почувствовала себя неловко. Когда «рага» кончилась, некоторое время еще стояла тишина. Я сказала: «Перевернуть?», он ответил: «Не надо». Он сидел в тени, и мне его было плохо видно. Вдруг он сказал: «Как вы насчет того, чтобы переспать?» «Никак», — ответила я. Он застал меня врасплох, и потому мой ответ прозвучал несколько глупо. К тому же он меня напугал. 139 Он сказал, все так же продолжая на меня глядеть: «Десять лет назад я бы женился на вас. Вы бы были моя вторая роковая ошибка». В общем-то, это не было совсем для меня неожиданным. Я давно уже ждала чего-нибудь подобного. Он подошел и встал около меня: «Вы уверены?» Я сказала: «Я не за этим прихожу сюда. Совсем не за этим». Все это было так на него непохоже. Так грубо. Сейчас я думаю, сейчас я знаю, что он, напротив, был добр тогда ко мне. Нарочитая откровенность, резкая прямота и грубость. Как будто он давал мне фору в шахматах. Как бывало уже не раз, когда мы играли с ним. Он пошел на кухню сварить кофе, и я услышала через дверь его голое: «Вы меня вводите в заблуждение». Я подошла и встала в дверях, глядя, как он следит за кофе в турке. Он слегка повернул ко мне голову и посмотрел на меня через плечо. «Могу поклясться, иногда вам этого хочется». «Сколько вам лет?» — спросила я. «Я мог бы быть вашим папой. Вы это имели в виду?» «Я терпеть не могу беспорядочные половые отношения, — сказала я. — Больше я ничего не имела в виду». Он опять отвернулся от меня. Я чувствовала, что злюсь на него. Меня бесила эта его невозмутимая беспечность. «Во всяком случае, для такого вы меня не привлекаете ни в малейшей степени». Он произнес, все так же стоя ко мне спиной: «Что вы понимаете под беспорядочными половыми отношениями?» Я сказала: «Близкие отношения ради удовольствия. Одна только чувственность. Без любви». Он сказал: «В таком случае, у меня очень беспорядочные половые отношения. Я никогда не сплю с людьми, которых люблю. Было только один раз». Я сказала: «Вы меня предостерегали насчет Крукшэнк». «Теперь я предостерегаю вас насчет себя, — сказал он. Он стоял, глядя в турку. — Вы видели когда-нибудь в Эшмолине «Охоту» Уччелло? Она ошарашивает тебя уже одной композицией. Без учета даже технической ее стороны. Она безупречна. Профессора с именами, всеевропейские знаменитости жизни положили, чтобы узнать, где зарыта тайна этого безотказного воздействия, того, что чувствуется сразу при первом взгляде. Так и сейчас я тоже чувствую в вас эту тайну. Но я не европейский профессор, меня не очень занимает, отчего это происходит. Главное, что это есть. В вас это есть. Вы как средневековая мебель. Держитесь до последнего», — он произнес это без тени шутки, очень серьезным тоном. Даже чересчур серьезным: «Все это случайность, конечно. Гены...» 140 Он снял с плиты турку в самый последний момент. «Одно вот только, — сказал он. — Что это за зайцы прыгают у вас в глазах? Что это? Страстность? Сдержанность?» Он стоял, разглядывая меня, смотря опять своим спокойным, отстраненным, много понимающим взглядом. «Но только это не постель», — сказала я. «Но для кого?» «А ни для кого». Я села на диван, а он на свой высокий стул около станка. «Я вас напугал?» — сказал он. «Меня предупреждали». «Тетя?» «Да». Он повернулся и очень медленно, очень осторожно налил кофе в чашки. Он сказал: «Всю свою жизнь я испытывал потребность в женщине. По большей части они приносят мне только несчастья. В основном через так называемые понятия мужской чести и благородства. Вот, — он указал на фотографии своих двух сыновей, — прекрасный плод чести и благородства». Я подошла взять свою чашку и встала, облокотившись о станок, в отдалении от него. «Роберт всего на четыре года моложе вас, — сказал он. — Не пейте пока. Дайте гуще осесть». Я понимала, что он все еще не оставил своей затеи. Просто это он использует прием разговора. Так сказать, ретировался и производил перегруппировку. Заговорить меня, разоружить откровенностью, обескуражить прямотой, лишить всех иллюзий на свой счет, но в то же время вызвать к себе сочувствие и симпатию. Он сказал: «Похоть элементарна, это основа. Вы достигаете понимания сразу. Хотите вы этого оба, или один из вас этого не хочет. Но другое любовь. Женщины, которых я любил, всегда говорили, что я эгоист. Это как раз и заставляло их меня любить. Но потом это же и порождало ко мне отвращение. А как вы думаете, что они всегда подразумевали под эгоизмом?.. — Он соскребал кусочки замазки с бело-голубой китайской вазы, подобранной им где-то на свалке, которую он принес домой и склеил и на которой два свирепых разъяренных охотника преследуют одну крохотную несчастную лань. Пальцы очень короткие, руки уверенные. — И не в том дело, что они были против того, что я хочу писать по-своему, жить по-своему, говорить по-своему, нет, против этого они ничего не имели. Это их даже возбуждало. Но то, чего они не могли выносить, — это мою ненависть к ним, когда они не живут своей собственной жизнью. Сами». Как будто я тоже была мужчиной. 141 «Люди вроде вашей тетки считают, что я циник, разрушитель семей... Соблазнитель, распутник. Но я не совратил ни одной женщины в жизни. Я не скрываю, я люблю женское тело, мне нравится, как самая пустейшая из женщин становится прекрасной, когда она уже без одежды и думает, что решается на самый безнравственнейший и отчаяннейший шаг. Они всегда так думают в первый раз. Знаете, что самое эфемерное в природе вашего пола?» Он покосился вопросительно на меня, и я отрицательно покачала головой. «Невинность. Единственный раз ты видишь это, когда женщина снимает с себя все и не может смотреть тебе в глаза (как и я не могу в этот момент). В точности первый ботичеллевский момент, когда она первый раз предстает голой. Но все меняется после, от прошлого не остается и следа, и на сцену выходит Старая Ева. Шлюха. Ну, а под занавес удаляется Венера Анадиомена». «Кто это?» — спросила я. Он объяснил. Я понимала, что нельзя было ему позволять так со мной говорить, он плел вокруг меня паутину. И я даже скорее не понимала, а инстинктом чувствовала это. Он сказал: «У меня было множество женщин и девушек, как вы. Некоторых я знал хорошо, некоторых совратил вопреки их положительной природе (и вопреки моей положительной природе тоже). На двух я был женат. Некоторых я вообще едва знал, просто оказался рядом на выставке, в метро или еще бог знает где». Он помолчал и спросил «Вы читали Юнга?» «Нет», — сказала я. «Он дал вашему типу женщин название. Не то чтобы это помогало. Болезнь остается болезнью, как ее ни именуй». «Какое название?» — спросила я. Он сказал: «Не стоит называть болезни по именам». И после этого наступило какое-то неловкое молчание, как будто мы уже сказали все и дошли до поворотной точки, и он, казалось, ждал, на что решусь я теперь, как поведу себя дальше. Начну ли возмущаться или, может быть, разозлюсь, испугаюсь. Я возмущалась и злилась позже, потом (и довольно своеобразным способом). Но сейчас я рада, что тогда все-таки сдержалась и не сбежала. Потому что это был один из тех моментов, когда человек взрослеет. Я неожиданно поняла тогда, что должна повести себя либо как девчонка, которая еще год назад ходила в школу, либо уже как взрослая. «Вы чудной ребенок», — сказал он наконец. «Старомодная?» — спросила я. «С вами было бы невыносимо скучно, не будь вы такой хорошенькой». 142 «Спасибо». «В общем, я примерно так и полагал, что спать вы не согласитесь, — сказал он. — Примерно этого и ждал». «Знаю», — ответила я. Он посмотрел на меня долгим взглядом. Затем совершенно переменился и достал шахматную доску, и мы сели с ним сыграть партию, и он позволил мне поставить ему мат. Обычно он никогда не допускал этого, и я уверена, что он тогда сделал это нарочно. Мы почти не говорили за доской, и со стороны, наверное, выглядели как два настоящих игрока, объясняясь только языком шахмат, и было что-то символическое в моей победе. Он именно это и заставил меня почувствовать. Не знаю, что это обозначало. Может быть, он хотел этим сказать, что моя «добродетель» восторжествовала над его «пороком» или что-то еще более отстраненное, например, что иногда победа является поражением... В следующий раз, когда я появилась у него, он показал мне сделанный им маленький рисунок. На нем была турка и две чашки, стоящие на станке. Нарисовано превосходно, совершенно просто, совершенно без всякой суеты и нервозности, без всяческих этих умных студенческих потуг на открытия в изображении простых вещей, чем я и сама грешу. Лишь две чашки и маленькая медная турка и его рука. Или просто рука. Лежащая около одной из чашек. На обороте он написал «Apres»4 — и дата. И затем еще: «Pour une princesse lointaine»5. Слово «некой» было несколько раз подчеркнуто. Я еще собиралась написать об Антуанетте. Но я слишком устала. Мне захотелось выкурить сигарету, когда я писала, и теперь воздух здесь такой спертый. 29 октября (Утро). Он куда-то уехал? В Льюис? Антуанетта. Это произошло спустя месяц после истории с пластинкой. Мне бы уже следовало догадаться самой, потому что Антуанетта стала со мной так нежна и постоянно бросала на меня лукавые взгляды. Я думала сначала, что у нее что-то с Пирсом. А потом в один прекрасный день попала в совершенно неловкую ситуацию. Я пришла к нему и позвонила, потом заметила, что дверь не заперта, толкнула ее, взглянула наверх и увидела тоже высунувшуюся из верхней двери Антуанетту. Мгновение мы смотрели друг на друга. Потом она вышла на площадку, она одевалась. Она молча показала мне, чтобы я поднималась в мастерскую, и, что было 4 5 Apres (фр.) – после. Pour une princesse lointaine (фр.) - некой далекой принцессе. 143 хуже всего, — я покраснела совершенно, сильнее не бывает, а она стояла как ни в чем не бывало. Она была лишь удивлена. «Не смотри так испуганно, — сказала она. — Он будет через минуту. Он просто вышел за...» — но за чем он вышел, я так никогда и не узнала, потому что захлопнула за собой дверь. Я еще ни разу по-настоящему не пыталась разобраться в том, почему я тогда была так рассержена, возмущена и почему мне было так больно. Дональд, Пирс, Дэвид — все говорили, что Антуанетта и в Лондоне жила как в своем Стокгольме, — она и сама мне говорила, и все мне говорили. Да и Д. П. дал мне понять, что он сам из себя представляет. И это не было всего лишь ревностью. Это было что-то большее: как может такой человек, как Д. П., быть близок с такой, как она, — такой настоящий с такой пустышкой, такой фальшивкой, такой распущенной. Хотя почему он, собственно, должен был учитывать мое мнение? С какой стати? Он на двадцать один год старше меня. Всего на девять лет младше П. Долгое время после этого Д. П. был мне противен, да и я сама была противна себе. Все от моей ограниченности. Я заставляла себя терпеть встречи с Антуанеттой и ее разговоры. Нельзя сказать, что она сразу же раскудахталась, нет. И я думаю, что это была работа Д. П. Он запретил ей хвастать. Она появилась на следующий день. Она сказала, что ей надо попросить у меня прощения. «Так уж получилось», — выразилась она. Я страшно ревновала. Он опять заставил меня почувствовать себя старухой по сравнению с ним. Они же с Антуанеттой были как нашкодившие ребята. Радующиеся этой своей тайне. А я к тому же еще и фригидна. Я даже видеть Д. П. не могла. В конце концов, было это где-то через неделю, он однажды вечером опять позвонил мне в дом Каролины. Вины в голосе у него я не почувствовала. Я сказала, что слишком занята. И что я не могу зайти к нему сегодня, нет. Если бы он стал настаивать, я бы отказалась наотрез. Но мне почудилось, что он уже почти собрался положить трубку, поэтому я, опережая его, произнесла: «Я зайду завтра». Мне очень хотелось показать ему, как я обижена. Трудно сделать такое по телефону. «Мне кажется, ты стала часто с ним видеться», — сказала Каролина. Я сказала. «У него р о м а н с этой девушкой из Швеции». Мы даже с ней обсудили это. Я была очень справедливой к нему. Защищала его. Но ночью, когда лежала одна в постели, делала совершенно противоположное: одно за другим предъявляла ему обвинения. Не спала почта всю ночь. На следующий день при встрече первое, что он спросил (причем без всякой игры), не вела ли она себя по отношению ко мне дрянью. 144 Я сказала: «Нет, совсем нет. И потом, если мне совершенно все равно, с какой стати она будет вести себя так?» Он улыбнулся. И этим как будто сказал: я тебя, подруга, хорошо понимаю. От этого мне только захотелось закатить ему пощечину. А потом, я совершенно не могла в этот момент выглядеть так, как будто мне их дела совершенно безразличны, и это было противнее всего. Он сказал: «Мужчины подлецы». Я сказала: «И самое подлое в них то, что они могут говорить об этом с улыбкой на лице». «Это правда», — сказал он, и наступило молчание. Я уже пожалела, что пришла, пожалела, что не выбросила его сразу из своей головы. Я взглянула на дверь спальни. Она была приоткрыта, и за ней видна была кровать. Я сказала: «Просто я еще не научилась жить в раковине. Только и всего». «Послушайте, Миранда, — сказал он. — Нас с вами разделяет двадцать долгих лет. Я больше знаю жизнь, чем вы, я больше жил, и больше предавал, и больше видел пострадавших от предательства. В вашем возрасте люди носятся с идеалами. И вы думаете, если я иногда понимаю, что в искусстве бездарно, а что важное и главное, то я и в жизни должен быть более добродетелен. Но я не хочу быть добродетельным. Единственное, что во мне есть привлекательного и ценного (если, конечно, такое есть) для вас — это моя честность. Ну, и опыт. Но не добродетель. Я вообще не положительный человек. Меня даже нельзя назвать хорошим. Возможно даже, что в нравственном отношении по сравнению с вами я молокосос. Понимаете вы это?» Он оправдывался, я это чувствовала. Я была упряма, а он заискивал и поддавался, то есть делал все наоборот. Чтобы мне угодить. Но я все никак не могла отвлечься от мыслей о сопоставлении: вот он пригласил меня на концерт, а потом вернулся после него сюда, к ней. Вспомнила, как несколько раз я звонила, и он не открывал. Сейчас я вполне осознаю, что это элементарная ревность. Но тогда мне казалось, что он сам предает свои принципы (впрочем, я до сих пор толком не могу разобраться — все путается у меня в голове. Я не вправе судить…). Я сказала: «Я бы хотела послушать Рави Шанкар». Не могла же я сказать: я прощаю вас. Поэтому мы прослушали пластинку. Потом играли в шахматы. И он выиграл. Об Антуанетте не упоминали, за исключением его слов в самом конце, когда он сказал. «Все это уже в прошлом». На что я не ответила. «Она все это затеяла лишь для забавы», — сказал он. Но по-прежнему у нас уже не стало. У нас было своего рода перемирие. Мы встречались с ним еще несколько раз, но никогда наедине, я написала 145 ему два письма, когда была в Испании, и он прислал мне в ответ открытку. В начале этого месяца я видела его один раз. Но об этом я напишу позже. И еще я напишу о том необычном разговоре, который у меня произошел с той куртизанкой. Антуанетта иногда все же рассказывала. Она говорила о том, что он ей как-то упомянул о своих мальчиках, чем вызвала во мне острую к нему жалость. Как они обычно просят его не приходить к ним в их привилегированную подготовительную школу, а встречаться с ними уже где-нибудь в городе. Стеснялись того, что его кто-нибудь может увидеть. И что Роберт в Мальборо-колледже свысока относится к нему уже сейчас. Мне о них он никогда не рассказывал. Возможно, в глубине души он считал, что я из того же мира, что и они. Маленькая, буржуазная, хорошо образованная, претенциозная сука. (Вечер.) Сегодня я опять попробовала нарисовать Д. П. по памяти. И опять абсолютно безуспешно. К. после ужина сел читать «Над пропастью во ржи». И, пока читал, я несколько раз поймала его на том, что он смотрит, сколько страниц ему еще осталось. Он читает лишь для того, чтобы продемонстрировать мне свое усердие. Сегодня вечером, проходя мимо наружной двери (ванный день), я сказала: «Ну, спасибо, все было хорошо, благодарю за прекрасный вечер, до скорого свидания». И взялась за ручку двери. Она, конечно, была заперта. «Что-то не поддается», — сказала я. Но он не улыбнулся. Он лишь стоял и смотрел. Я сказала: «Это шутка». Он ответил: «Я знаю». И надо заметить, заставил меня почувствовать себя совершеннейшей дурой. Только тем, что не улыбнулся. Безусловно, Д. П. никогда не оставлял своих попыток затащить меня в постель. Почему-то здесь я осознаю это особенно отчетливо. Он постоянно искал способ добиться этого. Он то злил меня, то дразнил, то насмехался — кстати, никогда не унижая. Действовал окольным путем. Но ни разу ни в каком смысле не применил силу. Даже ни разу не дотронулся до меня. Всегда, как это ни странно звучит, проявлял уважение ко мне, свой особый вид уважения. Трудно сказать, знал ли он по-настоящему, чего он сам хочет. Он злил меня, чтобы подтолкнуть к себе или уж от себя, — куда именно, мне кажется, он и сам не ведал. Оставлял это на волю случая. Опять фотографии сегодня. Но немного. Я сказала, что у меня от вспышки болят глаза. И потом, мне не нравится, что он все время мной помыкает. С этим его подобострастным «Нельзя ли мне сделать вот это...», «Не соизволите ли...» — хотя нет, он не говорит «соизволите». А странно, что не говорит. 146 «Вам следует участвовать в конкурсах красоты», — сказал он, перематывая свою пленку. «Спасибо», — ответила я. (И весь этот разговор — разговор сумасшедших людей. Он говорит так, как будто я свободна и могу в любую минуту выйти, куда мне вздумается, и главное, и я ведь отвечаю в том же духе.) «Я ручаюсь, вы бы отлично смотрелись, знаете, в этих штучках...» — сказал он. Я не поняла. «Ну, это те французские купальные костюмы». «Бикини?» — спросила я. Я не могла позволить ему говорить со мной в таком тоне и поэтому посмотрела на него осуждающе. «Вы это имели в виду?» «Я просто с точки зрения фотографа», — сказал он, краснея. И странная вещь, я ведь поняла, что он имел в виду именно это. У него и в мыслях не было сказать что-либо неприличное. Он ни на что не намекал. Он просто, как обычно, неловко выразился. Сказал буквально то, что думал. Что я для фотографа представляла бы большой интерес в бикини. Я начинаю подумывать, что тут и есть его главное. Оно очень глубоко скрыто, но оно должно быть где-то здесь. Впрочем, это слишком. Очень большая честь считать, что в нем что-то глубоко скрывается. Нечему в нем скрываться... Славная ночная прогулка. Огромное пространство чистого неба, безлунная ночь и теплые белые звезды, как морские жемчужины, и нежное дуновение. С запада Я заставила его провести себя и круг, и другой, и третий десять или двенадцать раз. Шелестели ветви. Сова ухала в лесу. И в небе дикость, свобода, западный ветер, воздух, и всюду пространство и звезды. Ветер, полный запахов дальних краев. Запахов надежд. Моря. Я была уверена, что чувствовала запах моря. Позже я спросила его (там я была с кляпом): «Мы около моря?» И он ответил: «В десяти милях». Я спросила: «Около Льюиса?» Он сказал: «Я не могу вам ответить». Как будто кто-то посторонний строго-настрого запретил ему говорить. (И часто я замечала за ним это: как над забитой, маленькой, униженной хорошей частицей его натуры одерживала победу ее главная дурная часть.) В доме я не смогла перемениться сразу, и мы поговорили о его жизни, опять о его семье. Я ходила с бокалом вина. Иногда я пью его (чуть-чуть), чтобы разузнать, смогу ли я как-нибудь заставить его напиться и потерять осторожность, но он почти не притрагивается. Хотя он говорит, что не 147 трезвенник. Следовательно, это опять идет от его высоких качеств стражника. Бдительность. Неусыпность. М. Расскажите еще что-нибудь о вашей семье. К. Нечего больше рассказывать. Все переговорено. М. Так не говорят. Вы не там делаете ударение. К. Но я так всегда говорю. М. Так нельзя говорить. К. Раньше мне говорили, что у меня все хорошо с английским. До того, как я узнал вас. М. Это не имеет значения. К. Я думаю, что вы были отличницей в школе. И все такое. М. Да, была. К. У меня было хорошо с математикой и биологией. М. (Я считала петли на джемпере — дорогая французская шерсть.) Хорошо, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать... К. Я получил хобби-приз на конкурсе увлечений. М. Вы умница. Расскажите мне еще о вашем отце. К. Я говорил. Он был представителем фирмы по распространению товаров. М. Коммивояжер? К. Сейчас их называют представителями. М. Он погиб перед войной в автомобильной катастрофе. Мать ваша уехала с другим мужчиной. К. Она, наверное, тоже была безнравственной. Как и я. (Я бросила на него строгий взгляд. Слава богу, что на шутки он отваживается очень редко.) М. Поэтому ваша тетя взяла вас к себе. К. Да. М. Как Джо и Пип. К. Кто? М. Неважно. К. Она поступила хорошо. Она спасла меня от приюта. М. А ваша кузина Мейбл. Вы никогда ничего не говорили о ней. К. Она старше меня. Ей тридцать. У нее есть еще старший брат. Он уехал после войны в Австралию к дяде Стиву. Этот-то уж настоящий австралиец. Провел там всю жизнь. Я его не видел ни разу. М. Есть у вас еще родственники? К. Есть родственники дяди Дика. Но тетя Энни с ними никогда не ладила. М. Вы не говорили, что Мейбл из себя представляет. К. Она урод. Паралитик. Настоящая злыдня. Всегда сует нос не в свое дело. М. Она не может ходить? 148 К. Только по дому. Нам приходилось вывозить ее на улицу в кресле. М. Возможно, я ее видела. К. Если не видели, немного потеряли. М. Вам не жалко ее? К. Когда тебя заставляют все время жалеть... Это тетя Энни виновата. М. Ну ладно, а что Мэйбл? К. Она все время хотела, чтобы все вокруг тоже было уродливым. Не объяснишь даже. Как будто никто рядом с ней уже не имел права быть нормальным. Открыто она ничего не скажет. Просто один взгляд ее, и приходилось быть очень осторожным. Например, вот сболтни я после работы, не подумав, что в этот день утром чуть не опоздал на автобус и, чтоб не пропустить его, мне пришлось бежать как угорелому. И тетя Энни скажет: «Подумать только, какое счастье, что можешь бегать...» Мэйбл ничего не скажет. Она, как всегда, только посмотрит. М. Какая низость! К. Приходилось всегда быть начеку и сильно много не говорить. М. Очень много. К. Я и говорю — очень много. М. Почему вы не сбежали? Все время терпеть такое? К. Я подумывал уже иногда. М. Потому что вы были один мужчина в доме? Надежда и опора. Благородно с вашей стороны. К. Скорее, не опора, а ночной сторож. (Трогательно, он пытался быть циничным.) М. И теперь они поехали выколачивать сострадание из других ваших родственников. К. Думаю, что так. М. Пишут они из Австралии вам письма? К. Пишут. Только не Мэйбл. М. Не прочтете ли вы мне когда-нибудь одно из них? К. Зачем? М. Мне интересно. К. (Большая внутренняя борьба.) Я как раз получил сегодня одно. Оно со мной. (Множество ужимок, но в конце концов он вытаскивает письмо из кармана.) Тут одни глупости. М. Ничего, читайте. Все подряд. Он сел около двери, а я вязала, вязала, вязала — слово в слово письмо я не запомнила, но было там примерно вот что: «Дорогой Фред. (Это так они меня зовут, — сказал он, — им не нравится Фердинанд», — и покраснел от смущения.) Спасибо за письмо, и я писала тебе в последнем, что деньги эти твои. Бог был очень добр к тебе, и ты не должен быть неблагодарным к нему и поступать против его воли, жаль, что ты совершил такой шаг, дядя Стив говорит, что собственность всегда 149 приносит больше беспокойств, чем сама того стоит. Я заметила, ты ничего не ответил на мои вопросы о женщине, которая должна убирать в доме. Я знаю мужчин и знаю, что они считают чистоту не за главную добродетель. Я не имею никакого права, и ты был так добр, Фред, дядя Стив, и мальчики, и Герта не понимают, почему ты не поехал сюда с нами, только вот сегодня Герта говорила, что ты должен быть здесь, твое место с нами, но не думай, что я неблагодарна. Надеюсь, что Бог меня простит, но у нас большой опыт, и ты не узнал бы Мэйбл, она загорела здесь на солнце, и все хорошо, но мне только не нравится, что пыльно. Все тогда становится грязно, и все здесь живут совсем по-другому, чем мы у себя дома, говорят они больше как американцы, чем как мы, даже дядя Стив. Но я не раскаиваюсь, что не вернулась на свою Блэкстоун-роуд, только вспомню о тамошней сырости и грязи, надеюсь, что ты сделал все, что я говорила, и проветрил комнаты, и оклеил обоями, как я говорила, и нашел хорошую женщину для уборки, как я тоже говорила. Фред, я очень беспокоюсь, как бы деньги не вскружили тебе голову, на свете множество хитрых и бесчестных людей («Она имеет в виду женщин», - сказал он). Я воспитала тебя уж как могла, но воспитала, и если ты делаешь что-то неправильно, то это для меня, как будто это плохо делаю я. Я не стану показывать письмо Мэйбл, она говорит, что ты все это не любишь. Я знаю, ты уже большой («То есть исполнилось двадцать один год», — сказал он), но я продолжаю о тебе все равно беспокоиться так же, как и раньше («Она имеет в виду тогда, когда забрала меня из приюта», — сказал он). Мельбурн нам нравится, это большой город. На следующей неделе мы собираемся в Брисбен, побыть там у Боба и его жены. Она написала нам хорошее письмо. Он встретит нас на вокзале. Дядя Стив, Герта и ребятишки шлют тебе привет. И Мэйбл, и твоя всегда любящая тетя». «Потом, — сказал он, — она пишет, чтобы о деньгах я не беспокоился, им вполне хватает. Потом она еще раз сказала, что она надеется, я нашел женщину, которая будет тут работать, она говорит, что молодые плохо убирают теперь». (И у нас воцарилось молчание.) М. Вы считаете это хорошим письмом? К. Она всегда так пишет. М. Меня чуть не стошнило. К. Она не получила никакого образования. М. Это не из-за языка. В голове у нее одна подлость. К. Она взяла меня к себе. М. Да, она взяла. Она взяла вас к себе, и она продолжает держать вас при себе. И делает из вас абсолютного дурака. К. Очень вам благодарен. 150 М. Да, делает. К. О, вы правы. По обыкновению. М. Ох, прекратите. (Я положила вязанье и закрыла глаза.) К. Она и вполовину не помыкала мной, как вы это делаете сейчас. М. Я не помыкаю вами. Я стараюсь вас учить. К. Вы учите меня начать презирать ее и думать, как вы, а скоро вы уйдете, и я останусь один вообще. М. Опять вы плачетесь. К. Это единственное, что вы никогда не сможете понять. Вы только лишь входите в комнату, и люди уже любят вас, и вы можете с кем угодно разговаривать, и все вам дается, и все вы понимаете, но когда... М. Да замолчите вы! Вы достаточно отвратительны и без ваших всхлипываний. Я собрала вязанье и отложила в сторону. Когда я посмотрела на него, он стоял у двери открыв рот, пытаясь что-то сказать. Я понимала, что обидела его, и знала, что он заслуживает такого обращения, но все-таки... Я его обидела. Он сделался таким угрюмым. И я вспомнила, что он разрешил мне прогулку по саду. Мне стало неловко. Я подошла к нему и сказала: «Я прошу прощения» — и протянула ему свою руку, но он не взад ее. Это нелепица, но у него тоже есть какое-то своего рода достоинство, и он, в самом деле, был искренне обижен и демонстрировал мне это. Тогда я взяла его за руку и заставила снова сесть и сказала, я хочу рассказать вам сказку. «Жил-был, — начала я, и он горько-горько уставился глазами в пол, — один очень противный, уродливый монстр, который однажды похитил принцессу и посадил под замок в подвале своего замка. И каждый вечер он спускался в подземелье, и заставлял ее садиться рядом, и приказывал говорить ему: «Вы красавец, мои повелитель». И каждый вечер она отвечала: «Вы отвратительны, мой урод». И тогда чудище поникало головой и чувствовало себя обиженным и несчастным. И вот в один из таких вечеров принцесса сказала «Если бы вы сделали то-то и то-то, вы бы могли стать красавцем», — но чудище сказало: «Я не могу, я не могу». Принцесса сказала: «Попробуйте, попробуйте». Но чудище опять повторяло. «Я не могу, я не могу». И каждый вечер происходило одно и то же. Он просил ее солгать, а она не лгала. Принцесса даже начала подумывать, что ему это доставляет удовольствие — быть таким уродливым, противным монстром. Потом в один прекрасный день, когда она в пятидесятый раз сказала ему, что он урод, она увидела, что он плачет. И она сказала: «Вы можете сделаться совершенным красавцем, если только решитесь совершить всего лишь одно-единственное, всего одно... Решаетесь?» — «Да», — ответил на этот раз монстр, наконец, он набрался смелости сделать то, что она говорит. «Тогда отпустите меня», — сказала она. И он отпустил. И вдруг 151 из безобразного, уродливого чудища он превратился в прекрасного принца, снова в того принца, которого когда-то заколдовала ведьма. И пошел вслед за принцессой вон из замка. И они оба прожили счастливо всю жизнь». Глупо было, конечно, рассказывать ему такое. Этому обреченному, беспросветному, несчастному созданию. Он не проронил ни слова и только продолжал глядеть в пол. Я сказала: «Теперь ваша очередь рассказывать сказку». И он лишь произнес: «Я люблю вас». И его ответ был гораздо значительнее моего рассказа, и он сам имел гораздо больше достоинства, чем я, в тот момент. Я почувствовала себя маленькой и глупой, все время со своими насмешками, издевками, со своей ненавистью к нему и демонстрацией ему своей ненависти. Так это все мелко. И странно, мы сидели в тишине лицом друг к другу, и я испытала (и такое было у меня уже раз или два) чувство совершенной к нему близости. Не любви, не влечения или симпатии в каком бы то ни было смысле — а чувство близости людей, связанных одной судьбой. Выброшенных на остров иди оказавшихся на одном плоту — вместе. Ни в коей мере не желающих этого — и все же вместе. И я ощутила в тот момент печаль, жалость и сочувствие ко всему этому жуткому ничтожеству его жизни. Из-за всех этих чудовищных его теток и кузин и всех этих родственников в Австралии. Безмерную скуку и безнадежность всего его окружения. Это люди в метро с картин Генри Мура, высвеченные вспышкой. Люди, которые никогда не смогут видеть, чувствовать, танцевать, рисовать, плакать от музыки, понимать мир, радоваться теплому западному ветру. Никогда не смогут по-настоящему. Только три эти слова, а что значат… Я люблю вас. И полная безнадежность в них. Он произнес их так, как, наверное, сообщил бы: «Я болен раком». Это его ответная сказка. 31 октября Эпизод. Я сегодня подвергла его психоанализу. Он всегда так зажато сидит со мной... Мы смотрели офорты Гойи. Может быть, из-за них самих, но он сидел так, что мне подумалось, он совсем на них не смотрит. А лишь думает о том, что сидит ко мне очень близко. Табу. Подавление. А я вела себя совершенно глупо. Так говорила, как будто сделать его нормальным совершенно просто. Как будто он не маньяк, держащий у себя в заточении пленницу. А милый молодой человек, решивший развлечься игрой во флирт со своей подругой на вечеринке. 152 Это все оттого, что я тут больше никого не вижу. Я уже начинаю считать его нормальным. Забываю сравнивать. Еще один случай с Д. П. Это было после того устроенного им для меня холодного душа (после его высказываний о моих работах). Мне как-то вечером было нечего делать, и я заглянула к нему. Около десяти. Он уже был в халате. «Я как раз собирался лечь», — сказал он. «Я хотела послушать музыку, — сказала я, — ну, да ладно, пойду». Но не ушла. «Поздно уже», — сказал он. Я сказала: «У меня плохое настроение. Чертовски плохой день был, да еще Каролина наговорила глупостей за ужином». Он разрешил мне войти, посадил на диван и включил музыку, электричество было погашено, и только в окно глядела полная луна. Свет ее упал мне на ноги, подкрался к коленям, добравшись до них с самого неба. Чудесный, медленно струящийся, серебряный лунный свет. Как в море света без ветрил... Он сидел в кресле, в противоположном конце комнаты в тени. И была музыка. Вариации Гольдберга. Там, в финале одной из них, есть очень медленное место, и музыка очень простая, очень печальная, но настолько прекрасная, что, кажется, стоит выше всего на свете, выше всяких слов, картин и остального, кроме только самой музыки. Луно-музыка, так серебриста, настолько далека, настолько торжественна. И только двое в комнате. Ни прошлого, ни будущего. Одно полное и глубокое ощущение настоящего. Чувство, что все закончится, и эта музыка, и мы сами, и луна, и все в мире. Как будто ты вдруг добрался до сути всего сущего и нашел в этом только печаль, всегда, и навсегда, и везде; только одна прекрасная, серебристая печаль, как открытое лицо Христово. Одна только печаль. И понимаешь, что твое каждодневное притворство, когда ты думаешь, что все вокруг — это веселье, все это предательство. Предательство по отношению ко всем опечаленным в этот момент, ко всем печальным навечно, предательство по отношению к такой вот музыке, к такой вот правде. И среди всей этой суеты, забот, искусственной шерсти и хлопот Лондона, среди страстишек, усилий сделать карьеру, искусства, учебы, неистового стремления все познать и ухватить — вдруг эта серебряная тихая комната, наполненная звуками такой музыки. Как будто лежишь на спине, как это было у нас в Испании, когда мы ночевали прямо под открытым небом, и глядишь прямо вверх сквозь ветви 153 фиговых деревьев, в звездный коридор, заполненный морями, океанами созвездий. И понимаешь, что вот это и есть мироздание. И я заплакала. Тихо и в молчании, чувствуя, как слезы катятся у меня по щекам. Когда музыка кончилась, он сказал: «Сейчас я, наконец, могу пойти спать?» Мягко, слегка посмеиваясь надо мной и возвращая меня обратно на землю. И я ушла. Не думаю, что мы еще говорили что-то. Точно я не помню. На лице у него опять была эта его всегдашняя, всепонимающая, отстраненная улыбка, даже усмешка, он видел, как музыка на меня подействовала, что я вся не своя. Само воплощение такта. Я бы могла отдаться ему в эту ночь. Если бы он попросил. Если бы подошел и поцеловал меня. Не ради него самого, ради ощущения жизни. 1 ноября Новый месяц, новые надежды. Мысль о подкопе не оставляет меня. Еще до вчерашнего дня проблема заключалась в том, что мне было нечем расковырять цемент. Но вчера, когда я совершала свою очередную тюремную прогулку по наружному подвалу, я увидела гвоздь. Старый большой гвоздь, который лежал в углу у стены. Я уронила платок, чтобы посмотреть на него поближе. Тогда я поднять его не смогла, он очень пристально наблюдал за мной. Да и очень неудобно это делать со связанными руками. Сегодня, когда я опять была около гвоздя (он всегда сидит на наружных ступеньках), я намеренно попросила его сходить за сигаретами. Они на стуле около двери. Конечно, сразу он не пошел. «Что за штучки опять у вас?» — сказал он. «Я буду здесь, я не сдвинусь с места». «Почему бы вам не взять самой?» «Потому что мне иногда вспоминается — было время, когда мужчины вели себя со мной вежливо. Только и всего». Я не рассчитывала, что это подействует. Но тут подействовало. До него, наверное, вдруг на самом деле дошло, что я действительно ничего здесь не смогу в моем положении сделать. И взять тоже ничего не смогу; он все запирает в шкаф, когда я гуляю в подвале. Поэтому он пошел. Скрылся за дверью и оставался там всего секунду. Но я успела, согнулась, и, в одно мгновение схватив гвоздь, опустила его себе в карман юбки — специально надетой для этого случая, — и опять заняла прежнее место. Таким образом я заполучила гвоздь. И дала ему повод думать, что мне можно доверять. Двух зайцев сразу. Пустячок. Но какая победа! Начала воплощать свой план в жизнь. Много дней я твердила Калибану, как, должно быть, переживают П. и М., и почему они, да и все остальные, 154 должны оставаться в неизвестности на мой счет. По крайней мере, он мог бы просто дать им знать, что я жива и здорова. Сегодня после ужина я сказала ему, как это можно было бы сделать: он мог бы купить на почте конвертов, не снимая перчаток, и так далее. Он пытался отвертеться, как обычно. Но я настаивала. Каждый его довод я опровергала. И в конце концов, почувствовала: он начал думать, что, похоже, на самом деле ничем не рискует. Я сказала, он мог бы опустить письмо в Лондоне, чтобы сбить полицию со следа. И что к тому же мне много чего надо купить в Лондоне. Мне надо отправить его, по крайней мере, на три или четыре часа. Исключительно из-за его сигнального устройства. И я смогу попробовать свой подкоп. Недавно мне пришла в голову мысль: поскольку стены подвала (и наружного тоже) из камней, а не из щебня, то, если расковырять и вытащить камень, за ним может пойти мягкая земля. Все, что мне надо, это пробиться сквозь облицовку. (Мне так это представляется.) Может быть, это все и дико. Но мне не терпится проверить. Куртизанка. У Д. П. я видела ее еще два раза, когда там были и другие люди, в том числе и ее муж, датчанин, какой-то деловой человек. Он отлично говорил по-английски, настолько отлично, что, казалось, даже неправильно. Мы встретились с ней однажды в дверях парикмахерской, куда мне надо было зайти записать Каролину на очередь. Она улыбнулась мне той особенной слащавой, навязчиво-открытой улыбкой, которой женщины обычно улыбаются, разговаривая с девушками моего возраста. Как Минни это называла — «девочки, мы с вами свои люди». Они сразу начинают себя вести с тобой как со взрослой, но на самом деле видишь, что они взрослой тебя совершенно не считают, но, однако, это совсем не мешает им тебе завидовать. Она пригласила меня выпить кофе. Я совершила глупость, мне надо были что-нибудь наврать, но я согласилась. Началась всякая тягомотина обо мне, об ее дочери, об искусстве. Она знала некоторых людей и пыталась блеснуть передо мной именами. Но я в людях ценю больше то, что они испытывают в отношении к искусству, а не то, кого они в искусстве знают. И потом, хотя я совершенно уверена, что она не лесбиянка, но разговор она сводила все к одному и тому же, в намерении, видимо, вызвать ответную откровенность и заставить спросить ее о чем-нибудь таком, на что она ни под каким предлогом, конечно же, не имела нрава отвечать, но очень хотела, чтобы ее об этом спрашивали. «Вы ничего не знаете, что было и что сейчас еще есть у нас с Д. П., — казалось, хотела сказать она. — Ну, так спросите меня об этом». 155 Она все говорила и говорила. Рассказала о Шарлот-стрит в конце тридцатых годов и в военное время. О Диллиане Томасе, о Д. П. «Вы ему нравитесь», — сказала она. «Я знаю», — ответила я. Но от ее замечания меня покоробило. Непонятно, с чего она это взяла (неужели он говорил ей?), и еще более неприятным было то, что она все это хотела обсудить. Я это видела. «Он всегда приударяет за красивыми девочками», — сказала она Ей просто ужасно хотелось обсудить это. Потом она заговорила о своей дочери. Она сказала. «Ей сейчас шестнадцать. И я уже даже не в состоянии ее отругать. Иногда во время разговора с ней я начинаю себя ощущать какимто животным в зоопарке. Она просто стоит и смотрит на меня». И я почувствовала, что такую фразу она уже говорила прежде. Или прочла где-то. По крайней мере, фраза приготовленная. Такое чувствуется сразу. У всех женщин, подобных ей, одна и та же беда. И дело тут не в подростках-дочерях, которых нельзя понять, потому что они стали какието другие, от них отличные. Мы не какие-то отличные, мы просто молоды. И глупо людям, ставшим сорокалетними, желать оставаться такими же молодыми — кстати, в то же время и от молодых «отличными». Это безнадежное глупое занятие. Они уже не в состоянии быть с нами. И нам неприятно, когда они рядятся в нашу одежду, следуют нашей моде, говорят нашим языком и живут нашими интересами. Они подражают нам настолько неловко, что после этого мы не только не можем отвечать на их идиотские реплики, но и даже уважать их. Но встреча с ней заставила меня понять, что Д. П. все-таки меня любит (пусть на его языке это и называется по-другому). Что существует меж нами глубокая связь — его любовь ко мне в его смысле и моя огромная к нему симпатия (и даже любовь, только без влечения) в моем смысле. И есть предчувствие, что мы нащупываем пути к компромиссу. Своего рода туман непонятных желаний между нами. Нечто такое, что многим людям (как, скажем, этой куртизанке) никогда не понять. Двое в пустыне, оба пытаются найти и себя, и оазис, в котором бы они могли жить вместе. Я начала все больше и больше думать на эту тему — ужасно немилосердно судьба распорядилась, положив между нами эти двадцать лет. Почему бы ему не быть моего возраста или мне — его? Возраст — это, оказывается, не тот всеопределяющий момент, который делает любовь невозможной, возраст — это просто стена, которой судьба развела нас. И я уже не думаю, что она нас разделяет, я уже думаю, что она нас только сдерживает... 156 2 ноября Он извлек после ужина из кармана листок бумаги и продиктовал совершение абсурдное письмо, которое я и написала. Затем начались мои трудности. И приготовила крохотную записочку, испещренную совершенно крохотными буковками, и просунула ее в конверт в тот момент, когда он отвернулся. Она была очень маленькой и в самых хитроумных шпионских романах осталась бы незамеченной. Но он заметил. И это его очень расстроило. Заставило взглянуть на вещи в холодном свете реальности. Но больше всего его возмутило то, что я, оказывается, все равно чего-то опасаюсь, что мне страшно. Ему даже в голову не приходило, что он может или убить меня, или изнасиловать, а это уже коечто. Я позволила ему пообижаться на меня некоторое время, но под конец подошла к нему и постаралась его задобрить (потому что все равно должна была добиться, чтобы он отправил письмо). Это было непросто. Таким рассерженным я его еще никогда не видела. Не хочется ли ему наконец покончить со всем этим и отпустить меня домой? Нет. Чего же тогда он хочет в конце концов? Спать со мной? Он бросил на меня такой взгляд, как будто я сказала сущую мерзость. Тогда меня осенило. Я разыграла маленькую сценку. Изобразила восточную рабыню. Ему нравится, когда я разыгрываю из себя покорную дурочку. Все, что я делаю глупого, ему всегда кажется остроумным. Он даже взял привычку подыгрывать мне в такие моменты, пытаясь, как жираф, тянуться и поспевать за мной (хотя я и не особенно это поощряю). Ну и в результате я заставила его разрешить мне написать еще одно письмо. В конверт он заглянул снова. Затем я его послала в Лондон, как и было задумано. Я дала ему пренелепейший список вещей, которые ему следовало купить (большинство из них мне не было нужно), чтобы покупки заняли его надолго. Я ему еще раз объяснила, что невозможно выследить человека, если он опустил письмо в Лондоне, и он под конец согласился. Он любит, когда я подлизываюсь, скотина. Я попросила его купить — хотя нет, я не прошу, я велю ему купить, — я приказала ему отыскать и купить какую-нибудь картину Джорджа Пастона. Я перечислила ему все галереи, где бы он мог найти Д. П. И я даже попробовала заставить его сходить к нему прямо в мастерскую. Но как только он услышал, что это в Хемпстеде, он сразу заподозрил ловушку. Ему понадобилось знать, знакома ли я с этим Джорджем Пастоном. Я ответила: «Нет, только по имени», но это прозвучало 157 неубедительно, и я побоялась, что он не станет покупать его картины вообще. Поэтому я сказала: «Он мой случайный знакомый, он совсем уже стар, но он хороший художник и сильно нуждается в деньгах, и я была бы очень рада иметь несколько его картин. Мы бы могли повесить их на стенах. Если вы купите прямо у него, это будет нам стоить дешевле, чем покупать в галереях. Но я вижу, что идти к нему вы боитесь, поэтому и не стоит говорить на эту тему». Нет необходимости добавлять, что на такую мою удочку он не попался. Ему захотелось знать, является ли Д. П. одним из тех парней, чьи «цветные горшки» висят в баре на стенах. Я лишь молча посмотрела на него. К. Я только пошутил. М. Ну и оставим это. Немного погодя он сказал: «Ему, может, захочется узнать, с чего я вдруг пришел и откуда». Я объяснила ему, что он может на это ответить, и он сказал, что подумает. Что в переводе с калибанского означало «нет». Да и было бы наивно ждать от него иного, к тому же и в галереях может тоже ничего не оказаться. Но я не стала особо расстраиваться на этот счет, потому что его прихода я уже в общем-то дожидаться не собираюсь. К его приходу я собираюсь уже убежать. Он поедет сразу после завтрака. И что-нибудь на ленч он мне собирается принести сразу. Так что у меня будет четыре или пять часов (если он, конечно, не смошенничает и не откажется разыскивать все, что я ему поназаказывала, хотя прежде за ним это не замечалось). Сегодня вечером мне жаль беднягу Калибана. Он будет так огорчен, когда я убегу. У него не останется ничего. Кроме все тех же комплексов, застенчивости, истероидных неврозов, классовых предрассудков, пустоты жизни и бессмысленности. Что ж, он сам напросился на это, теперь он это получит. И по-настоящему мне его не жалко. Хотя не могу сказать, что не жалко совершенно. 4 ноября Вчера я не могла писать. Была не в состоянии. Как я глупа, я отправила его вчера на весь день. У меня было страшно много времени, чтобы успеть бежать отсюда. Но я ведь ничего не продумала. Я представляла себе, как черпаю ладонями мягкую податливую глину. А тут и гвоздь был без пользы, расковырять цемент оказалось ужасно трудно. Я представляла, что он будет отламываться. Но он был страшно тверд. Я потратила часы, прежде чем вытащила один камень. Но и за ним не было земли, там был другой валун, еще большего 158 размера, я даже не могла определить, где у него края. Я вытащила еще камень, но и это не помогло. Дальше был такой же каменюга. Я стала впадать в отчаяние, идея подкопа рушилась. Стала колотить в дверь, попробовала приоткрыть ее гвоздем и только поранила руку. И на этом все кончилось. И результат был — моя порезанная рука и сломанные ногти. Без инструментов мне ничего не сделать. Да и с инструментами тоже. Под конец я вставила камни на место и присыпала цементом, замазала сверху смесью цемента с водой и тальковой пудрой, чтобы хоть как-то замаскировать дыру. Я вдруг решила, что подкоп надо рыть в течение нескольких дней и что только глупец мог подумать, что его можно сделать сразу. Поэтому я потратила уйму времени, чтобы теперь уже замаскировать следы своей деятельности. Но и это у меня не получилось, кусочки отваливались, к тому же я начала копать на самом видном месте, у входа. И в конце концов я все бросила. Я вдруг подумала, что все это ужасно глупо, бездарно и бесполезно. Как совершенно плохой, пустой, без намека на искусность рисунок. Б е з в ы х о д н о . И когда наконец появился он, то увидел сразу. Он всегда обнюхивает все, как только придет. Он стал смотреть, как далеко я ушла. Я сидела на кровати и наблюдала за ним. Под конец я бросила в него гвоздем. Стену он зацементировал опять. Он говорит, что тут везде толстый слой камней. Весь вечер я с ним не разговаривала и даже не посмотрела на все его покупки, хотя заметила, что одна из них была картина в раме. Я выпила снотворного и легла спать сразу после ужина. Затем утром — встала я рано, еще до его прихода, — я приняларешение выбросить из головы свою неудачу как что-то совершенно несущественное. Убедила себя, что все нормально. Главное — не сдаваться, не раскисать. Я распаковала его покупки. Прежде всего, конечно, картину Д. П. Это было изображение девушки (молодой женщины), обнаженной, не совсем то, что я у него обычно видела, поэтому я решила, что картина, должно быть, написана давно. Но она была его. Та же простая линия, отсутствие всякой суетливости, всяких славных пустячков, а-ля Тополскитис. Девушка была на картине вполоборота и в момент, когда она вешает или, наоборот, снимает с гвоздя одежду. Хорошенькая? Трудно сказать. Несколько тяжеловатое, как у Майоля, тело. Не из лучших вещей, сделанных им. Но настоящая. Я поцеловала ее, как только развернула. И все смотрела на эти следы карандаша не как на линии, а как на доказательство того, что он тут прикасался. Все утро. И сейчас смотрю. 159 Не любовь. Человеколюбие... Калибан, когда вошел, был очень удивлен, что я оказалась в таком решительно-веселом настроении. Я поблагодарила его за покупки. Я сказала; «Тот не настоящий заключенный, кто не совершает попыток к бегству. И не будем больше говорить об этом». Он сказал, что обзвонил все галереи, какие я ему перечислила. Но нашлась только одна картина. «Очень вам благодарна, — сказала я. — Можно, я оставлю ее пока у себя внизу? А когда я уйду, она достанется вам». «Мне не надо», — сказал он и объяснил, что если уж брать картину, то он предпочел бы такую, где я нарисована. Я спросила, отправил ли он письмо, он ответил, что отправил, но сильно покраснел. Я сказала, что верю ему, что не отправить было бы низостью и что я уверена, конечно же, он сделал все, что от него требовалось. Я почти убеждена, что он струсил, как и в тот раз, с чеком. Это на него похоже. Но что я могу сделать, как заставить? Поэтому я решила использовать единственное в моем положении — это сделать вид, что я верю в него. 12 часов. Надо кончать. Он уже внизу. Мы с ним слушали купленную им для меня пластинку. Барток. «Музыка для ударных и челесты». Музыка чудная. Она заставила меня вспомнить Кольюр этим летом. Тот день, когда мы все вчетвером и еще со студентами-французами отправились к башне через падубы. Падубы... Совершенно незнакомые краски, изумительные орехи, рыжие, яркие, истекающие соком, достаточно чуть содрать кожуру. Цикады. Дикое лазурное море, проглядывающее сквозь стволы, жара и такой запах, будто древесина горит. Пирс и я, и все, за исключением Минни, слегка выпили. Спали в тени, а проснулись — и сквозь листья над головами голубой кобальт неба, и подумать только — какая невозможная мысль: писать. Как может какой-то голубой пигмент когда-нибудь передать всю эту светлую, живую голубизну неба? Я вдруг поняла тогда, что я не хочу писать, писать — это значит лишь стараться выделиться, а все настоящее вокруг дано нам для познания, а познание само всегда выше всего остального. Такое чистое солнце, сияющее на кроваво-красных стволах. А по дороге назад долго разговаривала с одним милым, застенчивым мальчиком, Жан-Луиз его звали. И с его плохим английским, и с моим плохим французским мы все же понимали друг друга. Он был страшно робок. Опасался Пирса. Завидовал ему. Его руке, положенной на мое плечо, неотесанный пень Пирс. А потом я еще узнала, что Жан-Луиз собирается стать священником. 160 Пирс был отвратителен в дальнейшем. Эта вечная тупоголовая, неуклюжая, чисто английская боязнь показаться мягким и добрым. Эта вечная мужланская жестокая страсть к правде. Конечно, он видел, что бедному Жан-Луизу я понравилась, и конечно, видел, что мальчик внешне привлекателен, но в нем было нечто еще, это была не просто застенчивость, это было еще и стремление быть священником и в то же время жить в миру. Колоссальная попытка смирить самого себя. Это как взять и уничтожить все картины, какие ты только сделал до этого, и начать все абсолютно заново. Только Жан-Луизу приходилось совершать подобное каждый день. И — каждый раз, когда он встречал девушку, которая могла ему понравиться. А все, что мог сказать Пирс, это: «Ручаюсь, он представляет тебя в интересных положениях». Когда я много позже рассказала обо всем этом Д. П., он лишь произнес: «Бедняга Жан-Луиз, должно быть, он молил Бога дать ему забыть вас». Глядеть на Пирса, бросающего камешки в море, — где же это было? Где-то около Валенсии — как это было прекрасно! Настолько красив — как языческий бог. Весь золотисто-бронзовый от загара, черноволосый. А его брасс... Минни еще сказала тогда (мы лежали рядом на песке, о, тут все совершенно невинно), и она сказала: «Вот было бы здорово, если бы Пирс был еще и нем». И потом добавила: «Могла бы ты с ним переспать?» Я сказала. «Нет». Потом добавила: «Не знаю». Пирс в это время вышел из воды и захотел узнать, чему это Минни так улыбается. «Так просто, Нанда поведала мне один секрет, — произнесла она. — О тебе». Пирс сделал неуклюжую попытку пошутить, у него не получилось, и пошел в машину к Питеру за сэндвичем. «Что за секрет?» — поинтересовалась я. «Тело сильнее разума», - сказала она. Умница Кармен Грей, всегда умеет все расставить по местам. «Я знаю, что ты именно так бы и сказала», — произнесла Минни. Она играла песком у своих ног, а я лежала на животе, глядя на нее. «Могу пояснить, — сказала она. — Он настолько хорошенький, что можно даже забыть, как он глуп. Можно даже пожалеть его за это, начать думать, что, пожалуй, стоит выйти за него замуж и чему-то научить и воспитать потом. В то же время прекрасно отдаешь себе отчет, что это не так. Или, пожалуй, можно было бы начать с ним жить, так, просто ради шутки, а в один прекрасный день обнаружить, что ты любишь его за это его тело, что ты уже без этого тела не можешь обходиться, и все больше и больше смиряешься с его безнадежно мелочным сознанием, и вое больше утопаешь в его сознании, как в трясине». 161 Потом она добавила: «Тебя это не пугает?» «Не больше, чем множество других вещей». «Я говорю серьезно. Если ты выйдешь за него, ты перестанешь для меня существовать». И она на самом деле говорила серьезно. Об этом можно было догадаться хотя бы по ее быстрому, застенчивому, но строгому взгляду, который она бросила на меня. Как укол. Я поднялась и, поцеловав ее по дороге, пошла навстречу мальчикам, несущим наш завтрак. А она все продолжала сидеть, глядя себе под ноги на песок. Мы с ней обе жуткие «прорицательницы», всегда все видим и смотрим в корень. И от этого уже не отделаться. Но у нее кроме всего есть и еще один лозунг: «Поступать согласно убеждениям». Ведь должен, в конце концов, существовать на свете человек, по меньшей мере, равнозначный тебе, который тоже всегда все видит и смотрит в корень. А тело должно быть вторичным. Но в глубине души у меня всегда присутствует тайная предательская мысль: Кармен навечно обречена оставаться незамужней. Мир слишком сложен для готовых идей. Но сейчас, когда я думаю о Д. П. и сравниваю его с Пирсом, Пирс превращается в ничто рядом с ним. Просто золотое тело, бесцельно бросающее камешки в море. 5 ноября Сегодня я задала ему жару. Я перевернула наверху весь дом. Перебила все, что только могла. Сначала графинчики, потом тарелки. Рада была переколотить все вокруг. Но это, конечно, зверство уже. Дикость какая-то, до болезненности. Он все стерпел. Робок, чтобы противостоять мне. А ему просто-напросто следовало закатить мне затрещину. Он пытался меня схватить, удержать, чтобы я не разбила еще одну тарелку. Мы так редко соприкасаемся. И тут мне это стало страшно противно. Как вылили ушат холодной воды. Я прочитала ему нотацию. Высказала ему все, что он из себя представляет и что ему следует делать в жизни. Он не слушал. Ему нравится, когда я говорю о нем. Но что именно, для него не имеет значения. Больше не пишу. Читаю опять Остин, «Разум и чувство», мне надо выяснить, что с Марианной. Марианна — это я. Элеонора — это та я, которой должна быть. Что произойдет, если он, например, Попадет в аварию? Или его хватит паралич? Или еще что-нибудь? Я умру. Я не смогу выбраться. Позавчерашний день — доказательство этому. 6 ноября 162 Полдень. Нет ленча. Еще одна попытка. И я уже, казалось, была так близка к цели, как никогда. Но все впустую. Он сущий дьявол. Я разыграла сцену приступа аппендицита. Я придумала это уже давно, считая это уже самым последним средством, которое надо сберечь и которое надо подготовить, чтобы не допустить ни одной оплошности. Я даже не писала об этом, на случай, если он найдет блокнот. Я натерла себе лицо тальком, размешала в воде накопленную за много дней соль и, когда он утром постучал в дверь, выпила соль и засунула два пальца в рот, и момент был выбран удачно, потому что, когда он вошел, меня как раз тошнило. Я разыграла жуткий спектакль. Откинулась на постели, схватилась за живот. В пижаме и нижнем белье. И лишь слегка постанывала и кусала губы. Калибан застыл у постели и только повторял: «Что случилось? Что случилось?» Разговор у нас был очень путаный, разорванный, меня то и дело «одолевали приступы». Он сначала отказывался везти меня в больницу, но я настаивала на том, что он должен. И вдруг мне показалось, что он сдался. Он пробормотал что-то, типа: «Это конец» — и бросился наружу. Я услышала, как хлопнула дверь (я все еще лежала лицом к стене), но бряканья засова не последовало. Затем хлопнула дверь наружного подвала. И наступила тишина. Вдруг. Так внезапно. Так просто. Что даже не верилось. Мистика. Я схватила первые попавшиеся носки и туфли и подбежала к железной двери. Она отошла на дюйм или два и осталась незапертой. Я подумала, что, может быть, это его хитрость. Поэтому я продолжала игру. Я приоткрыла дверь и позвала его очень тихим голосом. Потом доковыляла до наружной двери и поднялась по ступенькам. Я увидела дневной свет, Он не закрыл и наружную дверь. Мне вдруг подумалось, что ведь он мог и не за доктором побежать, что ведь это он мог убежать вообще. Бросить все и бежать. Но он бы взял машину. А чтобы заводили мотор, я не слышала, Все было тихо. Я, наверное, прождала несколько минут. Мне бы следовало хорошо подумать, но я не могла уже выносить неопределенность. Я толкнула дверь и выскочила наружу. И он был там. Стоял рядом. Ожидал меня. Притворяться мне уже было поздно. Потом, и туфли я все еще не надела. А он в руке держал что-то (молоток?), глаза дикие, невменяемые, и я даже совершенно уверена, что он уже готов был меня пристукнуть. Мгновение мы стояли друг перед другом, оба не зная, что делать. Потом я повернулась и спустилась вниз. Свобода свободой, но соображать я не перестала. Он проследовал за мной до моего подвала, но, как только увидел, что я зашла внутрь, остановился, и я инстинктивно чувствовала, что так и будет, — единственное место здесь, где я от него в безопасности, 163 это, как ни парадоксально, тут, у себя внизу. Я слышала, как он захлопнул дверь и вставил засов. И я полностью отдаю себе отчет, что поступила правильно. Спасла себе жизнь. Закричи я или попытайся бежать, он бы убил меня на месте. У него бывают моменты, когда он становится неуправляемым, совершенно теряет контроль над собой. Ответная его хитрость. Он принес мне ужин и не сказал ни слова. Весь день я провела, рисуя о нем мультики. «Страшная сказка о безобразном мальчике». Нелепица, но смешного мало. Я должна трезво оценивать обстановку и помнить и учитывать ужас и отчаяние припертого к стене зверя. Он начинает как приличный маленький клерк, а кончает как чудовище из леденящего душу фильма ужасов. Когда он проходил мимо, я показала ему мультики. Он не рассмеялся, лишь только тщательно просмотрел весь комикс. «Ничего удивительного», — сказал он. И это у него значило, что, естественно, чего еще ждать от меня, кроме насмешек. Я просто экземпляр наряду с остальными. Вот почему, когда я начинаю залетать за черту, это ему страшно не нравится. Что до него, так лучше бы я вообще выглядела мертвой, приколотой. Всегда одной и той же, во всех случаях красивой. Он понимает, что жизнь — это составная часть моей красоты, и ему приходится с этим мириться, но лучше для него, если б я была мертвой. Он бы хотел, чтобы я была немертвой-неживой. Я это поняла отчетливо. И вся эта моя жизнь, и смена моих настроений, и перемена во мне, и отдельное сознание — все это становится все большей помехой и неприятностью. Он крепкий орешек, спокойный, хладнокровный. Он как-то показывал мне свою морилку для бабочек. Я тоже заключена в этой бутылке. Бьюсь о стекло крыльями, вижу сквозь него и все думаю, что смогу выбраться на свободу. Питаю надежды. Но это всего лишь иллюзия. Вокруг толстые стеклянные стены. 7 ноября Как медленно тянутся дни. Сегодняшний день. Невыносимо долго. Мое единственное утешение — это картина Д. П. Она все больше и больше мне нравится. Да она и не может не нравиться. Это единственная настоящая, живая, оригинальная, творческая вещь здесь. Она первое, что я вижу, когда просыпаюсь, и последнее, на что я смотрю вечером перед сном. Я простаиваю перед ней часы и все рассматриваю. Я уже знаю каждую линию. Он тут сделал одну ногу несколько непропорциональной. И есть какое-то несоответствие целиком в общем плане картины, как будто чего-то немного недостает. Но, тем не менее, она живая. 164 После ужина (у нас снова мир) Калибан передал мне «Над пропастью во ржи» и сказал: «Я прочел». И по одному его тону я поняла: он хочет сказать, «что ему не очень». Спать я еще не хочу и поэтому запишу состоявшийся диалог. М. Ну и? К. Я не вижу во всем этом много смысла. М. Но вы не находите, что это одна из превосходнейших книг, когдалибо написанных о юности? К. По-моему, он большой путаник. М. Разумеется, он путаник. Но он осознает, что постоянно путается, и старается выразить все, что он чувствует, он человеческое существо при всех его слабостях. Разве он не вызвал в вас сочувствия? К. Мне не нравится, как он разговаривает. М. Мне не нравится, как вы разговариваете. Но это не значит, что я не 6еру ваши слова в расчет или что они не вызывают во мне сочувствия. К. Я полагаю, что это очень талантливо. Написать, как тут, и все такое. М. Я дала вам прочесть эту книгу, потому что думала, вы почувствуете себя похожим на героя. Вы — Холден Колфилд. Он ни к чему не может приспособиться, как и вы. К. Это и неудивительно, он так себя ведет... Он и не старается ни к чему приспособиться. М. Он старается сконструировать какие-то подлинные отношения в жизни, в своем существовании, внести в свое существование в мире определенный образ правды, своего рода порядочность. К. Это все нереально. Учиться в первоклассной офицерской школе, иметь родителей с деньгами... Он бы не стал себя вести так, как в книге. По моему мнению. М. А знаете, кто вы? Вы старик из моря. К. Какой еще старик из моря? М. Был такой чудовищный старик, которого Синдбад-мореход вынужден был таскать на своей спине. Так вот, вы он и есть. Вы объясняете все вокруг только с практической точки зрения, только с точки зрения корысти и личных интересов, взбираетесь на спину всему живому, всему, что старается быть честным, добрым и порядочным, и используете по своему усмотрению. Я не стану продолжать. Мы спорили... Нет, вряд ли мы спорили, я называла вещи их именами, а он пытался выкрутиться, как всегда у нас происходит. Но то, что я сказала, это правда. Он на самом деле тот морской старик. Терпеть не могу глупцов типа Калибана с их непомерным мертвым грузом калибанства: мелочности, посредственности и эгоизма. И проистекающими отсюда всякого рода низостями и подлостями. Только себе... И есть ограниченное число людей, меньшинство, лишь немногие, 165 которые всему этому сопротивляются (и в самих себе тоже) и все окружающее всегда на себе тащат. Доктора, учителя, художники — нельзя сказать, что среди них нет подлецов и отступников, но если есть вообще какая-то надежда на лучшее на свете, то она связана только с ними — с нами. Потому что и я одна из них. Я одна из них. Я это отчетливо чувствую и постоянно стараюсь доказать себе. Я это чувствовала в себе в последний год Пансиона. Там были лишь немногие, которые все тащили. И были набитые глупышки, были снобки, будущие придворцовые дебютантки, папины дочки, душечки и кошки. В Пансион я уже никогда не вернусь. Потому что мне невыносимо удушье всего этого их «так принято», «так надо», всех этих «правильных» людей и «хорошего» поведения. (Бодиччи написала мне в характеристике: «Несмотря на ее странные политические взгляды...» — да как она только смела!) Вот уж где мне совсем не хочется быть своим человеком, так это в подобном месте. И почему мы должны терпеть всю чудовищность их калибанства? С какой стати все живое, творческое, созидающее и доброе должно страдать от этого вечного, всеопределяющего эгоизма и обжорства калибанов вокруг?.. И эта ситуация со мной — типичный пример. Я как раз пострадавший, страдающий. Заключенная в тюрьму, лишенная возможности двигаться, расти. Благодаря этому святому недовольству и благородному негодованию всекалибанов мира, берущего свое начало в их зловонной, алчной, ненасытной утробе зависти. Они нас ненавидят за наше отличие от них, за то, что мы не они, а они не мы, — вот почему они преследуют нас, сживают со света, сажают в тюрьмы, лишают слова, высылают, отворачиваются, зевают нам в лицо, глумятся над нами, плюют, закрывают в нашем присутствии себе глаза и уши, чтоб только не видеть нас и не слышать и избавиться от необходимости равняться на нас, нас уважать и ценить. Они возносят тех из нас, которые уже умерли. Они платят тысячи и тысячи за Ван Гога и Модельяни, о которых они вытирали ноги, когда те работали. Гогоча над ними, сочиняя о них пошлые анекдоты. Ненавижу. Ненавижу необразованных и невежественных. Напыщенных и дутых. Завидующих, алчных и негодующих. Ненавижу. Всех этих критиканов, ценителей, посредственностей и ничтожеств. Ненавижу ординарных, глупых, маленьких людишек, которые стыдятся своей глупости и ординарности. Ненавижу весь этот класс, как Д. П. их назвал, Новых людей. Новый класс с их автомобилями, с их деньгами, с их телевизионными ящиками, с этой их тупой вульгарностью и тупым, раболепным, лакейским подражанием буржуазии. 166 Люблю честность. Люблю свободу и «отдачу». Люблю созидание, творение, делание. Люблю во всем доходить до конца, люблю все, что не сидит, не смотрит, не копирует, не мертво в сердце. Д. П. часто смеялся над моим лейборизмом (который был у меня раньше). Помню, он как-то сказал: «Знаете ли вы, что поддерживаете ту партию, которая дала начало существованию Новых людей?» Я сказала (я была сбита с толку, потому что он говорил до этого другое, мне казалось, что он должен быть за лейбористов, я знала, что он даже коммунистом одно время был): «По мне, так лучше Новые люди, чем бедные люди». И он ответил: «Новые люди — те же бедные люди. Это лишь новая форма бедности. У тех нет денег, а у этих нет души». И вдруг он спросил: «Вы читали «Майор Барбара?» «Откуда пошло мнение, что людей прежде всего надо спасать экономически, а потом духовно?.. Они забыли одну вещь. Они создали совершенное государство, но они забыли о самой Барбаре. Изобилие, изобилие, и ни слова, ни полслова о душе, как будто ее и не было никогда...» Я понимаю, в чем-то Д. П. не прав (он преувеличивает). Каждый должен быть левым. Все порядочные люди, каких я только встречала, всегда были против Тори. Но я понимаю, что он имел в виду, вернее, я сама начинаю все больше и больше понимать, что из себя представляет этот чудовищный мертвый балласт откормившихся маленьких Новых людей. Все купивших. Все опошливших. Изнасиловавших деревни — как П. сказал однажды в одном из своих ностальгических настроений. Все поставивших на поток и пустивших в массовое производство. Массовая продукция, массовые ценности. Мироздание — конвейер. Я знаю, принято считать, что на сумасшествие толпы надо смотреть как на неизбежность и лишь по мере сил контролировать ее бессмысленное, хаотическое движение. Это точно так же, как смиряться с американскими «боевиками» о Диком Западе. Работать для них, терпеть их. Самое презренное, что может быть в этой ситуации, — бегство в башню из слоновой кости. Самое низкое — выбрать уход из жизни только потому, что она тебя не устраивает. Вот уж чего я не сделаю никогда. Но порой страшно становится, когда подумаешь, какую бесконечную борьбу представляет из себя жизнь, если ты начинаешь к ней относиться серьезно. Впрочем, все это слова. Ведь может статься так, что я кого-нибудь встречу и полюблю и выйду замуж. И все изменится, и я начну уже совсем по-другому смотреть на мир, не буду уже ни о чем беспокоиться. И стану домохозяйственной Маленькой женщиной. Одной из стана врагов. Но я говорю о том, что я чувствую теперь, сейчас, а именно: я принадлежу к той группе людей, которые противостоят всем остальным. Неважно, кто они — знаменитые люди, которых я лично не знала, 167 умершие и живые, которые боролись за правду, которые творили, писали, создавали правду; и неизвестные люди, знакомые мне, которые никогда в жизни не солгали, которые старались никогда не быть ленивыми, старались быть существами истинно человеческими и разумными. Да, такие люди, как Д. П., при всех его недостатках. Е г о недостатках Их даже нельзя назвать положительными людьми. И у них есть свои слабости. Эротика, пьянство. Трусость и желание денег. Временами они прячутся, замыкаясь в башне из слоновой кости. Но есть в них то, что объединяет их в одно неразделимое целое. В Круг Избранных. 9 ноября Я опять тщеславна. Я не из их числа. Я только хочу быть с ними, а это не одно и то же. Естественно, Калибан не типичный представитель Новых людей. Он безнадежно несовременный (он, например, называет проигрыватель граммофоном). И эта его недостаточная уверенность в себе. Те себя не стесняются. Я вспоминаю, как П. говорил, что они считают себя сравнявшимися с самыми лучшими сразу, как только у них появляется телевизор и машина. Но глубоко внутри Калибан один из них. Та же ненависть ко всему необычному, желание, чтобы все были одинаковыми. И варварское неумение в обращении с деньгами. Зачем людям иметь деньги, если они даже не знают, на что их можно направить?.. Мне становится плохо всякий раз, как только я подумаю о тех деньгах, которые Калибан выиграл, и обо всех людях, подобных ему, тоже выигравших. Один эгоизм, ни грамма пользы. Д. П. говорил в тот же день: «Порядочность бедняков — это просто порядочность буржуа, у которых не стало денег. Бедность порождает в них хорошие качества и приучает довольствоваться малым, теми вещами, которые с деньгами не связаны, которые этой сфере посторонни. А потом, когда они обретают деньги, они не знают, что с ними делать, и шалеют от них. Правила свои прежние они забывают тотчас, потому что эти их добродетели бедности никогда и не были добродетелями. Единственной добродетелью на свете они всегда считали деньги, делать деньги и тратить деньги. И они представить себе не могут, конечно, откуда им в это поверить, что на свете могут существовать люди, для которых деньги ничто. И что самые прекрасные вещи в мире абсолютно не связаны с деньгами». Хотя я лично не до конца веду себя честно. Мне все же хочется денег. Но я осознаю, что это плохо. И я верю Д. П — и мне даже не надо верить ему, я просто вижу: то, о чем он говорит — правда. Его деньги практически никогда не занимают. У него хватает их на материалы, на жизнь, на то, чтобы каждый год ездить в отпуск на натуру, чтобы сводить концы с концами. И есть десяток других — Питер, Билл Мак-Дональд, 168 Стефан. Они живут вне мира денег. Если у них есть деньги, они их тратят, если нет, они обходятся и без них. Таким, как Калибан, деньги не под силу. Таким надо только чуть-чуть, как Новым людям, и они звереют. Становятся, как то гнусное отродье, с которым я встречалась на улице, когда собирала деньги. И когда они мне их не давали. Я изучила их так, что мне иногда было достаточно взглянуть им в лицо. Буржуа дают, потому что им становится неловко, когда начнешь их стыдить и надоедать им. Умные люди дают или, по крайней мере, честно смотрят тебе в глаза, когда отвечают «нет». Им не дать не стыдно. Но Новые люди слишком скупы, чтобы дать, вняв твоим убеждениям, и слишком ничтожны, чтобы честно ответить отказом. Как тот гнусный тип в Хемпстеде (один из них), который сказал: «Я дам вам полдоллара, если вы докажете мне, что деньги не осядут в чьем-либо из ваших карманов». И ему казалось, видимо, что он измыслил очень удачную остроту. Я повернулась к нему спиной, что было, конечно, неправильно, потому что моя гордость была ничто по сравнению с голодающими детьми. Поэтому я положила за него полкроны потом сама. Но он до сих пор мне ненавистен. Что касается Калибана, то его заставить раскошелиться — это примерно то же, что выпоить ему целую бутылку виски. На такое он просто не способен, не в состоянии. Единственное, что заставляло его быть порядочным прежде, — это его бедность. Его вынужденная привязанность к одному месту и к одной работе. Это как посадить слепого в быстро мчащуюся машину, дать в руки руль и сказать: поезжай как хочешь и куда захочешь. Напоследок приятное. Сегодня появилась пластинка Баха. Я ее уже два раза прослушала. Калибан сказал, что пластинка хорошая, только он «немузыкален». Тем не менее, он сидел, слушая с нужным выражением лица. Сейчас я думаю поставить еще раз. Буду лежать в постели, в темноте, под музыку, и думать, что я с Д. П., и что он тоже слушает, как всегда, с закрытыми глазами, откинувшись на спинку дивана, как будто присутствует на собственных похоронах. И видна лишь его впалая щека и еврейский нос. Но на самом деле смерти в нем нет и в помине. И в то же время — пожалуйста: сегодня Калибан пришел вечером, позднее обычного. «Где вы были?» — напустилась я на него. Он лишь недоуменно поднял на меня глаза. Я сказала: «Сдается мне, вы слишком задержались». Комедия. Мне хочется, чтобы он приходил. И вовремя. Что делает одиночество! 10 ноября 169 У нас сегодня был разговор на предмет его денег. Я сказала, что большую часть ему надо отдать. Постаралась пристыдить его, объяснив, что он должен поделиться. Но он не доверяет никому. И ничему. Это его слабое место. Как тот тип из Хемпстеда, он не верит, что люди, собирающие деньги, используют их на то дело, о котором говорят. Он считает, что продажны все и все воруют. II каждый лишь стремится урвать денег и по возможности удержать их при себе. Бессмысленно объяснять ему, что деньги пойдут по назначению. Он скажет: откуда вы знаете? И, конечно, я не смогу на это ответить ничего. В это надо только верить. Я могу сказать, что я уверена, они обязательно дойдут куда надо. Тогда он только улыбнется, считая, естественно, что я слишком наивна и что со мной говорить на эту тему, с такой несмышленой, совершенно не имеет смысла... Я пожурила его (нельзя сказать, чтобы слишком сильно, чтобы не спугнуть) за то, что он так и не послал чек в пользу антиядерного движения, и попросила показать расписку. Он ответил, что сделал взнос анонимно, без указания адреса. Меня так и подмывало ляпнуть, что я обязательно проверю, когда выйду отсюда. Но я сдержалась. Он покраснел, и я была уверена, что он соврал, как и тогда насчет письма П. и М. И ведь нельзя сказать, что он отчаянно скуп и в натуре у него одна только прижимистость. Я, например, думаю (забывая всю абсурдность ситуации), что он очень щедр по отношению ко мне. Он тратит на меня столько денег. Просто подавляет своей заботой и добротой. Всеми этими деликатесами, шоколадом, хорошими сигаретами, цветами. Я как-то вечером сказала: мне хотелось бы, чтобы у меня в комнате пахло духами — просто каприз, естественно, но в комнате все время стоит запах или дезинфекции, или аэрозоля. И хотя я достаточно часто принимаю ванну, но все равно абсолютной чистоты не чувствую. И сказала: как жаль, что я не могу сама пойти и выбрать духи по запаху, на свой вкус. И, пожалуйста, сегодня утром он пришел с четырнадцатью (!) разными флакончиками. Обошел все аптеки. Это сумасшествие. Общая стоимость сорок фунтов. Жизнь как в сказке из «Тысячи и одной ночи». Как быть любимой женой в гареме. Когда, тем не менее, единственным желанным запахом остается все равно запах свободы. Если бы я могла показать ему голодного ребенка, посадить того за стол, дать еды и показать, как он ест, давясь и задыхаясь, — я уверена, он бы дал денег. Но все находящееся за пределами его зрения и требующее платы вызывает в нем подозрение. Он не верит ни в какой другой мир, только в этот, в котором он живет и который может видеть. Он как заключенный в камере: в своем собственном страшном, тесном, но существующем мирке. 170 12 ноября Предпоследняя ночь. Думать об этом я не осмеливаюсь, я даже не говорю сама себе, что освобождение по какой-либо причине может не состояться. В последнее время я изредка напоминала ему, но не сейчас. Я чувствую, что это должно на него обрушиться по возможности внезапно. Сегодня я решила, что надо завтрашним вечером устроить маленькую вечеринку. На которой я скажу ему, что стала относиться к нему подругому, что хочу быть ему другом, принять участие в его жизни, сделав его предметом своего попечительства и взяв под свое покровительство в Лондоне. То есть опять жалеть и нянчиться. И нельзя на самом деле сказать, что это ложь, что ложь всецело. Нет, я стала уже испытывать какое-то чувство ответственности за него, чего я не могу даже сама для себя объяснить. Я так часто испытываю к нему ненависть и думаю непрестанно, что ненавидеть его буду вечно. Но ведь не получается вечно. Жалость во мне побеждает, и я начинаю испытывать желание помочь, посострадать ему. Подумываю даже о людях, с какими я могла бы его познакомить. Он бы мог походить к знакомому психиатру Каролины. Просыпается желание быть похожей на Эмму и устроить ему женитьбу на хорошей женщине с хорошими видами на будущее. Какаянибудь маленькая Харриет Смит, с которой он бы мог быть тихим, спокойным и счастливым. Я понимаю, что должна себя подготавливать и к худшему варианту. Поэтому говорю себе все-таки иногда, это один шанс из ста, что он сдержит слово, и не надо обольщаться. Но все-таки он же должен сдержать свое слово! Д П. Я не видела его два месяца, даже больше чем два. Франция, Испания, потом еще долго была дома. (Хотя в сентябре я два раза заезжала к нему, но его не было весь месяц) Лишь две открытки в ответ на мои письма. И это все. Я позвонила ему в первый же вечер, когда опять устроилась у Каролины, и спросила, могу ли я зайти к нему. Он ответил, что у него люди и что лучше мне зайти завтра. Я пришла завтра. Он, казалось, был рад меня видеть. Я старалась выглядеть так, как будто и не старалась весь день выглядеть как можно лучше. Но выглядела. Я рассказала ему о Франции, об Испании, о картинах Гойи, о Альби и обо всем остальном. О Пирсе. Он слушал, он так и не сказал, что он делал все время, но потом, позже, он показал мне несколько картин, которые написал на Гебридах, и я со стыдом поняла, какие мы все были болтуны и бездельники. Мы ничего не сделали за все это время, занятые только лежанием на песке, рассуждениями и разглядыванием картин великих. 171 Я сказала (предварительно обрушив на него, по меньшей мере, миллион слов): «Я, наверное, говорю слишком много». Он сказал: «Не имеет значения». Он в это время снимал ржавчину со старого железного колеса, протирая его каким-то кислотным раствором. Колесо это он купил у старьевщика в Эдинбурге и таскал его с собой весь обратный путь к дому. На нем были необычайной формы тупые зубцы, и Д. П. считал, что это часть старинных часов. Очень изящные конические перекладины-спицы. Строгие зубчики. Некоторое время он вообще ничего не говорил. Я сидела, опершись спиной о его станок, и наблюдала, как он снимает ржавчину, потом он сказал: «Я скучал по вас». Я сказала: «Быть того не может». Он сказал: «Вы не даете мне покоя». Я сказала (беря его пешку конем): «Вы не встречали Антуанетту?» Он ответил. «Нет. Мне казалось, я уже говорил вам, что дал ей расчет, — он посмотрел на меня сбоку. Своим всепонимающим взглядом. — Все еще неприятно?» Я отрицательно покачала головой. «Простили?» Я сказала: «Прощать нечего». Он сказал: «Я о вас на Гебридах только и думал. Мне хотелось показать вам картины». Я сказала. «Жалко, что вас не было с нами в Испании». Зубами он держал кусок наждачной бумаги. Он сказал: «Очень старое колесо. Посмотрите на коррозию». Потом тем же тоном: «Практически я уже пришел к выводу, что мне надо на вас жениться». Я ничего не ответила и только отвела глаза. Он сказал. «Я попросил вас прийти сюда, когда я один, чтобы сказать, что я продолжаю думать об этом непрерывно. Я в два раза старше вас, мне бы следовало начать соизмерять такие вещи — один Бог знает, ведь это же не в первый раз... Нет, дайте мне закончить. Я решил, что мне надо перестать вас видеть. Я все собирался сказать вам это с самого начала вашего прихода. Я не могу уже позволить себе так мучиться и страдать изза вас и дальше. А я обязательно буду, если вы станете приходить ко мне. Это меня лишает покоя. Не подумайте, что это косвенное предложение вам выйти за меня замуж. Напротив, я стараюсь сделать это совершенно невозможным. Вы знаете, что я из себя представляю, знаете, что я гожусь вам в отцы и что я вообще человек ненадежный. И, кроме того, вы меня не любите». Я сказала: «Это не то слово. Я не знаю, как сказать». «Вот именно, — ответил он. Он протирал руки бензином. Клинически тщательно, со всей старательностью и последовательностью. — Поэтому я 172 и хочу просить вас расстаться со мной, чтобы я смог снова обрести равновесие». Я смотрела на свои руки. Уши у меня горели. Он сказал: «В некотором смысле вы старше меня. Глубоко вы никогда не любили. Возможно, никогда и не полюбите». Потом он сказал: «Это приходит к тебе. К мужчинам. И становишься снова двадцатилетним и так же страдаешь, как двадцатилетние, со всем свойственным этому возрасту ошалелым безрассудством. Внешне я, может быть, кажусь вполне благоразумным, но на самом деле это не так. Когда вы позвонили, я чуть не написал в штаны, так меня всего лихорадило... Я стар уже для любви. Как комичный персонаж в водевиле. Старый колпак. Даже и не смешон». «Почему вы считаете, что я никогда не смогу полюбить?» — спросила Я. Он очень долго протирал руки тряпкой и, наконец, ответил. «Я сказал, возможно». «Мне только двадцать». Он сказал: «Дерево в полметра высотой — это уже дерево. Но я сказал, возможно». «И вы не стары. И наши годы ни при чем». Он бросил на меня немного печальный взгляд, улыбнулся и сказал: «Должны же вы были оставить мне какую-нибудь лазейку». Мы пошли на кухню приготовить кофе. И не знаю как, но мне вдруг представилось, что я живу здесь с ним, в этой квартире, с этой вот жалкой тесной кухонькой, и подумалось сразу, что это ведь невообразимо — чисто рефлекторное трусливое и неуместное движение, только подтверждающее всю подлость и корыстность моей буржуазной души. Он сказал, стоя ко мне спиной: «Пока вы не исчезали так надолго, я думал, что это обычный проходной вариант. По крайней мере, старался так думать. Вот почему я в тот раз так вел себя с вашими друзьямишведами. Чтобы отделаться от наваждения и от вас. Но вы вернулись. В мои мысли. И возвращались опять и опять. Даже там, на Севере. Каждую ночь я выходил в поле за фермой, на которой жил, и смотрел на юг. Вы это понимаете?» «Да», — сказала я. «И все ведь именно вы, именно вы. Не что-то другое». Потом он добавил: «И потом этот ваш теперешний неожиданный вид, у вас появился новый взгляд. Вы уже не ребенок больше». «Новый взгляд?» — спросила я. «Да. Новый. О многом говорящий». «И о чем же он вам говорит?» «О той женщине, которой вы станете». «И какой я стану женщиной? Красивой?» «О, больше чем красивой». 173 И тут не выразишь словами, как он это произнес. С грустью, чуть ли не против своего желания. Нежно и в то же время с горечью. И совершенно искренне. Не дразня, без холодности и равнодушия уже. А прямо из самой своей глубины. Все время, пока мы говорили, я смотрела себе под ноги, но в этот момент он заставил меня поднять глаза, и наши взгляды встретились, и я явственно почувствовала, как что-то произошло между нами, что-то почти физическое. Будто прикосновение. И что-то перешло от него ко мне и от меня к нему. После чего мы уже стали иными. Он после своих слов, а я после того, как почувствовала это. Он смотрел на меня, и я смутилась. Но он все продолжал смотреть. Я сказала: «Пожалуйста, не смотрите так». Он подошел и взял меня за плечо, потом, легонько подтолкнув, повел к двери. «Вы очень, очень красивы, иногда вы просто прекрасны. Вы все хорошо чувствуете и все хорошо понимаете, и вы темпераментны и страстны, и вы умудряетесь оставаться и девушкой своего времени, и быть естественной, и колючей, и старомодной в одно и то же время. Вы даже в шахматы играете хорошо. Вот как раз такую дочь я хотел бы иметь. Наверное, поэтому вы так нужны мне были все эти последние несколько месяцев». Он подвел меня к двери и подтолкнул вперед, не давая возможности оглянуться, чтобы посмотреть на него. «Я не смог бы сказать вам все это в лицо. И вы и не должны поворачиваться. Ни в прямом, ни в переносном смысле. Ну, а сейчас с Богом». Я почувствовала, как он пожал мне плечо, поцеловал в макушку и отпустил. И мне пришлось шагнуть вниз по ступенькам два или три раза, прежде чем я остановилась и взглянула назад. Он улыбнулся, но улыбка у него была печальная. Я сказала: «Не позволяйте этому, ради Бога, продолжаться слишком долго». Он только покачал головой. И я так и не поняла, что это значило. Или то, что это не будет продолжаться долго, или то, что бесполезно надеяться, что это будет продолжаться недолго. Возможно, он и сам не понимал. Но вид у него был грустный. По-настоящему. Конечно, у меня вид тоже был печальный, но не думаю, чтобы я чувствовала грусть на самом деле. По крайней мере, грусть моя была легка, это не было страданием, болью. Скорее я даже получала удовольствие от своих переживаний. Как это ни стыдно, но я даже напевала по дороге домой. Как же: романтика, тайны, приключения. Жизнь!.. Я думала, что не люблю его, была в этом уверена. И радовалась, что выиграла эту партию Но вот что случилось потом? 174 Первые день-два я ждала, что он позвонит, что все это окажется блажью. Потом я стала подумывать, что могу и на самом деле не увидеть его месяц, а то и год, а может быть, и годы, и это мне показалось глупым. Бессмысленным. Дурость невероятная. Он даже упал в моих глазах, мне это показалось проявлением слабости. И я решила: ладно, что ж, если он этого хочет, то черт с ним! Но и так я думала недолго. Я решила, что обязана считать, будто все это к лучшему. Что он прав. Что лучше расстаться заранее, чисто и похорошему. Я примусь за учебу. Сделаюсь деятельной и работоспособной и еще Бог знает какой, какой отроду и не была. И все время продолжала думать о том, люблю ли я его. Тогда во мне было много сомнений и, конечно же, я не могла до конца понять. И сейчас я должна написать, что думаю теперь. Потому что я еще больше изменилась. Внешность. Я понимаю, это чистый идиотизм — пытаться представить свое выражение лица, и свой взгляд, и вообще себя в какой-то момент и со стороны. Возбужденной, когда Пирс целовал меня. Или следящей иногда за ним взглядом (но не в момент, когда он может заметить, чтобы не тешить его тщеславие), глядящей на него пристально и даже с жадностью. Как на прекрасный рисунок чего-то уродливого. Когда об уродстве даже забываешь (из-за того, как сделано). А то, что Пирс урод нравственный и по характеру, это я знала. Лишь посредственность, тупость и дутое тщеславие. Но все же именно тогда, видимо, что-то стало меняться во мне, и взгляд, видимо, тоже. Я думала, как бы Д. П. мог обнимать и целовать меня. Я, конечно, понимаю всю гадость своего извращенного любопытства, но я уже представила себе всех женщин, какие у него были, и все то, что он должен был с ними делать. Я могу и себя вообразить на их месте, с ним во всех ситуациях, и удивительно, это не вызывает во мне содрогания. Я воображаю его очень опытным, заботливым, предупредительным. Забавно. Всяким, всяким, и все, все, кроме главного. Это мне мыслится почему-то обязательно «когда уже на всю жизнь». И потом, этот его минус. Предчувствие, что он бы, вероятно, все равно предал меня. Я всегда думала о браке как об области, свойственной молодости, этакое кругосветное плаванье, в которое отправляются вдвоем, когда соединяются два молодых человека, познают одно, срастаются и продолжают дальше развиваться вместе. Но у меня нет ничего, чем бы я могла дополнить Д. П., нечего было бы дать ему в свою очередь. Все к нам должно было бы приходить только с его стороны. Я так мало знаю о жизни. Я знаю, что Д. П. во многом исповедует определенные идеалы. Это его чувство такта и святое уважение к другим, 175 его независимость, его отказ делать то, что многие очень легко себе позволяют. Его отверженность, отстраненность. И ни один человек из тех, кого я встречала в жизни, не обладал всем этим в такой мере, как он. Казалось, ребята в Колледже были такими, но они слишком молоды. Очень легко быть искренним и презирать условности в нашем возрасте. Раз или два я подумывала, а не хитрость ли это? Как жертва в шахматах. Может, быть, предполагалось, что я должна была сказать: делайте со мной что хотите, только не отсылайте. Нет, в это я не поверю. Что делает время. Два года назад я бы представить себе не могла, что в состоянии влюбиться в старого человека. Я всегда была одной из тех, кто в спорах в Пансионе ратовал за «равный брак», чуть ли не больше всех возмущалась решением Сюзанны Гриллет выйти замуж за какого-то гнусного баронета почти в три раза старше ее. Мини и я вечно говорили о «чистоте» браков, сторонились всякой меркантильности (из-за М.) и престарелых женихов. Но сейчас я так уже не думаю. Я думаю даже, что мне просто необходим человек старше меня по возрасту, я вижу и понимаю больше всех ребят, с которыми я встречалась, я даже их всех вижу насквозь. И потом, я совсем не считаю Д. П. стариком. Впрочем, все это пустое. Я могу писать «за» и «против» бесконечно, хоть всю ночь. «Э м м а ». Трудности неопытной девушки на пороге превращения ее в женщину, и жуткая загадка нужного мужчины. Калибан — это мистер Элтон. Пирс — Фрэнк Черчиль. Но получается ли из Д.П. мистер Найтли? Разумеется, Д. П. уже успел пожить, и взгляды у него такие, что мистер Найтли перевернулся бы в гробу. Но мистер Найтли тоже никогда не был дутым, лживым. Потому что он ненавидел всякую претенциозность, эгоистичность и снобизм. И у них одно и то же имя, которое я терпеть не могу. Джордж. Но, возможно, в этом есть свой скрытый смысл... 18 ноября Я не ела ничего пять дней. Только пила воду. Он приносил мне еду, но я не съела н и к р о ш к и . Но завтра я есть начинаю. С полчаса назад я встала и почувствовала, что падаю в обморок. Вынуждена была снова сесть. Все эти пять дней я была, в общем-то, в довольно сносном состоянии, лишь боли в желудке и немного слабость. Но это уже нечто другое. Предупреждение. Для его удовольствия я умирать тут не собираюсь. Все эти пять дней я не нуждалась в пище. Я была полна ненавистью и к нему самому, и к его низости. К его подлой трусости. 176 К эгоизму. К калибанству. 19 ноября Мне долго не хотелось писать. Несколько раз я принималась. Но потом мне это начинало казаться слабостью. Вроде как смириться со случившимся. Я чувствовала, что, только я начну записывать, я потеряю свою решимость. Но сейчас записать, мне кажется, уже появилась необходимость. Надо зафиксировать. Что он все-таки сделал это со мной. Надругался. Вся та малая доля дружелюбия, человечности и доброты, которая была меж нами, теперь улетучилась. Теперь мы враги. И я, и он тоже. У него вырвались слова, по которым можно было понять, что он меня ненавидит точно так же. Мое существование вызывает в нем неудовольствие. Точно так, как это и должно быть: негодование. Он еще полностью не осознает это, потому что в данное время пытается меня задобрить. Но он уже на пороге того, чтобы понять. В один прекрасный день он проснется и признается себе: я ее ненавижу. Что-то омерзительное. Когда я пришла в сознание после хлороформа, я увидела, что лежу в постели. И раздета до белья, и я не уверена, что он не снимал и остальное. Я была просто в бешенстве всю первую ночь. Чуть с ума не сошла от брезгливости. Его гнусные щупальца прикасались ко мне. Стаскивали с меня чулки. О, мерзость! Потом я подумала о том, что он мог бы сделать. И не сделал. И я решила сдержать себя в отношениях с ним. Только молчание. Кричать на кого-то — это уже заранее предполагает существование контакта. Но, тем не менее, с тех пор я не перестаю думать о двух вещах. Первое: все это довольно странно, что он раздел меня без определенного намерения, лишь в соответствии с какими-то безумными понятиями о «правилах хорошего тона», которые требуется соблюдать. Возможно, он на самом деле думал, что я не могу лежать в постели в одежде. Ну, а затем это могло быть и еще своего рода напоминанием. Этакое рыцарство. И я приняла это к сведению. И оценила: мне повезло. Но мне в то же время даже страшно стало, что он не сделал ничего. Кто он? Что он такое? Огромная пропасть разделяет нас сейчас. И ее уже не перешагнуть. 177 Он говорит, что отпустит меня через следующие четыре недели. Просто отговорки. Я ему не верю. И поэтому предупредила, что собираюсь его убить. И я действительно собираюсь. В буквальном смысле этого слова. Теперь я вижу, что раньше вела себя неправильно. Как я была слепа. Я торговала собой в отношениях с Калибаном, я продавалась. Я позволяла ему тратить на себя деньги, и, хотя оправдывалась перед собой тем, что я это заслужила, что в этом есть определенная справедливость, — это было неправильно. Потому что я чувствовала благодарность к нему и, как следствие, была к нему добра. Даже когда дразнила его, даже когда третировала, отчитывала и поносила. Даже когда била эти его тарелки. В то время как мне надо было с самого начала повести себя так, как я собираюсь это делать только сейчас: холодно как лед. Чтобы заморозить его насмерть. Он катастрофическое ничтожество по сравнению со мной во всех отношениях. Единственное его превосходство — он держит меня здесь. Во всем остальном он не представляет собой никакой силы. Он не может ни держать себя, ни думать, ни говорить, ни делать что-либо лучше меня — даже так, как я, — поэтому он и будет оставаться морским стариком все то время, пока я каким-то образом его с себя не скину. Но это уже может быть сделано только посредством силы. И вот сколько я здесь сижу, я все думаю о Боге. И наконец я уже начинаю чувствовать, что окончательно перестаю в него верить. И не из-за себя одной, я думаю о тех миллионах, которые жили точно гак же во время войны. Дневник «Анны Франк»6… Или вспомнить о более далеком прошлом. И я догадываюсь, уже почти уверена теперь, что Бог не вмешивается. Он сторонний наблюдатель, он позволяет нам страдать. Когда ты молишься о даровании свободы, ты можешь обрести ее лишь потому, что молишься, или потому, что так сложатся обстоятельства. Но Бог не слышит. В нем нет ничего человеческого, того, чем мы всегда его наделяем, всех этих наших качеств: жалости, сострадания, желания помочь. Я готова согласиться, что Бог был в основе, что он сотворил весь этот мир, законы существования материи и движения, возможно. Но он не в состоянии заботиться о каждом из нас, о каждом индивидууме. Может быть, он определяет на будущее количество людей счастливых и несчастных, количество в мире счастья и страдания. Но кто будет страдать, кто будет счастлив, он не знает, и его это не беспокоит. Об этом он не заботится. А значит, он и не существует, если так. Я ощущаю свое неверие несколько последних дней. И я стала яснее думать, меньше путаться, я уже не так слепа. Я все еще верю в Бога. Но он (сейчас) такой далекий, такой холодный, такой абстрактный. Я вижу, что 6 Дневник еврейской девочки из концлагеря, родителей которой расстреляли фашисты. 178 мы вынуждены жить так, как будто Бога нет. Иначе не выживешь. Мольбы, молитвы и поклонение — все это глупость и бессмыслица. Я стараюсь сейчас объяснить, почему я решила переступить через свои принципы (никогда не прибегать к насилию). Они все еще остаются моими принципами, но я поняла, что иногда ты вынужден поступаться ими, чтобы остаться в живых. Нет смысла слепо предаваться на волю судьбы, полагаться на то, что провидение и Бог будут к тебе благосклонны, — они не помогут. Ты обязан постоять за себя сам. Небо пусто, абсолютно. Изумительно ярко, чисто и пусто. Если бы все архитекторы и строители жили в домах, которые они возвели! Или могли бы жить во всех домах, которые построили. Это же очевидно, это же лежит на поверхности. Бог должен быть, но он не может всего знать про нас. (Этим же вечером.) Я не замечала его весь день. Несколько раз он пытался заговорить, но я обрывала его. Не хочу ли я чего-нибудь. Я сказала, я ничего не хочу. Я ваша пленница. Если вы дадите мне пищу, я буду есть ее, чтобы продолжать жить. Наши отношения — это четко регламентированные отношения тюремщика и заключенного, не больше. Сейчас, пожалуйста, оставьте меня одну. Счастье мое, что у меня есть много чего читать. Сигареты он мне будет приносить (если не будет, я не попрошу) и еду тоже. Это все, что мне от него требуется. Он не человек, он пустота, имеющая форму человека. 20 ноября Я сейчас все делаю для того, чтобы он даже видеть меня не мог, чтобы он пожалел о том времени, когда вообще меня встретил. Сегодня в ленч он принес мне запеченные бобы. Я читала, сидя на постели. Он постоял некоторое время и потом двинулся, чтобы уходить. Я спрыгнула на пол, схватила тарелку с запеканкой и бросила в него. Я не люблю бобы, и он это знает, думаю, что ему просто лень было что-то еще приготовить. С моей стороны это не было каким-то эмоциональным взрывом, я просто разыграла сцену. Он стоял весь в потеках оранжевого соуса, расплывшегося по его вечно чистому и отутюженному костюму, и смотрел своими овечьими глазами. «Мне не надо никакого ленча», — бросила я ему. И повернулась спиной. Днем я съела всю плитку шоколада. Он не появлялся до самого ужина. На ужин он принес икру, копченого лосося и холодного цыпленка (он покупает их где-то готовыми) — все те вещи, какие, он знал, я люблю — и еще с десяток блюд, мне нравящихся, хитрая скотина. И не в том хитрость, что он купил все это, а в том, что знает, я не могу не чувствовать благодарности за заботу (пусть я даже и не благодарю его, но я перестаю быть резкой с такое время), и в том, что он преподносит мне блюда с 179 совершенно смиренным видом, точнее, с ничего не значащим, как бы говорящим: пожалуйста, не стоит меня благодарить, хотя я это заслужил. Когда он с таким выражением лица расставлял принесенную еду у меня на столе, я еле сдержалась, чтобы не расхохотаться. Просто жуть! Захотелось запрыгнуть на постель с ногами и диким голосом орать. Он так совершенно верен себе, а я в таком безвыходном положении в этом курятнике, на этом насесте... Настроение у меня здесь, внизу, меняется со скоростью невероятной. Минуту назад я еще была полна решимости делать что-то одно, минуту спустя — уже совершенно другое. И не получается у меня ничего. Я не злопамятна по натуре, я не могу долго ненавидеть и не проявлять добрых чувств. Как будто где-то внутри у меня каждый день вырабатывается определенное количество положительной доброй энергии, и она обязательно должна иметь выход. Если я перекрою его, я взорвусь. И не сказать, чтобы я была добра к нему, я не хочу быть к нему доброй, мне нельзя быть к нему доброй. Но мне трудно удержаться и не быть по отношению к нему обыкновенной. (Не сказать, например, элементарного «спасибо», «было вкусно».) Поэтому, когда возникло такое желание, я промолчала. Он спросил «Больше ничего не нужно?» (как дворецкий). Я сказала: «Нет, можете идти», — и повернулась к нему спиной. Но, я думаю, он бы крайне удивился, если бы в этот момент увидел мое лицо. Я улыбалась, а когда за ним закрылась дверь, упала на постель и минут пять хохотала. Ничего не могла с собой поделать. Истерика. Кое-что о том, чем я занималась последние несколько дней и продолжаю заниматься почти беспрерывно. Я смотрюсь в зеркало. Иногда я не узнаю себя в нем, и мне кажется, что я на себя не похожа, а временами начинает вообще мерещиться, что это и не мое отражение стоит всего в полуметре от меня. И в такие моменты приходится отвести взгляд в сторону. Я разглядываю свое лицо, смотрю в глаза, пытаюсь отгадать, что они говорят, что за ними. Кто я? Что я? Почему я здесь? Все оттого, что я так одинока. Мне нужно еще хоть одно разумное интеллигентное лицо. Кто был когда-нибудь в положении запертого человека, поймет меня. Начинаешь открывать себя с неожиданных сторон. Видишь таким, каким не видел никогда прежде. В обычной жизни так много от тебя раздается другим людям, а сейчас все тут. Я разглядываю свое лицо и вижу, как оно двигается, меняется, как будто это кто-то другой, не я. Я сама себя стараюсь переглядеть. И сама сижу рядом с собой. Иногда даже начинает мерещиться какая-то чертовщина, и мне приходится сморщить нос или высунуть язык, чтобы все это разрушить. Я сижу здесь — в абсолютной тишине, наедине со своим отражением — и участвую в какой-то мистерии. 180 В таинстве. 21 ноября Полночь. Не могу заснуть. Я сегодня ненавистна сама себе. Я чуть не стала убийцей. Такое не должно больше со мной никогда повториться. Трудно писать. Руки связаны. Хотя кляп я вытащила сама. Все началось в ленч. Я вдруг осознала, что сопротивляюсь желанию снова установить с ним нормальные отношения. Потому что мне необходимо с кем-то разговаривать. Я не могу удержаться от этого. Пусть хоть и с ним. В конце концов, он тоже человеческое существо. Когда он уходил после ленча, я чуть не окликнула его, чуть не заставила остаться, чтобы с ним поразговаривать. То, что я решила два дня назад, совсем отличается от того, чего я хочу в данное время. Поэтому я приняла новое решение. Здесь мне никогда не удастся ничем его ударить. Тут я все время держу это в уме. И он никогда не поворачивается ко мне спиной. И кроме того, здесь никогда ничего не попадется под руку. Поэтому я подумала, что мне надо выбраться наверх и найти что-нибудь там У меня даже было наготове несколько вариантов. В противном случае я опять рискую попасться на старой его хитрости на жалости к нему. С этой целью за ужином я и держала себя с ним лучше, чем обычно, даже доброжелательно, и сказала ему кроме всего прочего, что мне надо принять ванну (мне действительно было надо). Он вышел, потом вернулся, и мы поднялись наверх. И там, как посланный свыше, как специально оставленный для меня, лежал на подоконнике в кухне маленький топор. Калибан, должно быть, рубил дрова во дворе и забыл его спрятать. Что делает мое безвыходное сидение внизу... Мы прошли внутрь слишком быстро, и я ничего не успела предпринять. Но в ванной, лежа в горячей воде, я думала. И в конце концов решила, что я обязана сделать это. Мне надо успеть схватить топор и ударить его тупым концом по голове, оглушить. Я не имела ни малейшего понятия, в какое место и как сильно надо бить. После ванной я попросила отвести себя обратно сразу же. А когда мы проходили через кухонную дверь, я обронила на пороге все свои вещи — мыльницу, пудру и прочие мелочи и потом отступила в сторону окна, будто для того чтобы посмотреть, куда они покатились. Он сделал то, на что я и рассчитывала: нагнулся и стал подбирать их. Я совершенно спокойно, без суеты взяла топор, очень аккуратно сняв его с подоконника, даже не звякнув лезвием, и повернула вниз обухом. И тут... вдруг как ото 181 сна очнулась. Мне надо было ударить его, и я не могла, хотя знала, что бить надо... Тут он начал подниматься (все это заняло буквально одно мгновение), и я его все же ударила. Но он уже выпрямлялся в этот самый момент, и я не сумела попасть куда надо или ударила не слишком сильно. Дело в том, что я замахнулась в самую последнюю секунду и уже в панике. Он упал набок, но я знала, что не оглушила его, он продолжал держаться за меня, вцепившись мертвой хваткой, и я внезапно почувствовала, что мне надо или убить его, или уж теперь он убьет меня. Я ударила еще раз, но он подставил руку и в то же самое время кинулся в сторону, сбивая этим движением и меня с ног. Это было кошмарно. Мы пыхтели, сопели, боролись, возились на полу, как настоящие животные. И потом вдруг я поняла, что все это... не знаю, недостойно, что ли. Это звучит нелепо, но такая мне пришла тогда насчет всей этой сцены в голову мысль. Что-то наподобие статуи, лежащей на боку. Или как будто толстая женщина пытается подняться с травы. Мы встали, он грубо втолкнул меня в дверь и повел, крепко держа за руку. Но все уже кончилось. У меня даже появилось странное ощущение, что он должен испытывать такое же чувство, как и я. Я подумала, что, может быть, кто-то нас слышал, пусть даже крикнуть мне не удалось. Впрочем, день был ветреный, сырой, холодный. И никого, конечно, не было в такую погоду поблизости. Я вот все лежу и лежу в постели. Плакать я уже перестала. Но лежу в темноте уже много часов и думаю. 22 ноября Какой все-таки позор. Я позволила себе опуститься до подлости. Ночью я пришла к нескольким выводам. К решениям. Совершение поступка с целью собственной выгоды — порочно. Если я использую результат своего поступка, я становлюсь на один с ним уровень, неважно, достигнут ли результат силой или воздействием благородного поступка, жертвы, смирения или сочувствия. Дело в том, что я поняла: и в моей «благородной» жалости ко всем этим обделенным и неудачникам, которая у меня в крови, всегда была определенная личная цель и корысть. Я не делала ничего бескорыстно. И подобных людей жалела только потому, что мне это льстило. А совсем не потому, что они уж так нуждались в моем сочувствии. Как в Пансионе я жалела Сэлли Мэргисон. Я опекала ее и принимала в ней участие только для того, чтобы отстоять и защитить перед всеми свое представление о необходимости существования «святой непорочности», чтобы показать всем остальным, что я их лучше, я умнее. И потом, ведь Сэлли была добра ко мне, любила меня за это, как никого, и готова была все для меня сделать. Или Дональд и Пирс (их я тоже брала под свою защиту, жалея уже за духовную обделенность) — но ведь они 182 оба привлекательные молодые парни. Существовали, вероятно, сотни людей, которые гораздо больше нуждались в защите и сочувствии, чем эти двое. Но тем не менее, большинство девушек бросаются жалеть именно таких. Я слишком поспешила разделаться с жалостью к Калибану. Мне надо сменить поведение по отношению к нему. Заключенный — надзиратель — это глупо. Больше я свысока смотреть на него не буду. Если он начнет действовать мне на нервы, я буду молчать. И буду вести себя с ним как с человеком, заслуживающим сочувствия и внимания. Я буду продолжать учить его понимать искусство. И все остальное. Есть только один способ поведения. Правильный. Не то «правильное поведение» Пансиона. Но исходящее из внутреннего чувства. Мой собственный правильный путь. Я по натуре нравственный человек. И я не стыжусь быть нравственной. И Калибану я не позволю делать себя безнравственной; даже если он и заслуживает всей моей ненависти, всех моих проклятий и даже того, чтобы ему на самом деле размозжили голову топором. (Позже.) Сегодня я держала себя с ним хорошо. Не в пример тому, какой была все последнее время. Когда он пришел, я первым делом заставила его показать мне голову и помазала рану детоловой мазью. Он вел себя неспокойно. Я добилась того, что сделала его совершенно пугливым. Как раз то состояние, в которое мне вгонять его совершенно не хотелось бы. Но, признаться, нелегкая задача. Когда я обходилась с ним по-свински, вид у него делался такой забитый, такой виноватый, что мне становилось стыдно за себя. Но как только я начала себя вести с ним хорошо, он тотчас переменился, и в голосе и манерах у него стало проскальзывать какое-то самодовольство (не явное, конечно, наружно он весь день само смирение, ни упрека, ни намека на вчерашний вечер), и мне снова захотелось устроить ему сцену или закатить пощечину. В точности как натянутая струна... Но атмосфера все-таки разрядилась... (Ночь) Я учила его после ужина, как надо воспринимать абстрактную живопись, что главное в этих картинах. И опять впустую. Он вбил себе в свою бестолковую башку, что живопись — это излишество и расточительство (он не может понять, почему я «не стираю») до тех пор, пока на картине не возникает фотографическая похожесть, а наброски и эскизы (как, например, чудный Бен Николсон) — это где-то вообще безнравственное попустительство. «Я понимаю, тут изображены красивые формы», — скажет он. Но признать, что изображение красивых форм и есть искусство, он не в состоянии. И с ним обычные слова приобретают такой жуткий неожиданный смысл, что не знаешь, как и говорить. Все в искусстве повергает его в некоторое замешательство и, я полагаю, еще и 183 пленяет, потому что все это немножко расточительно-безнравственно. Он понимает, что большое искусство — это большое искусство. Но «большое» значит запертое в музеях и лишь упоминаемое в разговоре с целью произвести на кого-то впечатление. Современное, живое, а особенно модернистское искусство его просто шокирует. И невозможно с ним говорить, потому что уже одно слово «искусство» порождает в нем целую серию посторонних, пугающих его «запретных» мыслей. Жаль, что я не обращала внимания раньше, много ли таких людей, как он. Конечно, должно быть, большинство — чего стоят одни Новые люди, которым искусство до лампочки. Действительно ли им скучно, так что они в состоянии обходиться без искусства всю жизнь, или оно вызывает в них своего рода испуг, и им приходится прикидываться, будто им всегонавсего скучно?.. 23 ноября Я сегодня закончила «В субботу вечером и в воскресенье утром». Жуткая повесть. И сама по себе, и вдвойне оттого, что я читала ее здесь. Я помню, точно так же на меня подействовала и «Комната в мансарде», которую я читала прошлым летом. Я понимаю, что все это талантливо и, должно быть, это прекрасно — иметь способность писать так, как Алан Силлитоу. Правдиво, невыспренно, без надутости и фальши. Если бы он был художником, то писал бы чудесно (он бы мог быть как Джон Брэтби, даже лучше), он бы смог написать Ноттингем, и тот был бы чуден в красках. Потому что он показывает все, что видит, так достоверно, что одно это уже вызывает восхищение. Но тут есть одна загвоздка. Литературной техники (я имею в виду правильный, создающий достоверность выбор слов и так далее) все же недостаточно для того, чтобы быть хорошим писателем. Потому-то я и считаю, что «В субботу вечером и в воскресенье утром» — книга отвратительная. И я думаю, что Артур Сетон — отвратителен. А самое отвратительное, что Алан Силлитоу не показал нам, что этот его молодой человек ему тоже кажется отвратительным. Мне даже думается, что людям такой молодой человек может показаться привлекательным. Мне глубоко противно совершенное равнодушие Артура Сетона ко всему, что делается вне его собственной маленькой жизни. Его ограниченность, эгоизм и сущая животность. Наглость, беззаботность, презрение к своей работе, этот его успех у женщин и то, что делает его у них так называемым «роковым» мужчиной. И понравилось мне в нем единственное: существование чего-то, отчетливо в нем ощущаемого, которое могло бы быть использовано во благо, будь для этого обстоятельства и условия. 184 А все остальное — это их суть, таких людей. Не заботиться ни о чем, ни о чем не беспокоиться. Что там происходит в мире... В жизни. Люди — ящики. Возможно, Алан Силлитоу хотел предъявить обществу счет за воспроизведение таких людей. Но тогда надо было показать это более ясно. И потом, я понимаю, что с ним произошло: он влюбился в то, что создал. Он начал писать это как порок и уродство — что соответствует действительности, — но потом уродство покорило, обворожило его, и он начал хитрить, любоваться им. Приукрашивать. И вдвойне отталкивающе это на меня подействовало из-за Калибана. Я увидела в нем что-то от Артура Сетона, только в нем все это перевернуто с ног на голову. У него та же ненависть ко всему отличному от него, ко всему на него непохожему. Тот же эгоизм, причем даже худшего рода, замаскированный, хитрый, потому что он постоянно оправдывает его «тяжкими» обстоятельствами и условиями жизни, после чего продолжает жить таким же эгоистом, но со спокойной совестью. И так же упорен в достижении цели. И еще мне стало противно оттого, что я вдруг поняла: сейчас все вокруг, за исключением нас (хотя и мы уже заражены), так же эгоистичны и животны, как эти, разница лишь в том, что в одних это проявляется замаскировано, в робкой извращенной форме, а другие демонстрируют это грубо и открыто. Религия практически мертва, Новых людей сдерживать больше нечему, и они все более и более будут набирать силу, подавляя и вытесняя нас. Но нет, до конца им нас все-таки не вытеснить. И все из-за существования таких людей, как Дэвид. Как Алан Силлитоу (в предисловии сказано, что он сын чернорабочего). То есть интеллигентных Новых людей. Им всегда будет тесно среди своих, и все равно они восстанут в конце концов и перейдут на нашу сторону. Новые люди обрекают себя на вымирание своей собственной глупостью. Им никогда не удержать умных при себе. Особенно молодых. Потому что таким нужно что-то еще, кроме денег и возможности выглядеть «на уровне». Борьба идет. Битва. Точно как жизнь в осажденном городе. Они всюду, вокруг. А мы тут держимся до последнего. Битва между Калибаном и мной. И я должна бороться своим оружием. Не его. Мной не должны двигать животный эгоизм, чувство неполноценности, негодования и обиды. Он даже хуже Артура Сетона. Если Артуру Сетону не понравится модернистская скульптура, он просто разобьет ее. Но Калибан накроет ее брезентом. Трудно сказать, что хуже. Мне кажется — последнее. 24 ноября 185 Я все больше прихожу в отчаяние от безвыходности положения, от невозможности бежать. И не приносят облегчения ни пластинки, ни чтение, ни даже рисование. Мне так жгуче, как, должно быть, всегда всем заключенным, не хватает людей. Калибан в лучшие свои минуты всего лишь полчеловека. А мне нужны десятки и десятки новых лиц. Как в жажду пить и пить воду, стакан за стаканом. Точно такое же ощущение. Я читала однажды, что никто не может выдержать в тюремном заключении больше десяти лет и больше одного года в одиночной камере. Трудно представить себе, что такое тюрьма, пока в нее не попадешь. Обычно считают, что не так уж там плохо, много времени, чтобы читать, думать... Но тут плохо! Это столь медленно ползущее время. Я готова поклясться, что мир на вечность ушел вперед с тех пор, как я сюда попала. Хотя мне не следовало бы жаловаться. Моя тюрьма — пожалуй, самая роскошная тюрьма в мире... И эта его дьявольская хитрость не давать мне ни газет, ни радио, ничего. Я никогда особенно не интересовалась газетами и новости не слушала. Но так абсолютно быть ото всего отрезанной, в пустоте... Это так необычно. Я чувствую, что потеряла все ориентиры. Часами лежу на постели и думаю только о побеге. 25 ноября (День.) Сегодня у нас был разговор с ним. Сначала я посадила его позировать мне. Потом спросила, чего он все-таки от меня добивается. Чего хочет. Чтобы я стала его любовницей? Но его от этого вопроса только покоробило. Он покраснел и ответил, что это он может купить в Лондоне. Я сказала ему, что он как китайский ящик. И ведь таков он и есть. И в сокровенной глубине этого ящика лежит надежда, что я полюблю его, полюблю по-настоящему. И душой и телом. Во всех отношениях. Стану его уважать, ценить, жалеть, лелеять. Восхищаться — и все понастоящему. Но ведь это так немыслимо — даже если я перешагну через себя, даже если стану выше неприятия и вообще всего физического, как я смогу перестать смотреть на него как на существо низшее по сравнению со мной? Трахнуть бы его головой об стену! Не хочу умирать. Во мне есть еще силы. И я все сделаю, чтобы выжить. Я выживу. 26 ноября И единственная странность наблюдается за ним — это любовь ко мне. Как он меня любит!.. Обычно Новые люди не в состоянии любить так, как любит он. Слепо, безрассудно. Несмотря ни на что. Как Данте свою Беатричче. 186 И он получает определенное удовольствие от этакой безнадежности. И я подозреваю, что с Данте происходило то же. Он мучил себя постоянным осознанием безнадежности и получал от этого огромный творческий импульс. Хотя Калибан, естественно, не способен на подобный импульс, он получает лишь свое собственное крохотное удовольствие. Люди, не способные к творчеству. Как они ненавистны мне. Какой страх я пережила в те первые дни, думая, что мне предстоит умереть. Мне не хочется умирать, потому я продолжаю жить мыслями о будущем. Я страшно заинтригована тем, что жизнь еще мне может приготовить. Что еще может со мной случиться, кто из меня получится, какой я буду через пять лет, десять, тридцать. Кто тот человек, за которого я выйду замуж, и где стану жить с ним. Мои дети... И это не эгоистическое любопытство. Просто с исторической точки зрения самое неподходящее время умирать. Межпланетные путешествия, НТР, мир только-только просыпается и потягивается. грядет новая эра. И я знаю, что она сопряжена с опасностью. Но все равно чудесно — жить в таком мире. Я люблю жить, и я обожаю мой век. Продолжаю думать весь день. Первое: люди нетворческие плюс существующая благоприятная для творчества обстановка равно люди зла. Второе. Убить его — это предать и свои убеждения, и данное себе слово. Конечно, можно было бы сказать: какой в данном себе слове смысл? Ты всего лишь песчинка, и твое слово — это такая же песчинка, и подумаешь, ты его не сдержишь. Не будет иметь никакого значения. Но все зло мира тоже сложено из таких вот маленьких , не использованных когда-то во благо, песчинок. И глупо рассуждать о незначительной малости их. Одна маленькая песчинка и большой океан песка — это одно и то же по своей природе. _ Представляю в воображении (не раз уже ловила себя на этом) свою жизнь с Д.П., то, как мы живем вместе. Он обманывает меня, бросает меня, он со мой груб и циничен, я безутешна. В моих мечтах мало чувственности, просто лишь наша с ним жизнь вдвоем. В довольно романтических красках, конечно. Море и остров, и на нем только мы. Иногда это северный пейзаж с белыми домиками, иногда Средиземное море. И наше родство душ. Вся эта глупая журнальная дребедень, как в душещипательных романах... И тем не менее — родство душ, близость их. Это представляется мне очень явственно. Как и ситуация, когда он меня бросает. И мое состояние при этом. Когда готова умереть. Мне даже сейчас больно об этом думать. Временами я близка к полнейшему отчаянию. Никто уже не верит больше в то, что я еще могу оставаться в живых. Я уже окончательно похоронена. Для всех моя смерть — свершившийся факт. Люди уже даже примирились с ней. И при всем том эта дикая нелепица: я сижу здесь на постели и мечтаю о своей совершенной любви с другим человеком — а я 187 знаю, что любовь моя будет именно такой, я не привыкла себя разменивать или делать что-то наполовину, случись она, я пойду до самого конца, все брошу, отдамся без остатка вместе со своим умом, сердцем, душой и телом как раз какому-нибудь мужлану вроде Д. П. Который меня и предаст. Я знаю это. Все мои мечты о жизни с ним начинаются со счастья и нежности, но я знаю, что все будет совершенно не так. Будет грубая животная страсть, будет насилие, потом ревность. Отчаяние. Горечь. И что-то умрет во мне. И ему будет плохо ото всего этого тоже... Если б он взаправду любил меня, он бы меня тогда не отправил. Если б он взаправду любил меня, он бы не смог меня отправить... 27 ноября Ночь. Мне никогда не выбраться отсюда. От такой мысли я просто начинаю сходить с ума. Я должна, должна, должна что-то делать. У меня такое ощущение, что я нахожусь в самом центре Земли, и вся тяжесть нашей земной коры сдавливает этот маленький ящик. Я просто чувствую, как он сжимается. Иногда хочется кричать. Что есть силы. До потери голоса. До смерти. Просто не описать. Нет слов. Совершенное отчаяние. Весь день примерно одно и то же. Как своего рода картина бесконечной паники в замедленном кино. О чем он думал в самом начале, когда только привез меня сюда? Что-то нарушилось в его планах. Я повела себя не так, как было задумано, не как девушка в его мечтах. Я оказалась котом в мешке. Не потому ли он держит меня здесь? Надеясь, что желанная Миранда еще придет к нему? Может быть, мне с самого начала надо было стать девушкой его мечты. Положить ему руки на плечи, поцеловать. Обласкать, похвалить, погладить. Не говорю, что без сомнения надо было так делать. Но все теперешнее заставляет меня думать. Может быть, я действительно еще поцелую его. И даже больше, чем поцелую. Стану его любить. Изберу его своим столь ожидаемым принцем... Между каждым из этих предложений я думала, по крайней мере, часа по два, прежде чем записала их одно после другого. Мне надо сделать так, чтобы он почувствовал: я наконец оценила его рыцарство, я им покорена, и так далее, и так далее... Это должно быть что-то из ряда вон выходящее. И это наконец заставит его что-то сделать. Заставит его проявиться. 188 Я уверена, что справлюсь. В конце концов, он до неправдоподобия чистый. И от него никогда ничем не пахнет, кроме мыла. С этим я и собираюсь отойти ко сну. 28 ноября Я пришла к чудовищному решению. Я сегодня представляла, как веду себя с ним ночью. Хотя дальше поцелуев мое воображение не пошло, но неважно. Я должна обрушить на него чудовищное потрясение, после чего он будет вынужден меня освободить. Потому что невозможно уже держать в заключении ту, которая отдала тебе себя. Ведь я буду оставаться в его власти. Я никогда не смогу донести на него в полицию. Единственное, чего я буду желать, — это как можно дольше скрывать то, что случилось. Это так очевидно. Это лежит на поверхности. Как хорошо обдуманная жертва в шахматах. Как рисование. Нельзя прерываться, когда ведешь линию, или проводить ее по частям. Чтобы получилась линия, нужна смелость. Я продумала в деталях, что мне с ним ночью предстоит. Жаль, что я так мало знаю мужчин, хотелось бы быть вполне уверенной, чего именно нельзя делать из того, о чем я не раз слышала, читала, догадывалась. Но в конце концов я собираюсь ему позволить только то, чего добивался от меня Пирс в Испании: это у них называется петтинг. Если он захочет, я буду с ним. Если он захочет, я позволю ему все эти игры. Но только не самое последнее. Я попробую сказать ему, что у меня, например, неподходящие дни месяца, если уж он зайдет слишком далеко. Но я думаю, что он будет настолько шокирован всем происходящим, что легко уступит мне. Я только повожу его за нос. Я понимаю, что риск жуткий и с девяносто девятью мужчинами из ста это не прошло бы, но мне кажется, что он как раз тот самый сотый. Он остановится именно в тот момент, когда я скажу. И даже если дойдет до этого. Если даже он не остановится. Я все равно пойду на риск. Тут две причины. Первая — необходимость заставить его отпустить меня. А вторая — я сама. То, о чем я писала 7 ноября: «Я люблю во всем доходить до конца, люблю все, что не сидит, не смотрит...» Но я не иду до конца. Я как раз сижу и смотрю. И не только здесь. И с Д. П. тоже. Все эти разговоры о девственности, о том, что нужно себя блюсти, хранить для своего будущего избранника. Я всегда презирала это. И, тем не менее, сама пряталась где-то в тени. Я ношусь со своим телом как с писаной торбой. Пора кончать с этой подлостью. 189 Я все больше погружаюсь в состояние какой-то безнадежности. Я говорю: что-то случится, - но ничего не происходит. И ничего и не случится, пока я сама не позабочусь об этом Я обязана действовать. И еще я писала (вот так пишешь, а понимаешь только потом): «Я должна бороться своим оружием. Не его. Мной не должны двигать комплексы и негодование». А, следовательно, я буду бороться щедростью (я отдаю себя ему), добротой и человечностью (я целую зверя), бескомплексностью (я делаю это сознательно, потому что решила сама), сочувствием и снисхождением (сам себе он никогда не поможет). Даже если будет ребенок. Его ребенок. Все, что угодно. Ради свободы. Чем больше я думаю об этом, тем больше убеждаюсь, что это правильный путь. В Калибане есть какой-то непроницаемый секрет. Должен же он хотеть меня физически. Возможно, у него тут тоже какой-нибудь комплекс и он, как это говорится, в этом не на высоте. Что бы там ни было, все тайное проявится. И мы сразу узнаем, кто мы есть, где мы находимся и как нам жить дальше. Я не писала все эти дни о Д. П. Но думала я о нем постоянно. Первое и последнее, на что я смотрю каждый день, — это его картина. Я уже начинал ненавидеть эту неизвестную, позировавшую ему девушку. Он, должно быть, спал с ней. А может быть, это была его первая жена. Я обязательно спрошу его, когда выйду. Потому что первое, что я сделаю, когда выйду и увижусь с родителями, — это пойду к нему. Чтобы сказать ему, что он все время был со мной в мыслях. Что он самый интересный человек из всех людей, каких я только в жизни встречала. Самый настоящий. Самый стоящий. Что я завидую каждой женщине, с которой он был близок. Я все еще не могу сказать, что я его люблю. Но сейчас я стала понимать, что это лишь оттого, что я не знаю, что такое любовь. Я как Эмма с ее маленькими умными-преумными теориями о любви и замужестве, но любовь является к нам каждый раз новым путем и каждый раз в своем новом обличии, каждый раз в неожиданном и не похожем ни на что другое, и вполне может статься, что необходимо время и время, чтобы понять: именно это и есть любовь. Вполне возможно, что он опять станет отстраненным и разочарованноравнодушным после этого моего признания, таким, как всегда. Может сказать, что я слишком молода, что он никогда и не думал серьезно обо мне — и тысячу других вещей. Но я уже не испугаюсь. Я пойду на это. А может быть, у него самый разгар очередного романа с другой. Но я все 190 равно скажу: я вернулась, потому что уже не знаю, не уверена больше, что я не влюблена в вас. Я скажу, я была голой с другим мужчиной, который мне противен. И у меня было с ним все. И я позволю ему взять себя. Но я все равно, все равно не вынесу, качни он опять свои шашни с кемнибудь еще. Сведи он все это к постели. Это уже выше меня, все во мне сразу умрет. Я понимаю, что это предрассудки, что я недостаточно эмансипирована. Но такая уж я есть. Постель не имеет значения. Важна любовь. Сегодня днем я чуть было не попросила Калибана отправить Д. П. письмо. Совершенное безумие. Конечно, он бы не отправил. И это лишь вызвало бы в нем ревность. Но мне так хотелось сегодня, здесь: подняться к Д. П. по лестнице и толкнуть дверь мастерской и увидеть его за мольбертом, вполоборота к двери, его взгляд через плечо, и такое выражение лица, как будто он совершенно не интересуется, кто там пришел. И как он поднимется потом мне навстречу и слегка, совсем чутьчуть улыбнется глазами, сразу поняв совершенно все... Вот же глупость. Я начинаю думать о цене, еще не написав картину. Завтра. И я должна начать действовать уже сейчас. И я начала. Я назвала его Фердинандом (не Калибаном) три раза и сделала ему комплимент, похвалив его чудовищный новый галстук. И улыбалась, и безропотно соглашалась со всем, и старалась показать, что мне все в нем нравится. Он, конечно, и виду не подал, что все это заметил. Но он еще не знает, что ждет его завтра... Не могу заснуть. Поднялась с постели и поставила пластинку клавикордной музыки, ту, что есть у Д. П. Как знать, может быть, он сейчас тоже слушает ее и думает обо мне. «Инвенция» — то место, что мне больше всего нравится, следует за пьесой, что больше всего нравится ему, — он любит пятую, а я шестую. Так мы и стоим рядом в музыке Баха. Раньше мне всегда казалось, что Бах скучен. Сейчас он просто ошеломляет меня. Он так человечен, так щедр, так мягок и так прекрасен, так глубок в совершенно простых вещах, что я ставлю его раз за разом, будто копирую какой-то понравившийся рисунок. Думаю, что я, пожалуй, просто слегка обниму его и поцелую. И ничего больше. Но ведь это ему может понравиться. И он не отвяжется. И это будет ужасно... И все оттого, что я привыкла к хозяйскому, распорядительному отношению к жизни. Я всегда знаю, куда я стремлюсь, и чего я хочу, и как мне надо, чтобы все кругом происходило. И все происходило именно так, как мне надо, и я принимала это как само собой разумеющееся, как очевидное, только потому, что я знала, что так мне надо. Но ведь мне просто везло, всегда и во всем. 191 Я всегда старалась, чтобы в жизни все происходило так, как мне заблагорассудится, настало время, когда жизнь сама распорядится мной, как заблагорассудится уже ей. 30 ноября О, Боже мой! Я совершила что-то ужасное! Я должна это записать. Чтобы разобраться. Все это так неожиданно. Все. И то, что я сделала такое. И что произошло потом. И то, что он оказался такой. А я такая. И что все осталось по-прежнему. Даже хуже, чем по-прежнему. Во сто крат. Я решилась на это сегодня утром. Я поняла, что просто обязана сделать что-то из ряда вон выходящее. Чтобы дать встряску и себе и ему. Я приготовилась к ванне. Весь день я держала себя с ним хорошо. После ванны принарядилась. Извела флакон «Мицуко». Потом стояла у огня камина и показывала ему свои голые ноги. Чувствовала я себя очень неуверенно. Побаивалась того, что мне предстоит, и не знала, смогу ли выдержать до конца. К тому же еще со связанными руками. Но я выпила три стакана шерри... И я закрыла глаза и принялась за дело. Я заставила его сесть и затем сама устроилась у него на коленях. Он был так напуган этим, что весь окаменел, и мне пришлось и дальше действовать самой. Если бы он меня в этот момент сграбастал, я бы, может быть, и остановилась. Я позволила своему халату широко распахнуться. Но он даже не обратил на это внимания и продолжал просто сидеть, держа меня на коленях. Как будто все это был какой-то давний, надоевший флиртик. Или, наоборот, флиртик от нечего делать двух незнакомых людей, никогда до этого не видавших друг друга, да и не особенно друг другу нравящихся. И совершенно отвратительным, противоестественным образом я стала чувствовать, что мной овладевает возбуждение. Женщина во мне потянулась к мужчине в нем. Это не объяснить, к тому же явное понимание, что он сущий девственник. Чувство почтенной матери семейства, вышедшей погулять с молоденьким хорошеньким священником. Должно быть, я была пьяна. Мне пришлось его заставить себя поцеловать. Он сделал слабую попытку изобразить беспокойство, опасение, что он может потерять голову. Я сказала, что мне это все равно. И снова поцеловала его. Тогда и он ответил на поцелуй, и так, будто, несчастный, своими тонкими, плотно сжатыми губами хотел насквозь продавить мне голову. Мне стало приятно. Пахло от него тоже хорошо, и я закрыла глаза. В конце концов это было не так уж плохо. 192 Но тут он вдруг поднялся и отошел к окну и обратно уже не вернулся. Похоже, он готов был вообще убежать, но нельзя было, поэтому он только стоял полуотвернувшись, пока я, полуголая, присев на колени у огня, демонстрировала ему против света свои волосы. В конце концов мне самой пришлось сходить за ним и привести обратно. Я заставила его развязать мне руки, что он покорно сделал, находясь в каком-то трансе, и затем я раздела его и разделась сама. Я сказала: «Не думайте ни о чем. Я этого хочу. Станем проще, будем естественны». Но он естественным не стал, он не стал. Я перепробовала в с е , что было в моих силах. Но так ничего и не получилось. Он не оттаял. Один раз он было сжал меня крепко. Но это была преднамеренность. Просто попытка изобразить то, что, как, видимо, он думал, в данной ситуации от него требуется. Трогательное заблуждение. Он просто этого не может. Мужчина в нем отсутствует. Я поднялась (мы с ним лежали на диване) и присела около него на коленях. Постаралась его утешить, приласкать, сказала, чтобы он не переживал, что все это пустяки. Потом мы оделись. Но хорошо уже то, что правда о нем выявилась. Что я поняла его загадку. А там и его настоящее «я». Психиатр сказал ему, что этого у него никогда не будет. Он сказал, что всегда воображал нас лежащими в постели вместе. Но только лежащими. Ничего больше. Я предложила ему попробовать. Но он не захотел. Глубоко внутри рядом с его звериной озлобленной сущностью в нем уживается жуткая целомудренность. И это во многом руководит его действиями. Он обязан беречь это. Он сказал, что все равно любит меня, несмотря ни на что. Я сказала, что эта его любовь — собственническая. Что это не любовь даже, а себялюбие. Это эгоизм. Что не меня он любит, а всего лишь свое представление обо мне. «Я этого не понимаю», — ответил он. И тут я допустила ошибку. Я поняла, что жертва моя оказалась напрасной, и подумала, что надо все же дать ему понять, что это была жертва, постараться заставить его оценить ее, хоть как-то, принудив отпустить меня в порядке благодарности. Я постаралась все это объяснить. И тут его истинное «я» вышло наружу. Он опять превратился в зверя. Отвечать мне не стал. Мы сделались еще дальше друг от друга, чем прежде. Я сказала, что мне его жалко, и он в ответ сказал мне гадость. Я расплакалась. Такая холодность, беспросветность, бесчеловечность. Опять его пленница. Опять оставаться здесь. Все так же... Теперь уже с пониманием того, что он из себя представляет. 193 Невозможно себе вообразить. Что он? Кто он? Чего он хочет? Зачем я здесь, если он на это не способен? Как будто я засветила огонь, чтобы постараться в темноте согреть нас обоих. И получилось лишь то, что я увидела его настоящее лицо. Последнее, что я сказала: «Мы не можем больше быть чужими. Мы были голыми друг перед другом». Тем не менее, мы чужие... Сейчас я чувствую себя получше. Я рада, что ничего не произошло. Самого худшего. Это было просто безумие — так рисковать. Достаточно уже того, что я осталась в живых. 1 декабря Он был внизу. Я выходила в наружный подвал, и обстановка ясна, как никогда. Он злится на меня. Он еще ни разу не был на меня так зол. Это уже не обида. Это на удивление откровенный, искренний гнев. Меня просто привело в бешенство все это. Невозможно себе представить, чего мне стоило вчерашнее. Попытка отдаться, риск, попытка найти момент взаимопонимания. Попытка преодолеть свою природу, все непроизвольные движения моего естества. Он весь тут. Эта вечная загадка мужчины. Я уже не «хорошая» теперь. Они страшно обижаются, когда им не даешь, и ненавидят тебя, когда ты им отдашься. Интеллигентный мужчина обязан презирать себя за это. За подобную непоследовательность. Недовольство рассерженных мужчин и страдания поруганных женщин... Понятно, я узнала его тайну. Он в досаде. Я все не могу перестать думать об этом. Должно быть, он всегда понимал, что ничего не сможет со мной сделать. И, тем не менее, все эти разговоры о любви ко мне. Должны же они все-таки что-то значить... Мне представляется, вот в чем тут дело. Видимо, оттого, что естественного удовольствия от общения со мной он получить не может, его наслаждение в том, чтобы содержать меня при себе невольницей. Думая о том, как бы ему завидовали все остальные мужчины, знай они об этом. Удовольствие только в обладании мной. А значит, мое к нему хорошее отношение – это сущая глупость. Мое единственное желание теперь — это и испортить ему чувство обладания. Я лишу его этого удовольствия. Я снова начну голодовку. И не буду обращать на него никакого внимания. Странные вещи. Я опять меняюсь. Я чувствую совершенно отчетливо, что первый раз в жизни совершила что-то оригинальное, свое, на что другие на моем месте, может быть, и не отважились бы. Когда мы с ним были голые, я хорошо помню свое 194 ощущение, как я собрала себя в кулак. Я теперь понимаю, что «собрать себя в кулак» значит. Покончила с последним, что было во мне от Пансиона. Теперь и это мертво. Я помню, как в Испании, где-то около Каркассона вела машину Пирса. Меня все просили остановиться, но я силилась дожать до ста двадцати. И все давила и давила на педаль, пока своего не добилась. Всем было страшно тогда. И мне тоже. Но это лишь говорит о том, что я на такое способна. (Под вечер.) Опять весь день читала «Бурю». Уже совсем другое восприятие, много чего произошло за это время. Ту жалость, которую Шекспир испытывает к своему Калибану, я чувствую (несмотря на ненависть и отвращение) и к своему. Мой Калибан. Недоношенное создание. «Нет чести в человеческой природе...» «Калибан — мой раб, который в жизни доброго не вымолвил и слова». «Кого бич движет, добра в том не сыскать…» Просперо: ...и приютил тебя В своем доме, чтобы ты ждал только часа Обесчестить мою единственную дочь. Калибан: О, хо, хо! — Вот было б да! Не помешай ты мне, весь остров Я б заселил калибанятами... Просперо презирает его. Он понимает, что быть к нему добрым — напрасный, бессмысленный труд. Стефано и Тринкулло — футбольная команда. Их вино — это деньги, которые он выиграл Акт III, сцена 2 «Мечты прошу. Дай снова мне упиться...» Бедный Калибан. Но это только потому, что тот никогда не срывал главного приза. «Я буду впредь мудрее...» «О славный Новый мир...» О тошнотворный Новый мир... Он только что ушел. Я сказала, что буду голодать до тех пор, пока он не переселит меня наверх. Свежий воздух и дневной свет каждый день. От прямого ответа он уклонился. И он был гнусен. Насмешлив. И он буквально сказал, что «я забыла, кто здесь хозяин». Он совершенно переменился. Это меня пугает. Я дала ему время подумать до утра. 2 декабря 195 Я переезжаю наверх. Он собирается подготовить для этого комнату. Сказал, что это займет неделю. Я согласилась, неделю так неделю, но если снова будут отговорки... Посмотрим... Лежала прошлой ночью в постели и думала о Д. П. Представляла себя с ним ночью. Я хочу быть с ним. Хочу этого. Хочу этой фантастической изумительной заурядности для него происходящего. Его беспорядочная, неразборчивая половая жизнь — это брызги жизненности. Это знак созидательной неукротимой силы. Пусть от этого и больно. Он творит вокруг себя любовь, и жизнь, и энергию, возбуждение, он живет, люди, которых он любил, помнят его. Я всегда и в себе чувствовала что-то подобное. Я имею в виду свои желания. Та же беспорядочность. Я всегда, кого бы ни встречала, в метро, на улице, какой-нибудь юноша, мужчина, при взгляде на кого бы то ни было, я прикидывала, какой он в этом отношении. Смотрела на рот, на руки, представляла возбужденное выражение лица, представляла их с собой ночью… Так что и во мне это есть. Взять ту же Антуанетту, спешащую лечь в постель с кем угодно. Я всегда почитала это мерзостью. Но любовь прекрасна, всякая любовь. Даже просто секс. Единственная мерзость, какая может тут существовать, — это вот такая замороженная, безжизненная, недоделанная любовь между мной и Калибаном. Сегодня утром мне представилось, что я бежала и что Калибан попал за решетку. И ведь я вообразила, как защищаю его в суде. Объясняя его случай трагическими обстоятельствами, настаивая на привлечении психиатра, призывая к сочувствию. К прощению. И это не было великодушничанием. Я достаточно его презираю, чтобы не испытывать к нему ненависти, так что преодолевать ее мне не пришлось. Но что интересно, ведь я, вероятнее всего, действительно защищала бы его на суде. И я знаю, что встречаться снова в той жизни нам не следовало бы. Мне его не вылечить. Потому что я и есть его болезнь. 3 декабря Я пойду и заведу с Д. П. роман. Если захочет, выйду за него замуж. Хочу рискнуть, попробовать стать его женой, хочу неизвестности, риска, неясности. Мне надоело быть молодой. Несмышленой. Умницей по части знания, но не по части самой жизни. Хочу носить в себе его детей. 196 Мое тело теперь уже не в счет. Если только он захочет, он сможет получить его тотчас. Я уже не могу быть больше как Антуанетта. Коллекционером мужчин. Быть умнее (как я считаю) большинства мужчин и умнее, чем все девушки, каких я знала. Я всегда думала, что знаю больше, чувствую больше, понимаю больше. И не знать достаточно даже для того, чтобы научиться повелевать Калибаном. Все эти бумажные мыслишки, оставшиеся от Пансиона. От тех дней, когда я считалась славной маленькой буржуазной докторской дочкой. Все это разлетелось в прах. Когда я была в Пансионе, я думала, что владею карандашом прекрасно. А потом, попав в Лондон, качала понимать, что, оказывается, далеко не прекрасно. Я попала в окружение таких же умненьких дарований, таких же способных, как и я. Даже более способных. А я так и не приобрела умения разбираться в жизни, не научилась управлять ею или управлять кем-то еще. Я сама из тех, кто нуждается в сострадании, неудачница. Это как осознание вдруг, что игрушки, в которые ты все время играла, — это только игрушки. Я подняла с пола свое прежнее «я» и вижу, как оно наивно. Все эти игры, в которые я играла так часто... Это немного грустно, как найти старого изувеченного арлекинчика в глубине шкафа. Это и невинно, и не нужно уже, и величественно, и глупо. Д. П. Пусть мне будет больно, обидно, пусть меня осудят, пусть я буду брошена. Но то будет буря света, после этой черной дыры. Все так просто. В нем заключена тайна жизни. Нечто весеннее, неистовое. Отнюдь не безнравственное. Получается, будто я все время видела его только в сумерках, а сейчас разглядела на рассвете. Он тот же самый, но все по-другому. Я посмотрела сегодня на себя в зеркало и поняла многое по своим глазам. Они стали старше и моложе. На словах это звучит глупо. Но смысл тут есть, и огромный. Я стала старше и моложе. Старше, потому что многое поняла, а моложе, потому что многое, из чего я состояла раньше, принадлежало старым людям. Весь этот прах избитых пошлых идей, которым они учат молодых, остался на моих старых туфлях. Я сменила туфли на новые. Власть женщин. Я никогда еще не ощущала себя столь полной этой удивительной, загадочной, мистической силы. Мужчины — это игрушки в наших руках. Мы очень слабы физически и так беспомощны в жизни. И даже сейчас, в наши дни. Но мы их сильнее. Потому что только мы можем выносить их 197 бездушие и жестокость. Они нашей жестокости и бездушия вынести не могут. Я думаю, что я все равно отдам себя Д. П. Пусть он меня берет. Что бы он ни сделал со мной, женщина во мне все разно останется, это во мне он не сможет погубить. Дикие бредни. Но я полна энергии и нетерпения. Новая форма независимости. Я совсем не думаю о теперь. Я все равно знаю, что выберусь отсюда. Я чувствую это. Даже не понимаю почему. Но только Калибану меня не победить никогда. Я думаю о картинах, которые я напишу. Этой ночью я уже продумала одну: большой луг цвета что-то вроде сливочного масла (деревенского масла), поднимающийся к ослепительнобелому небу, и только что встало солнце. Удивительный лепестковорозовый цвет, я его чувствую совершенно отчетливо, полный тишины и покоя. Начало всего. Песня жаворонка, когда не видно самого жаворонка. Два странных, совершенно противоположных по впечатлению сна. Первый был очень прост. Я брожу в полях, не знаю с кем, знаю только, что это кто-то, кого я сильно люблю, мужчина. Может быть, Д. П. Солнце заливает светом поле молодой кукурузы. И вдруг мы замечаем ласточек, летящих низко над самыми кукурузными макушками. Видно, как спинки их блестят, переливаются, будто темно-голубой шелк. Они очень близко, уже щебечут подле нас, облетая нас и продолжая лететь все в одном направлении, легкие, радостные. И я чувствую, как тоже наполняюсь радостью. «Какое удивительное зрелище, — говорю я, — посмотрите на ласточек...» Очень простой сон, неожиданно появившиеся ласточки и солнце, заливающее поле зеленой кукурузы. Я была просто переполнена радостью. Очень весеннее, пробудившейся весны, чувство. А потом другой сон. Я около окна на втором этаже большого дома (Пансион?), и черная лошадь внизу. Она по какой-то причине в ярости, но я чувствую себя в безопасности, потому что я на втором этаже, а она внизу снаружи. И вдруг я вижу, что она поворачивается ко мне мордой и несется галопом на дом, к своему ужасу, я замечаю, какие гигантские у нее прыжки, она летит прямо на меня с оскаленными зубами. И вламывается через окно прямо в комнату. Но даже и тут я еще думаю, что опасности для меня все равно нет, она наверняка разбилась насмерть, когда влетела в окно. Но, оказывается, она осталась жива, она молотит ногами по полу тесной комнаты, и, наконец, я понимаю, что она готовится к прыжку на меня. А бежать некуда, я заперта в этой комнате. И тут я проснулась опять. Но на этот раз мне уже понадобилось включить свет. Это было олицетворение грубой силы. Как раз того, что я ненавижу и чего боюсь... 198 4 декабря Когда я отсюда выберусь, я ни в коем случае не буду вести дневник. Это нездоровое занятие. Блокнот помогает мне оставаться в здравом уме тут, внизу, как бы заменяет собеседника. Но это самообман. Это не беседа. Ты пишешь только то, что хочешь услышать. И вот странно, такого не случается, когда рисуешь сама себя. Там нет желания себя обмануть. Господи, как это тошно. Тысячу раз тошно! Все эти раздумья о самой себе. Патология… Мне страстно хочется рисовать то, что осталось с н а р у ж и . Поля, домики на юге, пейзажи, и все на просторе, широко раскинувшееся, распахнутое и в просторе, и в безграничности света. Чем-то подобным я занималась сегодня. Старалась передать впечатление от света, который был в Испании. Желтые охряные стены, которые становятся совершенно белыми в ярких солнечных лучах. Стены Авильи. Королевский двор. Я не собираюсь воспроизводить форму стен, только ощущение света. Fiat lux!7 Все ставлю без конца одну и ту же пластинку с джазовым квартетом. В этой музыке совсем нет ночи, нет душных смрадных погребов. Лишь искры, вспышки, взрывы света, звезды и иногда высоко стоящая луна, громадное количество огней, как хрустальная люстра, плывущая по небу. 5 декабря Д. П. Поруганная интеллигентность. Которую хором изнасиловала толпа разбогатевших Новых людей. Которые все изнасиловали. То, как он говорит. Сначала это шокирует тебя, но ты это помнишь. И сказанное застревает в тебе уже намертво. Навечно. Весь день рисовала небо. Только проводила линию на два сантиметра выше нижнего края — и это была земля. Потом я уже думала только о небе. Июньском небе. Декабрьском. Августовском. Небо с весенней грозой и громом, сумеречное на заре. Чистое небо, и больше ничего. Только одна линия и небо над нею. Странные соображения: мне вдруг подумалось, что я бы уже жалела, если бы всего этого не произошло, я уже не хочу, чтобы всего этого не было. Потому что иначе я бы навсегда осталась такой, какой была. Но теперь... Если я выберусь отсюда, то буду иной, я думаю — более совершенным человеком. А если не выберусь, если случится что-нибудь страшное, я все же буду знать, что та, какой я была и какой бы оставалась, не случись всего этого, намного хуже той, какой я сейчас себя чувствую. И какой хочу себя чувствовать и дальше. 7 Fiat lux! (лат) Да будет свет! 199 Как обжиг глиняного горшка. Всегда есть риск, что он покоробится или лопнет. Калибан стал очень тих. Своего рода перемирие. Я завтра хочу попросить разрешения подняться наверх. Хочу посмотреть, действительно ли он делает что-то. Сегодня я уговорила его дать мне возможность связанной и с кляпом во рту посидеть у ступенек наружного подвала перед открытой дверью. В конце концов, он согласился. Так что я смотрела на улицу и видела небо. Бледное серое небо. Видела пролетавших птиц, по-моему, голубей. Слышала наружные звуки. Это было первый раз за два месяца, когда я видела настоящий дневной свет. Там все продолжало жить. Я даже расплакалась. 6 декабря Ходила принимать ванну и смотрела комнату, которая для меня предназначена. Кое-что уже сделано. Он даже собирается съездить к антикварам посмотреть виндзорское кресло. Я его ему нарисовала. У меня сразу поднялось настроение. Не могу сидеть на месте. Даже писать не могу. Меня одолевает нетерпение. Я чувствую себя уже наполовину свободной. Заключить, что он пришел более или менее в норму, мне помог такой наш с ним разговор: М. (Мы стояли в комнате). Почему вы не разрешите мне жить здесь, наверху, как бы в гостях? Я бы дала вам честное слово. К. Даже если придут пятьдесят всеми уважаемых честных людей и станут просить за вас и поклянутся всем на свете, что вы никуда не убежите, то я им не поверю. Я не верю никому в мире. М. Но нельзя же прожить всю жизнь, никому не веря. К. Вы не знаете, что значит быть одиноким... М. А как вы полагаете, что я испытываю эти последние два месяца? К. Готов поспорить, что о вас думает множество людей. Им вас очень не хватает. А я даже умри совсем — никому в мире не будет от этого ни жарко ни холодно. М. А вашей тете? К. И ей тоже. (Долгое молчание.) К. (Он вдруг как бы не выдержал.) Вы сами не знаете, кто вы есть. Вы — это все. Вы уходите — и ничего уже не остается. (И опять долгое и уже окончательное молчание.) Он принес кресло. Принес вниз. Оно прелестно. Но я не хочу, чтобы оно оставалось здесь. Ничего не хочу наверх отсюда. Полная смена обстановки. 200 Завтра я поднимаюсь наверх навсегда. Я попросила его вчера после того разговора, и он согласился. Мне не придется ждать целиком всю неделю. Из Льюиса он привез и много всяких других вещей. Для той комнаты. А вечером мы собираемся устроить торжественный ужин. Он много лучше ведет себя эти последние два дня. Я не собираюсь терять голову и бросаться бежать при первом же удобном случае. Я знаю, что он все равно будет за мной неусыпно следить. Я даже не представляю, какие хитрости он еще предпримет. Окно он забьет и дверь закроет на замок. Но все равно сквозь щели будет пробиваться дневной свет. И рано или поздно, если он сам не отпустит меня, все равно подвернется какой-нибудь случай. Но в то же время знаю, что этот случай будет единственным. Если он поймает меня при попытке к бегству, то моментально засадит снова вниз. Следовательно, это должен быть по-настоящему единственный в своем роде случай. Стопроцентный. И я без конца повторяю себе, что должна готовить себя к худшему. Но что-то в этот раз обнадеживает меня, мне кажется, он все же сделает то, что обещал. Я заразилась от него насморком. Но это уже не имеет значения. О, мой Бог! О, Боже! Я готова убить себя. Он, видимо, этого и добивается. Чтобы я это сделала от отчаяния. Я все так же здесь, внизу. Он и не помышлял меня никуда переводить. Ему нужны мои фотографии. Вот в чем, оказывается, дело. Он хочет, чтобы я все сняла и... о, Боже! До сего дня я еще не знала, что такое отвращение. Он говорил мне непередаваемые вещи. Я уличная женщина, я сама просила того, что он мне предлагает. Я чуть с ума не сошла от бессилия и злости. Запустила в него бутылкой с чернилами. Он сказал, что, если я не соглашусь, он перестанет разрешать мне принимать ванну и выходить в наружный подвал. И я буду здесь все время. Между нами одна ненависть. Она уже выплеснулась наружу. Я заразилась его проклятым насморком. Это мне не дает толком думать. Нет, убить себя я не в состоянии, я слишком зла на него для этого. Он всегда бесчестил меня. С самого начала. Старался надругаться. Начать с его вранья о якобы задавленной собаке. Каждый раз он использует какие-то мои хорошие качества. И потом растаптывает их. Он ненавидит меня, и ему надо меня унизить, запачкать, сломить. Ему надо, чтобы я так стала ненавидеть себя, чтобы сама себя уничтожила. Последняя его низость. Он не принес мне никакого ужина. Сверх всего я еще и вынуждена голодать. Вполне возможно, он решил заморить меня тут голодом. С него станется. 201 Я немного оправилась уже от этого ужаса, более или менее пришла в себя. Он все равно не сможет меня победить. Я не сдамся. Не сломаюсь все равно. У меня температура, чувствую, что заболеваю Этого мне еще недоставало. Все против меня. Но я не сдамся Лежу в постели, рядом стоит картина Д. П. Держу ее одной рукой за раму. Как на казни. Я выживу. Я вырвусь отсюда. Я не сдамся. Я не сдамся. Я ненавижу Бога. Ненавижу то, что создало этот мир, эту человеческую расу, то, что дало начало существованию таких людей, как Калибан, и позволило быть тому, что происходит между нами. Если Бог есть, то это должен быть отвратительный паук, плетущий в темноте свою паутину. Он не может быть добрым. Эти страдания, это умение видеть и понимать вещи в их истинном свете, умение смотреть в корень так и останутся при мне. Они бессмысленны. Все вокруг есть страдание, и оно не приносит никаких плодов. Оно бесплодно. Все тщета. Все тлен. Все пустое. И чем дальше существует мир, тем более это становится очевидным: бомбежки и пытки в Алжире, умирающие от голода дети в Конго. И такого становится только больше и больше. Все страшнее, все напраснее человеческие страдания. Как будто перегорели пробки. И я очутилась во мраке истины. Бог — импотент. Он не может любить. И он ненавидит нас за то, что не способен на любовь к нам. Все вокруг одна лишь подлость, эгоизм, ложь. Людям это не нравится, они не могут принять правду. Они слишком заняты погоней за миллионом, желанием что-то урвать, им не до того, чтобы видеть, что свет погашен. Они не в состоянии видеть темноту, и паука, и эту великую паутину сущего. Они не в состоянии осознать, что это всегда здесь, стоит лишь смахнуть пыль с доброты и счастья. Тьма, тьма и тьма. Я не только никогда не понимала этого, я даже представить себе не могла такое. Больше чем ненависть, больше чем отчаяние. Нельзя ненавидеть то, к чему невозможно прикоснуться. Я даже не в состоянии чувствовать то, что большинство людей понимают под отчаянием. Это уже нечто за, вне отчаяния. Это как будто я уже вообще не могу ничего чувствовать больше. Видеть могу, понимать могу, но уже не могу чувствовать. О, Господи, если ты есть, Господи! Я ненавижу уже за, вне ненависти. 202 Он только что приходил. Я спала, не раздеваясь, на одеяле. В жару. Душно ужасно. Воздух спертый. У меня, видимо, грипп Я чувствовала себя так скверно, что даже ничего не сказала ему. Нет сил выразить свою ненависть. Постель сыра. В груди болит. Я не сказала ему ни слова. Все происходящее уже вне слов. Жаль, что я не Гойя. Я не могу изобразить ту абсолютную сверхъестественную ненависть, какую к нему испытываю. Мне страшно. Не представляю, что будет, если окажется, что я на самом деле серьезно больна. Не могу понять, отчего болит грудь. Как будто у меня в разгаре бронхит, начавшийся с неделю назад. Но он же должен будет вызвать доктора. Я понимаю, он может меня убить, но он не может попросту бросить меня умирать... О, Господи, это невозможно вынести... (Вечер.) Он принес термометр. В ленч было 37,7, а сейчас 38,4. Мне страшно. Пролежала в постели весь день. Он не человек. О, Господи, я так одинока, так абсолютно одинока. Не могу писать. (Утро.) У меня действительно тяжелый бронхит. Знобит. Я не могу толком спать. Страшные сны. Загадочные, таинственные, очень живые сны. В одном из них был Д. П. Это заставило меня расплакаться. Мне постоянно страшно. И есть я не могу. Появилась какая-то боль в легком, когда вдыхаешь. Я начинаю подумывать о воспалении легких. Но этого не может быть! Я не умру! Я не умру! Назло Калибану не умру... Сон. Совершенно удивительный, ни на что не похожий. Прогуливаюсь в парке у Пансиона. Смотрю наверх сквозь ветви деревьев. И замечаю в чистом голубом небе самолет. И понимаю сразу почему-то, что он должен разбиться. И чуть позже я вижу место, где он разбился. И в страхе не решаюсь двинуться вперед. Ко мне идет девушка. Минни? Не могу различить. Она в греческом одеяний, в тунике. В белом. Идет сквозь неподвижно замершие деревья, солнце заливает ее светом. Похоже, она меня знает. Но я ее не знаю (не Минни). Проходит время, но она не делается ближе. Я хочу, чтобы она была ближе. Хочу быть с ней. И просыпаюсь. Если я умру, ни одна душа не узнает. От этого меня бросило в жар. Не могу писать... (Ночь) Нет жалости. Нет Бога. Я раскричалась на него, и он сошел с ума. Я была слишком слаба, чтобы сопротивляться. Связал, вставил кляп и сделал эти свои гнусные фотографии. 203 Боль — ничто. Унижение... Я сделала все, что он хотел. Чтобы только это кончилось. Я уже ничто теперь. Но, Господи, какая гнусность... Я плачу, я плачу, я не могу писать. Я не сдамся. Я не сдамся. Не могу спать. Я схожу с ума. Пришлось зажечь свет всюду. Дикие сны. Мне кажется, что тут люди. П. Минни. Это воспаление легких. Он должен вызвать врача. Это убийство. Нет смысла писать. Слова бессмысленны. (Он приходил.) Он не стал слушать Я просила его. Я говорила, что это убийство. Я так слаба. Температура 38,8. Меня вырвало. О прошедшей ночи ничего, ни я, ни он. Было ли это? Сильный жар. Я брежу. Если б я только знала, что делать. Бессмысленно, бессмысленно. Я не умру, я не умру. Милый, милый Д. П. это О господи о Господи не дай мне умереть Господи не дай мне умереть Не дай мне умереть. III Я хочу этим сказать только то, что все случившееся было для меня полной неожиданностью и что мне даже в голову не приходило, что такое может случиться. Ей стало хуже после того, как она упала на пол. Когда я спустился к ней на следующий день в половине восьмого, то увидел, что она лежит около ширмы, за которую, видимо, ходила и которую уронила, когда падала. Я встал около нее на колени, и руки у нее были как лед, но она дышала, правда, с хрипом и очень быстро, а когда я положил ее обратно на постель, она пришла в себя, она, должно быть, потеряла сознание еще ночью. Она была вся холодная и начала жутко дрожать, а потом вся покрылась потом и стала бредить Она все повторяла: доктора, доктора, пожалуйста, вызовите доктора (иногда это был дежурный врач — Д. П.8, и так она звала 8 General practitioner (по английски ) 204 то доктора, то Д. П, под конец в каком-то даже ритме). Голос у нее был обычный, но немного, как это называется, звенел, и было похоже, что она меня не видит. Некоторое время она молчала, но потом начала старинную «Янки дудл-дэнди», только все слова были неразборчивы, и она была как пьяная, и к тому же замолчала, не допев до половины. Два раза она звала: Минни, Минни, как будто та была где-то в другой комнате (это ее сестра), потом начала неразборчиво бормотать какие-то имена, слова и говорить обрывками. Потом решила подняться, и мне пришлось удержать ее силой. Тогда она начала со мной бороться, сопротивляться. Я же уговаривал и успокаивал ее, и, наконец, она притихла, но как только я ушел взглянуть на чайник, она упала с кровати снова. Я поднял ее, поддержал, помог ей выпить чаю, но она закашлялась и отвернула голову, чаю она не хотела. Я забыл еще сказать, что в углах ее губ появились неприятные желтые прыщики. И от нее уже не пахло чистотой и свежестью, как раньше. В конце концов, я заставил ее выпить двойную дозу таблеток, хотя и было написано на пакете, что превышать указанную дозу не следует, но я слышал однажды, что надо даже специально выпивать в два раза больше, чем написано, потому что аптекари указывают меньше, чтобы не рисковать, боясь каких-нибудь последствий и ответственности. Должно быть, четыре или пять раз я спустился в это утро вниз, так я волновался за нее. Она уже пришла в себя, но сказала, что ничего не хочет, она уже понимала, что я говорю, потому что, как бы там ни было, она покачала головой. В ленч она выпила немного чая и потом заснула, а я сел на стул в наружном подвале. Ну, а когда я вошел в следующий раз и включил свет, это было около пяти, она не спала. Выглядела она слабой, и жар у нее чувствовался даже на расстоянии, но похоже было, что она понимает все, где она находится и кто я, и глаза ее следили за мной вполне осмысленно, и я подумал, что ей стало лучше и что, как это говорится, кризис миновал. Она выпила немного чая и потом заставила меня помочь ей сходить за ширму, сама она не могла дойти, и поэтому я оставил ее там на некоторое время, а потом вернулся и помог ей прийти назад. Некоторое время она лежала в постели с открытыми глазами, глядя в потолок, дыша все так же с трудом, и я собрался уже было идти, но она меня остановила. Она заговорила низким глухим голосом, но вполне здраво. Она сказала «У меня пневмония. Вы должны вызвать доктора». Я сказал, худшее для вас уже позади, вы выглядите намного лучше. «Мне нужен пенициллин или что-то в этом роде» У нее начался кашель, долгое время она не могла вдохнуть и от этого, понятно, сильно вспотела. Потом она спросила, что было ночью и утром, и я рассказал ей. «Совершенные кошмары», — сказала она. Ну, а я сказал, что останусь с ней ночью и что она выглядит много лучше, и она переспросила меня, действительно ли я считаю, что она выглядит лучше, и я ответил, что да. 205 Я пообещал ей, что, если она не начнет поправляться на следующий день, я перенесу ее наверх и вызову врача. Тогда она захотела перейти наверх сразу же и даже поинтересовалась, сколько времени, и когда я, не подумав, ответил, ухватилась за это и сказала, что никто не увидит. Но я ответил, что нет ни одной прогретой комнаты и постели. Тогда она переменилась и произнесла: «Мне так страшно. Я чувствую, что умираю». Говорила она медленно и с перерывами. Она сказала: «Я пробовала вам помочь. Сейчас вы должны помочь мне». Я ответил, конечно, я помогу, я опять протер ей губкой лицо, и мне показалось, что она стала засыпать, чего я и дожидался, но потом она заговорила опять. Она сказала громким голосом: «Папа, папа». Спите, сказал я. Завтра вы выздоровеете. Она снова начала плакать. Но теперь это не было похоже на ее прежние слезы, она просто лежала, и слезы стояли у нее вокруг глаз, как будто она их не чувствовала. Потом она вдруг сказала «Что вы будете делать, если я умру?» Я сказал, не говорите глупостей, вы не умрете. «Вы кому-нибудь сообщите об этом?» Я не хочу говорить на эту тему, сказал я. «Не хочу умирать», — сказала она. И потом снова: «Я не хочу умирать». И потом третий раз, и каждый раз я отвечал, не надо об этом говорить, но она, казалось, не слышала. «Вы уедете куда-нибудь? Если я умру?» Я сказал, вы совсем как глупая. «Что вы сделаете со своими деньгами?» Я сказал, пожалуйста, давайте поговорим о чем-нибудь другом, но, помолчав, она опять заговорила об этом, она разговаривала вполне нормально, но со странными промежутками между словами, а потом вдруг повторяла что-нибудь снова. Я ответил, не знаю, не думал еще. Просто, чтобы успокоить ее. «Оставьте их детям». Я спросил, каким детям, и она сказала: «Мы собирали для них деньги в прошлом семестре. Они едят землю». И потом чуть позже: «Мы все такие свиньи. Мы все заслуживаем смерти», - так что я понял, что они, видимо, прикарманили те деньги, которые должны были отправить. Ну а потом она заснула. Правда, всего лишь минут на десять. Я не двигался, я думал, что она заснула крепко, но она вдруг сказала: «Оставите?» - как будто и не кончала разговора. Потом еще: «Вы здесь?» — и даже постаралась сесть, чтобы меня увидеть. И хоть я ее, конечно, успокоил. Она спать больше не стала и опять заговорила о той сумме, которою они собрали. Я бросил уже говорить, что это глупости что она не умрет, и говорил ей да, я оставлю, но ей и этого было мало, и она все настаивала. 206 «Обещаете?» Да. И она сказала: «Обещает». Потом, несколько времени спустя: «Они едят землю». И она повторила это два или три раза, пока я старался погладить ее, чтобы утешить, потому что вид у нее был на самом деле, будто это ее действительно мучает. Последнее, что она сказала: «Я вас прощаю». Она была в бреду, но я сказал опять, что виноват перед нею и что я прошу прощения. С этого времени уже точно все изменилось. Я забыл все, что она делала последнее время, и мне было ее только жалко. Я в самом деле, чувствовал себя виноватым за тот вечер. Но я просто не знал тогда, что она на самом деле больна. Конечно, после драки кулаками не машут, что сделано, то сделано, назад не вернешь. Что теперь говорить, не поможешь уже ничем, ну и точка. И все-таки было очень странно, что в то время, когда я уже решил, что терпеть ее у меня уже больше нет сил, старое чувство, какое я испытывал к ней, вернулось ко мне. Я стал вспоминать все хорошее, те моменты, когда мы ладили друг с другом, и стал думать о том, что она значила для меня еще дома, когда еще ничего не было. А все то время, с момента, когда она разделась и я уже больше не мог уважать ее, стало казаться каким-то ненастоящим, как будто мы оба в то время сошли с ума. Даже вот то, что она заболела и то, что я начал ухаживать за ней, казалось более реальным. Я остался в подвале, как и в предыдущую ночь. Она лежала тихо только полчаса или около того, а потом начала разговаривать сама с собой, я спросил, не хочет ли она чего-нибудь, и она замолчала, но потом снова начала бормотать, потом произнесла мое имя и довольно громко сказала, что не может дышать, и потом ее вырвало мокротой странного темнокоричневого цвета. Честно сказать, мне очень не понравился этот цвет, но я подумал, что, может быть, это таблетки дают такую окраску. После этого она, наверное, с час подремала, а потом вдруг начала кричать, у нее это не получалось, но она все равно старалась кричать, и когда я прибежал на ее голос, то увидел, что она наполовину встала с кровати. Не знаю, что она хотела сделать, но похоже было, что она не узнавала меня, и она боролась как лев, несмотря на то, что выглядела очень слабой. И надо сказать, мне пришлось много потрудиться, чтобы уложить ее в постель снова. Затем на ней выступил страшный пот, пижама ее промокла насквозь, но когда я попытался переодеть ее, она снова начала борьбу и стала кататься по постели как сумасшедшая и вспотела еще больше. Ночи хуже этой у меня не было в жизни: все было так страшно, что я не могу даже описать. Спать она не могла, и хотя я дал ей столько снотворных таблеток, на сколько отважился, она все равно не заснула, казалось, таблетки не производят никакого эффекта, на одно мгновение она задремала, но потом опять начала метаться и вставать с постели (один раз я даже не успел 207 подхватить ее, и она опять скатилась на пол). Иногда она бредила, звала Д. П. и разговаривала с какими-то, видимо, знакомыми ей людьми. Я не обращал внимания на это, лишь бы она лежала спокойно. Я смерил ее температуру, и термометр показал 40 градусов. Я понял, что она больна по-настоящему. И наконец, уже только около пяти часов утра я поднялся наверх глотнуть свежего воздуха и увидел, что здесь совсем как другой мир, и я решил, что ее надо перенести наверх и вызвать врача, нельзя уже было больше это откладывать. Я постоял минут десять в раскрытой двери и потом услышал, что она опять зовет меня. Ее опять вырвало мокротой, на этот раз красно-коричневого цвета, и потом ее еще и по-настоящему стошнило, так что мне пришлось поднять ее с постели и положить в кресло, чтобы сменить простыню и привести все в порядок. Дышала она уже совсем плохо, так быстро и часто, как будто ей все время не хватало воздуха. Утром она немного притихла и, похоже, стала способна воспринимать то, что я говорю, и поэтому я ей сказал, что собираюсь за врачом, и она кивнула в ответ головой, значит, она поняла, хотя сказать ничего не сказала. Похоже, этой ночью силы оставили ее, и она уже просто лежала тихо и без движения. Понимаю, что я мог бы сходить в деревню и вызвать доктора по чьемунибудь телефону, но по понятным причинам я никогда не имел с деревней никакого дела, и мне не хотелось, чтобы поползли какие-то слухи. К тому же я не спал всю ночь и находился в таком состоянии, что долгое время не мог решить, что мне вообще надо делать. Потом, ведь я все же жил на отшибе, ни с кем не знаясь, и мне не к кому было обратиться. В конце концов, я поехал в Льюис (это было после десяти) и в первой же открытой аптеке спросил, где можно найти доктора, и девушка за прилавком назвала мне ближайший адрес из списка, который у них был. Врач жил на улице, на которой я никогда не бывал. На двери я прочел, что начало работы в 830, и можно было сразу догадаться, что будет, как обычно, полно народу, но я об этом подумал поздно, когда уже вошел. Так и получилось, я вошел с намерением сразу пройти к врачу, но народу было битком. Я, должно быть, выглядел как ненормальный, и все смотрели на меня, стулья были заняты, приткнуться было негде, и один парень был даже на ногах. Так я и стоял, народ все разглядывал меня, и у меня не хватило смелости пройти к врачу сразу. Если бы я прошел тогда прямо к доктору, то, я уверен, все сложилось бы по-другому и кончилось хорошо, но там было столько народа. Я никогда не мог вынести большого количества людей, и потом, я совсем отвык находиться на людях за последние несколько месяцев и показывался им, только когда ходил в магазин, а тут, как назло, они все на меня уставились, а одна старая женщина, так та вообще просто не могла оторваться от меня, и я подумал, 208 что, наверное, вид у меня на самом деле странный. Я взял со стола журнал, но, понятно, читать не смог. Ну, и я начал думать о том, чем все это может кончиться. День или два все будет ничего, говорить М с врачом, видимо, еще не сможет, но потом... Я знал, что он скажет, он скажет, что ей надо ехать в больницу, что я не смогу за ней ухаживать как следует. Я подумал о сиделке, но она быстро пронюхала бы, что к чему (тетя Энни всегда говорила, что любопытнее медсестер и сиделок нет никого на свете, она тоже терпеть не могла сующих нос в чужие дела, как и я). Тут как раз вышел врач пригласить следующего, он был высокий мужчина с усами, и он так произнес «следующий», как будто ему уже до смерти надоели все эти пациенты и вообще все люди, сидящие тут. По крайней мере, в голосе у него слышались недовольство и раздражительность. И не один я подумал так, я видел, как две женщины, сидящие рядом, с пониманием переглянулись, когда он скрылся в своем кабинете. Он вышел еще раз, и я обратил внимание на то, что он мне напоминает армейского офицера, из тех, которые со всеми обращаются без всякого сочувствия, они только отдают приказы, а с теми, кто ниже их по званию, даже и разговаривать считают ниже своего достоинства. Сверх того старая женщина снова уставилась на меня, и от ее взгляда я даже вспотел, всю ночь я не спал и был взвинчен, как никогда. В общем, я решил, что с меня хватит. Я повернулся и вышел на улицу. Вот что значит столкнуться с людьми, от них отвыкнув. Со всеми этими людьми. Это еще раз заставило меня отчетливо почувствовать, что значит для меня Миранда. Она единственный человек в мире, с которым бы я всегда хотел находиться вместе. Я даже отчаяние почувствовал, когда подумал об этом. Единственное, что я сделал тогда, это поехал в аптеку и сказал, что мне нужно что-нибудь от очень сильного гриппа. Это была аптека, в которую я еще не заезжал прежде, на мое счастье, посетителей не было, и я наплел целую историю. Я сказал, что у меня есть друг, баптист (они не верят в докторов), и у него очень тяжелый грипп, возможно, даже воспаление легких, нам надо дать ему что-нибудь незаметно. Продавщица дала мне то же самое лекарство, какое я уже покупал, я попросил пенициллин или еще что-нибудь типа него, но она ответила, что для этого нужен рецепт. Тут некстати еще вышел хозяин, и она пересказала ему все, и он мне ответил, что мне нужно пойти к врачу, и объяснить ситуацию. Я сказал, что я заплачу, но он только покрутил головой и ответил, что это против закона. Потом он поинтересовался, далеко ли живет мой друг, и я, чтобы он не лез еще дальше с расспросами, побыстрее вышел. Я попытал счастья еще в двух аптеках, но везде было то же самое, и больше я уже не спрашивал, чтобы не рисковать, и в конце концов купил лекарство, какое мне продать 209 могли. И потом уехал. Я едва сидел за рулем, до того я чувствовал себя усталым. Конечно, я сразу спустился в подвал, как только приехал. Она лежала очень тихо, но как только я вошел, сразу начала говорить. Похоже было, что она приняла меня за другого, потому что спросила, видел ли я Луизу (я никогда не слышал о такой), но хорошо, что ответа она ждать не стала и принялась говорить о каком-то современном художнике, а потом сказала, что хочет пить. Но сказала это между делом, мысли, похоже, приходили к ней и сразу же уходили. Я ей дал попить, и она некоторое время лежала молча, и мне вдруг показалось, что она наполовину пришла в себя, потому что спросила вполне осмысленно: «Когда придет папа? Вы ходили за ним?» И я солгал, но это была невинная ложь, я ответил, он будет скоро. Она попросила: «Умойте мне лицо», — и когда я умыл, она сказала, что должна посмотреть лекарства, которые я ей принес. Я написал «она сказала», но на самом деле она лишь прошептала все это. Она произнесла: «Жаль, что я не могу спать». Это от жара, ответил я, и она кивнула. И еще некоторое время она понимала то, что я говорю, и никто не поверит, но я свято решил вернуться в Льюис и привезти доктора. Я помог ей за занавеской, она была так слаба, что я понял, убежать она не сможет, и поэтому решил, что мне следует пойти поспать пару часов, а потом перенести ее наверх и съездить в Льюис за врачом. И не знаю, как это получилось, я всегда вставал по звонку будильника, но тут, думаю, я нажал кнопку еще во сне, не полностью проснувшись, а когда проснулся совсем, стрелки показывали не половину первого, как я хотел, а четыре часа. Понятно, я сразу бросился посмотреть, что с ней. Она наполовину стащила у себя на груди пижаму, но хорошо еще, что было достаточно тепло. Не думаю, что именно из-за этого, но жар у нее был страшный, и она меня не узнавала, а когда я поднял ее, чтобы нести наверх, она попробовала сопротивляться и кричать, но была так слаба, что у нее ничего не получилось. Мало того, на нее навалился кашель, и он остановил ее крик и даже, похоже, заставил ее немного прийти в себя. Не так просто было перенести ее наверх, но в конце концов я поднялся и положил ее на кровать в свободной комнате (я ее уже согрел предварительно), чему она, казалось, обрадовалась. Сказать она ничего не сказала, холодный воздух заставил ее раскашляться, и потом ее вырвало, и лицо сделалось жуткого пурпурного цвета. Я сказал, врач едет, и она, казалось, поняла. Я остался еще посмотреть, все ли будет с ней в порядке, я опасался, что у нее все же хватит сил добраться до окна и привлечь внимание когонибудь из проезжающих. Я понимал, что на самом-то деле ей, конечно, такое не под силу, но, похоже было, что это я просто так тянул время, искал только повода, чтобы не уезжать. Я несколько раз подходил к 210 открытой двери ее комнаты, она лежала в темноте, и я слышал, как она дышит, иногда она что-то бормотала, один раз окликнула меня, и я подошел и остановился рядом, и все, что она могла произнести, это — доктора, доктора, и я ответил, что он едет, не беспокойся, и вытер ей лицо, она все продолжала потеть. Не знаю, почему я не поехал именно тогда, я пытался несколько раз, но не мог, я был не в состоянии отделаться от мысли, что не смогу уже больше видеть ее всякий раз, когда захочу. Похоже было, что я любил ее опять. И потом еще, все эти дни я постоянно думал: ну вот, она уже пошла на поправку. Или — вот еще немного, и пойдет, и тогда, я ей стану очень нужен, и у нас все сложится хорошо, и все будет вообще отлично, когда она совсем начнет выздоравливать. Я даже начинал подумывать, может быть, новая комната на нее подействует. И все изменится. Вот так же всегда бывало, когда мне надо было вывозить гулять Мэйбл на улицу. Я всегда находил десяток поводов, чтобы оттянуть время. «Катай и благодари бога, что у тебя есть ноги», — говорила тетя Энни (она знала, что я не люблю, когда меня видят с Мэйбл и с ее креслом на улице). Но уж таков мой характер, так уж я создан. Я ничего не могу поделать с этим. Время шло, наверное, было часов двенадцать или даже больше, и я заглянул узнать, как она, узнать, не выпьет ли она чаю, и не мог ее дозваться, она дышала еще чаще, чем прежде, и страшно было видеть, как она задыхается, она хватала ртом воздух и, не успев выдохнуть, хватала опять, как будто и дышать так часто ей все равно было недостаточно. Я потрогал ее за плечо, но она будто спала, хотя и с открытыми глазами. Лицо у нее сделалось синевато-бордовое, и она лежала, уставившись кудато в потолок. Это меня ужасно испугало, и я решил, что даю ей полчаса, а после этого уже должен ехать. Я сел рядом и стал смотреть на нее, уже точно видя, что дела идут совсем плохо, кстати, потеть она все не переставала, и лицо у нее было страшным. Потом, в последнее время с ней начала происходить еще одна вещь, она стала пачкать простыни. А желтые прыщики с углов рта распространились уже на все губы. Ну и наконец, заперев на всякий случай дверь ее комнаты, я поехал опять в Льюис. Я помню, что добрался туда в 1.30. Все, понятное дело, было закрыто. Я сразу поехал на улицу, где жил врач, и остановился, немного не доезжая до его дома. Я сидел в темноте, набираясь решимости, чтобы выйти и позвонить и сразу рассказать придуманную историю и так далее, но в этот момент кто-то постучал мне в окно. Это был полицейский. У меня даже холодный пот выступил на лбу. Я опустил стекло. «Просто интересуюсь, что вы здесь делаете?» — сказал он. Только не надо говорить, что здесь нельзя останавливаться. «В зависимости от того, по какому вы делу», — сказал он. Он посмотрел мое удостоверение и записал к себе в журнал мой номер, все очень 211 неторопливо, со знанием дела. Он был уже почти старик, и не будь он таким дотошливым, не был бы он констеблем. «Ну, так что, — сказал он. — Вы тут живете?» «Нет», — сказал я. «Вижу, что нет, — сказал он, — вот поэтому я и спрашиваю, что вы тут делаете?» Я ничего не нарушал, сказал я. Потом добавил, можете взглянуть в фургон, и он пошел взглянуть, старый дурак. Но, тем не менее, это дало мне время собраться с мыслями. Я сказал ему, что мне не спится по ночам, и вот я езжу вокруг, но тут заблудился и остановился, решив взглянуть на карту. Он не особо мне поверил или сделал вид, что не поверил, и сказал, чтобы я ехал домой. В общем, я уехал. Не мог же я на его глазах выходить из машины и идти к доктору, он бы сразу заподозрил что-нибудь. И я решил вернуться домой, узнать, не стало ли ей хуже, и если стало, то самому отвезти ее в больницу, я назову вымышленное имя, а потом мне надо будет скрываться, я уеду за границу или там еще что-то — но думать об этом я был уже не в состоянии. О том, что будет со мной после того, как я ее лишусь, я думать уже просто не мог. Я нашел ее опять на полу, она опять пыталась подняться с постели, думаю, или чтобы сходить в ванную, или попробовать убежать. Что бы там ни было, я поднял ее и положил обратно, и, видимо, она была в полубессознательном состоянии, она проговорила несколько слов, но я не понял, и она не поняла ничего из того, что я ей сказал. Я просидел около нее почти всю ночь, в какие-то моменты я засыпал, но потом просыпался снова. Она еще два раза пыталась встать, но неудачно, сил на это уже не было. Я сказал ей то же, что и говорил прежде, что врач едет, и это, кажется, ее успокоило. Один раз она спросила, какой день, и я солгал, назвав понедельник (была уже среда), и это, похоже, тоже ее немного ободрило. Она лишь сказала «понедельник», но было непонятно, переспрашивала она или повторяла, и что это вообще значило. Было похоже на то, что сознание у нее также сильно ослабло. Я уже понимал тогда, что она умирает, и понимал, что говорить мне об этом теперь нельзя никому. Я лишь сидел, слушая ее дыхание и слова, которые она иногда пыталась произнести (толком она всю ночь не заснула), и думал о том, как и чем все это под конец обернулось. Думал о своей погубленной жизни, и о ее жизни, и обо всем остальном. Никто не поверит, что тогда во мне творилось. Честное слово, я был в совершеннейшем отчаянии. Я не мог уже сделать ничего. Мне очень хотелось, чтобы она жила, но я не смел рисковать и обращаться за помощью. — Я был загнан в совершеннейший тупик и мучился смертельно, никому это даже не представить. Я в эти дни уже до конца 212 сознавал, что мне никогда никого не полюбить больше, не полюбить так, как я любил Миранду. Она для меня была уже навсегда. И я хорошо понимал это. И, кроме того, ведь она была единственным человеком в мире, который знал, что я люблю ее по-настоящему. Больше никто на свете не мог бы это понять. И вот рассвело. И этот последний день настал. Странно, но он был на удивление красив. Мне даже кажется, что за весь день не появилось ни облачка. Как раз один из тех холодных зимних дней, когда совсем нет ветра, а небо очень синее и ясное. Казалось, все было специально устроено для того, чтобы соответствовать случаю. Она отходила очень мирно. Последнее слово, какое она сказала около десяти часов утра (когда в окне появилось солнце), это было: «Солнышко», — и она попыталась сесть, но не смогла. Больше разборчивых слов она уже не сказала, она протянула еще утро и день и ушла вместе с солнцем. Дыхание ее стало совсем слабеть, и я (вот ведь что со мной творилось) подумал даже, что это она наконец-то заснула. Не знаю, в какой точно момент она умерла, знаю только, что она еще дышала в половине третьего, когда я пошел вниз, чтобы вытереть пыль или там еще что-нибудь, чтобы только занять себя чем-то, и, когда вернулся назад около четырех, ее уже не было. Она лежала, уронив голову на сторону, и выглядела страшно, рот был открыт, а глаза смотрели в окно, как будто старались заглянуть в него последний раз. Я потрогал ее, и она была холодная. Я побежал и принес зеркало. Я знал, что в таких случаях прикладывают его к губам. Но оно не запотело. Она умерла. Я закрыл ей глаза и рот и положил голову прямо. Я не знал тогда, что мне делать дальше, и пошел вскипятить себе чаю. Когда стемнело, я перенес ее уже мертвое тело вниз, в подвал. Я знал, что мертвых требуется обмывать, но я не стал этого делать, потому что мне показалось, это будет как-то нехорошо. И поэтому я только положил ее на кровать, расчесал ей волосы и отрезал себе локон на память. Я попытался придать ее лицу улыбающееся выражение, но у меня ничего не получилось... Но все равно выражение у нее на лице было покойное. Потом я встал на колени и прочел молитву. Я знал единственную молитву, «Отче наш», и я прочел из нее немного, и Бог принял ее душу, не то чтобы я верил во все это, но мне казалось, что так будет лучше. Потом я поднялся наверх. Не знаю, как это случается, но бывает, что все решает какая-нибудь мелочь. Я ничего не чувствовал, когда смотрел на ее мертвое тело и даже когда последний раз относил ее вниз, в подвал, но все прорвалось, когда я увидел в ее комнате наверху оставленные около кровати ее спальные туфли. Я взял их в руки и вдруг понял, что ведь она никогда уже их не наденет снова. И я уже никогда больше не спущусь вниз в подвал и не 213 выну засов (смешно, я ведь и в этот раз вставил его на место), и ничего уже не повторится из того, что было, ни плохого, ни хорошего. И я вдруг по-настоящему понял, что она умерла, а умерла — значит, ушла навсегда, насовсем, навечно. В последние дни (как только я понял, что она не притворяется) я только жалел ее, и я простил ей уже все, что она делала до того, все эти ее выходки. Но окончательно я простил ее, когда она умерла, тогда я ей простил уже решительно все. Мне вспомнилось множество моментов, когда у нас с ней было что-то хорошее, их оказалось действительно множество. Я вспомнил, с чего все это начиналось, дни в муниципальном банке, то, как она выходила на улицу из парадной двери, и я все никак не мог себе объяснить, как так получилось, что она сейчас лежит там, внизу, мертвая. Это все походило на мышеловку. Я видел однажды такую игру в детстве. Мышь вбегает, и все вокруг начинает двигаться, и она не может уже повернуть назад, и только бежит вперед и вперед, и попадает во все более хитроумные ловушки, пока окончательно не пропадает в последней из них. И я подумал о том, как счастлив я был все эти два месяца, ничего похожего никогда не выпадало на мою долю раньше, и я знал уже тогда, уверен был, что и не выпадет и в будущем никогда. Наступила глубокая ночь, но лечь спать я не мог, и я зажег в доме все лампы. Я не верю в духов, но мне было не по себе. Я все продолжал думать о ней и решил наконец, что это, видимо, была моя вина, это я сам вынудил ее сделать все то, что она сделала, после чего она и потеряла мое уважение, потом я подумал, что это ее вина и она сама на все напросилась. Потом я уже не знал, что думать, в голове у меня только все стучало, бум, бум, бум, и я понял, что не смогу жить в Фостерсе больше. Мне хотелось уехать куда-нибудь далеко и больше уже никогда не возвращаться. Я подумал, что можно продать дом и уехать в Австралию. Но для этого надо сначала все тут замаскировать и спрятать. Это было уже слишком. С таких мыслей мною даже овладело желание пойти в полицию. Мне захотелось пойти самому и рассказать все, как было, я решил, что это самое лучшее, что я могу теперь сделать. Я даже надел пальто для этого. Я подумал, что это я, наверное, схожу с ума. Я подошел к зеркалу и стал смотреть на себя, пытаясь отыскать в себе признаки сумасшествия. У меня появилась дикая мысль, что, может быть, я на самом деле давно уже сошел с ума, и, кроме меня, все вокруг видят это. Я начал вспоминать и решил, что люди в Льюисе, похоже, так и смотрят на меня временами, как тогда в приемной доктора. Все знают, что я ненормальный, один я не подозреваю этого. И так это продолжалось до двух ночи. Потом мне вообще пришло в голову, что она не умерла, что ее смерть — ошибка, что, возможно, она 214 просто заснула. И я так вбил себе это в голову, что мне пришлось специально спуститься вниз, чтобы удостовериться. Там было жутко. Как только я вошел в подвал, мне начала мерещиться всякая чертовщина. Как будто она там ждет меня с тесаком в руке. Или что она исчезла. Что я вынимаю засов, открываю дверь, а там ее нет. Как в фильмах ужасов. Но она была там. Лежала на своем прежнем месте в тишине. Я потрогал ее. Она была холодной, такой холодной, что я даже вздрогнул. Я все еще до конца не верил, что это правда, как так могло случиться, что она жила еще несколько часов назад, а несколько дней назад ходила, вязала, занималась своими рисунками. А вот сейчас ее нет... Тут что-то шелохнулось в противоположном углу подвала за дверью. Наверное, это был сквозняк. Но у меня мурашки побежали по телу, и я сломя голову кинулся в наружный подвал, а потом на улицу. Как можно быстрее запер дверь, потом скрылся в доме, и заднюю дверь запер тоже. Только дома я перестал дрожать и несколько успокоился. Но все равно единственное, о чем я мог думать, это о смерти. Я не мог уже жить вот так, зная, что она лежит там, внизу с закрытыми глазами, без движения. И тут мне пришла в голову еще одна мысль. Я вдруг подумал, что, может быть, ей, наоборот, повезло, ни тревог, ни страхов, ни желаний, которые никогда не могут исполниться. Просто конец, финиш, точка. И все, что мне нужно - это убить себя. Тогда все бы почувствовали, чего они сами по-настоящему стоят. Все остальные, такие людишки, как в приемной, как в банке, тетя Энни, Мэйбл, все они. Сразу бы стало ясно, кто чего стоит и кто из какого теста. Я начал размышлять о том, как это можно было бы сделать. Я стал думать, как я поеду в Льюис к открытию магазинов и куплю снотворного и цветов. Хризантем, самых ею любимых. Потом возьму снотворное и спущусь с цветами вниз и улягусь с ней рядом. Предварительно отправлю письмо в полицию. И так они нас и найдут, вместе. Как Ромео и Джульетту. Это была бы настоящая трагедия. Без всякой грязи. И меня бы тоже стали уважать, ценить, даже восхищалась бы мною, как и ей. Если бы я уничтожил фотографии, всего-то и надо было для этого, люди бы никогда не узнали, что у нас с нею было что-то плохое, и это выглядело бы как истинная трагедия. Я продумал все тщательно и потом пошел взять фотографии и негативы, чтобы сжечь их первым делом, когда настанет утро. Видимо, мне на самом деле был нужен какой-то определенный решительный план. Неважно какой, любой, лишь бы он был бы в какой-то мере определенный. Оставались еще деньги, но это меня уже не заботило. Тетя Энни и Мэйбл все равно приберут их. Миранда говорила о Фонде помощи голодающим детям, но она бормотала об этом, когда была уже немного не в своем умею. Все равно эти вклады кто-нибудь прикарманит. 215 Я захотел того, чего на деньги купить нельзя. Если бы я имел чтонибудь эдакое на уме, зачем бы я стал обрекать себя на такие хлопоты, я просто пошел бы к какой-нибудь женщине, адресов которых полно на досках объявлений на Пэддинктон и в Сохо, и делал бы там что мне вздумается. И счастье купить нельзя. Я, должно быть, слышал это от тети Энни сотню раз. Смех да и только, я всегда говорил себе: сначала попробуй, испытай сам. Что ж, я попробовал. Я знаю, что на свете существует только везение, кому-то посчастливится, а кому-то нет. Это как игра, как тот же футбол, хуже даже, тут нет хороших соперников или плохих соперников, и ничьих тоже не бывает. И абсолютно неизвестно, что и как обернется. Просто А против Б, С против Д, и никто не знает, что на самом деле эти А, Б, С и Д из себя значат. Вот почему я и не верю в Бога. Я просто думаю, что мы насекомые, нам дано немножко пожить, и потом мы умираем, и на этом точка. И никакого там милосердия или прощения. Этого не существует. Как и «иного» мира. Не существует ничего. Около трех я начал дремать и поэтому пошел лечь в постель, чтобы последний раз поспать. Я лежал в постели, видя уже, как я еду утром в Льюис, как возвращаюсь, сжигаю бумаги, закрываю дом (последний раз смотрю на коллекцию) и спускаюсь вниз. Она будет ждать меня там. Я напишу, что мы любили друг друга, в том письме в полицию. Обоюдное самоубийство. И это уже будет Конец всему. IV Но получилось все по-другому. Я проспал до десяти утра. Когда я проснулся, был еще один такой же хороший день, как и накануне. Я позавтракал, затем съездил в Льюис и купил снотворное и цветов, вернулся обратно, спустился вниз и потом подумал, что мне надо в последний раз посмотреть ее вещи. И удача моя, что я это сделал. Я нашел ее дневник, который ясно показал мне, что она никогда не любила меня, что она думала только о себе и о другом мужчине. И потом еще, когда я проснулся утром, мне сразу начали приходить в голову более здравые мысли, и я стал смотреть на вещи уже несколько иначе, и я понял, что ночью мне все представлялось, в основном, в черном цвете. Эти мысли начали приходить еще за завтраком, совершенно непроизвольно. Мне подумалось о том, как бы я мог, например, избавиться от тела, мне пришла на этот счет в голову мысль. И еще я подумал, что если уж я не 216 собираюсь умирать в ближайшие несколько часов, то могу сделать то-то и то-то. Много всяких мыслей приходило ко мне. И представилось, что если бы я захотел, то мог бы все устроить вполне. Так, что никто никогда ничего бы и не обнаружил. Утро было славное. Поля вокруг Льюиса красивые. Еще я подумал, что веду себя так, будто это я ее убил, в то время как она ведь умерла, в конце концов, сама. Врач вряд ли помог бы, на мой взгляд, в этом деле. Болезнь слишком далеко зашла. Кроме того, в Льюисе утром я сделал просто совершенное открытие, я обнаружил точное совпадение. Я ехал в цветочный магазин и на перекрестке увидел девушку. Она была в рабочем халате и перебегала дорогу как раз по тому переходу, перед которым я стоял. На какой-то момент это вывело меня из задумчивости, и я еще подумал, что, может быть, это привидение... У нее были точно такие же волосы, правда, чуть короче, и роста она была такого же, и походка была как у Миранды. Я просто не мог оторвать от нее глаз и вынужден был остановиться и пойти следом. Я заглушил мотор и пошел по той же стороне улицы, что и она. И мне посчастливилось, я заметил, что она вошла в универсальный магазин. Я вошел следом и увидел, что она работает в кондитерском отделе. После этого я вернулся домой и спустился со всем купленным вниз к Миранде, чтобы поставить в изголовье цветы. Я чувствовал, что для остального у меня уже нет настроения, и решил, что нужно пока подождать, подумать, а потом, очень кстати, нашел и ее дневник. Дни идут, и так незаметно уже прошло с тех пор три недели. Конечно, ни о каких гостях я теперь и не помышляю, хватит, хотя, так как тетя Энни и Мэйбл решили остаться в своей Австралии, это сделать было бы просто. И потом, просто из любопытства я все же иногда поглядываю на ту девушку из универсального магазина, прикидывая, как бы это все могло случиться. Она живет в деревне на противоположной стороне Льюиса, в четверти мили от города, в доме прямо напротив автобусной остановки. Как я уже сказал, это могло бы быть, но я не знаю, надо ли (ведь в конце концов у меня есть уже горький опыт). Она не так, конечно, красива, как Миранда, в общем-то, она всего лишь обычная девушка, простая продавщица, но то и было моей ошибкой, что я прежде метил слишком высоко, а мне следовало бы и тогда уже знать, что я никогда ничего не дождусь от такой девушки, как Миранда, с этим ее хорошо поставленным голосом, самомнением и готовностью на любые хитрости. Мне надо было бы иметь человека, который бы больше мог уважать меня. Кого-то попроще, кого бы я уже мог учить. Она сейчас лежит в ящике, который я для нее сделал, в саду под яблонями. Три дня я копал для этого яму. И я думал, что с ума сойду в ночь, когда переносил ее из подвала туда. Не каждый, думаю, смог бы, но я это сделал. С математической точностью. Рассчитал и предугадал 217 решительно все, подавив в себе все естественные чувства. Я не смог себя заставить посмотреть на нее еще раз, я слышал, что они зеленеют и покрываются пурпурными пятнами, поэтому я вошел в подвал, держа в руках дешевое одеяло, и так и нес его, растянув перед собой, пока не дошел до кровати, и затем уже накинул его на труп. Быстро закатил его вместе с простынями в ящик и сразу завинтил шурупами крышку. Сейчас комната снова прибрана и чиста, как новая. Все, что она написала, вместе с локоном я положу в маленький сейфик на чердаке, он не откроется до самой моей смерти, я думаю, что это будет еще лет сорок — пятьдесят. Я еще ничего толком не решил насчет Марианны (еще одна М! Я слышал, как заведующий отделом называл ее именно так), на этот раз это уже не будет любовь, это могло бы быть разве что ради интереса, чтобы сравнить их, а также еще кое для чего, о чем я уже говорил и к чему я бы хотел подойти вплотную и научить ее тому, что мне надо. Кстати, и одежда бы подошла. Но, конечно, пришлось бы на этот раз с самого начала расставить все на свои места и показать ей, кто хозяин. Но это все еще, конечно, только мысли и намерения. Сегодня я просто поставил на ночь печь внизу, чтобы высушить комнату. Как бы там ни было, а комната все равно нуждается в просушке. Перевод с английского Алексея Михеева