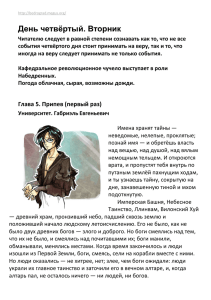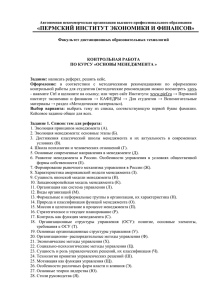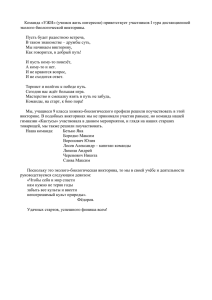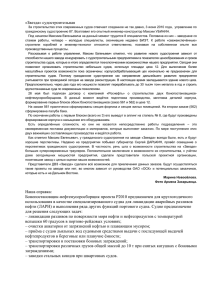День четвёртый. Вторник
advertisement

http://bedrograd.megus.org/ День четвёртый. Вторник Читателю следует в равной степени сознавать как то, что не все события четвёртого дня стоит принимать на веру, так и то, что иногда на веру следует принимать не только события. Кафедральное революционное чучело выступает в роли Набедренных. Погода облачная, сырая, возможны дожди. Глава 9. Припев (третий раз) Университет. Габриэль Евгеньевич С Поплеевской вывернуть на Малый Скопнический — дело простое, плёвое, поднырнуть только под арку и прокрасться дворами; но ночью нельзя, ночью темно и в тёмных дворах опасно, так сказал бы Максим, так говорил Максим много раз. И что нельзя ходить после заката, и что нельзя ходить вообще — сиди в башне, я о тебе позабочусь. Только сколько можно сидеть и ждать, сколько можно быть бессмысленным украшением, сапфиром в фамильной короне? Габриэль Евгеньевич прикрыл глаза, чтоб не резали их так жгуче злые жёлтые фонари. Ю. Б.: Сколько раз я уже сознался в том, что у меня проблемы? Но жив, как видите. По крайней мере, на ближайшую пару суток. 66563: Вы бы определились, у вас всё под контролем или всё-таки проблемы. http://bedrograd.megus.org/ Ю. Б.: У меня проблемы, и они под контролем. Ну, почти. От бумаг в кармане — бесконечных расшифровок бесед из далекой степной камеры — глаза не прикроешь, так и так прожигают подкладку плаща, брюки, кожу — до самой серёдки, до нутра. Только и остаётся, что сжимать их пальцами — крепче, до боли — чтобы хоть — не впустую ожог. Если не дворами, то по Шолоховскому переезду. В жёлтых фонарных кляксах Бедроград мокрый, словно только что вынырнул из пучины морской, словно ещё убегают под поребрики последние солёные потоки, и бурые гнилые водоросли путаются в ногах. Из этого морока нет спасения — город-порт, город-Порт, силок для случайных, костёр для невинных. Жжёт-горит невыносимо, нет больше сил сидеть на месте, в башне; надо идти — покаяться, отдать всё, что есть, самое дорогое, себя отдать на растерзание, только бы прекратилось, и — вернулось, только бы не было ничего. С расшифровок всё началось — когда-то давно, когда не было ещё ни Максима, ни завкафского кресла, когда ещё не болела так голова. Глупо; Габриэлю Евгеньевичу просто хотелось знать, зачем Гуанако убил Начальника Колошмы, зачем он сам умер. Или Диме хотелось — он уже и не помнил, помнил только, что тот один раз ворвался домой — запыхавшийся (высокие ступени башни), лихорадочно-весёлый. Сказал — Стас Никитич-то, добрая душа, романтик, с Колошмы очутился в Порту, у него нашлись копии расшифровок, давай читать. Сказал — прочитаем и сожжём, но один-то раз можно, это же не политика, это просто чтобы знать. Сказал — ничего в этом нет опасного. 66563: Знаете, чем категория веры лучше категории морали? Верить можно в то, во что хочется верить. (Усмешка.) Малых Скопнических в Бедрограде два: один настоящий — в Старом Районе, и второй — поддельный, ложный, названный в честь — в новых. Настоящего Габриэль Евгеньевич не заслужил, как не заслужил того, http://bedrograd.megus.org/ чтобы Диму потом посадили, как не заслужил знать, что чумной изолятор сгорел, как не заслужил их с Гуанако возвращения в Бедроград. Он же не хотел никому делать больно, не хотел поездок в Ирландию — зелёную и пьяную; не хотел, вернувшись, увидеть Максима таким чужим и спокойным. Всё, всё разрушилось и склеилось кое-как, криво, каракульно и внахлёст; и Максим запер его в башне, чтобы больше не убегал, и Дима остался — один и маленький, и у Гуанако больше нет за зрачками зелёных ирландских холмов, только тихая, тихая радость: спасибо, что всё закончилось. Ю. Б.: Не будьте Андреем, слушайте ушами. Тот факт, что я мало смеюсь, не означает, что мне не весело. Видите — вполне улыбаюсь. Можете рисовать звёздочку на борту. 66563: Было бы чем — нарисовал бы. Ю. Б.: Охранники со стопками бумаги и упаковками ручек всё ещё к нашим услугам. 66563: А это может быть уместно, как и ещё несколько пачек сигарет. (Усмешка.) Сложу из бумаги кораблик и нарисую звёздочку. В корабликах меньше мелодраматизма, чем в журавликах. (Усмешка.) (Пауза, шаги, скрип двери.) Ю. Б.: (Неразб., пауза, скрип двери.) Скоро будут. 66563: Спасибо. И ложитесь спать. Габриэль Евгеньевич не знал, где находится здание Бедроградской гэбни — тайное, настоящее, не то, куда ходят в поисках чемоданов — но знал: если раскаяться, признаться, вернуть расшифровки — всё изменится, вернётся, и никому не нужно будет умирать, и никому не нужно будет воскресать, и перестанет так ныть и вертеться голова. Воздух — мутный, клубящийся, тошный — солгал, не пролился дождём; дома в липких водорослях сгрудились, сжались, придавили голову, пригвоздили к земле — как тут двигаться с места. И всё же двигался, шатаясь, наперекор улицам, латунными дворами мимо чьих-то не спящих ещё окон и редких ночных такси. За одним из домов мелькнула бархатная тень, осторожно прильнула к парапету: грифон. Грифоны знают, где сердце Бедроградской гэбни, http://bedrograd.megus.org/ грифоны чуют кровь и по крови идут-ведут. Габриэль Евгеньевич замер было (страшные когти в мягких лапах), сердце трепетнуло в грудной клетке птицей, но потом усмирилось. Самому ему не дойти, не найти, сам он не ведает путей города; только грифоны с охровыми звериными глазами, с красными страшными языками укажут дорогу. В мохнатом фонарном свете померещилось даже: увидел силуэт, крылатый, бесшумный, похожий на ночного мотылька. Поспешил следом — и ноги почти оторвались от земли, почти взлетелось. Так и двигались по городу в поисках здания Бедроградской гэбни: два мягких, бархатных хищника и один человек, перепархивающий больной птицей. По улицам, проспектам, мимо закрывшихся на ночь магазинов и колыбелей квартир — завернув в один из переулков, грифоны клёкотнули вдруг несвоими голосами и взвились на крыши соседних домов. Привели, значит, по кровавому следу через весь замутившийся тиной город; милые. Габриэль Евгеньевич оглянулся — но нет, просто дома, глухие, почти без окон; зачем же — сюда? А вот зачем: через переулок, разбрызгивая свет фар и не визжа тормозами, пронеслось такси, под его колёсами — мелькнуло маленькое чьё-то тельце, без крика и удивления — просто так. Такси остановилось всё-таки, и всё остановилось, остекленело; Габриэль Евгеньевич понял — он подглядывает тайну, и приветливый автор не спешит перевернуть страницу, чтобы можно было вчитаться, запомнить каждую строчку, каждую чёрточку, чтобы потом рассказать всё как было. Габриэль Евгеньевич рванулся вперёд — скорее, скорее, были бы прокляты эти неверные мягкие ноги, вязнущие в асфальте, проваливающиеся в него по лодыжку. Переулок растягивался резиной, издевательски хохотал, но Габриэль Евгеньевич добрался-таки. На асфальте, аккуратно между луж, не намокнув ни в одной, лежала какаято незнакомая девочка — с длинными волосами, с нелепо вывернувшейся головой, так вывернувшейся, что глаза заливает красным, и нет сил шевельнуться, и можно только кричать, но крик давит мягкими грифоньими лапами ночь. Он знает её, должен узнать, должен запомнить — Если бы время не разморозилось и не побежало опять — «Это просто дурновкусие», — сказала бы она. http://bedrograd.megus.org/ «Как тебя зовут? Что произошло?» «Я же с самого начала говорила, я говорила! Хотя, конечно, неплохая подводка получилась. Если бы можно было прожить второй раз… — и повернула бы свою выломанную голову, и прибавила: — А вы знаете, что все в курсе, что вы носите очки с простыми стёклами?» — если бы время не разморозилось и не побежало опять. Но оно разморозилось и побежало, и Габриэль Евгеньевич обернулся на затормозившее в нескольких метрах такси. Из такси коротко и поделовому выскочили два человека (и их он тоже знает, должен знать, должен узнать!), побежали к девочке военной трусцой. К девочке и к Габриэлю Евгеньевичу, и ему вдруг стало страшно, очень страшно, потому что понял: сейчас загорится всё вокруг жёлтым фонарным светом, и не останется ни тел, ни следов, никто не вспомнит и не сумеет доказать. И в последней нелепой попытке он дёрнулся, выломал свою смешную голову, рванулся — лишь бы разомкнуть, разверзнуть эту душную липкую ночную грифонью влажную лихорадочную темноту — — Габриэль! Максим — чёрный против опять зачем-то включённого света, сожравшего его лицо и оставившего только неровные тени; не поймёшь — беспокоится? Злится? И всё же — спас, выдернул из неверного сонного морока. Сонного. Под головой у Габриэля Евгеньевича раскинул спину любимый мягкий ковёр, над головой — стеклянный четырёхугольник окна с отражением люстры. Значит, упал прямо здесь, как стоял, и весь день провалялся; и всё, что было, — только сны, отражения памяти. Нёс во сне пресловутые расшифровки отдавать Бедроградской гэбне, чушь какая. Нет давно никаких расшифровок, сгорели — пусть и поздно, позже, чем следовало — красным огнём. — Ты весь день проспал на полу у открытого окна, отлично. Теперь в дополнение к сотрясению мозга ещё и простынешь. Давай, поднимайся. http://bedrograd.megus.org/ Габриэль Евгеньевич попытался встать — ноги не слушались, конечно, налились сырой сонной водой. Максим не протянул руки. Попытался ещё раз — преуспел, хоть и ухнуло всё вокруг водоворотом. Надо выпить кофе. От савьюра в голове ватно и марлево, а от кофе — наоборот, яснеет, утекает прочь вся хмарь. Надо сказать Максиму чтонибудь — извиниться за своё молчание, спросить хотя бы просто, как прошёл его день; рассказать, что в одном из переулков Бедрограда было такси, и в такси были люди, и они убили — Нет — это всё сон, чушь. Сейчас не время, сейчас надо просто улыбнуться не чующими себя губами и попытаться хотя бы слушать, попытаться хоть как-то дать понять, что всё хорошо, что Габриэль Евгеньевич ждал Максима, что Максим его спас. — Если тебе интересно, день мой прошёл не очень хорошо. Ты хоть заглянул в бумаги, которые я для тебя оставил? Габриэль Евгеньевич покачал головой — с улыбкой, не в силах её отодрать. Максим проследовал за ним на кухню, сел за стол, спрятал глаза куда-то, уткнулся в себя. Габриэль Евгеньевич, пошатываясь, поставил турку на конфорку. Когда жёг расшифровки бесед из далёкой степной камеры — было стыдно и жарко до слёз, потому что уже нет смысла, потому что ему почти прямо сказали — оставьте себе, виновные наказаны, к вам цепляться не станут. Оставьте-оставьте, вы же так их хотели. И всё равно жёг — одолжил у соседа напротив ведро, чистое, хозяйственное, но словно насквозь прогорклое ядом, гадкое — не прикоснуться. Всю квартиру заволокло вонючим дымом, и было снова стыдно, как будто он сделал что-то непристойное. Сосед напротив тогда позвонил в дверь уточнить, не случилось ли чего. Пришлось, краснея, отдать ему ведро прямо так, с тлеющим ещё пеплом, бормотать какие-то извинения. Тот даже головой не покачал, только посоветовал не открывать окон — вызовет ещё кто-нибудь пожарную службу! — а включить лучше вытяжку. Сосед напротив привык к Габриэлю Евгеньевичу с его странностями, сколько лет рядом жили. Гуанако в Ирландии говорил, что у того в столе даже есть специальный ящик для вещей, выброшенных нервным http://bedrograd.megus.org/ Габриэлем Евгеньевичем из окна — и улицу не замусоривать, и вернуть при случае. И это тоже было болезненно, обжигающе стыдно. — Ты злишься? — выговорил кое-как Габриэль Евгеньевич, не оборачиваясь. — Я устал. События, которые разворачиваются в Университете… я за ними не успеваю, — Максим пошевелился тяжко, как древний великан. — Сперва предполагалось направлять запросы к фалангам — тебе плевать, какие, но хоть поверь, что важные. Но теперь это, кажется, никого не интересует. Мне одному полагается сидеть в приёмных, вести с фалангами многочасовые беседы ни о чём, объяснять, что и откуда нам известно, а потом прибегать на кафедру и обнаруживать, что я всех задерживаю, что накопилась уже пачка бумаг, которые я — а вообще-то ты — должен подписать, что учебный план переписан моим именем без моего ведома и что я же во всём виноват. Я лезу вон из кожи, чтобы везде успеть, и всё равно не успеваю. — Тебе же это нравится, — тихо ответил Габриэль Евгеньевич, — ты сам хотел ответственности. Надо утешить, ободрить, сказать что-то — хоть что-то. — Нет, это мне не нравится. Я не этого хотел. Я готов отвечать за Университет и за решения, которые принимает гэбня, я готов выслушивать всех, кто действует в интересах Университета. Я готов поступиться своим мнением — леший, знал бы ты, до какой степени готов! Но я не хочу приходить на кафедру и обнаруживать, что Ройш дома, Поппер утащил и Лария, и Охровича и Краснокаменного делать из студентов лекарство, хотя эпидемия — это только смутное предположение, и что всё это вертится без меня! — Но ведь вертится. — А должно ли вертеться? — Максим вскочил со стула, снова поймал себя — в полёте, в прыжке, сделал вид, что невзначай тянется в холодильник. — Мы разбрасываемся. Я очень стараюсь, но мне всё-таки нужно когда-то спать. Ответ от фаланг всё ещё может прийти — в любую минуту, хоть этой ночью. Отреагировать на него надо мгновенно, и сделать это должна Университетская гэбня. Но кто, если Ларий и Охрович и Краснокаменный так заняты лазаретом? http://bedrograd.megus.org/ Лазарет, лекарство из студентов, фаланги — безумие, карусель, цветные индокитайские фонарики. Габриэль Евгеньевич прикрыл глаза и вдохнул запах кофе — простой и чуть шершавый, согревающий всё тело. Хотел бы он оказаться в этой круговерти? — Я понятия не имею, о чём ты говоришь. — Знаю, — Максим вздохнул и полез на полку за солью — посолить огурец, который собирался есть просто так, не помыв даже. — Прости. Это всего лишь усталость. Я сам виноват в том, что не успеваю за событиями. Просто мне хотелось бы, чтобы моё мнение принимали в расчёт. Он подошёл к Габриэлю Евгеньевичу сзади — такой большой и сильный — аккуратно, чтобы ничего не сломать, приобнял за плечи. Уткнулся в волосы где-то за ухом и несколько секунд просто дышал — тихо-тихо и приятно, как шершавый запах кофе. — Это ведь нечестно, — сказал он наконец, и руки его заиндевели, стали каменными. — Я не вызывался в Университетскую гэбню, мне предложили. Предложили и сказали, что теперь я — мы, гэбня — принимаем решения за весь Университет. Если бы Ларий и Охрович и Краснокаменный решили что-то за меня, я бы согласился — я и так соглашаюсь. Но когда делами Университета почему-то занимаются Поппер и эти двое… — Не трогай этих двоих! Кофе, зашипев по-кошачьи, полился на плиту — улучил момент, коварный, тот один момент, когда Габриэль Евгеньевич отвернётся, чтобы сбросить с себя оковы Максимовых рук. Максим качнулся, отступил, посмотрел с недоверием. Эти двое случайно оказались — в Бедрограде, в Университете; они жили в степи, просто заглянули — в гости, на чай, просто застряли на часок, на денёк, на недельку; просто Серёжа сказал — давай снова вместе, если ты не можешь меня отпустить. Если бы не попытка снова вместе, их бы не было сейчас в Бедрограде. Не трогай их. Не трогай ни Поппера, ни Ройша; ты же сам сделал так, что каждый имеет право на своё мнение и каждый умеет действовать сам. Ты же http://bedrograd.megus.org/ гордишься этим — тем, что не превращаешь Университет в машину, тем, что мы все остаёмся людьми. Тем, что ты можешь положиться на кого-то, когда станет совсем невмоготу, и знаешь: никто не станет ждать отмашки. Вы же гэбня, у вас синхронизация. Они не могут сделать ничего тебе во зло. Как и эти двое — их вообще не должно было здесь быть. — Вот, значит, как, — тихо, с трудом выговорил Максим, — не трогать этих двоих. Почему же, скажи на милость? Потому что вам было хорошо ебаться? Без запаха кофе воздух снова стал тяжёлым, надавил невыносимо на плечи. Максим ревнует — он имеет право ревновать, он не заслужил того, что было в мае. Но нелепо же, нелепо видеть опасность там, где её нет, нет больше, вытравилась вся под корень, выжглась пеплом в вонючем ведре! И не только Максиму было в мае плохо, всем было, всем четверым — так плохо, что это и в самом деле комично, но только так и можно было понять, что не осталось опасности больше, что мёртвый Гуанако, герой ненаписанных романов, Габриэлю Евгеньевичу дороже живого, пропахшего степными травами и морем. Леший с ним, с Гуанако, леший с самим Габриэлем Евгеньевичем; если хочет Максим искать виноватых — вот они, здесь. Но Диму зачем под тот же удар? Он же тоже — жертва, он имел все права остаться в Столице, и если вернулся — то только потому, что любит Университет, и Университетскую гэбню, и, значит, лично Максима. — Что за старший отряд, — Габриэль Евгеньевич качнулся опять, схватился за стол. — Наши отношения тут ни при чём. — Ваши отношения, — Максим продолжил пятиться, словно пытался сбежать, и не мог, и не мог понять, надо ли бежать; наткнулся на подоконник, где стоял налитый ещё утром для Габриэля Евгеньевича стакан воды, посмотрел на него недоумённо, взял в руки, — нет у вас никаких отношений. Этих двоих вообще не должно быть в Бедрограде. Не должно быть в живых. Я рад, что мои друзья живы, но друзья и работа — это разные вещи. Друзья и обязанности — разные вещи. Друзья и Университет — разные вещи. Университет — я лично! — готов http://bedrograd.megus.org/ их принять и защитить. Если они хотят помочь, если у них есть разумные идеи — это прекрасно. Но они не вправе решать за меня. В официальном обвинении значилось, что Гуанако попал на Колошму за идеологическое участие в деятельности некой террористической контрреволюционной группировки, состоящей притом из психически нестабильных людей. Несколько десятков человек, все ровесники, все в младенчестве участвовали в опытах по контролю уровня агрессии. Все социализированы, но могут быть потенциально опасны для общества. Гуанако вменили чуть ли не эксперименты на людях. Четверо из этих людей потом составили Университетскую гэбню. Гуанако мог не садиться в колонию, участия-то его на самом деле не было. Но если бы не он — сел бы лидер этой самой группировки, сели бы её участники, сели бы те, кому просто не повезло родиться в тот же год. Пусть уж лучше одного Гуанако, не так ли? Лучше его, чем его студентов. Лидер этой самой группировки потом возглавил Университетскую гэбню. — Ты неблагодарная скотина, — губы Габриэля Евгеньевича еле двигались, словно только с мороза, — Гуанако дал тебе всё, что у тебя есть. Максим стоял — нелепый, со стаканом в одной руке и немытым огурцом в другой, в слишком тесном ему, не сдерживающем злости пиджаке. Стоял — и не мог пошевелиться, окаменел в своём гневе, окаменел от ужаса, будто сыпались кафельные плитки пола у него изпод ног, будто под ногами были хищные воды — отойди, поглотят! — Он дал мне многое, и я благодарен, — медленно, по слогам. — Потом он забрал у меня тебя. Теперь он вернулся в Университет, и Университет делает то, что он говорит, пока я бегаю по фалангам. Насколько же далеко должна простираться моя благодарность? Гуанако был человеком, который придумал Университетскую гэбню. Очаровал как-то Хикеракли — прямо так, с Колошмы, из посмертия — и вторым хикераклиевским уровнем доступа водворил гэбню на её нынешнее место. http://bedrograd.megus.org/ Он не вернулся в Университет, он не хочет больше видеть Университет, слишком много людей, слишком много воспоминаний, слишком много сложного — лучше прочь, в степи, на корабле. Не один Максим умеет уставать. Максим же поднёс стакан к губам, пытаясь остудить хоть немного то, что рвалось из него через все щели, через все нетвёрдые швы, но — не закончил движения, поставил обратно на подоконник. Без стука, тихо, честно — честно пытаясь сдержать себя, но — рвалось: — Когда Гуанако увёз тебя в мае, он обещал мне, что ты вернёшься, а он нет. Вышло ровно наоборот. Я же здесь, вот он я — надо было сказать, но как? Как, если Максим слеп и не видит того, что — кто — прямо перед ним? Как, если ревность и рабочая усталость ему дороже того, что есть в руках, перед глазами, совсем рядом — вот? Никому нет дела до того, что внутри, — даже кофе сбежал, чтобы не видеть уродливой сцены. И без кофе, без его мягкого грифоньего тепла, не вышло разомкнуть губы даже затем, чтобы сказать — убирайся вон. — Да скажи же хоть что-нибудь! Но Габриэль Евгеньевич не мог — смёрзлись, смёрзлись губы, захлестнуло с головой ужасом. Ведь сейчас уйдёт Максим, а ему нельзя уходить, ему надо выспаться, он устал; надо переждать эту страшную ночь, и с утра будет солнце, и с солнцем всё изменится, разойдутся тучи в голове, разлетится туман, и каменный Максим оживёт, улыбнётся. Просто спрятаться, просто переждать. Габриэль Евгеньевич отвернулся. Максим кинулся вперёд так, что стало страшно — ударит; но нет, пронёсся мимо, на ходу хватая куртку, какие-то ещё вещи. В коридоре замешкался — вернётся? Иногда возвращается, ловит себя в полупрыжке. — Габриэль, я же пытался. Пытаюсь. Ты не говоришь со мной, только про них, про него. Что мне остаётся думать? Оправдываться в прихожей, в ботинках уже — нелепо и жалко; невозможно смотреть, стыд за другого жжёт только сильнее, охватывает всё тело огнём. — Уходишь — уходи. Твои монологи смешны. http://bedrograd.megus.org/ Максим дёрнулся, и глаза его побелели — не то от злости, не то от боли, не то просто шутит шутки тусклая коридорная лампочка. — И самое страшное — тебе это правда нравится. Это издевательство, — помедлил ещё один, последний раз. — Иногда я думаю, что всем было бы лучше, если тебя в моей жизни просто не было. И ушёл — аккуратно, не хлопая дверью; и (Габриэль Евгеньевич, как ни кружилась голова, видел через окно) свернул с Поплеевской на Малый Скопнический дворами.