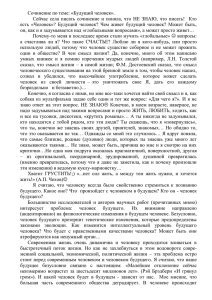Т. – Тэлль Вильгельм Иосифович М. – Малыхина
advertisement
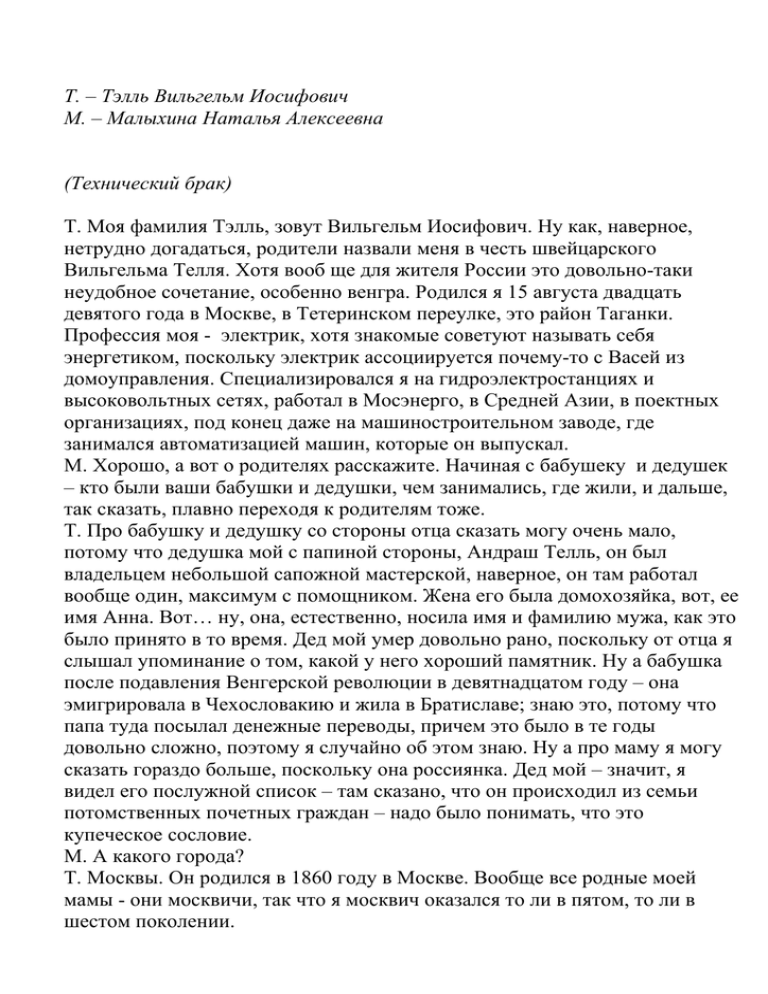
Т. – Тэлль Вильгельм Иосифович М. – Малыхина Наталья Алексеевна (Технический брак) Т. Моя фамилия Тэлль, зовут Вильгельм Иосифович. Ну как, наверное, нетрудно догадаться, родители назвали меня в честь швейцарского Вильгельма Телля. Хотя вооб ще для жителя России это довольно-таки неудобное сочетание, особенно венгра. Родился я 15 августа двадцать девятого года в Москве, в Тетеринском переулке, это район Таганки. Профессия моя - электрик, хотя знакомые советуют называть себя энергетиком, поскольку электрик ассоциируется почему-то с Васей из домоуправления. Специализировался я на гидроэлектростанциях и высоковольтных сетях, работал в Мосэнерго, в Средней Азии, в поектных организациях, под конец даже на машиностроительном заводе, где занимался автоматизацией машин, которые он выпускал. М. Хорошо, а вот о родителях расскажите. Начиная с бабушеку и дедушек – кто были ваши бабушки и дедушки, чем занимались, где жили, и дальше, так сказать, плавно переходя к родителям тоже. Т. Про бабушку и дедушку со стороны отца сказать могу очень мало, потому что дедушка мой с папиной стороны, Андраш Телль, он был владельцем небольшой сапожной мастерской, наверное, он там работал вообще один, максимум с помощником. Жена его была домохозяйка, вот, ее имя Анна. Вот… ну, она, естественно, носила имя и фамилию мужа, как это было принято в то время. Дед мой умер довольно рано, поскольку от отца я слышал упоминание о том, какой у него хороший памятник. Ну а бабушка после подавления Венгерской революции в девятнадцатом году – она эмигрировала в Чехословакию и жила в Братиславе; знаю это, потому что папа туда посылал денежные переводы, причем это было в те годы довольно сложно, поэтому я случайно об этом знаю. Ну а про маму я могу сказать гораздо больше, поскольку она россиянка. Дед мой – значит, я видел его послужной список – там сказано, что он происходил из семьи потомственных почетных граждан – надо было понимать, что это купеческое сословие. М. А какого города? Т. Москвы. Он родился в 1860 году в Москве. Вообще все родные моей мамы - они москвичи, так что я москвич оказался то ли в пятом, то ли в шестом поколении. М. О, это редкость сейчас. Т. Да, редкость, но тем не менее это так. Насколько я понимаю, семья моего деда решила не заниматься торговлей, а заняться чем-то иным. Все дети явно окончили гимназию, потому что дед поступил в военно-морское училище, брат его был врачом, стало быть закончил университет, а сестра была пианисткой. Я думаю, что и в консерваторию, и в университет принимали только из гимназии, никто из них торговлей уже не занимался. Дед поступия в Военно-морское училище в Санкт-Петербурге, сейчас, насколько я знаю, это училище имени Фрунзе. Вот, причем, что интересно – поскольку он туда пришел не из кадетского корпуса, то на действительной военной службе он считался спустя только год после поступления в военное училище, и, судя по послужному списку, карьера его двигалась довольно медленно, однако к началу Русско-японской войны он уже получил звание капитана второго ранга, получил назначение старшим помощником на крейсер “Аврору”, но аврора находилась в первой эскадре Рожественского, и в те годы, хотя шла война, но офицер мог получить отпуск. Он ушел в отпуск, побыл с семьей, и ушел со второй эскадрой, уже старшим же офицером на броненосце “Адмирал Ушаков”, командиром которого, кстати, был Владимир Николаевич Миклухо-Маклай, брат нашего знаменитого географа и этнографа. Об этом есть упоминание в книге Новикова-Прибоя “Цусима”, две главы посвящены броненосцу “Адмирал Ушаков”, и мой дед там несколько раз упоминается. К сожалению, из этого похода он не вернулся. У мамы было два брата, и всего их было пятеро сестер, старший брат сумел окончить военно-морское училище, в годы первой мировой войны последняя его фотография была в чине лейтенанта, но на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа он значится как капитан второго ранга, видимо, заслужил это уже в годы первой мировой войны. Он эмигрировал во Францию с Черноморским флотом, когда уже белая армия уходила из Крыма, вот, флот уходил в никуда, его приняли в Визерте. Вскоре после этого… он с женой уехал туда, вскоре после этого они перебрались в Париж, там у них родился сын, его назвали так же, как и отца – Георгий, но он там уже был Жорж, естественно, вот, а дядя мой звался Георгий Александрович Мусатов. Он есть в списках русских захоронений на СенЖеневьев-де-Буа. Сестры со своей мамой остались в России, жили кто как мог, сейчас их никого уже нет в живых, причем интересно, что им полагалось учиться в институте Благородных девиц, как дочерям офицера, и, так как он погиб, то обучение должно быть бесплатным, за казенный счет, но полагалось обратиться с прошением на высочайшее имя. И что интересно, мама мне рассказывала, что российское дворянство очень недолюбливало Алису, и она, мама ее, обратилась с прошением к вдовствующей императрице. Вроде бы и полагается так по субординации – вдова обращается к вдове. Но тем не менее, это было так. Ну, естественно, мама моя немножко не доучилась, она с девятьсот четвертого года рождения, в тринадцать лет - была революция, они немножко там еще поучились, а потом институт преобразовали во что-то, и в общем, на этом практически образование закончилось. Она в конце концов получила образование бухгалтера, бухгалтером и проработала до конца. Это в отношении мамы. Что касается отца - про деда я вскользь я еще мог упомянуть - он с девяносто четвертого года, к началу Первой мировой войны он был вполне призывного возраста, его призвали в Австровенгерскую армию, где-то в пятнадцатом он попал на Восточный фронт, где-то в пятнадцатом году сдался в плен, насколько я знаю от мамы, что сдался сам, не желая воевать. Вот…попал…был он в самых различных местах России, от Сибири до Ташкента, ну, и в восемнадцатом году, когда война закончилась, он вернулся на родину, в Венгрию, но, видимо, уже был преисполнен социалистических идей, вступил сразу в Социалдемократическую партию Венгрии, которая была потом преобразована в Коммунистическую партию Венгрии, принимал участие в венгерском революционном движении, которое было подавлено в девятнадцатом году, ему пришлось эмигрировать в ближайшую в Австрию – когда-то же это была одна страна – вот, и где-то в двадцать третьем году, с разрешения ЦК Венгерской компартии, ксатати, подпольного ЦК, насколько я знаю, и по удостоверению полпредства Советского Союза в Вене он эмигрировал в Советский Союз по линии МОПР - было такое международное общество помощи то ли рабочим, то ли революционерам, сейчас я уже как- то об этом не знаю, но было, я еще помню. Он получил комнату, в двадцать четвертом году они встретились с моей будущей мамой, поженились, спустя пять лет появился я. Причем он вступил в ВКПБ, приехав в Советский союз, он получил сразу гражданство, видимо, это было проще, чем сейчас. М. Ну да, конечно. Т. Вот. Я знаю, интересный момент у него был. Он был, видимо, человеком наивным, верил во все эти идеалы, и на одном из партсобраний он покритиковал директора завода, на котором он работал, после чего его пригласили в райком партии, и объявили выговор за дискредитацию руководства. М. А как он на это отреагировал, что он почувствовал при этом? Т. Что он почувствовал – я вам сказать не могу, но я знаю, как он на это отреагировал. Видимо, иллюзии уже постепенно подрастерял, вскоре он остался без работы – тогда это было сложно с работой… М. Это были еще двадцатые годы? Т. Совершенно верно, это было где-то в двадцать пятом – двадцать шестом году, меня еще не было. М. В самом начале, да? Т. Меня еще не было. Вот и, насколько я знаю, когда он остался без работы, при этом еще заболел, он, официальным языком выражаясь – потерял связь с партийной организацией, не платил членские взносы и автоматически выбыл. Причем что интересно - после, значит, он когда был арестован, в деле – я когда просматривал его дело следственное на Лубянке - там была справочка из Венгерской комиссии исполкома Коминтерна по поводу моего отца. Очень осторожная, такая немножко трусливая справочка, там, кстати, было написано, что он то ли выбыл автоматически, то ли был исключен из ВКПб, вот так вот. Но этим господам-товарищам, конечно - напрасно они старались, потому что я видел список членов этой комиссии, потом половину из них, по меньшей мере половину, я нашел с списках расстрельных на Коммунарке. М. Да-да, это, в общем, довольно частое дело. Т. К сожалению, типично для тех лет. М. Скажите, а вот как вы жили – вот о домашнем быте. Какая была жилплощадь, коммуналка или нет, кто из родителей работал – ну вот как бы такие вот бытовые условия. Где находился дом? Т. Дом наход…значт, я могу сказать довольно точно. Сейчас на этом месте находится новый корпус Яузской больницы, больницы номер двадцать три, в этом корпусе восстанавливают речь после инсульта, там, кстати, побывал мой двоюродный брат, который, ну, мычал после перенесенного инсульта. На какое место он попал – он же много раз там бывал раньше. Вот… рядом был Тетеринский рынок, это было довольно удобно, вот, рядом с нами ходило девять трамвайных маршрутов. М. Тоже удобно. Т. Тоже удобно. И поэтому с тех пор трамвай – мой любимый вид транспорта. Слава Богу, сейчас около дома ходит трамвай все-таки. Далеко я от трамвая не ушел, и он от меня тоже. М. Ну, хорошо. У вас была коммуналка? Т. Да, у нас была коммуналка. М. И сколько вы занимали комнат? Т. Одну. М. Втроем, да? Т. Да, втроем. Вот получили на двоих, потом я появился. М. А домработницы какой-нибудь, няни не было у вас? Т. Одно время была у меня няня. Вот, потом ее не стало, мама уже не работала, и она не работала до ареста огца. Вот. Папа работал на разных местах, ну, должность была не бог весть какая, у него не было высшего образования, но он знал совершенно свободно же три языка -родной, немецкий, поскольку же была Австро-Венгрия, и естественно, русский. Он занимался переводами, у него был широкий круг знакомств среди венгерских политэмигрантов, причем в том числе и людей довольно известных. Он был знаком с Матэ Залкой, который потом погиб в Испании под именем генерала Лукача, он был хорошо знаком с писателем Бела Илиш, причем я смутно помню, что мы у них были дома. Я припоминаю эту семью. М. А соседей много было в квартире? Т. А у нас было шесть комнат, и в каждой комнате была своя семья, правда, были и одиночки. До революции ее снимала семья архитектора Блохина, с семьей у него были там две дочери, они там и остались, но каждый снимал уже по комнате. То есть была такая господская квартира для небогатых людей. У нас было парадное, был черный ход, в кухне была большая дровяная плита. Наша комната была соседняя с плитой, чтто было очень удобно во время войны, потому что все калечили форточки, чтобы вывести трубу от буржуйки, а у нас была вьюшка в стене, и мы туда подкладывали трубу. М. Повезло. Т. повезло, да, относительно повезло, конечно. М. А с соседями вы как… отношения какие были – дружили, или ругались – как? Т. Нет, нет с соседями были хорошие отношения, причем это было важно после ареста отца. Хорошими, доброжелательными, причем они очень хорошо отзывались об отце. Дело в то, что в то время люди, которые приезжали из-за рубежа помогать строить социализм в нашей стране, им организовывали снабжение несколько лучше, чем для широких масс населения. Была такая организация, которая называлась Инснаб, я хорошо запомнил гастроном на Кузнецком мосту, как раз напротив приемной КГБ. Сейчас там гастронома уже нет, он перепрофилирован, но я помню, как мы в этом гастрономе встретились со знакомыми, разговаривали на родном языке, что для меня было несколько странно – дома-то по-русски разговаривали. Вот, и многие знакомые, соседи наши вспоминали, что вот Иосиф Андреевич из Инснаба нам покупал то-то и то-то, вот мы до сих пор это носим… М. То есть вы не только для себя брали из этого магазина, а еще помогали другим доставать? Т. Нет, он помогал и маминым родственникам и соседям по квартире. М. А вот вы немножко начали, а вот побольше – отношения именно с людьми вашей национальности – какой-то такой был кружок вот венгров у вас вот… в вашей сфере общения? Т. Вы знаете, трудно сказать “наша национальность”, потому что я-то вырос чисто русским человеком, и несмотря на усилия моих родителей, видимо, моя матушка-Российская преобладала, и я никакого языка не знаю, кроме русского, ничего я не знаю, даже английского, который старательно учил много-много лет и получал пятерки регулярно. Нет - не знаю ничего, кроме русского языка. М. Да. А вот – а у папы вашего? Т. А у папы был широкий круг общения, да. М. Но какой-то вот специально вот именно венгров был, или просто интернациональный, или… – вот как вот бы вы охарактеризовали? Т. Нет, я знаю, что он работал в венгерском клубе политэмигрантов, у нас были друзья, причем один из них – я его запомнил, он был очень высокого роста, я его запомнил - был единственный, кто выжил после лагеря, мы с ним встречались. М. Он был и вернулся, да? Т. Он был в лагере и вернулся уже после реабилитации массовой, где-то году в пятьдесят шестом, наверное, это было, и он первый назвал имя человека, который… из-за которого отца посадили. Вот. Правда, он так намекнул, что ему вроде не стоит на него особо… держать, так сказать, зло, но я потом понял почему – он был расстрелян. Вот… Знакомы были с семьей конструктора прожекторного завода, были у него дома, я помню, как мы к нему ездили, мое поразило вооображение трубы градирни ТЭЦодиннадцать, мимо которых нужно было выезжать на втором трамвае, и собака, которая у них была дома – она умела подавать лапу. Я сначала испугался ее, этой собаки, я был совсем маленький, наверное, ростом с собаку. а мне сказали – она умеет лапу подавать – и я за лапу с ней поздоровался. М. А, это вас примирило? Т. Да. Это нас примирило. Но он сейчас – в Бутово, он в Бутово. М. Хорошо, скажите, а вот в семье как вас воспитывали? Были ли…вы с бабушками не общались, что ли? Были только родители? Т. А у меня их не было. Потому что венгерская бабушка была в Братиславе, ей только деньги посылали, а мамина мама – она умерла за несколько лет до моего рождения. М. Все ясно. Значит, только с родителями, с одним поколением? И как - они были строгие или баловали вас, или как? Т. Отец был в меру строгий. Мама не очень. Вот, потом, после ареста отца, ей было немножко еще не до меня, потому что она с трудом устроилась на работу, и, насколько я понимаю, она везде говорила, что отец был арестован. Не додумывалась, так сказать, наврать, но в конце концов нашлись люди, которые не побоялись ее принять на работу, она там и проработала, можно сказать, почти до пенсии. М. А как она работала – она бросила работу сразу после вашего рождения, или до того, или после того? Т. Нет, немного... ну, она, видимо, немножко поработала, когда я родился, потому что я помню, что я с няней был какое-то время, но потом мы от няни оказались, потому что и не по карману было, и не очень-то удобно было держать лишнего человека, потому что – а где ее держать-то? Ведь как правило это люди, которые приезжали из деревни – зацепиться за Москву, и она у нас ночевала в коридоре, у нас был широкий коридор в квартире - ну куда это? М. Понятно, да. Ясно. Ну а вот мама дом вела, она была такая вот домохозяйка, да? Т. Да, вообще-то да, она была до тридцать восьмого года домохозяйка. М. И она только этим занималась, и никакой там общественной работой, и ничего? Т. Нет. М. Она была старательная? Т. Да, она была старательная, добросовестная домохозяйка. Ну, еще мы очень общались с одной из ее сестер, у которой было двое детей, вот, и именно видимо это и было причиной близкого контакта, близкого понимания. Вот, потому что вторая сестра – она никогда не была замужем, детей, естественно, не имела, и еще одна сестра жила в Новгороде Великом. Мы у нее как-то… один год у нее отдыхали там, провели лето тридцать шестого года, насколько я помню. Мне это было очень интересно, потому что я тогда уже многое понимал, и Новгород у меня впечатление оставил, довольно глубокое в моей памяти. М. Понятно. Скажите, а вот религиозный быт был как-то в вашей семье? Т. Никак. М. Родители не верили? Т. Нет. Вроде как этого вообще не существовало в природе. Правда, потом, уже много лет спустя, я помню, что соседка наша ходила в церковь на Пасху, и соседи ее с интересом и с завистью выспрашивали, как было дело. Сами ходить боялись. М. Они только со слов, так сказать, воспринимали религиозные обряды, да? Т. Со слов.Хотя церковь около нас была очень интересная, я потом узнал, что в ней служба непрерывно шла в течение семисот лет. То есть она была построена тогда, когда никакой Москвы на этом месте не было. Вот, а попозже я, кстати, связался с настоятелем этой церкви, потому что он занимался репрессиями среди православного духовенства. Вот так вот интересно получилось. М. Интересно пересекается, да. Так, ну вот религиозного быта не было, а партийный как-нибудь, так сказать… А, ваш папа совсем отошел от партийных дел, после того, как разочаровался, да? Т. Отошел, да. М. Ну, а праздники какие-то справляли? Т. Да, праздники справляли, как и все. М. И седьмое ноября? Т. Да, и седьмое ноября, и первое мая, все честь честью. М. И как он потом относился к партии? Нейтрально или… Т. Вы знаете, при мне разговоров на эту тему не было вообще. То есть так же как и о религии, так же не было никаких разговоров о партии, видимо, на всякий случай. Потому что я помню хорошо, что были запреты на некоторые разговоры, на некоторые темы, на некоторые фамилии. Об этом лучше было не упоминать, вот. Но это, наверное, многие так же помнят. М. Так. Понятно А вот о каких-то моральных вопросах говорили – вот что хорошо, что плохо? Так сказать, вот что… по-социалистически хорошо было одно, а по-общечеловечески как бы другое? Вот таких вот не было вопросов, конфликтов каких-то? Т. Нет, нет, конфликтов никаких не было, были такие разговоры, но не морализация была, а просто разговоры. Но на темы, пожалуй, скорее общечеловеческой морали, но не социалистической. М. А вот в конфликт не вступало вот это вот – понятие общечеловеческое и социалистическое – вот такого не было? Не наблюдали вы? Т. Нет, я не наблюдал. М. Хорошо, ясно Т. То есть скорее всего оно было, конечно, но я-то не наблюдал этого. М. Ну, что делать, что делать. Для нас важны ваши наблюдения. Т. Меня от этого просто оберегали, как я понимаю М. Все ясно, да. Ваши наблюдения, ваши впечатления – вот это самое главное. Т. Тем более ребенок мог сболтнуть лишнего. М. Да, это всегда учитывалось, видимо, да? Т. Да. М. Это вы чувствуете, да? Т. Я сейчас прекрасно понимаю, что это было. Именно поэтому при мне и со мной на некоторые темы не разговаривали. М. Ясно. А вот в школе, вы пошли в школу - вас там как-то вот воспитывали особым образом – в социалистическом духе, да? Т. Воспитывали, конечно. М. Про Павлика Морозова рассказывали? Т. Да все это было, все это было, да. М. И все это так как вот… в ортодоксальном духе? Т. Да. Но вот интересно, что я с этих лет - у меня было какое-то внутреннее неприятие всего этого. Не знаю, почему, но это было – что было, то было. То есть хотелось быть как все, естественно, но в то же время было какое-то внутреннее неприятие. М. Внешне, но внутренне вы это как-то ревизовали, да? Как-то вот обдумывали по-своему? Т. Я бы сказал, пожалуй, что скорее слово “чувствовал” здесь более уместно, чем “обдумывал”. М. Все ясно. Да, это очень интересно. Хорошо – а вот чтение, вы читали книги? В детстве – много? Т. Еще как! Много, много читал. М. А что именно, что вам запомнилось, впечатление большее на вас производило? Т. Приключенческие книги – Жюль Верн, Майн Рид, Уэллс, вот, книги о природе наших писателей – Пришвин, таких вот, Бианки, естественно. М. А любимые герои были – книжные, или там киношные, или политические, вот кого особенно бы выделили? Т. Не могу, не могу припомнить. Потому что бывают герои, с которых хочется брать пример, но я такого не помню для себя. М. Хорошо. А кофликты с родителями были у вас – может быть, не в детском, может быть, в подростковом возрасте, знаете, там… переходный возраст бывает… Т. Нет, по-моему, не было, можно сказать. М. Не было, да? И каких-то вот особых таких проблем, связанных именно с подростковым возрастом, вы не помните? Т. Нет, не помню. М. Хорошо, ясно. А вот вы говорите, при вас разговоров не очень… так сказать, старались не очень вести, а все-таки есть у вас какое-то ощущение – вот как ваши родители относились к Сталину, к советскому строю, к тому, что происходит вокруг? Что-то можете по этому поводу сказать, вот какието у вас ощущения остались? Т. Было ощущение напряженности и страха в тридцатые годы, это чувствовалось во всем. М. Было, да? А разговоров о политике не было? Т. Нет… не было. Во время войны были вскользь какие-то такие патриотические упоминания, это в общем-то естественно, это, вообще говоря, была уже не политика, это было другое. М. А вот вы сказали… упомянули об ощущении страха. А вот поподробнее опишите – вот в чем это выражалось, как это вот вы ощущали, и были ли какие-то особые моменты обострения? Т. Послушайте, когда вы где-то на природе, за городом, и приближается гроза – какое-то чувство такое– тягостное, тревожное. И все. М. Вот так, да? Т. Как это конкретизируешь-то? Да никак. М. Никак! Как чувствуете, так и говорите. Раз неконкретно – значит, неконкретно. Значит, это такое ощущение. Т. Именно это было чувство, которое конкретно не опишешь. М. У вас или вы чувствовали его… Т. Нет, я чувствовал это в окружающих. М. А, в окружающих, да? И оно передавалось вам? Т. Собственно, у меня как-то не было таких причин особых таких для этого, а вот в окружающих это чувствовалось. М. Так, очень хорошо. А вот расскажите просто вот как жила ваша семья с двадцатых годов по сорок первый? Ну просто вот – что было, какие-то вот события в семье. Т. Ну как жили в общем-то относительно небогато, вот, как правило, летом, правда, мы как-то, я помню, выезжали - в Новгород Великий выезжали, както снимали дачу под Солнечногорском, на берегу Сенежа, вот… Ну а потом отца арестовали – уже было не до этого, конечно. М. А до этого просто вы так ровно жили, без особых событий? Т. Да, да. М. Хорошо, понятно. А кроме отца у вас в семье кто-то был репрессирован, вот в эти годы, допустим, вот возьмем сейчас довоенный период? Т. Нет, никого М. Не увольняли с работы, как-то не прорабатывали? Вот если шире взять понятие репрессии? Т. Я понимаю вас, да. М. Не только арест или там в лагерь, а вообще? Т. Нет, нет. Вы знаете, у меня был очень ухкий круг знакомых. Потому что, во-первых, папиных не было, а у мамы что было? В Москве жили две сестры, одна сестра жила в Новгороде Великом. Ее дети жили в Питере в то время… Вроде как-то все М. И из близких друзей тоже не было, да? Т. Вы знаете, если и было, то я мог об этом просто не знать, потому что… М. Ну, что знаете. Т. Значительно позже я узнал о репрессии среди моих сослуживцев, которые в то время это скрывали, а потом я об этом узнал. М. Ну, понятно, понятно. Т. Просто об этом, если и было – то не говорили. А среди тех людей, о которых я не мог не знать этого – с ними этого не было. М. Так, и подробнее об аресте. Вот когда был арестован ваш отец и что вы помните в связи с этим? Т. Вы знаете, меня, видимо, все-таки сумели уберечь, потому что это было ночью, и утром мне мама заявила мне, что папа уехал в командировку. М. А вы ничего не видели и не слышали, да? Т. Нет. Я проспал. М. А утром как-то изменилась обстановка в комнате, например? Т. Я не помню этого. Скорее всего, конечно, был беспорядок некоторый, потому что я знаю, что кое-что отттуда забрали у нас. Вот, ну у папы была пишущая машинка с латинским текстом, были журналы, книги, переводы его. Сохранился только один перевод на венгерский язык, случайно совершенно, все остальное забрали. М. Остальное забрали, да? Понятно. Вам сказали, что он уехал в командировку, да? Вы первое время не знали ничего? Т. Первое время не знал. А потом я понял, но об этом как-то… не говорили. М. А причина? Как вы объясняете причины? Кто-то доносил или что? Т. Почему, я знаю об этом. Я просто знаю. Среди знакомых отца был человек, который не совсем порядочно поступил по отношению к родителям. Отец ему прямо об этом сказал. Его у нас дома после этого больше не было, и когда его арестовали, не знаю, по какой причине его арестовали, но ведь там на допросах требовали назвать знакомых, назвать, кого завербовал, и он заявил, что завербовал целый ряд лиц, значит, с целью ведения ими шпионажа, и в том числе назвал отца. Вот, и так как он назвал конкретных людей, то, видимо, шпионаж подтвердился, и он был расстрелян по статье 58-6. А отец, в свою очередь, когда был арестован, у него так же требовали назвать людей, и он назвал несуществующего человека, вот. Причем что интересно, уже в тридцать восьмом году имелась справка о том, что такой человек нигде не значится. Он в сороковом сумел передать заявление в прокуратуру, военная прокуратура рассматривала его дело, и там есть еще одна справка, что этого человека не существует. И наконец, в пятьдесят пятом году опять та же военная прокуратура Московского военного округа вторично рассматривала его дело, и в третий раз запросила такую же самую справку, хотя арестован он был… М. Но как-то повлияло это на его судьбу, то, что вот он называл… Т. Повлияло то, что он не был расстрелян. Он получил срок, причем что интересно – значит, в заключительном… в обвинительном заключении ему было предъявлено обвинение по статье 58-6, шпионаж, и даже особое совещание при НКВД не сочло возможным осудить его за шпионаж, его осудили по подозрению в шпионаже. То есть вместо расстрела он получил восемь лет лагерей и по этой причине нас с матерью не выслали, я так понимаю. Потому что – ну, теперь мы здесь знаем эти приказы секретные. М. Ну да, да. Т. Если бы он был расстелян, то нас бы выслали из Москвы, а нас не тронули. М. И после ареста в смысле отношений в семье, с друзьями, с соседями – как изменились? Т. А изменилось таким образом: соседи держали себя очень достойно, относились хорошо ко мне, скорее всего даже жалели, как я теперь понимаю, вот. В школе – наша классная руководительница, как я понимаю, об этом знала и, видимо, она была женщина понимающая, что к чему, и относилась ко мне очень ровно и доброжелательно. А что касается моих так называемых друзей, то вот - то у меня их не стало. Вот так. То есть меня объявили иностранцем, я, естественно, оскорбился и прекратил всякие отношения - чего, собственно, и добивались, скорее всего, их родители. Вот я так это понял, я так понял М. А никто не ставил вопрос об отречении от отца – в школе или на работе у мамы? Этого не требовали, нет? Т. Нет, нет. Потому что маму взяли на работу, зная, что ее муж был арестован, вот, в школе , я как понял, учительница была в курсе дела, и, видимо, она понимала, что к чему, вопрос этот не возникал никогда, даже в пионерской организации. М. Ясно. Но у вас были какие-то сомнения, вот я не знаю… То есть вы всегда твердо знали, что ваш отец невиновен? Т. Да, да! М. Таких никаких вопросов не было? Т. Нет. Абсолютно. М. А вот относительно других? Вы же со всех сторо, ну, наверное, по крайней мере ваша мама, слышали, что вот того арестовали, того арестовали, в конце концов самые высшие чиновники – тоже постоянно же каждый день они менялись, одного арестовывали, другого сажали потом, так сказать, и так далее, и так далее, вот как вы к ним относились? Вы верили, что среди них были враги народа, или вы абсолютно были в этом уверены, или наоборот вы сомневались? Т. Нет, были сомнения. М. Относительно кого прежде всего? Более высших чинов, или окружающих? Т. Высшие чины - они как-то нашей жизни мало касались. Но вот люди, которых отец лично знал, про которых мы что-то слышали конкретно были сомнения. Были сомнеия и, естественно, страх – и за себя, и за их близких. М. А вот ну, например, относительно Бухарина или Рыкова – вы про него вообще не думали? Т. Нет, вообще не думал. М. Ну, арестовали – и арестовали. Т. Я не думал просто об этом. М. Хорошо, все ясно. Ну, а вот с вашей стороны доверие к друзьям, родственникам, соседям – оно оставалось таким же, вот кто, так сказать, поддерживал с вами отношения - вы так же им доверяли или как-то начали все-таки сомневаться в людях? Т. Нет, нет. И соседи по квартире – я им доверял, вот, и родственникам я доверял. Ну не было причин им не доверять по тем отношениям, которое ко мне сохранилось. Причем очень доброжелательно ко мне относилась та женщина которая была в качестве понятой при аресте отца. Она была доброжелательной, это я помню. М. Ну и как вы стали дальше жить? Мама пошла на работу, устроилась с трудом, да? Т. Да. М. И вы стали жить хуже? Т. Конечно хуже, конечно. М. Но вам оставили эту же комнату, вас никуда не выселили? Т. А куда выселять-то, комнатато одна! Меньше одной комнаты уже не дашь. М. Но а вот ваш отец писал из лагеря, вы ему посылали посылки, или что? Как вот, какие-то отношения были в этом смысле? Т. Да, писал, писал..Он был на Колыме, писал - сначала бухта Нагаева, видимо, Магадана-то еще не было тогда… М. А чекрез сколько стали поступать письма? Т. Вы знаете, сначала мама бегала по инстанциям. Помню, она мне рассказывала, как ходила в Матросскую тишину, там была когда-то справочная организация, видимо, потом, видимо, он сам написал ей – я помню эти маленькие такие конвертики были, самодельные конвертики, он писал чернильным карандашом, очень неразборчиво. Вот, писал он… он был на золотых приисках в Атуряхе, Магаданской области, потом переписка прервалась, Потом уже, во время войны, маму вызвали в ЗАГС и вручили ей свидетельство о смерти. Причем, что интересно, что там была правильно указана и дата, и причина смерти. М. Это редкость. Т. Что бывает не всегда. М. Да, далеко. Т. Но место указано не было. Причем что интересно, я интересовался, естественно, где это случилось. Значит, мне все – и лица официальные – и из КГБ вот и из военной прокуратуры – называли одно и то же место: Иркутская область, Тайшет. Потом я здесь у Сережи поинтересовался - он же занимается этим вопросом, Он мне сказал, что это была стройка БАМа. Я почему, я чего спрашивал, я же справку-то потом видел медицинскую в деле, там же написано было название лагеря. Вот… М. И действительно это было в Иркутской области? Т. И я вот Сережу спросил: где мог быть этот лагерь? И там, значит, двадцать вторая колонна такого-то Южлага. И он мне сказал – Это стройка БАМа, она уже тогда была, это было в Тайшете скорее всего. Но ни разу мне на этот вопрос не ответили официально, ни разу. Вот так. То есть видимо, скончался он в декабре сорок первого года, видимо, в лето, в ту навигацию, его перевезли уже на материк, и вот все кончилось там на БАМе. М. Понятно. Так, а вот мама как-то изменнилась –по характеру, по поведению – что бы вы могли про это сказать? Т. Да, изменилась, изменилась. Стала более нервозная , чувствовалась каккя-то обиженность в характере – но это в общем-то естественно, конечно. М. Да.Конечно, поэтому тут и вопрос такой стоит. А вы – вот вам сказали сначала, что папа в командировке, когда вы узнали, что он арестлоован? Т. А не было об этом разговора, я просто догадался. М. И через сколько времени примерно? Т. Ну, может быть, через несколько месяцев – как-то вот так вот. Но это было не из разговоров, это была догадка. Потому что все – обстановка-то была слишком ясной. М. Хорошо. Скажите, а вот как вы считаете – арест отца, как он повлиял на вашу жизнь? Вот в смысле общественной какой-то вот работы, ну я не знаю, образования, дальнейшей карьеры вот? Т. Я думаю, что повлиял очень существенно. Во-первых., после окончания седьмого класса я пошел в техникум, потому что мама боялась, что она не сможет, так сказать, сохранить работоспособность, чтобы я кончал десять классов, потом институт. Я учился в техникуме, причем, значит, распределили меня в Среднюю Азию, хотя мог бы я. устроиться и в Москве. Но в Москве, между прочим, мне одна дама откровенно сказала: “Если вы докажете кому-нибудь, что вы русский, то вас оставят здесь”. А как доказывать-то? В паспорте написано “русский”. Вот и все. Причем много лет спустя я узнал. Что вместе со мной там, в Средней Азии были люди, у которых так же кто-то был раскулачен, арестован, был в оккупации… М. То есть это намеренно именно их отправляли подальше? Т. Безусловно, безусловно. Причем мы там встретились с очень интересными людьми. Например, я там встретил Георгия Фрицевича Платтена. Фриц Платтен – известное лицо? М. Да, вообще-то. Т. Так вот его сын был в Средней азии. Был человек, который активно участвовал в итальянском сопротивлении, прятал наших военнопленных. Фрейшенего фамилия. Алексей Николаевич Фрейшен. Он тоже в Средней Азии. Он, значит, после войны захотел вернуться на родину, он же был белоэмигрантом, он там кончил кадетский корпус, в Югославии, вот, ну, на родину – родина была в Средней Азии. Мы там работали в одной организации. М. Все ясно, да-да. Т. Но и естественно. Карьеры у меня не получилось, потому что у меня было категорическое неприятие Коммунистической партии, я всегда ее воспринимал, как нечто враждебное для себя, хотя старался держаться по возможности нейтрально. М. То есть с самого детства начиная? Т. С самого детства, совершенно правильно, с самого детства. М. А к Сталину вы как относились именно лично? Т. Я лично? М. Да. Т. Вы понимаете в чем дело, я считал, что Сталин - тиран, а Ленин – политический авантюрист. И когда косвенное подтверждение, даже при этом, значит… подтвердилось - про Сталина я это воспринял с удовлетворением, а про Ленина все-таки с некоторым смущением. Я думал, что может быть, я несколько преувеличиваю его роль – нет, оказалось, не преувеличиваю. М. И вы бы втайне хотели, слегка, ну, так сказать, чтобы поправили ваши воззрения? Предпочтительно? Т. Ну если бы были поправлены в отношении Ленина, то я пожалуй бы не разочаровался, вот, а в отношении Сталина я это воспринял как должное. М. Все ясно, да. Т. Причем что интересно, значит, когда он умер, я был же не один на месте. Я пошел на митинг, связанный с его похоронами, из любопытства и из желания присутствовать при историческом событии. Я понимал, что это событие историческое, и именно с этого дня я начал откладывать газеты, в которых печатались вот такие интересные исторические материалы. У меня толстая папка сейчас такая вот собралась. И, по-моему, я был единственным на этом митинге, кто не имел нарукавной черной повязки. Меня одна дура, между нами говоря, спросила – почему? – “Мне не хватило!” М. Дефицит! Т. Вот так же, кстати, было на демонстрации. Мне… из любопытства, из интереса я отправился раз, в Москве еще, на первомайскую демонстрацию. И вот подойдя к Историческому музею, я увидел нечто невообразимое – вопли, визги, крики, размахивание руками! Думаю: “Боже мой! А что мне делать? Что, махать ему руками? Не могу. “ Ну не смогу я этого сделать - а не делать этого нельзя. Правда, выход из положения нашелся довольно легкий. Я у соседа взял плакат с чьим-то портретом. Вот так вот вцепился в него и тащил его до самого храма Василия Блаженного, там его просто куда-то на машину бросали. Правда, после этого я на демонстрации уже не ходил. Потом уже, много лет спустя, когда я работал в проектной организации, я принимал участие в проектировании одной из гидроэлектростанций в Афганистане. Причем там были очень сложные условия, и так как все знали, что я могу, кроме типового проекта, воспользоваться собственной головой, меня подключили к этой работе. Но когда надо было поехать на стройку курировать монтаж электрооборудования - м-да, надо было идти туда через райком партии. М. Заграница? Т. Чтобы за границу поехать. Меня уже фотографировали на загранпаспорт, все документы собрали. Пошел на собеседование в райком КПСС… М. Ну и как? Т. …и вернулся вот с такой фигурой. М. И вас не пустили? Т. Нет. М. Что вы говорите! Т. Да. И знаете почему? – “А вы на демонстрации не ходите” А я действительно не ходил.. М. А этот раз уже был после…? Т. Это было много лет спустя! Я тогда студентом был, когда Сталина-то видел. М. А они все знали – кто ходит, кто не ходит на демонстрации? Т. Большинство учитывали, видимо учитывали. Видимо, парторганизация наша докладывала об этом. А когда я видел Сталина, я тогда учился еще. Он там действительно стоял – такая мордастая рожа красная. Других я там даже не видел. М. То есть это был, вот когда вы несли плакат… Т. Это был сорок девятый год, если точнее. М. Так. А вот на такой ваш взгляд арест оказал влияние, или арест отчасти, отчасти общая обстановка? Т. Ну, арест-то был мощным толчком для этого, ну, и вся обстановка, конечно, подтвердила. М. Понятно. А в комсомол вы вступали? Т. В комсомол пришлось вступить, поскольку это была массовая организация. М. В школе или в институте, в техникуме то есть? Т. Да, в техникуме уже, но потом я не встал на учет. М. Ясно. Так. Ну, а вот война когда началась, то что, как семья ваша дальше жила, что было? Т. Ну, мама первым делом побежала закупать мыло и спички, что было естественно. М. Не все в этом признаются, но в общем весь народ наверное… Т. Да Господи, что было, то было, чего ж еще не признаваться-то в этом? Она категорически не хотела эвакуироваться из Москвы, и она включилась в ту группу, которая должна была там то ли взорвать, то ли поджечь… она работала… в общем, это было связано со складом материальнотехнического снабжения. Ну, и в общем все обошлось. Ну, то, что немцы в Москву не вошли, вы знаете, и так они ничего не взорвали и не подожгли. М. Ну вы так все время в Москве и пробыли? Т. Все время так в Москве и пробыли, да, все время, безвылазно. М. Понятно. Вот ощущения во время войны опишите – ну, вот допустим, чувство страха – в тридцатые годы, непосредственно перед войной, во время войны – оно как-то менялось? Ответственности, может быть? Т. Чувство страха было в тридцатые годы. А налетов, бомбежки я не боялся. М. Нет, вот я имею в виду чувство страха именно вот в обществе. Т. А, это было, было, да, потому что... М. И во время войны тоже? Т. Потому что, понимаете – была страшная шпиономания. Мой сосед – у него собака была, он пошел выгуливать собаку, свистом подзывает ее, собаку, – его уже же замели – кому свистишь, кому сигнал подаешь? Ктото поехал за грибами в лес - заблудился, спросил, как выйти к железной дороге – за шкирку! “А что под грибами прячешь?” Знаете, все это, конечно, нагнетало это самое, вот такую… М. То есть тоже было страшно, немножко по другому поводу… Т. По другому поводу, да, но в то же время вызывало некоторую досаду, понимаете, чувствовалось, что это, явный перегиб. Ну и потом ходили слухи о расстрелах паникеров, о расстрелах тех, кто листовку немецкую поднимает – а их же много бросали в то время. И мы знали, что там написано, что там нарисовано. М. Понятно. Т. Ну, сейчас мы все об этом знаем - знали и тогда. М. Все-таки боялись поднимать, но знали, так сказать, со слов? Т. Да. М. Интересно. Так, а вот какое-то чувство… ну, я не знаю, ответственности за страну, какой-то большей самостоятельности, вот. потому что, ну, так сказать, от вас больше зависит – вот этого вот не помните, вот таких ощущений? Т. Нет, не помню, потому что до... Хотя вообще-то говоря – ну, вы понимаете, естественно, я работал в годы войны, но чувство было такое, что я работаю за рабочую карточку. Мы делал ящики для снарядов. Но чувство было такое, что я за них кусок хлеба лишний получаю. М. Понятно. Так, а не помните ли вы случаев ну, типа того, что когда люди какие-то вот существующие правила нарушали, чтобы помочь другим – ну не знаю, в какой ситуации, в любой. Т. Я это воспринимал с одобрением. М. Но вы такие какие-то вот конкретные случаи знаете? Т. Знал, конечно. Я сейчас не вспомню, но я их знал. Это было. М. Но вы думаете, что бывало такое? Т. Было, было. М. Так, хорошо. А война как-то повлияла на убеждения,.систему ценностей, доверие к людям - именно вот война, не репрессии, а война? Т. А понимаете в чем дело, во-первых, во время войны, когда очень много говорилось о гитлеровском режиме, я сам пришел для себя к заключению, что гитлеровский и коммунистический режимы идентичны. Коммунистический я сам наблюдал, про гитлеровский читал, видел кино, и чувствую - это же одно и тоже! Вот, ну, и что там еще, что я еще хотел сказать по этому поводу? Забыл, ну ладно. М. Вот про систему ценностей, о доверии к людям – вот я вас спрашивала, что-нибудь можете сказать? Т. Вы понимаете в чем дело, вывод был такой: что война выбила порядочных людей. Потому что они первые пошли защищать страну. М. В первых рядах были более порядочные? Т. Да. Более порядочные. И они были просто выбиты. Вот такое впечатление было у меня. М. Понятно. Так, а о послевоенных годах – какие были условия жизни…? Т. Довольно тяжелые были, конечно, условия. Были тяжелые условия, конечно, были проблемы с едой, там с этими огородами злополучными, на которые мотались туда-сюда, вот. В сорок первом году, конечно, никаких огородов небыло, тоже пытались куда-то пойти, что-то купить, обменять – ничего не получалось. В общем меняли на рынке там вещи всякие, причем я помню, была лютая ненависть по отношению к милиции. М. Именно в связи с тем, что она мешала вот… как-то людям самим устраиваться? Т. Да, да. Причем это была массовая ненависть, это было поголовно у всех. М. А что там – гоняли, не разрешали, ловили? Т. Гоняли, ловили, тащили в милицию, да. Потому что – ну, выносишь какие-то шмотки свои последние обменять на кусок хлеба, на кило картошки… М. Это запрещалось? Т. Запрещалось. А рынок-то был рядом с нашим домом, через два дома был Тетеринский рынок, и все это было у нас на глазах, мы все это видели, слышали. М. Ясно. А члены семьи какие-то у вас были, ну, я не знаю, погибшие, раненые, как-то ваша семья - состав изменился? Т. Вы знаете, ну, интересно получилось, что у нас три человека:… Вторая сторона Т.… Муж моей тетки родной был на фронте, его старший сын и еще один мой двоюродный брат из Питера был призван - и интересно, что они все вернулись, трое, у нас убитых не было на фронте. Но у меня не стало родственников ни в Новгороде Великом, ни в Петербурге. Они погибли, потому что из Новгорода вывезли семью в Питер, а там они погибли от голода в блокаду. Воевавшие выжили, а эти – нет. М. А в тылу погибли… Т. А в тылу погибли. М. Так, а вы – вы в это время учились, работали? И что вы думали о своих перспективах, вот как вы их себе представляли и как получилось? Т. Весьма смутно я представлял себе перспективы, очень смутно, вот, но в конце концов поступил учиться на специальность, которую я сам захотел. Ну и, слава Богу, нежалею об этом. М. Так. А после войны какие-то репрессии были в отношении вашей семьи? Опять-таки в широком смысле – дискриминация национальная, увольнения, ну, не говоря уж об арестах? Т. Близкий друг, сосед моих родственников, ну, он таким другом семьи вроде был, но он был еврей. Причем и по внешнему виду, и по всем манерам настоящий еврей – так вот в отношении его было беспокойство. Во-первых, он был призван в армию и служил в противовоздушной обороне Москвы. Над ним буквально издевались. М. В военное время или после войны? Т. В военное время, вот ПВО – противовоздушная оборона. Он в сорок пятом был сразу демобилизован. М. А,ну да, понятно. Т. Над ним издевались страшным образом. Именно еврейская внешность и вот эта солдатская форма – они настолько диссонировали, что он был предмет всеобщих насмешек. Мы очень сочувствовали ему. Потом, когда появилась возможность выехать в Израиль, он стал стремиться туда, но его отговорили, потому что – что ему там делать? М. Ну, в общем, да. А реально как бы вот, кроме бытовых насмешек, его не уволили в сороковые годы, ничего такого не было? Т. Нет, нет, ничего М. Хорошо. Скажите, а вот в это время у вас или у ваших окружающих – вот можете ли вы сказать о том, что вот люди в личной жизни и на нрботе, на улице – какая-то разница была в стандартах поведения? Вот в разговорах, то есть отличалось ли это поведение вот дома и в публичных каких-то местах? Т. Понимаете, трудно ответить на этот вопрос, потому что со своими соседями и родными я же на работе-то не встречался. И само собой разумеется, что дома и по-соседски разговариваешь не так, как на работе в общественных местах, это само собой разумеется. Иначе быть не могло в те годы. М. То есть вы себя вели как-то иначе и все время об этом помнили, да? Т. Иначе и всегда об этом помнил. М. То есть о своих словах, о своем поведении… все понятно. Т. Всегда об этом помнили и думали. М. Вот о реакции своей на смерть Сталина вы уже рассказали, а как вы узнали об этом событии? Т. По радио. М. По радио услышали, да? А окружающие ваши вот близкие – они как восприняли? Т. Вы знаете, я воздерживался от реплик, комментариев по этому поводу, я ни с кем на эту тему не разговаривал – на всякий случай. Потому что врать как-то меня не приучили, не умел я врать – это плохо, конечно, но ничего не поделаешь. М. Ну а вот молча наблюдали какие-то реакции? Т. Реакция была молчаливая. М. Тоже как бы ни особых рыданий, и никто не высказывал восторга? Т. Ну нет, нет. М. Ясно. Т. Все молча было. М. Ага, хорошо. Так, теперь, допустим, наступил период реабилиьтации – вот как он для вас наступил? Вы о чем-то услышали, что можно уже узнавать о судьбе человека, и пошли куда-то, как вот это было? Т. Вообще об этом мама узнала. Узнала она тоже через круг, так сказать, родственников. Она сразу же написала заявление в военную прокуратуру Московского военного округа. И она в числе первых получила, это ж…ну она обратилась в пятьдесят пятом году, и в январе пятьдесят шестого мы уже получили справку о реабилитации. М. А когда она узнала об этом, она сразу начала какие-то предпринимать шаги? Т. Да. Да, сразу, сразу. М. Быстро получили справку? Т. Довольно быстро, да. М. И что вам сообщили о его судьбе? Это была достаточно широкая информация или очень коротко? Т. Очень, очень скудная информация, очень скудная. Правда, маму вызывали туда, в прокуратуру, интересовались там… взаимоотношениями, спрашивали о том человеке, который давал показания на отца, вот, она сказала, какие были с ним взаимоотношения… М. То есть, вам сказали даже его фамилию этого человека? Т. Нет, нет. Эту фамилию первый назвал человек, который вернулся из лагеря, а потом я прочел ее уже в следственном деле. М. Ясно. И какое значение это имело для вас… для вас с мамой, для вашей семьи? Т. Это имело в основном моральное значение. М. Но все-таки это было для вас важно? Т. Конечно, конечно. М. Хотя вы были уверены в невиновности, но вот официальное подтверждение было для вас важно? Т. Да, конечно важно, конечно. М. И вы после этого периода реабилитации, там, доклада Хрущева на двадцатом съезде – как вы изменились в смысле политических взглядов? Т. Я просто получил подтверждение своей точки зрения. М. То есть то, что вы уже знали… Т. То, что я предполагал, стало уже достоверным. То есть предположения стали достоверным фактом – вот и все. Я просто продолжаю до сих пор удивляться людям, которые якобы прозрели после всего этого. Как это можно было? А где вы до сих пор-то были, спрашивается? М. Ну, бывало, по-разному бывало. Т. Вы что, в каком-то вакууме, что ли, жили? Да это лицемерие просто, я не верю. Люди часто просто приспосабливаются к ситуации. М. А после вот этого периода были ли какие-то опасения, что все это может вернуться, что вас могут арестовать? Т. Нет. М. После этого уже не было, да? Т. Нет, не было таких опасений. М. Так, ясно. И вот теперь – подобный вопрос я уже задавала, но в более широком смысле – вот сталинизм и ваша семья. Вот понятно, что там смерть отца, все это, но вот все-таки как вы могли бы определить последствия, влияние сталинизма на судьбу вашей семьи? В том числе и оставшихся в живых – вас и маму и там… других родственников? Т. Ну что – был враждебный режим. Просто был враждебный… враждебный, лживый режим – вот и все. Отсюда все остальное. М. А вот в смысле вот каких-то жизненных перспектив – работы, семейной жизни – как-то это повлияло? Т. Вы понимаете, я знал, что карьеру я никогда не сделаю, я на это не рассчитывал. М. С самого начала, да? Т. С самого начала мне это было ясно. Потому что я с самого начала исключал для себя членство в партии – а, стало быть, и карьеры не будет. Вот и все. М. Понятно. Вот. Ну во общем-то все. Т. Да очень быстро управились. - Конец записи.