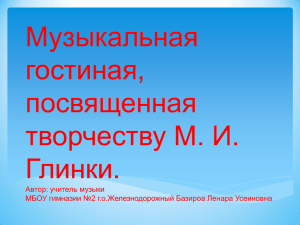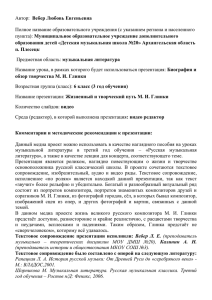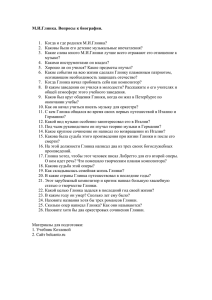Сборник 42 - Київський інститут музики ім. Р. М. Глієра
advertisement
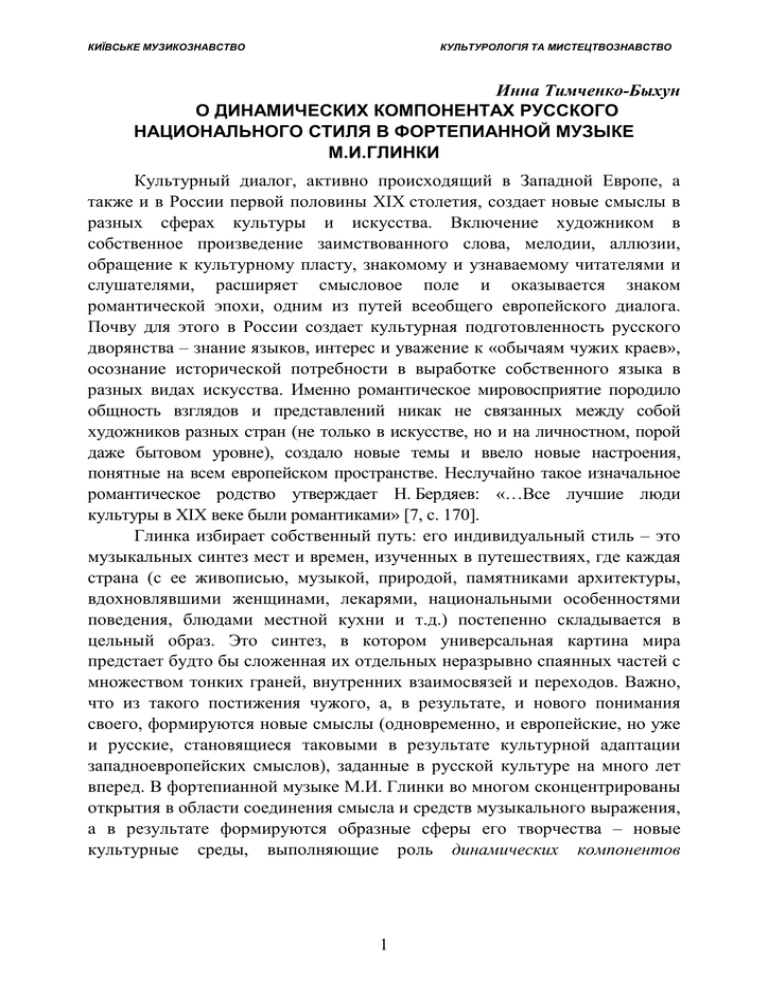
КИЇВСЬКЕ МУЗИКОЗНАВСТВО КУЛЬТУРОЛОГІЯ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО Инна Тимченко-Быхун О ДИНАМИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТАХ РУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО СТИЛЯ В ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКЕ М.И.ГЛИНКИ Культурный диалог, активно происходящий в Западной Европе, а также и в России первой половины XIX столетия, создает новые смыслы в разных сферах культуры и искусства. Включение художником в собственное произведение заимствованного слова, мелодии, аллюзии, обращение к культурному пласту, знакомому и узнаваемому читателями и слушателями, расширяет смысловое поле и оказывается знаком романтической эпохи, одним из путей всеобщего европейского диалога. Почву для этого в России создает культурная подготовленность русского дворянства – знание языков, интерес и уважение к «обычаям чужих краев», осознание исторической потребности в выработке собственного языка в разных видах искусства. Именно романтическое мировосприятие породило общность взглядов и представлений никак не связанных между собой художников разных стран (не только в искусстве, но и на личностном, порой даже бытовом уровне), создало новые темы и ввело новые настроения, понятные на всем европейском пространстве. Неслучайно такое изначальное романтическое родство утверждает Н. Бердяев: «…Все лучшие люди культуры в ХІХ веке были романтиками» [7, с. 170]. Глинка избирает собственный путь: его индивидуальный стиль – это музыкальных синтез мест и времен, изученных в путешествиях, где каждая страна (с ее живописью, музыкой, природой, памятниками архитектуры, вдохновлявшими женщинами, лекарями, национальными особенностями поведения, блюдами местной кухни и т.д.) постепенно складывается в цельный образ. Это синтез, в котором универсальная картина мира предстает будто бы сложенная их отдельных неразрывно спаянных частей с множеством тонких граней, внутренних взаимосвязей и переходов. Важно, что из такого постижения чужого, а, в результате, и нового понимания своего, формируются новые смыслы (одновременно, и европейские, но уже и русские, становящиеся таковыми в результате культурной адаптации западноевропейских смыслов), заданные в русской культуре на много лет вперед. В фортепианной музыке М.И. Глинки во многом сконцентрированы открытия в области соединения смысла и средств музыкального выражения, а в результате формируются образные сферы его творчества – новые культурные среды, выполняющие роль динамических компонентов 1 КИЇВСЬКЕ МУЗИКОЗНАВСТВО КУЛЬТУРОЛОГІЯ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО национального стиля37: русская элегическая лирика, русская ноктюрновая лирика, русская скерцозность. «Я <…> чувствую себя в некоторой мере обязанным, творя для своего отечества, писать в то же время и для всей Европы» – однажды подытожил в письме из Парижа М. Глинка [12, с. 215]. Ведь, всегда позиционируя себя как русского композитора, он неизменно ощущал это особое романтическое «пребывание в одной и той же музыкальной атмосфере» европейской культуры [24, с. 330]. Одной из важнейших жанровых областей (в особенности, на начальном этапе творчества, до создания первой оперы) для стилевых экспериментов Глинки в фортепианном творчестве становится жанр парафраза. В большой мере именно здесь, в жанре, соединяющем заимствованный музыкальный материал и собственное его переосмысление, оттачиваются образно-смысловые сферы глинкинского творчества и музыкальные средства их выражения (комплексы средств музыкальной выразительности, которые могут быть названы как «комплекс элегии», «комплекс ноктюрна»38 и «комплекс скерцозности»). В то же время, многие принципы музыкального мышления проникают в сочинения иных жанровых сфер, в частности, в фортепианную миниатюру, открывая возможности для их художественного переосмысления и обновления. Первый динамический компонент – русская элегическая лирика – поиски инструментального претворения романсовой сферы. В этой образной сфере творчества Глинки складывается модель русского музыкального элегического стиля, его средства выражения. В сущности, о роли Глинки в создании музыкальной элегии можно повторить слова, сказанные М. Гаспаровым о В. Жуковском, который, по утверждению исследователя, «не создал тематику романтической элегии, но он создал ее интонацию…», перерабатывая «ораторский пафос своих предшественников в напевный стиль элегической меланхолии» [9, с. 381]. Мощным стимулом становления музыкальной элегичности в России становится новое романтическое отношение к миру, в котором индивидуализация выражается не просто через лирическое высказывание, но и посредством скрытой программности: образная сфера русской элегичности формируется и находит свои выразительные средства в 37 Термин С. Тышко. См. об этом: [28; 29]. Для обозначения характерного набора жанровых признаков в вариациях В. Цуккерман пользуется двумя из этих понятий: «комплекс ноктюрна» и «комплекс скерцозности» [31]. 38 2 КИЇВСЬКЕ МУЗИКОЗНАВСТВО КУЛЬТУРОЛОГІЯ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО поэзии39. И, хотя элегия для России – это заимствованный жанр, но он совпадает с русским фактором ментальности, становясь во многом «знаком всей романтической поэтики в целом…» [9, c. 380], и на этой основе соединяются русские черты и свойства, идущие от элегии западноевропейской. Этот жанр в поэзии давал возможность его индивидуального прочтения благодаря неоднородности истоков, поэтому русские стихотворные элегии в русле единого художественного смысла демонстрировали самые разные структуры. «В этом модном жанре романтизма, – утверждает М. Гаспаров, – стекались и переосмыслялись под общим знаком «новейшего уныния» традиции самых несхожих жанров предшествующего периода» [9, c. 362]. Возможно, это качество «подсказывает» свой путь отбора средств музыкальной выразительности, уже семантически связанных с другими жанрами и становится причиной синтетичности этого жанра в творчестве Глинки. Так, очевидно, что уровень смысло-образов, а, следовательно, и музыкальных средств элегии тесно связан с ноктюрновой сферой, и даже формируется под ее влиянием, соединившись с фильдовской утонченной меланхолией, русским романсом и песней, западноевропейской кантиленой. Яркий тому пример – фортепианный ноктюрн «Разлука», продолжающий линию романсов-элегий, – как замечает А. Алексеев, «сочинение элегического характера» [1, с. 173]. Синтетичность мышления композитора рождает жанровое соединение, почти всегда наполняющее элегию смысловыми нюансами иных жанров – часто оттенками созерцательности, лирической задумчивости, скрытой вокальности интонаций, умиротворенной отрешенной печали, почти речевого вопрошания, (ноктюрна, вальса, баркаролы, романса, и др.). И наоборот, элегические знаки – носители многозначного смысла, проникают в крупные инструментальные и симфонические сочинения, среди которых одна из вершин – Вальс-фантазия. В музыке Глинки – в большой степени под поэтическим влиянием – эта образная сфера постепенно формируется как эмоция печали, «скорби и просветления» [18, с. 260] как «ситуация самоуглубления» [17], как «антитеза разочарования и надежды» [18, с. 155] и выражается через элегический стиль (в градациях от светлого образа «утешения» [18, с. 260] и 39 Прежде – в Англии – стихотворение, посвященное грустным размышлениям о любви, тщете земных благ, уединении на лоне природы, во Франции – эмоциональность, тонкость психологического рисунка, легкость и ясность стиля, в России (Жуковский, Батюшков) [15, с. 866]. С элегией тесно смыкается поэтическая медитативная лирика, которую отличает непосредственность созерцания, тип индивидуализированного «умозрения», направленного на постижение сокровенных законов бытия. Ее характерный жанр – стихотворное послание, а элегический оттенок «задумчивости» приобретает описание путешествий, воспоминаний и картин природы («Вечер», «Славянка» Жуковского, «»К другу» Батюшкова и др.) [21, с. 214]. 3 КИЇВСЬКЕ МУЗИКОЗНАВСТВО КУЛЬТУРОЛОГІЯ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО ностальгической печали в романсах и, например, эпизоде из Патетического трио – до строгого молитвенного, драматического состояния скорби в «Молитве»). Глубина и обоснованность такой тематической сферы для русской музыки объясняется и романтическим мировосприятием (конфликт личности и окружения, «прообраз уходящей молодости» [26, с. 55]), ведь элегия, по словам Т. Фриндляндера, «сложна, многоголосна по своему внутреннему строю», она «принципиально дисгармонична, не дает примиряющего гармонического разрешения отраженных в ней душевных противоречий» [Цит. по: 25, с. 172], а также спецификой и направленностью русской мысли вообще. Неслучайно Г. Гачев [10], анализируя сущностные черты русской жизни40, подчеркивает важнейший смысловой и образный аспект: «русская тоска, которая окрашивает в особый колорит литературу XIX века» [10, с. 65]. А Н. Карамзин обобщил и внутренне обосновал это трудно поддающееся определению ощущение: «Пусть назовут меня Рыцарем печального образа, ищущим меланхолических приключений; однако же – не знаю отчего – только в минуты горести бываю я всего более уверен в существовании души моей» [Цит. по: 33, с. 215]. Ф. Достоевский, ощущая генезис такой тоски в русском характере, находит художественное выражение этого чувства: «слышится что-то другое, слышится, как сквозь бесцветный мотив обыденной жизни нашей звучит другой, пронзительно живучий и грустный, как в Берлиозовом бале у Капулетов. Тоска и сомнение грызут и надрывают сердце, как та тоска, которая лежит в безбрежном долгом напеве русской унылой песни, и звучит родным, призывающим звуком…» [13, с. 19]. Фортепианная миниатюра неслучайно становится сферой выражения этих тонких смысловых нюансов. Ведь в моменты смены «литературных парадигм», как утверждает А. Шенле, «краткие жанры, передающие чувство психологической близости – например, элегия, песня, мадригал или семейное письмо – заменяют выспреннюю и претенциозно-декламаторскую поэзию неоклассицизма» [33, с. 81–82]. В то же время внутренняя множественность оттенков ощущений, заложенная в элегии, обусловлена во многом особенностями русского восприятия, антиномиями русской души. Достаточно вспомнить некоторые высказывания Глинки: «Впечатления нас или вовсе не трогают, или глубоко западают в душу. У нас или неистовая веселость, или горькие слезы. Любовь… у нас всегда соединена с грустью» [11, с. 57]. Или близкое по 40 Которая заключается, например, «в дистанциях огромного размера…». (Деревня, в которой проходит детство дворянина – Петербург, в котором он живет, «идеальное царство отчуждения и бесчеловечности» [10, с. 63]). 4 КИЇВСЬКЕ МУЗИКОЗНАВСТВО КУЛЬТУРОЛОГІЯ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО смыслу замечание из письма: «Счастье является на земле только для того, чтобы сделать затем несчастье еще более сильным» [19, с. 372]41. Поэтические знаки элегии – эпиграфы – предваряют почти все сочинения Глинки этой сферы, зачастую выполняя роль скрытой программы. Музыкальным выражением русского элегического стиля в его творчестве становится сочетание особого типа интонирования (насыщенной русскими романсовыми интонациями кантилены с секстовыми ходами, часто ламентозными секундовыми ходами), типа фактуры (в котором выделяется мелодическая линия на фоне романсового аккомпанемента), ритмической размеренности, а, возможно и остинатности, и, в целом, взволнованности и строгости изложения, которое и создает особую семантически насыщенную образную сферу, не требующую пояснения (своеобразное умение «обрести наслаждение в анализе даже грусти» [9, c. 380]). Этой цели часто служит особого рода элегическая мелодика, синтезирующая кантилену, романсовость, часто драматическую ариозность и декламационность (такова не только главная тема 1 части «Патетического трио», но и главная тема Альтовой сонаты, и тема минорного эпизода из финала Шотландских вариаций). Элегический жанр в фортепианной музыке Глинки появляется еще во второй половине 20-х годов в камерно-вокальной музыке под влиянием, безусловно, поэтических текстов42. Однако насколько далека русская элегическая поэзия от западноевропейской этого времени, настолько же и музыкальный ее русский аналог – зачастую при значительном тематическом и структурном соответствии – далек от западноевропейского. Жанр романса в России становится сферой активного синтеза разнонациональных интонаций. Так, Е.М. Орлова замечала, что «русский бытовой романс начала XIX века стал как бы лабораторией творческого переинтонирования, создания новой русской музыкальной стилистики» [Цит. по: 18, с. 151]. Она формулирует его ингредиенты: «русская и украинская мелодика, русские и западноевропейские музыкальные ритмы, 41 Интересно, что по настроению этим словам Глинки близки слова из 5 песни Данте, взятые в качестве эпиграфа и К.Ф. Рылеевым в поэме «Войнаровский» (1825 год), а позже и И.И. Козловым в поэме «Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая» (1828 год) – в разных, видимо, собственных авторских переводах (пер. Рылеева): «Нет большего горя, чем вспоминать о счастливом времени в несчастье…» [27, с. 113]. Или, более известный вариант: «Нет большей скорби, как в несчастьи вспоминать о счастливой поре» [4, с. 182]. Интересно, что эти слова звучат, например, в опере Россини «Отелло» в песне гондольера для создания потрясающего драматического эффекта (об этом пишет Асафьев [4, с. 172]). А Глинка, как известно, слышал эту оперу в Италии. В любом случае, такая смысловая близость замечания Глинки строкам из Данте (знак принадлежности к общеевропейским культурным темам) не только не случайна, но и символична. 42 Б. Асафьев подчеркивает, что к моменту отъезда Глинки в Италию в Петербурге расцвел «сентиментально-грустный салонно-романсный стиль» и Вальс-фантазия стал вершиной этой области [4, с. 181]. 5 КИЇВСЬКЕ МУЗИКОЗНАВСТВО КУЛЬТУРОЛОГІЯ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО речевая и декламационная интонация в вокальной музыке отдельные «итальянизмы» и распространенные общеевропейские обороты музыкальной лирики (немецкой, французской)» [Цит. по: 18, с. 151]. Элегические мотивы в романсах – жанре, тесно связанном со словом и одновременно зависимом от него – складываются в комплекс средств музыкальной выразительности, в дальнейшем уже без слова, выражающий условное подразумеваемое и узнаваемое содержание (своеобразная меланхолическая «песня без слов»). В инструментальной камерной музыке Глинки такой комплекс начинает формироваться еще в доитальянские годы в романсах «Не искушай», «Бедный певец», «Память сердца», «Разочарование», «Забуду ль я», «Голос с того света», «Утешение» и находит свое полное выражение в вершинах элегического жанра романсе «Сомнение», Шотландских вариациях и симфонической миниатюре Вальс-фантазия. Недаром О. Левашева замечает о «Патетическом трио»: «Глинка создал в этом жанре национальную традицию, утвердив особый тип лирического фортепианного трио – инструментальной поэмы, элегии, размышления. Через много лет по этому же пути пойдут Чайковский, Аренский, Танеев, Рахманинов» [18, с. 143]. Путь сближения элегии с балладой, намеченный в поэтическом творчестве Жуковского, во многом повторяет Глинка в Вариациях на шотландскую тему. Это повествовательность, эмоциональная отстраненность, создающая эффект изложения темы рассказчиком, эпичность первой части и своеобразная «событийность» второй, создаваемая при помощи чередования разнохарактерных построений в финале, возвращения к ранее звучащему материалу, при активности сквозного развития. Подытоживая, заметим: и сама образная сфера, и средства ее музыкального воплощения начали складываться в музыке Глинки ранее других стилевых комплексов, ведь на этом пути он с самого раннего творчества шел через русский романс – жанр, который в начале века уже имел отточенные смысловые нюансы и которому элегические образы были изначально близки. Второй динамический компонент: русская ноктюрновая лирика – синтез западноевропейской кантилены с русской просветленной вокальной сферой; поиск «высокой» светлой эмоции. Эта сфера, одна из образных «мировых струн», или целая жанрово-стилевая область43 (т. е. комплекс 43 О. Мурга так ее характеризует: «Принцип виртуозности, проникающий в образную сферу «тихой эмоции», подчиняется ее камерному тонусу и растворяется в нем, используя выразительные средства сдержанных, тихих динамических градаций, соответствующих градациям психологическим… Камерный облик виртуозности создается координацией «заниженного», медленного темпа…, плавной безыскусственной агогики движения, вокализации всей фактуры» [23, с. 177]. Виртуозность такого рода отмечают практически все исследователи творчества Глинки. Так, В. Музалевский, например, пишет, что, «отвергая оркестральную 6 КИЇВСЬКЕ МУЗИКОЗНАВСТВО КУЛЬТУРОЛОГІЯ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО средств музыкальной выразительности) связана в творчестве Глинки с жанром ноктюрна, или жанровым сочетанием, в котором заметны черты баркаролы, песни, идиллии, элегии, и др. Она представляет собой пример «двойной адаптации» межкультурных связей, ведь именно здесь ощутимо персонифицированное влияние индивидуального стиля Дж. Фильда44 и В. Беллини а также мощное воздействие белькантовой кантилены, сущностных черт пианизма Ф. Поллини и сферы лирически-возвышенных настроений, возникающей еще в ранней, доитальянской фортепианной и камерно-вокальной музыке Глинки. «Кантиленная виртуозность в образной сфере «тихой эмоции»»45 описана О. Мургой в применении к русскому фортепианному концерту более поздних этапов. Однако оказывается, что этот динамический компонент возник раньше – образная сфера в творчестве Глинки, выраженная через семантику ноктюрна, становится жанрово-смысловым воплощением кантиленной «виртуозности медленных темпов»46 и проявляется в лирических предфинальных вариациях, миниатюрах созерцательного настроения, романсах (например, в романсах «Я люблю, ты мне твердила», «Скажи, зачем», в ноктюрне из Дивертисмента на темы оперы Беллини «Сомнамбула»). Романтическое стремление к 47 безыскусственности и искренности заметно не только в литературе и искусстве, но и в обычной жизни. «Спектр переживаний «тихой эмоции» нашел своеобразную реализацию в русской культуре XIX века, сказавшись на целом ряде явлений, охватывающих тип общественного поведения, взаимоотношения мужчины и женщины, дружеское общение» [23, с. 175]. Подобно тому, как в Италии наиболее сильные и наиболее длительные впечатления Глинки связаны с музыкой В. Беллини (здесь сказывается и общение Глинки с итальянским композитором, и личная симпатия, и общность музыкальных интересов и представлений), так в ранний петербургский период фильдианство оказывает влияние на музыку и предпочтения Глинки. Интерес к жанру ноктюрна, возникая под мощь фортепиано» Глинка «признавал виртуозность иного качества», однако, не пытается это качество определить [22, с. 186]. Б. Асафьев высказывается точнее: «В этой сфере Чайковский продолжил своеобразно русский фортепианный стиль – лирико-созерцательный пианизм без щегольства специфическими эффектами фортепианной звучности, но с постоянным призвуком неуловимо своеобразной, все-таки безусловно фортепианной, поэтической задушевности…» [5, с. 271]. 44 «Фильдианство в Глинке – это инертность волевого, действенного начала», – замечает К. Кузнецов. Он приводит впечатления от речитатива Ратмира старшего брата Н.А. Римского-Корсакова Воина Андреевича, замечающего «огненность», которая «не есть пламя яркого дня, не «активная потенция», а некоторая сгущенность атмосферы летней ночи, «пассивная истома»» [16, с. 7]. 45 См. об этом: [23, с. 174]. 46 Определение О. Мурги. См. об этом: [23]. 47 В «Записках» Глинка зачастую избегает восторженности, не высказывает восхищения при описании самых посещаемых городов и памятников культуры, давно ставших «общим местом» путевых заметок. 7 КИЇВСЬКЕ МУЗИКОЗНАВСТВО КУЛЬТУРОЛОГІЯ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО непосредственным влиянием ноктюрнов Фильда, для Глинки оказывается неслучаен: он отвечает его собственному образно-жанровому видению48. Ноктюрн, насыщаясь белькантовой кантиленой, принципами взаимовлияния и взаимопроникновения жанров (что хорошо видно на примере ноктюрнов Беллини и Доницетти в камерно-вокальном творчестве, которого Глинка не мог не знать), становится своего рода жанром-знаком определенного круга эмоций-настроений в творчестве Глинки. Романтические рассуждения Р. Шумана об эмоциональной природе ноктюрна, изложенные в 1839 году, несколько расширяют смысловой спектр: «иной раз нападает тоска по лучшему, а может быть, и раскаяние в том, что быстро промелькнула молодость. Тогда более высокие мечты уже готовы расправить крылья, а новые дерзания готовы ими взмахнуть <…> Именно в такой тоске по настоящей родине искусства, <…> возник, быть может, и ноктюрн <…>» [35, с. 179]. А Лист, рассуждая о ноктюрнах Дж. Фильда, подчеркивает: «чувство и мелодия обладают верховной властью и свободно движутся, не стесненные оковами насильственно предписанных форм» [20, с. 417]. В Италии эта формирующаяся у Глинки образная сфера насыщается принципами белькантового звуковедения. Как это происходит – хорошо видно на примере Рондо на тему из оперы Беллини «Монтекки и Капулети» (1831). В этом сочинении в буквальном смысле происходит интонационное «соединение» материала Беллини, Фильда и самого Глинки. На фоне покачивающегося аккомпанемента возникает мелодический пласт арии Беллини, а в качестве темы второй части звучит мотив оркестрового сопровождения из той же арии. Одновременно он напоминает и тему из ноктюрна Фильда № 5 (об этом пишет В. Музалевский); перед нами приоткрывается «завеса» творческой лаборатории композитора. Попытки исследователей как-то определить или хотя бы очертить эту сферу ограничиваются лишь отдельными замечаниями. Так, К. Кузнецов пишет: «некоторый тип, к которому так или иначе приближается ряд других музыкальных страниц Глинки», «сгущенность атмосферы летней ночи, «пассивная истома»», а «ария Ратмира удивительно близка и по духу, и по стилю к тем пленительным, моцартианским «медленным движениям», в которых Чайковский так удачно прозревал «музыку ночи»» [16, с. 6–7]. Он же замечает появление этого «ноктюрнового» настроения (одной из 48 Именно об этом пишет К. Кузнецов, находя в его ноктюрнах, и в «Руслане», «отзвуки все еще Фильда, а не его гениального преемника, Шопена»: «Фильдианство Глинки, отмеченное близостью их пианистических приемов, должно было естественно обнаружиться и во внутреннем строе их творчества» [16, с. 6]. 8 КИЇВСЬКЕ МУЗИКОЗНАВСТВО КУЛЬТУРОЛОГІЯ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО образных «мировых струн»49) еще в раннем вариационном цикле Глинки на оригинальную тему. Подобные эпизоды глинкинской музыки, соответствуя жанру фортепианного ноктюрна, выходят за его рамки, складываясь в индивидуальный комплекс образных, смысловых, музыкальных средств. На этом фоне у Глинки могут возникать различные жанровые сочетания (это касается, преимущественно инструментальной и камерно-вокальной музыки). Как видим, такая сфера, формируясь в рамках фортепианного ноктюрна, может касаться не только этого жанра. А комплекс средств – «комплекс ноктюрна» – может проявляться в оперных ариях, или в рамках уже совершенно иных жанров и образов, привнося с собой весь его семантический спектр. Третий динамический компонент – русская скерцозность – адаптация западноевропейских смыслообразов к русской интонационности. Стихия романтического скерцо – в первую очередь, это стихия игры, воплощенная посредством действенного моторного движения, воплощающая высокий «жизненный тонус» сочинения. Такой круг эмоциональных настроений во всем его многообразии очень тонко описан В.-Г. Вакенродером: «<…> То бегущее вприпрыжку, танцующее, запыхавшееся веселье, превращающее каждую капельку своего бытия в радость; <…> то шаловливый, сбросивший с себя все оковы задор, подобный водовороту, разрушающему все серьезные чувства и в веселом кружении играющему с обломками <…>» [8, с. 176]. Скерцозность как образно-смысловая сфера – противоположная грань лирики – формируется в творчестве Глинки еще в доитальянских вариационных циклах, но начинает приобретать отточенность, изящество, грациозность, утонченность, особую шутливость, в итальянские годы. Ее вершиной, итогом считается русское скерцо «Камаринская», классическое сочетание излюбленных композитором вариационных и подголосочных полифонических принципов развития, своеобразная игра с темами, и, кроме того, колористически яркое сочинение. Важно отметить, что фортепианного скерцо как такового у Глинки нет – но есть «обязательные» лирическискерцозные и этюдно-моторные вариации или эпизоды в фортепианных вариационных циклах или парафразах иной структуры, в танцевальных миниатюрах. В отношении образности они представляют собой различные 49 Примечательно, что самому фортепианному ноктюрну его создателю романтик Р. Шуман посвятил восторженные строки: «Коснись лишь одной мировой струны – и она будет колебаться до бесконечности. Упоительным должно быть то мгновение, когда ты осознаешь, что впервые дотронулся до одной из них, – когда ты сможешь что-либо назвать всецело своим – почувствовать себя первым в этом новом мироздании, а свою вещь – первым творением, которое отныне заключает тебя в свои жаркие объятия и носит твое имя. Каким счастливым он, вероятно, стоял перед своим первым ноктюрном: ведь это было всецело его детище, и никто до него ничего подобного никогда не говорил» [34, с. 262]. 9 КИЇВСЬКЕ МУЗИКОЗНАВСТВО КУЛЬТУРОЛОГІЯ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО грани и оттенки настроения игры, изящной шутливости, позже тонкого юмора, иногда с гротескным сочетанием несочетаемых элементов50. Эта сфера формируется исключительно в инструментальной музыке (поэтому складывается дольше, и приобретает законченность позже, чем элегия, которая оттачивается в романсах). Скерцозные образы глинкинских сочинений возникают из смешения легкого, шутливого настроения, импровизационности, игрового начала и романтической свободы фантазии, творческой смелости и раскованности сочинения. Они складываются во многом под влиянием европейской романтической музыки, еще с начала итальянского путешествия (думается, сам Глинка имеет в виду нечто подобное, говоря о «прелести непринужденного веселья» [12, с. 197]). Это и изящная закругленность эпизода из Рондо на тему из оперы Беллини «Монтекки и Капулети», и действенность, моторика двух первых вариаций из цикла на темы той же оперы или другого цикла на темы из оперы Доницетти «Анна Болейн». Это шутливая, исполненная внутреннего динамизма стакаттированная тема из Экспромта с использованием материала из оперы Доницетти «Любовный напиток», и разные грани музыкальной легкости и юмора в обработках первой темы Вариаций «Киа-Кинг», где сама тема – одно из наиболее ярких воплощений игривости с почти кукольным звучанием мелодии в октаву, форшлагами на каждый звук в высоком регистре и несколько механистическим ровным сопровождением восьмыми. И, конечно, это стихийная праздничность, романтическая смелость фантазии и скерцо «Камаринской», по своей природе импровизационной и вырастающей из сочетания юмора, смеха, и неукротимого воображения. Скерцозность вообще как способ творческого самовыражения отвечает общеевропейским романтическим устремлениям. М. Арановский называет скерцо «концентрацией положительных эмоций», «символом неукротимости движения», «проявлением игры стихийных жизненных сил» [3, с. 24]. Сложившийся комплекс приемов, передающий различные оттенки такого настроения объединяет Ю. Холопов: «шутливые переклички мотивов, перебрасываемых из регистра в регистр или от одного инструмента к другому, всякого рода неожиданности – «сюрпризы», подача каких-либо простых явлений в необычном, кажущемся странном освещении или же их излом, смещение и т.д. <…> моторное начало в скерцо имеет более глубокие корни. Скерцо – не просто шутка <…> 50 В частности, интересное наблюдение по поводу одной из вариаций «Камаринской» приводит В. Цуккерман: «обращает на себя внимание сильное оминоривание, в силу чего возникает гротескное противоречие между плясовой мелодией и грустно звучащими голосами сопровождения» [31, с. 146]. Это, безусловно, один из приемов воплощения музыкального юмора. 10 КИЇВСЬКЕ МУЗИКОЗНАВСТВО КУЛЬТУРОЛОГІЯ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО Классическое скерцо есть «свободная игра человеческих сил» (высказывание Б. Яворского. – Ю.Х.), ничем не стесненное, радостное их проявление. Ощущение здоровья, жизненной полноты неотъемлемо от бодрой, веселой подвижности» [30, с. 109–110]. И здесь возникают две параллели. Первая – это почти дословное повторение в приведенных цитатах о скерцозности высказывания теоретика романтизма Ф.В.Й. Шеллинга (совпадение в мысли, а отсюда и в словах): «сущность жизни вообще состоит не в силе, но в свободной игре сил, непрерывно поддерживаемой каким-либо внешним влиянием» [32, с. 179]. А вторая – это гедонистическое наслаждение молодостью и жизнью (вспомним, например, многочисленные упоминания о веселых развлечениях в письмах Глинки), легкость творчества, так ценимая Пушкиным, ощущение молодости эпохи. Отчасти отсюда возникает важная черта романтического восприятия – жизнелюбие и праздничность в противовес жизненным драмам, болезням, бедам, т. е. именно то мироощущение, которое сам Глинка определял словами: «все в жизни контрапункт, т.е. противуположность» [11, с. 90]. Именно скерцозная сфера (во многом наряду с ней и этюдномоторная, которая может рассматриваться в данном случае как частный случай скерцозности) дает возможность композитору показа не одной, а разных граней образа: ведь, как известно, в основе драматургии сочинений Глинки лежит не конфликт, а контраст. И вариационность в сочетании со скерцозностью естественна, ведь чаще всего у Глинки скерцо – это вариации, а вариации – это всегда, кроме прочих образов, и скерцо. Скерцозность как инструментальное начало в сочинениях Глинки всегда неразрывно связана с виртуозностью, вначале бриллиантной (в итальянских сочинениях), а позже колористической, картинной, импровизационной, оркестровой (в «Камаринской» и «Арагонской хоте»). Образную сферу творчества П. Чайковского на примере его фортепианных концертов, близкую скерцозно-моторным образам глинкинской музыки, О. Мурга определяет как инструментально-колористическую виртуозность (этот динамический компонент, сложившийся в русском искусстве более позднего периода назван ею «Красота как образ пространства»51). Характеризуя его, О. Мурга пишет: «Инструментальноколористическая виртуозность в подчеркнуто гедонистическом аспекте предстает в каденционных разделах экспозиции. <…> Чайковский использовал ее в целях создания образа музыкального пространства как красоты, воплощенной средствами «чистого» инструментализма. 51 См.: [6, с. 44–45]. 11 КИЇВСЬКЕ МУЗИКОЗНАВСТВО КУЛЬТУРОЛОГІЯ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО Гедонистический эффект колористической виртуозности передан в каденциях через «бриллиантную» звучность верхних регистров» [23, с. 178]. Оказывается, что в русском музыкальном искусстве эти смыслообразы появляются еще в сочинениях Глинки. Так, в ранних его парафразах «инструментально-колористическая виртуозность» проявляется во вступительных разделах и финалах, выражаясь посредством ощущения пианистического пространства (охват большого диапазона, смена разнохарактерных эпизодов финала, взлеты «бриллиантных» пассажей, вихревое движение, стремительный темп). Романтическое стремление к исполнительству в стиле «бриллиантной» виртуозности, охватив все жанры – начиная с оперы и заканчивая инструментальной и вокальной миниатюрой – в большой степени определяется принципом самовыражения через «игру высшего порядка», или «образ стихии, растворяющей в себе все индивидуальное» [14, с. 10]. «Целый ряд жанров романтической фортепианной миниатюры, – утверждает К. Зенкин, – культивирует фигурационное изложение, подчеркивающее техническую, «пальцевую» сторону процесса исполнения (что генетически связано с вариациями, этюдами, заостряющими саму идею игры)» [14, с. 10]. Находясь в русле исканий романтического инструментализма, Глинка не просто отдает дань моде, но и чувствует тенденции развития фортепианного искусства52. Подытоживая, заметим: жанры фортепианной музыки М. Глинки, – и миниатюры, и концертные парафразы, – во многом являются показательным материалом для изучения стилевой эволюции музыкального языка и мышления русского композитора, становясь средоточием художественно-стилевых поисков и находок, областью формирования эмоционально-образных сфер в русской музыкальной культуре. 1. 2. 3. 4. Алексеев А. Вариационные циклы Глинки для фортепиано. / А. Алексеев // Памяти Глинки. 1857–1957. Исследования и материалы. – М. : Издательство Академии наук СССР. – 1958. – С. 170–189. Алексеев А.Д. История фортепианного искусства: Учебник : в 3 ч. / А.Д. Алексеев. // 2-е изд., доп. – М. : Музыка, 1988. – Ч. 1 и 2. – 415 с. Арановский М. Симфонические искания. Проблема жанра симфонии в советской музыке 1960–1975 годов. Исследовательские очерки./ М. Арановский. – Л. : Музыка, 1978. – 312 с. Асафьев Б.В. Данте и русские композиторы / Асафьев Б.В. // О симфонической и камерной музыке. – Л. : Музыка, 1981. – С. 179–186. Добавим, что две излюбленные образные сферы фортепианной музыки Глинки – инструментальная песенность и ее воплощение – русская ноктюрновая лирика и фигуративная виртуозность, часто выраженная в скерцозности, близки фортепианным образам Ф. Мендельсона. А. Алексеев пишет, что концерным сочинениям Мендельсона свойственна двухчастность, где первая часть певучего характера, а вторая виртуозная (например, «Рондо-каприччиозо») [2, с. 161]. 52 12 КИЇВСЬКЕ МУЗИКОЗНАВСТВО 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. КУЛЬТУРОЛОГІЯ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО Асафьев Б. О музыке Чайковского./ Б. Асафьев. – Л. : Музыка, 1972. – 376 с. Белоброва О. Об осуществлении принципа виртуозности в тексте музыкального произведения / О. Белоброва. // Музичний твір як творчий процесс. – Науковий вісник НМАУ ім. П.І. Чайковського: Збірка статей. – К. : НМАУ ім. П.І. Чайковського, 2002. – Вип. 21. – С. 53–58. Бердяев Н. Смысл истории./ Н. Бердяев. – М. : Мысль, 1990. – 176 с. Вакенродер В.-Г. Фантазии об искусстве: [пер. с нем.; вступ. статья А.С. Дмитриева, коммент. Ал. В. Михайлова. ] / В.-Г. Вакенродер. – М. : Искусство, 1977. – 263 с. Гаспаров М.Л. Избранные труды./ М.Л. Гаспаров. – М. : Языки русской культуры, 1997. – Т. 2: О стихах. – 504 с. Гачев Г. Образ в русской художественной культуре./ Г. Гачев. – М. : Искусство, 1981. – 247 с. Глинка М.И. Записки; [подготовил А.С. Розанов]. / М.И. Глинка. – М. : Музыка, 1988. – 222 с. Глинка М.И. Полное собрание сочинений. Литературные произведения и переписка [подготовили А.С. Ляпунова и А.С. Розанов] / М.И. Глинка. – М. : Музыка, 1975. – Т. IIА: Письма 1822–1853. Документы. – 415 с. Достоевский Ф.М. Петербургская летопись / Ф.М. Достоевский // Повести и рассказы. 1848–1859. Собр. соч: в 15 т. – Л. : Наука, 1988. – Т. 2. – С. 5–33. Зенкин К.В. Фортепианная миниатюра и пути музыкального романтизма./ К.В. Зенкин. – М. : Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского, 1997. – 415 с. Краткая литературная энциклопедия. – М. : Советская энциклопедия, 1975. – Т. 8. – 1135 с. Кузнецов К.А. Глинка и его современники./ К.А. Кузнецов. – М. : Изд. Музыкального сектора гос. изд-ва, 1926. – 70 с. Кукушкіна О.В. Про жанровий зміст елегії / О.В. Кукушкіна // Теорія та практика питання культурології. – Запоріжжя, 1999. – Вип. 2. – С. 31–37. Левашева О.Е. Михаил Иванович Глинка: В 2 т./ О.Е. Левашева. – М. : Музыка, 1987. – Т. 1. – 381 с. Летопись жизни и творчества М.И. Глинки; [сост. А. Орлова.] – М. : Государственное музыкальное издательство, 1952. – 540 с. Лист Ф. Джон Фильд и его ноктюрны / Ф. Лист // Ф. Лист. Избранные статьи. – М. : Государственное музыкальное издательство, 1959. – С. 414–420. Литературный энциклопедический словарь. – М. : Советская энциклопедия, 1987. – 752 с. Музалевский В.И. Русское фортепианное искусство. XVIII – первая половина XIX века./ В.И. Музалевский. – Л. : Государственное музыкальное издательство, 1961. – 320 с. Мурга О. О реализации принципа виртуозности во Втором фортепианном концерте П.И. Чайковского (G-dur, ор.44) / О. Мурга. // Київське музикознавство. Культурологія та мистецтвознавство: Збірка статей. – К. : КДВМУ ім. Р.М. Глієра, 2003. – Вип. 18. – С. 170–181. Одоевский В.Ф. Музыкально-литературное наследие./ В.Ф. Одоевский. – М. : Музыка, 1956. – 723 с. Орлова Е.М. Лекции по истории русской музыки: Учебное пособие. – 2-е изд./ Е.М. Орлова. – М. : Музыка, 1979. – 383 с. Панова М.В., Шило А.В. Пушкин: образ и самообраз поэта в русской культуре первой трети 19 века./ Панова М.В., Шило А.В. – Харьков : ОКО, 2002. – 112 с. Русская романтическая поэма; [сост. и ком. А.С. Немзера и А.М. Пескова, вступ. ст. А.С. Немзера.] – М. : Правда, 1985. – 575 с. Тышко С. Динамические компоненты национального стиля в опере М.И. Глинки «Руслан и Людила» / С. Тышко. // Київське музикознавство. Культурологія та мистецтвознавство: Збірка статей. – К. : КДВМУ ім. Р.М. Глієра, 2004. – Вип. 16. – С. 118–135. 13 КИЇВСЬКЕ МУЗИКОЗНАВСТВО КУЛЬТУРОЛОГІЯ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО 29. Тышко С.В. Проблема национального стиля в русской опере. Глинка. Мусоргский. Римский-Корсаков. Исследование./ С.В. Тышко. – К., 1993. – 120 с. 30. Холопов Ю. Принцип классификации музыкальных форм // Теоретические проблемы музыкальных форм и жанров: Сборник статей./ Ю. Холопов. – М. : Музыка, 1971. – С. 65–95. 31. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. Вариационная форма./ В. Цуккерман. – М. : Музыка, 1987. – 239 с. 32. Шеллинг Ф.В.Й. О мировой душе / Ф.В.Й. Шеллинг // Сочинения: В 2 т. – М., 1987. – Т. 1. – 638 с. 33. Шенле А. Подлинность и вымысел в авторском самосознании русской литературы путешествий 1790–1840. / А. Шенле. – СПб : Академический проект, 2004. – 272 с. 34. Шуман Р. Вариации для фортепиано / Р. Шуман. // О музыке и музыкантах: в 2 т. – Т. І. – М. : Музыка, 1975. – С. 327–338. 35. Шуман Р. Композиции для фортепиано / Р. Шуман. // О музыке и музыкантах: в 2 т. – Т. ІІА. – М. : Музыка, 1978. – С. 146–190. Інна Тимченко-Бихун. Про динамічні компоненти російського національного стилю в фортепіанній музиці М.І. Глінки. У статті розглядаються образні сфери фортепіанної творчості М. Глінки – нові культурні середовища, що виконують роль динамічних компонентів національного стилю (термін С. Тишко): російська елегійна лірика, російська ноктюрнові лірика, російська скерцозність. Виникаючи на емоційно-образному рівні, вони наділяються у фортепіанній музиці М. Глінки комплексами музичних виразових засобів та знаходять своє продовження в російській музиці подальших періодів. Ключові слова: фортепіанна творчість Глінки, динамічні компоненти національного стилю, російська елегійна лірика, російська ноктюрнові лірика, російська скерцозність. Инна Тимченко-Быхун. О динамических компонентах русского национального стиля в фортепианной музыке М.И.Глинки. В статье рассматриваются образные сферы фортепианного творчества М.Глинки – новые культурные среды, выполняющие роль динамических компонентов национального стиля (термин С. Тышко): русская элегическая лирика, русская ноктюрновая лирика, русская скерцозность. Возникая на эмоционально-образном уровне, они приобретают в фортепианной музыке Глинки комплексы музыкальных выразительных средств и находят свое продолжение в русской музыке последующих периодов. Ключевые слова: фортепианное творчество Глинки, динамические компоненты национального стиля, русская элегическая лирика, русская ноктюрновая лирика, русская скерцозность. Inna Timchenko-Bykhun. Dynamic components of Russian national style in M. I. Glinka’s piano music. The article examines imagistic areas of piano works by Mikhail Glinka, new cultural environment, which play the role of 14 КИЇВСЬКЕ МУЗИКОЗНАВСТВО КУЛЬТУРОЛОГІЯ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО dynamic components of national identity (S. Tyshko’s term): Russian elegiac lyrics, Russian nocturne lyrics, russian skertso nature. Appearing on the emotional and imaginative level they get to complex musical means of expression in Glinka's piano music, and find own continued in the Russian music of the subsequent periods. Keywords: Glinka’s works for piano, dynamic components of national identity, Russian elegiac lyrics, Russian nocturne lyrics, russian skertso nature. 15 КИЇВСЬКЕ МУЗИКОЗНАВСТВО КУЛЬТУРОЛОГІЯ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО 16