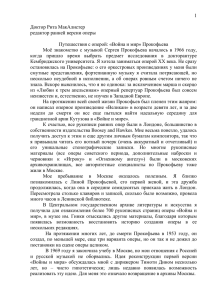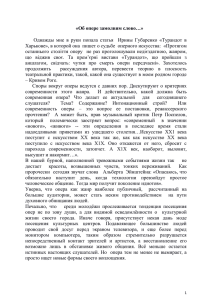Взлёты и падения оперного гения Прокофьева
advertisement
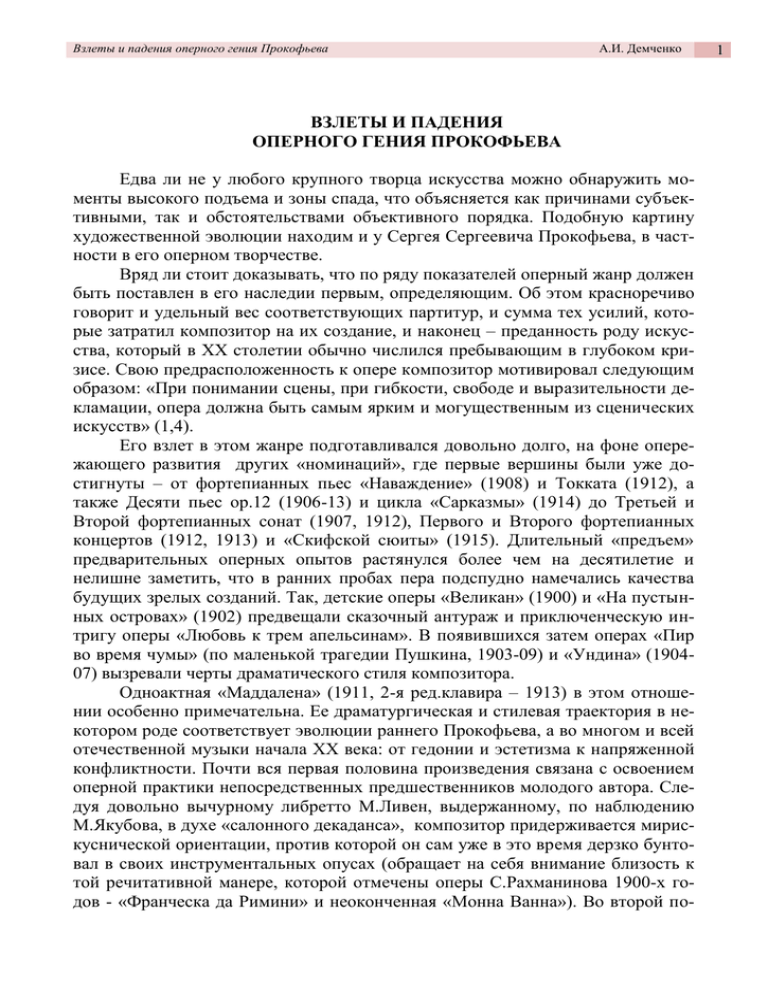
Взлеты и падения оперного гения Прокофьева А.И. Демченко ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ ОПЕРНОГО ГЕНИЯ ПРОКОФЬЕВА Едва ли не у любого крупного творца искусства можно обнаружить моменты высокого подъема и зоны спада, что объясняется как причинами субъективными, так и обстоятельствами объективного порядка. Подобную картину художественной эволюции находим и у Сергея Сергеевича Прокофьева, в частности в его оперном творчестве. Вряд ли стоит доказывать, что по ряду показателей оперный жанр должен быть поставлен в его наследии первым, определяющим. Об этом красноречиво говорит и удельный вес соответствующих партитур, и сумма тех усилий, которые затратил композитор на их создание, и наконец – преданность роду искусства, который в ХХ столетии обычно числился пребывающим в глубоком кризисе. Свою предрасположенность к опере композитор мотивировал следующим образом: «При понимании сцены, при гибкости, свободе и выразительности декламации, опера должна быть самым ярким и могущественным из сценических искусств» (1,4). Его взлет в этом жанре подготавливался довольно долго, на фоне опережающего развития других «номинаций», где первые вершины были уже достигнуты – от фортепианных пьес «Наваждение» (1908) и Токката (1912), а также Десяти пьес ор.12 (1906-13) и цикла «Сарказмы» (1914) до Третьей и Второй фортепианных сонат (1907, 1912), Первого и Второго фортепианных концертов (1912, 1913) и «Скифской сюиты» (1915). Длительный «предъем» предварительных оперных опытов растянулся более чем на десятилетие и нелишне заметить, что в ранних пробах пера подспудно намечались качества будущих зрелых созданий. Так, детские оперы «Великан» (1900) и «На пустынных островах» (1902) предвещали сказочный антураж и приключенческую интригу оперы «Любовь к трем апельсинам». В появившихся затем операх «Пир во время чумы» (по маленькой трагедии Пушкина, 1903-09) и «Ундина» (190407) вызревали черты драматического стиля композитора. Одноактная «Маддалена» (1911, 2-я ред.клавира – 1913) в этом отношении особенно примечательна. Ее драматургическая и стилевая траектория в некотором роде соответствует эволюции раннего Прокофьева, а во многом и всей отечественной музыки начала ХХ века: от гедонии и эстетизма к напряженной конфликтности. Почти вся первая половина произведения связана с освоением оперной практики непосредственных предшественников молодого автора. Следуя довольно вычурному либретто М.Ливен, выдержанному, по наблюдению М.Якубова, в духе «салонного декаданса», композитор придерживается мирискуснической ориентации, против которой он сам уже в это время дерзко бунтовал в своих инструментальных опусах (обращает на себя внимание близость к той речитативной манере, которой отмечены оперы С.Рахманинова 1900-х годов - «Франческа да Римини» и неоконченная «Монна Ванна»). Во второй по- 1 Взлеты и падения оперного гения Прокофьева А.И. Демченко ловине произведения эстетико-стилевые координаты резко меняются – все ресурсы вокала и оркестра направлены здесь на воплощение обостренного драматизма, приобретающего экспрессионистскую окрашенность (не случайно Н.Мясковский в одном из писем 1911 года отметил, что «по напряженности стиля опера напоминает Р.Штрауса»). В целом же, эта театральная «штудия» Прокофьева, ставшая известной нам благодаря дооркестровавшему ее английскому дирижеру Э.Даунсу, подготавливала столь характерную для композитора технику сплошного музыкально-речевого потока и свободного развертывания по подобию драматического спектакля. Тем самым закладывалось основание магистральной линии прокофьевских опер первого зрелого этапа – имеются в виду «Игрок» и «Огненный ангел». * История создания «Игрока» лишний раз доказывает, как долго созревал театральный гений композитора. Написав эту, шестую по счету оперу в 1915-16 годах, Прокофьев в ходе работы над «Огненным ангелом» (1920-23) осознал несовершенство своего предыдущего опуса и в письме Б.Асафьеву буквально заклинал: «Буду протестовать всеми силами, чтобы “Игрок” не шел в старой редакции, которая может только повредить делу». Свой окончательный облик опера приобрела лишь в 1927-м, и свидетельство самого автора говорит о капитальной переработке: «Переделка оказалась, в сущности, полным пересочинением, хотя главный материал и план остались» (2, 281). Тогда же был оркестрован «Огненный ангел». Таким образом, 1927 год стал временем завершения этих двух внешне очень разных, но по сути своей близких сочинений. Суть же заключается прежде всего в самобытной интерпретации принципов музыкальной драмы экспрессионистского типа. Точкой отсчета в обеих операх становится по-разному акцентированный мотив мучительной, несостоявшейся любви: Алексея к Полине, Рупрехта к Ренате, причем обе героини чрезвычайно изменчивы в настроениях, непредсказуемы в своих поступках. Жизнь основных персонажей протекает в сумрачно-затемненной атмосфере, их нервная взбудораженность выливается на пиках напряжения в выплески смятенно-лихорадочных эмоций, экстатическая взвинченность которых не раз оказывается на грани патологии. Главные герои – словно до предела натянутые струны, постоянно находятся на грани срыва и закономерно, что свойственный им модус существования неминуемо приводит к жизненному крушению. Любопытно, что данная идея нашла определенное отражение и в тексте либретто. Рупрехт говорит о себе: «Моя душа, как расстроенная виола», и в неизмеримо большей степени эти слова должны быть отнесены к Ренате. Сказанное Алексеем по поводу своего ближайшего окружения «Какое крушение!» вскоре станет его собственным финалом, который предвещается фразой одного из очевидцев его баснословного везения в игорном доме: «Но не осталось ничего от человека…». 2 Взлеты и падения оперного гения Прокофьева А.И. Демченко В обеих операх фатальная катастрофа неординарной личности решена в формах остроконфликтной психологической драмы, структурный облик которой можно обозначить старинным термином dramma per musica – в его изначальном понимании, как «драма через музыку» или «драма на музыке», то есть омузыкаленная драма. В прокофьевском истолковании это означало абсолют сквозного развития и безусловный примат озвученного слова. Спрессованный пульс сценического действия, в котором чувствуется дыхание динамики кинематографа, выступает в сопряжении с гибким, изменчивым ритмом спонтанно изливающейся декламационной стихии. И можно понять, почему композитор категорически отказался от традиционного оперного текста. Это его убеждение окончательно созрело ко времени создания «Игрока», касательно словесной канвы которого он высказался следующим образом: «Я считаю, что обычай писать оперы на рифмованный текст явление совершенно нелепой условности. В данном случае проза Достоевского ярче, выпуклее и убедительнее любого стиха» (3, 5). В конечном счете, живость и динамизм драматургического развертывания, а также чуткое претворение человеческой речи служили целям максимального соответствия самой жизни в ее непосредственных проявлениях. Поэтому прав был Н.Мясковский в своем изумлении, когда писал в одном из писем 1928 года: «Фигуры Рупрехта и Ренаты – это не театр, еще менее опера, а совсем живые люди, до того глубоки и подлинны их интонации» – мнение это с еще большим основанием можно отнести к «Игроку». Различие между «Игроком» и «Огненным ангелом» состоит не только в том, что первое из этих произведений выполнено в явственно русском интонационном наклонении, а второе апеллирует к общеевропейской звуковой лексике. В «Огненном ангеле» композитор дает вслед за повестью В.Брюсова, как кажется, чрезмерный акцент на мистических аномалиях и в зонах их прямого действия экстаз исступленной заклинательности доводится до патологии психоза и беснования. Речитация здесь ощутимо распевнее, чем в «Игроке», и тем не менее эта опера не обладает столь же несомненной притягательной силой, так что возможны и довольно критические суждения, подобные тем, которые выдвигал Б.Ярустовский: «Не является выдающимся событием… Весьма уязвима в плане драматургии, пестроты разнохарактерных эпизодов, явных длиннот, громоздкости» (4, 82-83). Относительно драматургии следует признать по крайней мере тот факт, что введение большой сцены с характеристически трактованным Мефистофелем создает малооправданный смысловой вираж. И совсем иное дело в «Игроке», который отличается полной органичностью сплава экспрессивного начала с жанрово-характеристическим. С одной стороны, это второе качество присуще и главному герою с его резким, едким обличительным запалом в отношении мира денег и лицемерия. А с другой стороны, характеристические персонажи постепенно втягиваются в главенствующий поток «драмы нервов» и по-своему также терпят крах. 3 Взлеты и падения оперного гения Прокофьева А.И. Демченко * Прокофьев создал еще одну замечательную пару сходных опер – «Любовь к трем апельсинам» и «Дуэнья» («Обручение в монастыре»). Сходное в том, что обе они buffa, обе стали своеобразными интермеццо в работе над окружающими их серьезными, драматическими вещами, обе исполнены живости, блеска, увлекательной занимательности, юмора и остроумия… И, похоже, на этом их сходство кончается. «Любовь к трем апельсинам» (1919) – плод типичнейших увлечений начала века. Отсюда откровенное лицедейство, яркая театральность, выдвижение на передний план игрового, представленческого начала (не случайно появление целой монографии на этот счет – «Театр масок в опере Прокофьева “Любовь к трем апельсинам”» О.Степанова). Господствующая атмосфера шутливости, озорства, веселья делает здесь смех «главным действующим лицом» (определение Б.Асафьева), по своей музыкальной сути превращая произведение в оперу-скерцо (со всей отчетливостью сублимировано в соответствующих оркестровых эпизодах III акта). Действие развивается в сказочной плоскости, требуя доверия к фантастике «ужасов» и нагромождению «чертовщины», что сообщает всему наивноотроческий оттенок, заставляя вспомнить отклик К.Гоцци на постановку его фьябы: «Зрители были чрезвычайно довольны этой чудесной ребяческой новинкой, и признаюсь, я смеялся и сам, чувствуя, как душа радуется детским образам, возвращавшим меня во времена моего младенчества» (5, 39). Сильный комедийный эффект дает и сфера псевдо-серьезного, основанная на корректном пародировании оперных штампов прошлого (роковые тайны, благородные страдания, козни коварных злодеев и т.п.). Однако в забавно разыгранной битве сил света и тьмы, доброй и злой магии подчас проступают смутные очертания грозовой действительности и сквозь покров театральной сказки просвечивает драматизм современной Прокофьеву эпохи. Поэтому отнюдь нешуточно, пугающими наплывами возникают отдельные кульминации, в которых ощутимо улавливаются отзвуки происходивших тогда катаклизмов (первая из них – заклинание Фаты Морганы в конце I действия). Другая аллюзия просматривается в шумных перепалках «зрителей», что по-своему фиксировало дискуссионную атмосферу рубежа 1920-х годов, сказавшуюся в жарких дебатах, азартной полемике, а также в борьбе многочисленных художественных группировок. И наконец, в преодолении Принцем «ипохондрии» и разного рода преград на пути к достижению цели утверждалась положительная программа прокофьевского поколения: бодрость, мужество, динамизм, мощный волевой напор и деятельное самоутверждение (все это концентрируется в знаменитом лейтмарше, который можно считать звуковой эмблемой начала ХХ века). Отмеченная актуализация как раз и придавала давнему сказочно-игровому сюжету особое внутреннее наполнение. «Дуэнья» написана двадцатилетием позже (1940), и это во многом совсем иной мир. Поздний Прокофьев не утратил молодости духа, но теперь он более всего стал ценить его равновесие и гармоничность, а также реальное богатство 4 Взлеты и падения оперного гения Прокофьева А.И. Демченко окружающего мира. Сбалансированность концепции начинается с ее жанрового облика, который можно обозначить формулой «лирическая комедия». Комедия характеров и положений здесь только внешне нацелена против стяжательства, а потому сатира перерождается в юмор, чаще всего мягкий и добродушный, без какой-либо напряженности и «колючести». И то, что характеристические персонажи хитрят, ловчат и брюзжат, выливается просто в смехотворные интриги и занятную буффонаду. Лирическое начало развернулось в «Дуэнье» широко, полнокровно и, хочется сказать, благоуханно. Его определяющим видовым признаком становится серенада, выступающая символом любви и счастья (начиная с Серенады Антонио, важнейшей из целого ряда лейттем и тематических реминисценций оперы). «Благоухание» более всего исходит от роскошных картин ночной природы, полной неги и ароматов, дополнительное обаяние чему придает мягкая испанская «подсветка». Именно в подобных картинах, пожалуй, и фокусируется романтика бытия, его сладостное очарование и манящее чудо (этой упоительной романтике подвластен даже делец Мендоза – см.его «музыку похищения» во II действии). В целом же эта опера пребывает в плоскости карнавальной суеты и гимнических изъявлений. В атмосферу карнавального действа вводит Вступление, перекидывающее арку к финалу оперы, озвученному в характере тостапровозглашения. Гимническая нота слышится здесь многократно, своей шумной бравурой энергично подтверждая воспевание утех и радостей жизни. Собственно радость жизни представлена в различных ипостасях – от утонченновозвышенных до бурлескно-грубоватых проявлений (к слову, с точки зрения отсутствия сатирического акцента стоит заметить, что пиршественная вакханалия в 8-й картине менее всего выглядит как обличение монашеского чревоугодия). Всё вместе взятое передает чувство влюбленности в жизнь, притягательность ее праздничных сторон, способность шутить и наслаждаться (характерна ключевая реплика в квартете, венчающем 5-ю картину – «Как светло на душе»). Опорой тому служит великолепный в своей пластике, на редкость щедрый распев с его очень широким диапазоном интонационных истоков – от старинного мадригала (партия Дон Карлоса) до современной песни-романса и даже эстрадной музыки (Танец масок). Можно утверждать, что перед нами самая мелодичная из прокофьевских опер, к чему следует присоединить и такое суждение: «В смысле концепционной стройности и ювелирной отделки деталей “Дуэнья” не имеет себе равных среди других опер Прокофьева» (6, 34). Надо думать, не последнюю роль в создании этого шедевра сыграли обстоятельства личной биографии композитора, связанные с его чувствами к М.Мендельсон, ставшей впоследствии его женой и постоянным либреттистом (их первой совместной работой как раз и была «Дуэнья»). * «Дуэнья» появилась через тринадцать лет после завершения «Игрока» и «Огненного ангела» и через семь лет после возвращения Прокофьева на роди- 5 Взлеты и падения оперного гения Прокофьева А.И. Демченко ну. В ней совершенно очевидны кардинальные перемены общего жизневосприятия композитора, однако отсутствуют какие бы то ни было идеологические наслоения. Иное дело – «Семен Котко», написанный за год до того (1939), где отдельные моменты воспринимаются как опеределенная уступка господствующим в отечественном искусстве того времени установкам. М.Тараканов в своих последних материалах о Прокофьеве, отмечая конформизм его отдельных работ советского периода, без околичностей квалифицирует «Семена Котко» как конъюнктурное сочинение (7, 203 и 289). Признавая долю справедливости в столь жесткой оценке, тем не менее необходимо заметить, что все-таки пресловутые «соцзаказы» подобным образом не выполняются. Начнем с того, что события Гражданской войны на Украине раскрываются в опере с житейских позиций, в вúдении рядовой крестьянской массы, и выдающееся завоевание композитора состоит в поразительно выпуклом и достоверном запечатлении народных характеров. Как никогда ни до, ни после он демонстрирует здесь чуткое проникновение в особенности крестьянской психологии и соответствующего уклада, сочными красками живописуя колорит сельской жизни (именно в этой опере самым непосредственным образом отразились впечатления детства, проведенного Прокофьевым в украинском селе Сонцовка). Он создает целую галерею разнообразных типов, раскрывая их внутренний мир объемно, в тонкой психологической нюансировке, порой в сложном взаимодействии противоречивых стремлений. Ярким свидетельством реалистически полнокровной обрисовки образов можно считать фигуры основных антиподов. Ременюк (председатель сельсовета, затем командир партизанского отряда), как правило, неотрывен от своего окружения, сродни односельчанам, изъясняется на их «наречии», с живой непосредственностью, без какой-либо выспренности. Ткаченко (бывший фельдфебель, состоятельный хозяин) изображен без малейшей пародированности и тем более плакатного гротеска, но от бесхитростных, открытых натур положительных героев его отличает угрюмый, тяжелый нрав и язвительная, недобрая ироничность. Ведущим средством приближения к народной музыкальной речи становится претворение людского говора – через гибкий речитатив, иногда почти напрямую воспроизводящий специфику разговорного диалога, но чаще распевный. Своеобразие интонационности, «пересыпанной» просторечногрубоватыми оборотами, опирается на специфичность диалекта смешанной русско-украинской лексики прозаического текста. С той же целью воссоздания народного духа Прокофьев впервые для себя широко вводит фольклорные цитаты и по их подобию создает ряд собственных мелодий. Свою лепту в ощущение подлинности происходящего на сцене вносит и по-шекспировски органичное сопряжение драматического и комедийного, возвышенного и жанровохарактеристического. Полюсы этого сложного, многосоставного симбиоза составляют, с одной стороны, тщательно выписанный бытовой фон как выражение обыденного течения повседневной жизни и группа тем эпического звучания, величаво-суровых, словно пришедших из толщи веков, а с другой стороны – трагедийные страницы бедствий и противостоящее этому неистощимое жиз- 6 Взлеты и падения оперного гения Прокофьева А.И. Демченко нелюбие, коренящееся в цельности и душевном здоровье народного мироощущения. К слову, на второй из отмеченных оппозиций лежит отчетливый отпечаток реалий 30-х годов: мрачная тень массового террора, насилия (через образ гайдамаков и немцев) и несмотря ни на что – яркий оптимистический настрой, а также твердыня человеческого прямодушия и доброты, отстаиваемая в столкновении с чуждыми проявлениями. Живой поток жизни, переданный в «Семене Котко», базируется на тематической работе исключительной тонкости и на той удивительной свободной организации оперного действия, которая создает впечатление максимальной достоверности изображения (закономерно, что именно с этим сценическим опытом связано появление специальной работы М.Сабининой «”Семен Котко” и проблемы оперной драматургии Прокофьева»). Новаторское музыкальнодраматургическое мастерство композитора кульминирует в эпизодах, основанных на совмещении двух и даже трех планов действия – подобный монтаж событий, происходящих одновременно, как бы независимо друг от друга, дает полный эффект жизнеподобия. С точки зрения убедительности воздействия оперы не менее важен и эффект совсем иного рода – чисто эмоциональный. Автор рисует своих героев с теплотой, доброй улыбкой, искренней симпатией, поэтизируя их облик, что в частности находит себя в щедром мелодизме, особенно обаятельном в лирических страницах (их череду начинает «лейттема родного края», открывающая оперу, а одну из вершин представляет оркестровый ноктюрн из III действия). Итак, «народная опера» как совершенно новый жанровый вид прокофьевского творчества, позднее отозвавшийся в «Войне и мире» и «Повести о настоящем человеке». В панораме аналогичных опусов историко-революционной тематики 30-х годов «Семен Котко» выделился неординарным, живым и жизненно убедительным решением. Поэтому вполне справедлива следующая оценка: «По своему художественному уровню и мастерству опера Прокофьева значительно превосходила все остальные советские оперы того времени на современную тему… Новаторская драматургия и своеобразие музыкального языка “Семена Котко” сделали это произведение выдающимся явлением» (8, 23 и 27). Вместе с тем, не приходится закрывать глаза и на то, что вызывает сомнения. Иногда складывается впечатление, что автора подчас занимает не столько суть изображаемого, сколько его внешняя, характеристическая сторона. Такова, скажем, сцена тушения пожара в конце III акта, где главным становится создание самодовлеющей картины деловитой сутолоки (начиная с восклицаний «Кишку давай!»). Совершенно очевидный срыв в этом отношении – клятва над телами павших сельских активистов (1-я картина IV действия), которая разворачивается как целая кантата на стихи «Завещания» Т.Шевченко – безмерно затянутая, официально-ритуальная по тону, выпадающая из общей стилистики произведения. Не может не обратить на себя внимание ощутимая специфичность и локализованность избранного языкового наклонения оперы, которое в смысле слушательской апперцепции нацелено «на любителя» (среди взыскательных 7 Взлеты и падения оперного гения Прокофьева А.И. Демченко ценителей таким любителем был, между прочим, С.Рихтер, чрезвычайно высоко ставивший это произведение). И, может быть, самое главное – в изменившихся ныне социально-политических условиях реальная сценическая судьба «Семена Котко» оказывается под большим вопросом (казалось бы, какие-то надежды внушает недавняя постановка «Семена Котко» в Мариинском театре, однако выполнена она в духе «соц-арта», то есть в плоскости, далеко уводящей от авторских намерений). Примерно в таком же положении находится и последняя опера Прокофьева – «Повесть о настоящем человеке» (1948). Ее локализованность и специфичность состоит прежде всего в настойчивом до назойливости утверждении советского образа жизни, в чем определяющая роль принадлежит текстовой канве («Но ведь я же советский человек…», «Кто-то вас назвал советским ангелом» и т.п.). Искреннее стремление быть «художником наших дней» (подобно Н.Мясковскому, так определившему свое творческое кредо) вело к поиску компромиссов, порой губительных для самобытности композитора. Удар рокового 48-го года настиг Прокофьева как раз во время сочинения этой оперы, и он пытался ответить на обрушившийся критический разнос созданием произведения, соответствующего возобладавшим тогда директивам, в том числе введением пяти обработок народных песен, двух собственных массовых песен и марша для духового оркестра. Получилась «правильная», профессионально добротная, но усредненная по музыкальному языку «советская опера», слушать которую можно только «по службе», но не «по душе» – все это несмотря на отдельные «блестки» (оркестровая лейттема мужества, хоровая песня о дубке, впечатляющий народный напев «Зеленая рощица», проникновенность отдельных штрихов в партии Комиссара) и новаторство драматургии, напрямую связанной с приемами кино (монтаж «кадров», наплывы и затемнения). Ввиду ослабленности художественного наполнения «Повесть о настоящем человеке» даже во времена идеологического «благоприятствования» не отваживались относить к творческим достижениям композитора. Любопытный аргумент в этом плане дает в монографии И.Нестьева «Жизнь Прокофьева» подсчет числа страниц с упоминанием и разбором двух первых зрелых опер и последней: «Игрок» – 73, «Любовь к трем апельсинам» – 66, «Повесть о настоящем человеке» – 19. В одном отношении композитор поставил перед собой невероятно рискованную задачу – воплотить облик не просто современника, а совершенно конкретного, реально существующего человека, который мог присутствовать в зрительном зале. Но это был хотя и в чем-то почти экстравагантный, но тем не менее частный ракурс более широкой проблемы, состоящей в том, что при попытках обращения в оперном жанре к современной теме перед Прокофьевым постоянно возникали определенные, не всегда преодолимые барьеры. Уже в «Семене Котко» можно было почувствовать некоторую ретроспективность стилистики, что обнаруживается в не совсем объяснимой архаической окрашенности ряда эпизодов (крен в сферу старинной украинской песенности получает итоговое выражение в скорбной «думе» бандуриста из последнего действия). В «Повести о настоящем человеке» подобные стилевые непопадания еще очевид- 8 Взлеты и падения оперного гения Прокофьева А.И. Демченко нее. Композитор пытается изредка вносить «современные» элементы, но выглядит это неубедительно (например, частушка в 6-ой картине), причем тут же, в ряде других случаев он впадает в явный анахронизм (чуждые общей интонационной атмосфере отвлеченно-балетные Вальс и Румба в 9-й картине). Таким образом, музыкально-театральное освоение современной темы в прямом и узком понимании этого слова являлось «ахиллесовой пятой» Прокофьева, и этот диагноз был подтвержден полным фиаско, которое он потерпел в ходе работы над своим последним оперным замыслом – «Далекие моря» (приступил в 1948). Это должна была быть тринадцатая по счету опера Прокофьева, однако судьба воспротивилась «чертовой дюжине». Наметив сценарий, композитор написал в клавире первую картину, но затем отказался от продолжения. Можно говорить о посредственности литературного материала, об упрощенности и облегченности сюжета (водевиль В.Дыховичного «Свадебное путешествие»), можно даже говорить о нежелании Прокофьева идти на дальнейшие уступки господствовавшим вкусам, однако основная причина состояла, очевидно, в том, что он почувствовал неадекватность сделанных музыкальных набросков этой чисто современной и заведомо «советской» теме. * Завершающие труда композитора на музыкально-театральном поприще были связаны с совершенствованием оперы «Война и мир» (основа выполнена в 1942, в 1946-47 добавлены три картины, в 1949 – несколько фрагментов и вариантов и сформирован одновечерний спектакль, а незадолго до смерти, в 1952м, сделаны некоторые доработки и окончательная редакция). При рассмотрении этого произведения, пожалуй, наибольшие трудности возникают в плане его аксиологического анализа. В противовес достаточно устоявшемуся мнению позволим себе усомниться в том, что это творение Прокофьева принадлежит к его безусловным завоеваниям. Основные претензии сводятся к следующему. На опере «Война и мир» в наибольшей мере сказалась вообще присущая композитору склонность к информативной насыщенности и событийной концентрации. В различной степени заметная в любой из поздних партитур (отчасти даже в «Дуэнье» – см. начало 3-й картины), здесь эта склонность переходит в перенасыщенность и явную перегруженность. Если отвлечься от законов оперного жанра, то следовало бы признать, что сценарно либретто сконструировано весьма мастерски: в достаточно компактное пространство С.Прокофьев и М.Мендельсон сумели вместить максимально много явлений и лиц романа Л.Толстого. Но реализуя в музыке это обилие ситуаций и чрезвычайную «многонаселенность» (72 персонажа!) и стремясь «проговорить» как можно больше текста, композитор делает непомерный акцент на внешнем действии, сбивается на пересказ и перечисление событий - иными словами, впадает в иллюстративность (И.Нестьев называет это «чисто хроникальным методом инсценировки литературного первоисточника» – 2, 557). К тому же многое здесь вязнет в служебных диалогах с их 9 Взлеты и падения оперного гения Прокофьева А.И. Демченко многословием и сниженной художественной выразительностью (для примера достаточно сослаться на сцену княжны Марьи с Наташей в 3-й картине). Отмеченное можно резюмировать раздраженным отзывом Н.Мясковского, сделанным еще в 1942 году, когда было создано 8 картин: «Опера, вероятно, не выйдет – сцена, сцена и сцена (словно это драма), словечки и т.д., а пения почти нет. Кроме того, много лишних эпизодов». Другие погрешности «Войны и мира» связаны с частичной утратой композитором непосредственного ощущения жизни. Уже в «Дуэнье» проглядывали еле приметные симптомы «музейности» (скажем, в изобретательной «искусности» сцены музицирования из 6-й картины сквозит доля искусственности). В следующей опере, стремясь в ряде эпизодов реконструировать уклад начала XIX века, Прокофьев оказывается на грани кабинетного реставраторства и за «стильностью» чувствуется нечто архивно-старомодное. Ввиду ослабленного контакта с реалиями действительности заметные потери наблюдаются в интонационной сфере, где можно встретить и ложный пафос, и назидательную риторичность, и надуманную, подчас даже выспреннюю речитацию, которой особенно много в партии Пьера. Когда-то на этот счет очень осторожно высказался Б.Асафьев: «Самый спорный момент – решительное преобладание речитативного диалога с очень обрубленными, как бы отсекаемыми интервалами» (9, 63). Эта интонационная нарочитость, за которой кроется отсутствие убеждающей подлинности речи человека, его мыслей и чувств, позже не менее ощутимо дала знать о себе в «Повести о настоящем человеке». И еще одно сближает обе последние оперы – проявляющийся иногда оттенок некой формализованности, особенно ощутимый в воинских строевых песнях. Начинается это с авторской невзыскательности к текстам, в которых немало казенного, сделанного по стереотипным клише. «Ура! За Отечество шли мы в смертный бой. Шел на смертный бой народ. Отстояли кровью Россию свою, отстояли мы край могучий свой. Вел фельдмаршал нас вперед, вел на правый бой за родимый наш край. Мы победили, враг повержен во прах. Крепко бились мы за счастье наше…» («Война и мир») «Идет на правый бой, идет народ земли родной, могучий наш народ, за нашу Родину вперед!.. В смертный бой советский человек идет защищать свой мирный край. Отстоим в бою, вся страна в строю. Несокрушимая, непобедимая, славься, любимая, славься, родная Отчизна…» («Повесть о настоящем человеке») Преодолевать такое словотворчество музыкой было невероятно трудной и по меньшей мере неблагодарной задачей. Естественно, что подобные тексты- 10 Взлеты и падения оперного гения Прокофьева А.И. Демченко прокламации чаще всего подталкивали к созданию хоровых плакатов с их деланной бодростью и условно-картинной обрисовкой образа народа. Если принять сказанное выше хотя бы частично, то возникает вопрос: на чем же базируется авторитет «Войны и мира» и ее, пусть довольно скромная, но все же реальная сценическая жизнь. Ответ складывается из трех положений. Во-первых, здесь есть несколько впечатляющих «жемчужин», и слушательское восприятие жадно цепляется за эти всплески вдохновения (два ариозо Наташи и ее Вальс, Ария Кутузова, бред князя Андрея в 12-й картине и немногое другое). Во-вторых, спектакль как таковой может производить сильное воздействие чисто визуально, поскольку потенциально это «омузыкаленное зрелище» (Б.Асафьев) располагает большим ресурсом для создания всевозможных постановочных эффектов. И в-третьих, определенную роль играет тот факт, что данная опера находится под священной сенью великого творения Льва Толстого. И так как по ряду параметров она как бы «соответствует» (монументальная эпопея, наиболее грандиозное создание композитора, добротность и мастеровитость выполнения), то возникает невольная аберрация: замысел, попытка, «замах» начинают восприниматься как результат, то есть желаемое выдается за действительное. * Подводя итоги «субъективным заметкам», синусоиду оперной эволюции Прокофьева с ценностной точки зрения можно представить следующим образом: от ранних опытов и через исходный вариант «Игрока» к опере «Любовь к трем апельсинам» (1919) и затем через «Огненного ангела» к окончательной версии «Игрока» (1927), а после «Семена Котко» – «Дуэнья» (1940) с завершающим спадом в «Войне и мире» и «Повести о настоящем человеке». Если в 1910-20-е годы композитор переживал этап дерзаний, сочиняя что хотел и как хотел, ничем себя не стесняя, то с конца 30-х, вернувшись к опере после длительной двенадцатилетней паузы и уже пройдя горнило «советизации», он начал писать с оглядкой, все чаще работая на потребу дня. Вряд ли стоит приписывать этому обстоятельству решающее значение, но факт остается фактом: из безусловных шедевров два принадлежат раннему периоду («Любовь к трем апельсинам», «Игрок») и только один следующему («Дуэнья»). Косвенным подтверждением достоверности проведенной «экспертизы» служит своеобразная композиторская самооценка художественности материала, выразившаяся в его внетеатральном продолжении. По музыке трех только что названных опер Прокофьев сделал симфонические сюиты: «Любовь к трем апельсинам» (1924), «Игрок» (1931, под названием «Портреты») и «Дуэнья» (1950, под названием «Летняя ночь»); к ним примыкает Третья симфония (1928), основанная на тематизме «Огненного ангела». Завершая аксиологические сопоставления, осмелимся утверждать, что Сергею Прокофьеву удалось создать на почве отечественного искусства лучшие образцы музыкальной драмы экспрессионистского типа («Игрок», «Огнен- 11 Взлеты и падения оперного гения Прокофьева А.И. Демченко ный ангел») и оперы-буффа («Любовь к трем апельсинам, «Дуэнья»), а также выдвинуть оригинальные жанровые модели «народной оперы» («Семен Котко») и оперы-эпопеи («Война и мир»). И при определенной уязвимости отдельных его партитур, совершенно неоспоримо, что сотворенный им оперный театр стал важной и неотъемлемой частью мировой художественной культуры. Цитируемые источники 1. 2. 3. 4. «Вечернее время», 13 мая 1916 г. Нестьев И., Жизнь Прокофьева, М, 1973. «Биржевые ведомости», 12 мая 1916 г. Ярустовский Б., Очерки по драматургии оперы ХХ века, кн.2, М., 5. 6. 7. 8. 9. Гоцци К., Сказки, М., 1983. Музыка ХХ века, книга 4, М., 1984. Русская музыка и ХХ век, М., 1997. История музыки народов СССР, т.2, М., 1970. Советская опера, М., 1982. 1978. 12