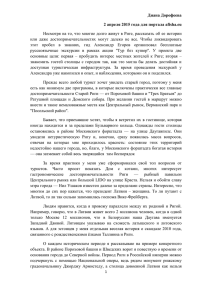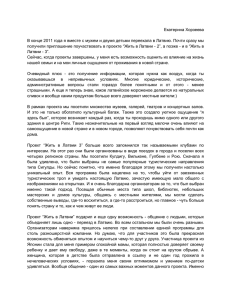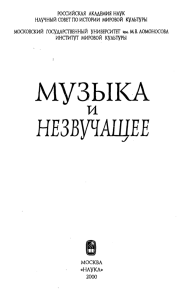История знания
advertisement
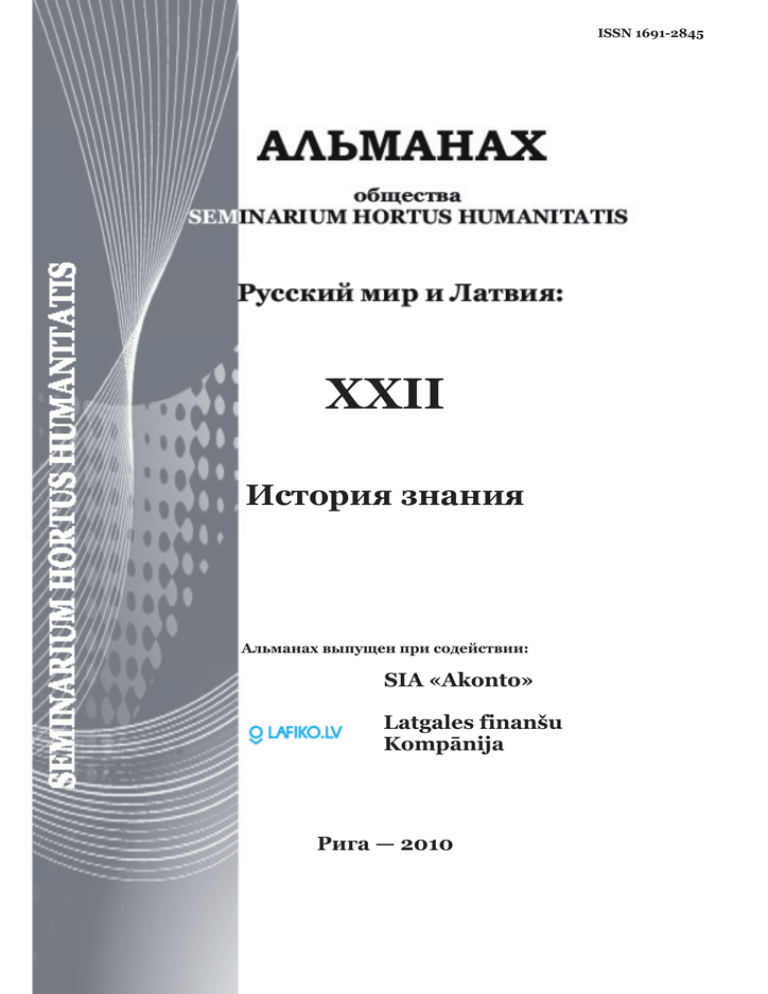
ISSN 1691-2845 XXII История знания Альманах выпущен при содействии: SIA «Akonto» Latgales finanšu Kompānija Рига — 2010 Альманах основан в 2004 г. в Риге Сергеем Мазуром Редакционный совет: С. Мазур, А. Романов Ответственный за выпуск С. Мазур Русский мир и Латвия: История знания/ под ред. С. Мазура – Рига 2010. Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS. Вып. XXII. ВНИМАНИЕ! Материалы принимаются по электронному адресу: mazur2003@neolain.lv Телефоны: 67422298, 29710885 Точки зрения авторов не обязательно совпадают с точкой зрения редакционного совета. XXII номер Альманаха «Русский мир и Латвия: История знания» посвящен проблеме формирования знания как социального феномена. В докладе российского социолога Александра Бикбова «История знания как история управления населением: по следам Мишеля Фуко» подчеркивается исторический характер знания. Знание становится современным, научным знанием в рамках европейского политического порядка при переходе в XVI веке от монархического суверенитета к дисциплинарному обществу. Юрий Сидяков публикует семь новых писем из архива епископа Иоанна (Поммера). Первое письмо написано Ольгой Окулич, дочерью Якова Егоровича Эрдели, занимавшего в 1906-1912 пост Минского губернатора. Автор второго письма – княгиня Мария Александровна Святополк-Мирская, – вдова сына атамана Войска Донского князя Владимира Святополк-Мирского. Третье письмо написано Антоном Владимировичем Карташевым, историком Церкви, богословом, общественным и государственным деятелем. Четвертое из публикуемых писем принадлежит журналисту Д. Ишевскому, автор пятого письма – Николай Степанович Батюшин, известный генерал, участник русско-японской и Первой мировой войны. И наконец последнее, седьмое письмо принадлежит пользовавшемуся в свое время известностью певцу Ф.Гонцову. Альманах продолжает публикацию материалов, посвященных наследию выдающегося историка русской культуры Латвии Бориса Федоровича Инфантьева. Представлен стенографический отчет XL Чтений «Проблемы изучения биографии Бориса Федоровича Инфантьева». Альманах предназначен для всех интересующихся социокультурной проблематикой современности. Электронная версия Альманаха на сайте http://www.humanitatis.info/ Русский мир и Латвия ISSN 1691-2845 © Сергей Мазур Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS СОДЕРЖАНИЕ Мазур С. – Образование как практика формирования гуманитарной ситуации..............5-8 Штрихи к портрету гуманитарного семинара в Риге Бим-Бад Б. – «Реформа снизу» как метод формирования гуманитарной культуры................................................................................9–11 IN MEMORIAM Романов А. – Школа Пятигорского................................................................................................12–13 ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА Философия Фрагмент из выступления А.М. Пятигорского на Втором международном симпозиуме в Звартаве на тему «Слово, которое я говорю»..........................................................................................14–20 Гуманитарные исследования Бикбов А. – История знания как история управления населением: по следам Мишеля Фуко.........................................................................21–23 Культура и религия Сидяков Ю. – Из архива Архиепископа Иоанна (Поммера). Письма разных лиц...............................................................................................................................24–29 Мазур С. – Тайная полиция, митрополит Августин и судьба Православия в Латвии после мученической кончины архиепископа Иоанна (Поммера).........................................30–34 ТЕКСТ Бакусев В. – Лестница в бездну.........................................................................................................35–40 4 СОДЕРЖАНИЕ Три века русской культуры в Латвии Талберг Ф. – К истории постановок оперы Чайковского «Евгений Онегин» в театрах Риги...................................................................................................41–46 Ракитянский А. – Рига в начале ХVIII века. Штрихи к портрету города.........................47-50 Русский писатель в Латвии Цыгальская И. – Не уходи (рассказы)............................................................................................51-77 ЧТЕНИЯ ГУМАНИТАРНОГО СЕМИНАРА Стенографический отчет (15 декабря 2009 г.) XL Чтения гуманитарного семинара SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS на тему: «Проблемы изучения биографии Бориса Федоровича Инфантьева» с участием историка Бориса Равдина, доктора исторических наук Татьяны Фейгмане, историка Олега Пухляка, доктора философии Арнольда Подмазова, библиофила Анатолия Ракитянского, председателя Латвийского общества русской культуры Елены Матьякубовой, журналиста Игоря Ватолина, преподавателя истории Сергея Мазура.........................................................................................68-78 (Инфантьев Б. - Русские в Курземском мешке .................................................................................71-73) LII Чтения гуманитарного семинара с участием музыковеда, Dr. art, профессора Рижской Академии педагогики и управления высшим образованием Бориса Аврамца и редактора программы “Классика” на Радио-3 Маруты Рубезе, докторанта РГГУ Алексея Романова на тему: «Модернизм и постмодернизм в музыке второй половины XX века»..............................................................................................79-92 Доклад Евгения Абдуллаева «Русская литература на постсоветском пространстве (институты, авторы, тексты)» на LIII Чтениях гуманитарного семинара......................93-102 FEEDBACK Чернов Л. – Советское эхо: критическое рассуждение о работе Злотникова И. и Левинтова А. «Содержание и типология схем в СМД-методологии (введение в тему)».................................103-106 Критико-библиографический раздел Анатолия Ракитянского Шром Н. 11–12 выпуск информационно-аналитического сборника «Берега»..........................................................................................................................107-108 Авторский коллектив.................................................................................................................................109 Мазур С. – Образование как практика формирования гуманитарной ситуации 5 Штрихи к портрету гуманитарного семинара в Риге Сергей Мазур Образование как практика формирования гуманитарной ситуации Гуманитарному семинару в Риге одиннадцать лет. Чтения семинара оказались своеобразной практикой самообразования для его участников – преподавателей ВУЗов, учителей, студентов, общественных деятелей, т.е. как русской, так и не русской интеллигенции Латвии. В связи с этим вопросы о педагогике и образовании стали неотъемлемой частью его рабочей программы. Первые Чтения «Школьная социальность и процедура ее ретрансляции» состоялись еще в мае 1999 г. в первой в Латвии частной школе «Latreia». Темой III-х Чтений 2002 г. была «Психагогика и образование – философско-религиозный аспект», тема V-х – «Маргинальный текст в культуре школьников», XII Чтения 2004 г. – «Образование должно быть на родном языке. Почему я так думаю?», XIII Чтения – секция «Гражданское образование», XV Чтения 2005 г. – «Место образования в современном обществе», XLVI Чтения 2009 г. – «Университет после Болоньи и его концепция образования». Три дня, с 28 по 30 октября 2009 г. в Пардаугавской основной школе г. Риги прошли XLIX Чтения на тему «Изучение и применение опыта модернизации образования» с участием доктора педагогики, академика Бориса Михайловича Бим-Бада, г. Москва. Эти же Чтения стали курсами повышения квалификации более чем для ста преподавателей общеобразовательных школ г. Риги. Дискуссия об образовании отражена на страницах Альманаха «Русский мир и Латвия», издаваемого обществом SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS (http://www.humanitatis. info). Среди публикации – Туманс Х. «Что есть образование сегодня?», Владимир Мацкевич «О локальных проблемах в глобализированном образовании», Равдин Б. «Русское образование и меньшинственные проблемы в Латвии в 192030 гг.», Мазур С. «О школе, образовательной традиции и культурных общностях», Романов А. «Язык в трех ликах образования», Бука С. «Образование – стратегическая сфера, от которой зависит будущее страны», Голубева М. «Формирует ли школа гуманитарную культуру», Димитров А. «Конституционный суд Латвии – о реформе образования. Заметки об одном постановлении», Бим-Бад Б. «Будущее как категория агогики», Сидяков Ю. «Материалы о состоянии русского образования и просвещения в Латвии в 1920 – начале 1930-х гг. Из архива архиепископа Иоанна (Поммера)» и др. В статье анализируются итоги десятилетнего обсуждения проблем латвийского образования на гуманитарном семинаре. Формирует ли школа гуманитарную культуру? «Культурой я называю запас знаний, из которого участники коммуникативных действий, стремящиеся договориться о чемлибо в этом мире, черпают нацеленные на достижение консенсуса интерпретации» Юрген Хабермас В своем философском эссе «Дегуманизация искусства» Хосе Ортега-и-Гассет стремление изучать культуру с точки зрения социологии, т.е. воздействия искусства или культуры на общество, уподобил попытке понять человека по отбрасываемой им тени. Как мы помним, гуманитарная культура возникает в эпоху Ренессанса как новая практика образования — studia humanitatis. Изначально studia humanitatis прирастала поэзией, филологией, риторикой, историей, философией (приближаясь к смыслу древнегреческой рaideia). Это было основой нового образования, противоположного старой «школьной» scientia. Интенция нового образования состояла в узнавании себя в другом, в инобытии другого, например, человека другой культуры 6 или эпохи, одним словом — другого мышления и способа жизни. Назначение человека в идее humanitas реализовывалось не только в том, чтобы преследовать свои личные цели, но и в чем-то большем. Большее достигалось творением общего, творением того, что в XX и XXI вв. называют (вкладывая, конечно, другое содержание) гражданским обществом. Спустя полтысячелетия представления о гуманитарной культуре, кажется, не претерпели значительных изменений. Как и несколько столетий тому назад, новые культуры начинаются с поэтического слова, с поэтического мышления. Собственное чувство языка дает человеку право, как в Книге Бытия, называть вещи своими именами и, следовательно, позволяет быть вменяемым и по отношению к своим делам и поступкам. Взаимосвязь, взаимообусловленность образования и культуры, таким образом, представляется непременной предпосылкой для сохранения и развития культурных общностей, в том числе существующих вне границ национальных государств. Что можно сказать, если перспективы русской культуры и образования в Латвии рассматривать с точки зрения нынешних процессов модернизации общества? Так, в рамках исследовательского проекта 2007 г. общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS «Русская культура вне метрополии» ведущий специалист латвийского общественного центра изучения политики «Providus» доктор истории Мария Голубева в интервью Альманаху «Русский мир и Латвия» использовала неопозитивистскую концепцию права Г. Харта, согласно которой идеологические, личностные и проч. ценности определяются опытом выживания общества. Скажем, если учащиеся родились после 2000 г., то их социальное окружение едва ли позволит воспринимать гуманитарные предметы серьезнее, нежели романтические фантазии или, по выражению М. Голубевой, «романтическую индоктринацию», при этом учителя оказываются «не способны интерактивными способами передать опыт людям другого поколения» из-за собственной низкой социально-психологической мотивации. Точка зрения Марии Голубевой типична для политической риторики в Латвии и ограничивается преимущественно вопросами организации и самоорганизации процессов в образовании. Весь строй речи ведущего специалиста «Providus» соответствует современной социологии с привычным для нее набором терминов и выражений: «потребитель образования», «родители как важные игроки в политике об- Штрихи к портрету гуманитарного семинара в Риге разования», «инструмент социального воздействия на государство», в том числе и оценочных вроде «все школы индифферентны» и т. д. Статистически рассчитывающее знание о школе сегодня несопоставимо выше того, что было лет 20 тому назад. Современный административные методы исключают факты небрежного хранения или заполнения внутренней документации, незнание всевозможных данных об учениках — место проживания, возраст, пол, гражданство, отношение в семье, средний коэффициент успеваемости и т.д. Но в то же время школа остается наименее изученным местом ключевых и потому зачастую самых тяжелых процессов социализации. Надо ли говорить, что при этом такие высказывания М. Голубевой, и она среди социологов не исключение, как «все школы индифферентны», «школьные учителя не способны передать опыт людям другого поколения», «современные дети не читают книги» и др. оказываются не более чем только мнениями. В 2002 году перед проведением IV Чтений, посвященных феномену книги («Книга как антипод личности») в школе, в которой на тот момент я работал, рефреном и в учительской комнате, и на собраниях педагогических и родительских повторялось одно и тоже — «ученики не читают книги». Казалось, кому как не педагогам знать своих учеников? В качестве подготовки к Чтениям был составлен опросник для учеников 8-10 классов и педагогов об их отношении к книге. И ученикам, и педагогам было предложено написать о своих предпочтениях в выборе круга чтения — классическая или современная литература, также перечислить прочитанные за последние три месяца книги (причем ученикам разрешалось включить в список программные произведения). Дополнительно педагогам предложили отделить читающих учеников от нечитающих. Результаты исследования оказались противоположны расхожему мнению о невежестве учеников. По общему количеству прочитанных книг ученики значительно превзошли педагогов. Конечно, речь шла вовсе не о прочитанных когда-то книгах, а о тех, что читаются именно сейчас. Ошиблись классные руководители и при отделении читающих учеников от нечитающих. Тематический же выбор учащихся почти поровну разделился в предпочтениях между классической (обязательной программной литературой для чтения) и современной литературой (фантастика и др.). Естественно предположить, что неизученность школы, этой terra incognitа, есть результат отсутствия исследовательского интереса со С. Мазур – Образование как практика формирования гуманитарной ситуации. стороны педагогических кафедр Латвии. Более чем за двадцать лет работы в школе ни разу не пришлось увидеть ни одного специалиста, заинтересованного в вопросе «а что же на самом деле происходит в школе и педагогике?» Феномен существования социальной материи, не осознающей, не понимающей себя, неоднократно описан в соответствующей литературе. Так, у М. Мамардашвили в его «Опыте физической метафизики» институты общественного устройства обладают способностью к самовоспроизведению и репликации — это Мераб Константинович называл инерцией социальной материи, и такое воспроизводство происходит как бы само собой — будь то реформыинновации или протесты против этих реформинноваций. Обычное дело и ничего трагического тут нет. Однако если подобные социальные стихии не становятся объектом мышления и изучения, а стало быть и не могут стать частью образования, тогда происходит, по Мамардашвили, социальное одичание. (М. Мамардашвили «Опыт физической метафизики» М., 2009, с. 131). Что мы и свидетельствуем на примере административно-педагогических парадоксов сегодняшней школы. То есть вне специальной деятельности, устанавливающей методологию исследования современной школы, ответить на вопрос о способности школы иметь дело с гуманитарной культурой, в том числе и ставить целью возникновение социального опыта у своих учеников, представляется невозможным. Кто субъект образования? Казалось бы, ответ прост: школа, министерство образования, родительские ассоциации, то есть те институты, которые обладают юридическим статусом и заняты образовательной деятельностю. Школа существует, чтобы быть посредником между учеником и культурой-обществом. При этом школа, как и любой другой институт, занята и административными делами, без чего педагогическая работа была бы невозможной. Реформа образования в Латвии, начавшаяся в первой половине 90-х гг. и продолжающаяся по сегодняшний день, представляет собой в некотором смысле благо, т.к. создает новые возможности для учащихся, учителей и школ как юридических организаций. Координация деятельности образовательных учреждений разного уровня, универсализация и стандартизация создают невиданную еще лет двадцать назад степень свободы (право выбирать программы или составлять их самостоятельно, 7 выбирать методы и последовательность преподавания учебного материала и т.д.) и одновременно, то ли по причине инерции «социальной материи», то ли как оборотная сторона того же самого процесса, увеличивают степень подчиненности и зависимости институтов-посредников от форм, порождаемых административноправовыми прожектами. Даже ограниченный опыт отдельного педагога позволяет видеть стремительно происходящие изменения. Ниже приведенные утверждения опираются только на мои личные наблюдения. Я не ставил задачи выявить источник или номер конкретного решения (постановления) Министерства образования, определяющего правовую позицию той или иной структуры школы. Это работа социолога образования. Однако для осмысления феномена образования личные наблюдения могут быть не менее ценны, чем безупречное знание административно-правового процесса. В начале 2000-х гг., как само собой разумеющееся, в каждой школе существовал педагогический совет, имеющий полномочия выбирать и утверждать направления педагогической деятельности школы. Положение любой школы содержало следующие правила: «Педагогический совет является постоянно действующим руководящим органом в образовательном учреждении для рассмотрения основополагающих вопросов образовательного процесса. Педагогический совет обсуждает и утверждает планы работы образовательного учреждения...» В настоящее время педагогический совет — это атавизм ушедшего прошлого, т.к. он потерял правовой статус. Оставаясь совещательным органом при директоре школы, совет не имеет права утверждать педагогическое направление развития школы, он остался как периодически собираемые конференции преподавателей. Двойственность ситуации заключается в том, что сторонники снижения статуса педагогического совета могли бы привести аргументы в пользу его функциональной несостоятельности. Однако, на наш взгляд, важен сам факт наличия коллективного органа с элементами самостоятельности, правом принимать те или иные решения, пусть даже только педагогического характера. В управленческой действительности создаются не только «хорошие» нормы, но инструменты, с помощью которых можно было бы воздействовать на ситуацию. Как бы ни менялись времена, проблема включения ученика в учебный процесс (извечный вопрос: как заставить учиться) остается прежней. Социальные институты-посредники не способны к созданию новых инструментов 8 для решения проблемы включения ученика в учебный процесс, т.к. это удел автономных педагогических коллективов. Поэтому модель будущей школы может быть сформирована прежде всего при условии четкой границы, разделяющей правовую сторону образования от автономных педагогических коллективов, создающих новые инструменты (методические, организационные, педагогические) внутри самой образовательной практики. Элементы самостоятельности в свое время были присущи и школьным профсоюзным организациям. Если еще на закате советской эпохи частью стиля руководства школой было обязательное на всех педагогических собраниях сопредседательство директора и профсоюзного лидера, то в настоящее время, как правило, даже внутри школы мало кто знает учителя, занимающегося профсоюзной работой. Роль же профсоюза в целом свелась к воздействию на администрацию школы, которая в случае увольнения работника предварительно должна согласовывать это действие с профсоюзной организацией. Социальная солидарность — одно из проявлений независимости учителей. Вместе с ликвидацией районных методических объединений в Риге в год экономического кризиса исчезла и практика солидарности учителей-предметников, проявлявшаяся в добровольном участии в качестве проверяющих работы школьников на районных олимпиадах. С прошлого года участие учителя в качестве проверяющего олимпиадные работы уже не акт добровольного выбора, а выполнение приказа, который получает школа от вышестоящей инстанции. Перераспределение административных и педагогических функций внутри школы и образования в целом является частью более глобальной и вполне естественной тенденции — укрепления позиций бюрократии в обществе. Насколько верным будет предположить, что административно-правовые критерии становятся главным мерилом образования прежде всего из-за равнодушия к выполнению своего педагогического дела самих же учителей? Если еще в начале 90-х гг. устный ответ по одному из гуманитарных предметов (истории, например) был пригоден для выпускного экзамена, то в 2010 г. он исключен не только из экзаменов, но (постепенно вытесняется) из практики оценивания ответа ученика на уроке. Главное для административно-правовой стороны — репрезен- Штрихи к портрету гуманитарного семинара в Риге тация, т.е. предъявление доказательства в случае конфликта сторон. Если ученик не согласен с отметкой, то учитель в качестве оправдания может предъявить только письменную работу, устный же ответ репрезентации не подлежит. Это вполне демократическое и в этом отношении (скажем, в правовом) полезное достижение нынешней школьной модернизации. Но полезна ли такая реформа для дела педагогики? Административно-правовые изменения породили язык реформы образования с характерной для него терминологией: конкурентоспособность, инновация, модернизация и проч. Язык чиновников образования – канцелярит, таковым этот язык и должен быть. Язык собственно образования независимо от своего предмета ни при каких условиях канцеляритом быть не может. Соответственно и к субъекту образования в собственном смысле слова неприменимы высказывания на канцелярите. Вопрос о субъектности в образовании впервые на гуманитарном семинаре был поставлен на XIII Чтениях в мае 2004 г. «Проблема гражданского общества в Латвии» на секции «Образование». Чтения происходили на фоне массового протеста против языковой реформы в школе, поэтому и выступление на гуманитарном семинаре экс-премьер-министра Латвии Ивара Годманиса «Эпоха простых политических мотиваций закончилась. Что впереди?» и сама действительность как бы обязывали обратиться к вопросу: а в каких отношениях должны быть культура, общество и государство, чтобы нынешние административные реформы не привносили бы в дела образования ничего против здравого смысла? Одним из результатов XIII Чтений стал ряд публикаций в Альманахе, размышлений о том, что принадлежность (политическая, юридическая и проч.) не определяет субъекта работы учителя. Субъектность в нашем случае — это стремление к автономии именно в педагогической (а не в административной, нормативной) деятельности, т.е. там, где есть возможность сформулировать цели, выходящие за рамки утилитарной целесообразности, связанной с выбором карьеры и прочими веяниями модернизации. Именно гуманитарная культура, берущая свои истоки в философии, в истории, в литературе позволяет учителю любого предмета быть именно учителем-педагогом. Выступление академика Б.М. Бим-Бада на XLIX Чтениях гуманитарного семинара в Риге 9 «Реформа снизу» как метод формирования гуманитарной культуры Выступление академика Б.М. Бим-Бада на XLIX Чтениях гуманитарного семинара в Риге (фрагмент) Для того, чтобы понять, что и как практически, реально перенимает массовая школа у элитарной, нам есть смысл чуть-чуть присмотреться к особенностям этой элитарной школы в ее динамике, в ее истории, в ее развитии и ее сегодняшнем состоянии. Но поскольку это очень большая история, как мы уже обнаружили, она охватывает большую часть человеческой истории, за исключением лишь нескольких последних столетий, то мы целиком ее не успеем рассмотреть. Поэтому я предлагаю остановиться на ключевых моментах. Я хотел бы, чтобы вы почувствовали образование свободных людей, в свободной школе на примере только одном, но зато мы его чуть подробнее рассмотрим. Это пример подготовки к отправлению государственной должности императора всея Руси царя Польского, князя Финляндского и прочая, и прочая, и прочая, Его Императорского Величества Александра Николаевича II, Божьей милостью Императора Всероссийского. Почему именно его? Потому, что из всего дома Романовых больше всех, системнее всех, дольше всех и эффективнее всех учили именно его буквально с 6-8 лет, так получилось. Дело в том, что Николай Павлович, Николай I, российский император, которого в одно время в наших учебниках называли Николаем Палкиным, был на самом деле внимательным, умным, серьезным и ответственным не только лидером великой страны, не только участником управления мира, но и отцом одновременно любящим и нежным, требовательным и заботливым. Быть может, под влиянием бабки своей Екатерины II Великой, которая очень заботилась о воспитании Александра I, и если бы она этого не делала, то скорее всего и у Николая I ничего бы не получилось с обучением наследника престола... Но это очень долгий вопрос, под чьим влиянием он собрал очень рано великолепную команду. Мы бы назвали ее сегодня профессорско-педагогический состав. Специальная школа, которая вошла в историю человечества под названием «La Petite Ecole» — «Малой школой» в Зимнем дворце, в которой училось целых три ученика — сам наследник, потом два его ровесника, один чуть постарше, другой помоложе, один чуть поталантливее от природы, быстрее схватывающий знания для того, чтобы Александр тянулся за ним, чтобы было куда расти. Другой, наоборот, чуть помедленнее, чтобы Александр чувствовал, что он растет правильно и быстро. Так получилось, подбор учеников был гениальный. Но основная мудрость Николая I проявилась в том, что он поставил во главе этой беспрецедентной в человеческой истории школы человека удивительного и абсолютно гениального. Это был один из величайших русских поэтов, это был ученый, историк, филолог, этнограф, историк церкви, лингвист. Это был человек, обладавший колоссальным опытом обучения немецких княжен русскому языку. Я надеюсь, вы в курсе дела — все русские царицы и все их дети были не как в Китае — китайками, а были исключительно только немками. Притом настолько немками, что их приходилось очень серьезно учить русскому языку. А человек, о котором идет речь, исхитрился учить их весело, надежно. Все его уважали, двор его носил на руках, армия его боготворила, потому что он воспевал подвиги русских солдат. Это был человек, любимый целым народом и обладавший совершенно фантастическими талантами. Это была гордость нашего отечества — Василий Андреевич Жуковский. Вы, наверное, знаете, что он был самым близким другом Пушкина. Он принял предложение двора возглавить обучение наследника, только договорившись с Пушкиным о том, что они исхитрятся так воспитать наследника, чтобы он, став царем, отменил бы крепостное право. И они этого добились. Вы помните строки Пушкина: «Увижу ль, о друзья! народ неугнетенный И рабство, падшее по манию царя, И над отечеством свободы просвещенной Взойдет ли наконец прекрасная заря?» И вот эту программу Жуковский выполнил под постоянным наблюдением и при непосредственном участии А.С. Пушкина. Это был педагогический заговор, который полностью удался, когда не потребовалось ни переворота, ни захвата Зимнего дворца, ни экспроприации экспроприаторов для того, чтобы Россию сделать русским государством. Благодаря действию этой привилегированной школы подавляющее большинство населения России из рабов стало гражданами. Впервые империя стала государством русских людей, свободных людей. Разумеется, настоящие рабы воспринимали это как трагедию. На самом деле освобождение от рабства вещь страшная и ужасная. И Пушкин, 10 Выступление академика Б.М. Бим-Бада на XLIX Чтениях гуманитарного семинара в Риге и Жуковский это понимали. Помните, у Чехова в «Вишневом саде» Фирс говорит: «Вот так же сова ухала перед бедой». Какой бедой? — его спрашивают. «Да перед волей». Для огромного большинства людей, выросших в рабстве, свобода — величайшее несчастье, страшная катастрофа, беда, крушение мира. В огромном количестве случаев освобожденные рабы начинают убивать друг друга осколками своих оков. Так было всегда в человеческой истории вплоть до XX века и даже до XXI века, потому что они не умеют иначе поддержать свое существование, как отняв у ближнего изо рта все, что он ест. Рабство — вещь чудовищная. Чтобы сделать Россию не такой отсталой, не с таким затянувшимся, не с таким варварским, не с таким азиатским рабством, для этого и трудился Жуковский и его бесценный друг и великий мыслитель А.С. Пушкин. Но они бы ничего не сделали, если бы им не помог еще один их друг, величайший юрист в истории Европы, человек, собравший полный кодекс русских законов за всю историю существования Руси, человек, который направил на рельсы правовую жизнь нашего государства Российского и прилегающих районов. Тогда и для Лифляндии трудился этот гигант. Вы наверняка вспомните его имя, т.к. оно заслуживает вечной памяти. Когда Наполеон поговорил с ним всего час-другой, то подошел к Александру I и сказал — отдайте мне Сперанского, я вам за него пол-Европы прирежу. Михаил Михайлович Сперанский — гениальный человек, этнически польского происхождения, на самом деле подлинный русский патриот, он тоже участвовал в этом заговоре, в этой маленькой школе. Он вел у будущего императора правоведение, государствоведение, историю права, т.е. весь комплекс юридических дисциплин, очень много с ним работал. Александр II бесконечно был ему благодарен, осыпал его всякими милостями. К этому времени Николай I вернул его уже из ссылки, в которую его послал забоявшийся Карамзина и прочих крепостников Александр I, хотя Александр I дружил со Сперанским по-настоящему и всерьез. Дело в том, что не только Александр I, но и Павел думал о том, чтобы освободить крестьян. Александр I начал действовать в этом направлении, что немедленно поставило на дыбы крепостников, и они через Карамзина так напугали Александра I, что тот открестился от Сперанского и сослал его в почетную ссылку в Сибирь губернатором разных сибирских губерний. Но к тому времени, о котором у нас идет речь, его снова вернули. Он снова был при дворе, снова был в чести, встречался с Пушкиным и Жуковским. История не запротоколировала их встречи, но по косвенным свидетельствам и по отдельным записям в дневниках Пушкина мы знаем, что обсуждался и наследник, и подготовка его даже не к коронации, а к тому, что в католической церкви называется конфирмацией. У Пушкина в дневниках много записей о том, что ожидалось от наследника и как он себя вел, как себя проявил. Чему же учили в маленькой школе? Учили по строгому плану, который составил сам Василий Андреевич. Не с потолка взял, а потратив несколько лет на то, чтобы объездить Европу, полсвета и собрать все сведения об аристократическом воспитании, о подготовке принцев, освоив колоссальный пласт культуры, называемый воспитанием принцев, восходящей еще к Древней Греции, к «Киропедии» Ксенофонта, когда тот описывал подготовку персидского царя Кира, его обучение, систему подготовки к власти, владению миром. Много веков спустя такие мыслители, как Эразм Роттердамский, внесли огромный вклад в культуру воспитания принцев, подготовке к власти. Жуковский изучил это все. Он изучил Ф. Фенелона с его бессмертными «Приключениями Телемака», где рассказывается о требованиях к государю новой эпохи XVII столетия. Характерно, что Пушкин читал параллельно Жуковскому то, что тот изучал при подготовке новой школы. Например, сохранился экземпляр книжки Ф. Фенелона «Приключения Телемака» с пометками Пушкина. А там очень много требований к подготовке государя. Он изучил шестнадцатитомный труд «Курс занятий по обучению принца Пармского», написанный для подготовки внука Людовика XV — инфанта дона Фердинанда, — совершенно гениальным философом Этьеном Бонно де Кондильяком. На самом деле это великая, очень тонкая, невероятно сложная культура, потому что надо не только влюбить будущего правителя в этот мир, но нужно научить его еще огромной осторожности и при этом способности властвовать, управлять, вести за собой и избегать серьезных ошибок. Только изучив все это, Жуковский... он очень много немцев, конечно, исследовал начала XIX столетия, там ведь тоже много было сделано для подготовки курфюрстов, он набросал план обучения и воспитания его императорского высочества, наследника русского престола князя Александра. И этот план, сохранившийся до сего дня, напечатанный и в полном собрании сочинений Жуковского, и в массе всяких хрестоматий, специально изучал Николай I и высочайше одобрил. «Быть по сему!» — значится на титле этого плана. С чего же начинали школу эти ученые мужи, готовящие будущего правителя мира? Вы думаете, с религии, вы думаете со знания общества? Чтобы вы ни думали, они начинали (только не падайте в обморок) с законов физики! Оказывается, чтобы научится уважать закон, ставить закон превыше всего, для того, чтобы рассматривать закон, по формулировке Гегеля, как «шествие Бога по земле», чтобы всю жизнь поставить на основу закона, надо было научиться сначала понимать закономерность мира. Такую закономерность, что всякое нарушение мирового закона немедленно наказывается самым трагическим, самым болезненным, самым чудовищным образом. Поэтому искусство царствовать начиналось с изу- Выступление академика Б.М. Бим-Бада на XLIX Чтениях гуманитарного семинара в Риге чения законов инерции, с законов гравитации, с законов химического соединения, с законов поведения всего живого. Естествознание лежало в основе подготовки царя. И только очень постепенно Жуковский переводил своего воспитанника к знакомству с устройством общества, к человековедению в широком плане. И в конце концов венчало его план понимание себя, своего «я». Сначала понимай мир с его законами, потом общество, а потом «я». Надо сказать, что как материал учащиеся этой школы были совсем не сахар. Александр — наследник был и застенчив, и ленив, и очень серьезно пришлось с ним поработать не одному Жуковскому, а еще, страшно повезло, одному немцу Карлу Мердору, которого отец Николай заметил еще во время войны с Наполеоном в Германии. Удивительное это было существо — преданный невероятно, требовательный, терпеливый, бесконечно чистый человек. Мы ему очень многим обязаны. Он рано умер от раны. Но он был как бы дядькой Александра II. Подобралась удивительная команда и она справилась со всеми трудностями — и с чванливостью, и с неуместной горделивостью, и с кучей других вещей, и воспитала человека удивительно совестливого, чуткого. Ведь чем закончилась школа Жуковского? Путешествием! Никакое образование, не только элитарное, но сколько-нибудь уважающее себя не может обойтись без путешествий. Это и между учебными годами и при окончании учебного заведения. И Жуковский, несмотря на старые годы свои, трясся по всей России по бездорожью без колеи. Вместе с наследниками объездил всю Россию. Как только наследник добрался до Сибири, где «во глубине руд» томились декабристы, он немедленно, а это явно под диктовку или под влиянием Жуковского, но во всяком случае собственной рукой написал письмо отцу о необходимости облегчить участь декабристов. Очень многих освободили, многим сняли кандалы. Александр обожал благотворительность, и хитрый Жуковский немедленно этим воспользовался. Он долго думал, мы знаем это по дневниковым записям, за что же зацепиться, чтобы стимулировать Александра, чтобы он энергичнее учился. И, наконец, понял, за благотворительность... Значит, он подкупал своего наследника возможностью оказывать благодеяния. Вот будет семь пятерок, получишь столько-то денег на благотворительность. Сдашь экзамены... а экзамены сдавались кому? Императору, Николаю I и матушке царице Александре Федоровне, ну и вообще ученейшим людям России. Сдашь хорошо экзамены, сможешь сделать столько-то добрых дел, прямо таксу составил. Это было, конечно, ужасно, как если бы сегодняшний родитель платил бы нашему обычному школьнику деньги за хорошие отметки. Но Жуковский пошел по этому пути. Факт остается фактом. Оказывается, помогать страдающим, помогать несчастным, помогать людям в беде было для на- 11 следника настолько высшим наслаждением, что ради этой возможности он старался чрезвычайно. И действительно, эта поездка была поездкой великого благотворителя, очень много сделавшего даже по маршруту своего следования. Я уже не говорю о всем маршруте его последующей жизни. Как учили царя, мы знаем не просто хорошо, не просто отлично... по минутам знаем. Что делалось на каждом уроке, что задавалось для самостоятельности и активности. Как и в чем постепенно проявлял себя наследник, осваивая новые предметы. Друзья, это удивительная история, и глубоко закономерно, что, к великому сожалению, Пушкин не успел дожить до этого, что Александр, став императором, не испугался охоты на себя, не испугался ненависти, не испугался опасности для жизни, в конце концов пожертвовал ею для того, чтобы дать очень мощный стимул развитию отечества, освободить крестьян. А следующая реформа после освобождения крестьян, непосредственно за ней идущая, была реформа образования, потому что для Александра II это была предпосылка и для других реформ — судебной, военной и коммерческой, и управленческой и всякой иной. Он справедливо вошел в историю как царь-реформатор. Ведь полный его титул — царь-освободитель и реформатор. Оказывается, человека можно программировать, человека можно формировать, человека можно подвигнуть на немыслимые подвиги, если быть при этом природо-сообразным ему, считаться с особенностями данного ребенка и человека вообще, и давать культуру серьезную и глубокую. Когда-то Аристотель очень точно сказал – если образование неглубоко проникло в человека, оно не дает хороших всходов, а иногда бывает и вредным. Добавлю уже от себя, я не цитирую Аристотеля, я его комментирую. Дело в том, что человек необразованный знает, что он необразованный и поэтому не задирает нос и не считает себя судьей всего на свете. А человек чуть-чуть образованный, но не глубоко, наоборот, позволяет себе самомнение. И это очень опасно. Так вот Аристотель говорил, что образование должно достигнуть большой глубины в человеческой душе для того, чтобы дать серьезный всход. Полуобразованность хуже образованности. Такие школы, готовившие властителей, существовали в аристократической Европе. Мы знаем, что постепенно с нарастающей скоростью аристократия сходит с исторической арены и уступает место сначала аристократии денег, к сожалению, совсем другого качества и запаха аристократии. И только в наше время она начинает сменяться аристократией духа, когда в нашу эпоху знания приобретают настолько большое значение, что уже не деньги ведут к власти над миром, а начинается власть знания. Но это знания в том глубоком аристотелевском смысле. IN MEMORIAM 12 IN MEMORIAM Алексей Романов Школа Пятигорского Мы утверждаем, что достойный человек не считает чем-то ужасным смерть другого, тоже достойного человека, хотя бы это и был его друг. Платон, Государство 387d. Создатели фильмов о А.М. Пятигорском не упускают такой экзотической особенности Александра Моисеевича, как приверженность его тибетскому буддизму. То есть не в качестве ученого востоковеда-буддолога, а именно приверженца всамделишного. При этом А.М. Пятигорский демонстрируется за чтением ламаистских мантр в ритуале подношения трем драгоценностям буддизма — Будде, Дхарме и Сангхе. В начале 70-х вокруг Бидии Дандарона, буддолога и историка, после двух концлагерей оказавшегося в Питере, образовалась община интеллектуалов. Буддистская община включала в том числе ленинградские и московские интеллигентские кружки. Пятигорский был из Москвы. После разгона дандароновцев Пятигорского только «проверили», но не тронули. А в 74-м в мордовском концлагере на 60-м году жизни Бидия Дандарон «ушел в свою истинную природу», в «бардо дхарматы», а Пятигорский уехал в Лондон. Но, будучи к тому же по философской специальности буддологом, с тех пор и до конца жизни каждое утро начинал с чтения мантр, которые получил при посвящении в Бурятии. Подношение трем драгоценностям входило в этот ритуал. Вместе с Буддой — «истинной природой», Дхармой — учением по освобождению, третьей драгоценностью, то есть необходимой в ряду первых двух, упоминается еще и Сангха, община, в которой это учение по освобождению, дхарма, осваивается. То есть учение-дхарма только в сангхе-общине «дает плод», может успешно передаваться к тому способным. Самыми непредсказуемыми путями такая философская сангха возникла в Риге и под непосредственным водительством Пятигорского энергично действовала 10 лет подряд, с 1997 до 2007. Через два года в Лондоне А.М. Пятигорский «ушел в свою истинную природу». «Плод учения» этой философской общины внешне выглядел так: четыре открытых лекционных курса, прочитанных в Латвийском университете, пять международных симпозиумов в Звартаве, три летние школы в Павилосте. Университетские лекции были для всех без ограничений, на симпозиумах было человек 2030, в летней школе — 7. Дальше шли уже только друзья. То, что настоящее и самое глубокое философствование возможно только как беседа с друзьями, мы найдем уже у Платона (VII-е письмо). Мартин Хайдеггер предупреждал, что занятие философией может быть самой закоренелой формой самообмана в том, что мы мыслим только потому, что непрерывно «философствуем». «Философствуем» значит изучаем и комментируем философские тексты или придумываем свое видение и понимание чего-либо. Кто слышал А. Пятигорского, тот помнит его стиль рассуждений посредством блестящих и театрально излагаемых парадоксов, оказывавшихся в то же время началом глубоких и труднейших ходов мысли. В беседе с ним очень могло случиться (и еще как случалось), что какой-нибудь жизненный анекдот тотчас же продолжался рассуждением с чрезвычайно необычным поворотом мысли. В таких рассуждениях Александр Моисеевич не был обусловлен ни местом, казалось бы, самым для этого неподходящим, ни временем, ни даже слушателями. В фильме «Сбежавший философ» мизансцены таких рассуждений видны отлично — коммунальная кухня, тамбур вагона, лондонское такси... прибавим сюда еще академическую аудиторию. Такое впечатление, что А. Пятигорскому просто надо было о чем-нибудь заговорить, например, отвечая на вопрос, чтобы собеседник оказался тотчас ввергнутым в какой-то новый для себя способ отношений к своим же собственным обстоятельствам. А. Романов — Школа Пятигорского «Жить и философствовать для меня это вопрос физиологии и смерти». Но что тогда значит «философствовать» и что такое «мыслить»? «Мы только начали мыслить, а дальше может случится многое. А может, как и бывает в 99% случаях, и ничего не случится». Спросим — почему что-то может случиться? Настоящая глубина обращения к предмету мысли переподчиняет этой обращенности и всю мою жизнь, и нечто случившееся в такой жизни становится одновременно и событием понимания неожиданно открывшихся вещей. Пятигорский сам формулировал темы всех пяти симпозиумов в Звартаве, на которые приглашались философы из России, из Европы и из Америки. Вот эти темы, насколько верно я запомнил: «Личность, о которой я говорю», «Слово, которое я говорю», «Место, из которого я думаю», «Что я думаю о мысли, которую сейчас мыслю?» и «Я сейчас думаю»: что такое «я», когда я думаю?». Были и правила для выступлений и ведения дискуссий. Говорить можно было только от себя, не ссылаясь для подтверждения своих соображений ни на какие авторитеты. Каждый говорящий при этом должен представлять тоже только себя, а не школу, направление, страну, этнос, религию. В правилах был даже запрет на употребление некоторых слов, таких например, как деконструкция, дискурс, идентичность, интертекст и постмодернизм. Разумеется, подобные экстравагантные регулы (всего их было 10) давали участникам симпозиумов прекрасный повод для постоянного упражнения в остроумии, однако смысл этих правил и запретов совершенно ясен — в обращенности мышления к предмету мысли ты должен быть «голым». В полной мере такая «обнаженность» касается и языка мысли — по возможности это должен быть самый обыкновенный и ближайший язык повседневности безо всяких готовых «подпорок» во избежание самообмана. Иначе, по выражению Хайдеггера, из привычного круга науки и философии не выпрыгнешь, и придется довольствоваться 99 процентами «неслучившейся жизни». Такие условия мыслительной работы были мало подходящими для представителей академической науки — «голыми» они оказыва- 13 лись беспомощными и бесплодными. По этой причине в рижской «сангхе» на всех ее уровнях философы-«профессионалы» были редким и незавидным исключением, а «общину» составляли люди занятий самых разнообразных, от политика до кладбищенского сторожа. Тем не менее в такой необычной аудитории занятия отнюдь не были любительщиной. Чтение и комментирование первоисточников требовали подготовки по меньшей мере на уровне студентов спецкурса. Дисциплина рассуждения была главным требованием, а условием такой дисциплины было никогда не терять из виду оснований своих рассуждений. Историко-философские экскурсы служили для этого материалом. Умение задавать вопросы по существу дела означает и умение выстраивать ходы собственного мышления. Почему иначе как задавая вопросы мыслить невозможно? Заданный по существу вопрос есть свидетельство желания понимать и понимать определенным образом. Отсюда и исходило требование знать тексты, их историографию и текстологию настолько, чтобы задавать по ходу их чтения грамотные вопросы. Иначе следить за комментариями Александра Моисеевича было невозможно. Но даже спрашивая или выслушивая ответы на вопросы других ты все равно в конце концов на каком-то переходе срывался, в смущении отставал и оставался со своей темнотой. Может быть, именно о таком состоянии в фильме «Сбежавший философ» говорил Пятигорский, стоя в тамбуре вагона с сигаретой: «Что я знаю о себе, чего никто знать не может? Это непрерывная, пожизненная неясность для меня своего собственного мышления». Кажется, о подобной прижизненной неясности для стремящейся к собственной природе душе много говорит у Платона Сократ в диалоге Федон. Во всяком случае, такая неясность, осмелюсь предположить, для некоторых из нас была событием только периодическим. Станет ли оно пожизненным, зависит теперь от нас, от того, как каждый из нас распорядится этим «плодом учения», полученным в рижской «сангхе» на всех ее уровнях. ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА – Философия 14 ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА Философия Слово, которое я говорю Фрагмент из выступления А.М. Пятигорского на Втором международном симпозиуме в Звартаве на тему «Слово, которое я говорю». Среди участников этого симпозиума был и В.В. Бибихин. Другие участники симпозиума, упоминающиеся в этом фрагменте: Улдис Тиронс, редактор журнала «Rīgas Laiks», Арнис Ритупс, философ и публицист, Вардан Айрапетян, филолог, Заза Шатиришвили, филолог. Пятигорский: Простите за такую безвкусную педагогичность, но я действительно ненавижу… Есть очень мало вещей, которые я ненавижу, но я ненавижу (притом, что другим и себе могу простить любую ошибку), когда кто-то, и я в первую очередь, употребляет слова, употребление которых им не осознано. То есть слов должно быть… ну, как придётся — мало или много, но ты за них должен отвечать. Конечно, не ты же его сделал, это слово, но ты должен отвечать за своё применение этого слова в твоём говорении. И вот я сейчас употребил… К чему я вот это сказал? Я сейчас употребил слово «философская позиция», и я хочу совсем кратко сказать, что я в данном случае имею в виду. Это ни в коем случае не определение… И вот в этом смысле мне хотелось бы сослаться, или, скорее — соотнестись, соотнести себя, потому что тогда выяснится, почему это «философская позиция». Когда я говорю: «философская позиция», я прежде всего имею в виду — «другая философская позиция», не то, что одна позиция «философская», а другая «филологическая» или «лингвистическая» или «историческая», а что само понятие и слово «философская позиция» означает «другая философская позиция». И поэтому имеет смысл сказать: «А какая в отношении этой «другой» другая?» И вот я при этом хочу сослаться на позицию в отношении философии, которую условно можно назвать, там … «витгенштейнианской», то есть которую не сам он сказал, а вот скорее на основании слов мэтра любили формулировать с той или иной степенью текстуальной точности его ученики, такие, как, скажем там… Энском (Elizabeth Anscombe) очень плохо формулировала всё, потому что всё помнила и точно знала. А, вы знаете, знания и память — они мешают формулировке, ну, как Энском и, скажем, Хакер (Hacker P.M.S.). Так вот как можно сказать, что можно сказать о философской позиции Витгенштейна? Вернее, нет… Сейчас это стало почти как Маркс и марксизм, вот… Так Витгенштейн и витгенштейнианизм. Ну, в отношении философии эта позиция, она может примерно... так — очень примерно и популярно описана так, что в общем-то язык, э-э-э… язык — один и тот же. Ну — более или менее, то есть медленно меняется. Кстати, если будут возражения или вопросы, то, пожалуйста, просто прерывайте и говорите… То есть меняется медленно. И поскольку философия есть осознание и переосознание, в конечном счёте… вот можно сказать там — «понятий», а в конечном счёте даже «слов», то поэтому в сравнении, скажем, с другими науками философия, как какой-то поиск истинного, она тоже изменяется. Гораздо медленнее, чем, скажем, физика, геометрия или даже та же лингвистика, если принять во внимание очень ранние лингвистики. Именно в силу чрезвычайно медленного… вот такого изменения языка. Оттого основные проблемы философии на языке витгенштейнианства, они, в общем-то, всё время повторяются, они мало меняются. И вот всё время надо что-то делать с остающимся языком. И когда я говорю о философской позиции, я хочу сказать, что моя философская позиция, конечно, в этом отношении другая, и мне придётся поэтому… придётся сказать о моей. А. Пятигорский – Слово, которое я говорю Ради Бога, пусть это не звучит гордо и самоуверенно, когда я говорю — «моей». Но ведь она действительно моя, не потому, что она хорошая или какая-нибудь особенно вот такая там… — другая. Может, она просто совершенно никуда не годится! Поэтому, не желая компрометировать никакой другой позиции, я просто свою называю — «моя». И вот в смысле соотношения именно с языком моя позиция, действительно, другая… Не новая, вот ради Бога, я вас прошу понять это — а может, она вообще уже сто раз и раньше была, а я там перепеваю кого-то! Она не новая, она другая. Она как бы другая скорее для меня, в моём представлении, не во временном смысле, а просто — вот одна позиция, вот другая позиция… (стучит по столу) — Вот на этом столе можно разложить карточки с этими позициями… Вот какая она — очень элементарно, вот совсем элементарно: я не считаю, что соотношение философии и языка столь просто, как говорят витгенштейнианцы. В смысле вот этой моей философской позиции, э-э-э… — это не так. А вот «почему?» – вот тут я просто хочу сказать, почему. Потому что эта позиция совершенно не принимает какой-то высказанный и не высказанный витгенштейнианский… гораздо более, чем витгенштейновский, постулат о языке в принципе. Так вот, я позволю себе никак не критику, но, если хотите, какую-то редукцию этой постулативности не только даже в отношении витгенштейнианства, но и всей школы анализа языка, в особенности даже не в её кембриджском, а скорее даже в оксфордском варианте, и поэтому я могу их постулат вместе с витгенштейнианским сформулировать так… Но здесь я прошу вас обратить внимание на то обстоятельство, что это я говорю о них, как они говорят о языке, а не они говорят. Для меня эта их позиция в отношении языка очень легко редуцируется к следующему… Она исходит из презумпции абсолютной переводимости. Язык как феномен пусть многообразный, то есть много языков, но мы говорим о том языке, о том конструкте, внутри которого всё может быть переведено, плохо или хорошо, полно или неполно, правильно или неправильно, но существует презумпция: на левой стороне — греческий, на правой — древнеегипетский, на левой стороне раскрытого листа — немецкий, на правой — английский. Вот это картина абсолютной переводимости, из которой — конечно, для меня, то есть в смысле моей позиции, язык для них всех — один язык. 15 Это то, чего я, совершенно физиологически, понять не в состоянии, для меня не существует одного языка, ну… может быть, в силу ограниченности моего воображения, а язык существует только в его множественности. И для меня переводимость — это какое-то вероятностное понятие… Ну вот можно там… перевести, а можно не перевести, а можно перевести с большей точностью, с меньшей точностью, а можно — никак. То есть сюда входит и невозможность. И это, я думаю, важнейшее отличие моей философской позиции от всей, я бы сказал, оксфордско-кембриджской и той колоссальной философсколингвистической волны, которая захватила не только западный мир, но и такой, скажем, более восточный, я бы сказал… И которая, с другой стороны, зримо или незримо стала основой каких-то структуральных концепций и постструктуральных концепций, не обязательно всех… При этом я вовсе не подвергаю сомнению ценность и такого подхода, он просто не мой, а это я никак не могу счесть чьим бы то ни было недостатком. Так вот, когда я говорю, что я исхожу из несуществования одного языка, это не теория для меня — это, скорее, какая-то эмпирика… — «Нет, вот это», — допустим, — «совершенно невозможно перевести…» Ну, конечно, чтобы дать вам пример даже не непереводимости, а вот пример такого рода вероятностности. Ну, он яснее всего виден на переводе древних буддийских текстов, которые написаны на языке пали, абсолютно чистом индоевропейском языке, где, если вы его выучили и если вы носитель индоевропейского языка, русского, английского, французского… ну — никаких трудностей. Будут трудности, огромное количество, но те, которые возникают при изучении какого бы то ни было другого языка. Но вот когда оказалось, что нужно переводить... а почему нужно? А потому, что Будда сказал, что их нужно перевести на другие языки, чтобы говорить на других языках, нести в другие племена, то переводить на языки не другой группы, а другой семьи, а именно тибето-сино-бирманской, то, интересно, как два языка этой семьи, тибето-синобирманской, тибетский и китайский, по-разному отнеслись к переводу. Тибетцы довели принцип кальки до какого-то совершенно фантастического максимума… То есть они не только переводили одно санскритское слово одним тибетским и это вот так потом проверялось, даже если вообще смысла не было никакого. Но они переводили каждую часть композитных санскритских слов, которые, конечно, их носи- 16 телями давно уже не воспринимались как композита. А они переводили такими же кусочками тибетских слов, вот… Это интересно. По сравнению с этим, там, я не знаю… русские кальки начала девятнадцатого века с «мокроступами» вместо калош — это просто шутка. То есть кальки придумывались с cубфиксом, префиксом, субфиксом и так далее и так далее, а если этого не было, то просто какие-то там существительные, грубо говоря, заменяли их. То есть это была одна крайность. А вот китайцы, как знают все китаисты, совсем не такие. Их перевод был основан на понимании, что я должен рассказать об этом санскритском высказывании и об этом санскритском слове, рассказать на китайском, и чёрт с ними, с суффиксами, префиксами и всем прочим — не в этом дело. Ну… это, видимо, связано с характером китайской идеографической письменности в значительной степени, которая… Но я сейчас не хочу в это входить, потому что оттуда не вынырнуть… которая была такой, ну-у… подчёркнуто нефонетической. Поэтому китайцы просто рассказывали, что вот это означает, например — «царь встал», — там написано, допустим, на санскрите, а китаец говорит: «Ну, что значит — «царь встал»? А вот это означает вот то-то и то-то», — уже этого текста санскритского нет и в помине, а это изложение. И была такая традиция такого диаметрально противоположного, тоже крайнего, перевода. Кончаю… Но для меня концепция одного языка не только не приемлема, и концепция абсолютной переводимости, как, в общем, для меня абсолютно не приемлема концепция «одного человека», «одного человечества» и вообще, честно — чего бы то ни было «одного»… Это может быть оттого, что с детства у меня к любому монизму отвращение, вот. Один необыкновенно талантливый человек очень обидно меня уверял, что этим я отрицаю своё иудейство, по природе монистическое, всё время склоняясь к каким-то явно не монистическим, вовсе не обязательно дуалистическим, но обязательно не монистическим вариантам… И, конечно, для меня это конструкты сознания, не более того. Это вот первый момент, на котором я хотел бы остановиться. Сказав это, я хочу перейти к некоторым конкретным вещам… И вот я начну с нескольких замечаний о докладе… о докладе Улдиса. И вот тут мне придётся высказать несколько до банальности тривиальных суждений. Я думаю, что всё-таки это можно сделать. Когда возникла идея, а потом возник спор по поводу того, является ли слово ори- ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА – Философия ентированным на психическую модальность, а именно — речевую и, соответственно, акустическую, или само понятие слова как общее или, если хотите, философское понятие, оно полимодально психологически, то я думаю… Но опять-таки, я подчёркиваю, можно думать и совершенно по-другому, пожалуйста, и я готов принять в этом смысле любую критику. Так вот я думаю, что слово полимодально в отношении к психологии. Именно поэтому я категорически отказываюсь, с точки зрения моей философской позиции, отождествлять, скажем, слово с языком в целом… Мы в конце концов говорим о слове как каком-то очень сложном, чрезвычайно трудно редуцируемом, а вообще не редуцируемом концепте, вот нашем — мы вот так думаем! Об этом — «слово», а о том мы думаем — «язык» и мы можем каким-то образом это соотносить, и это уже зафиксировано в сознании. Но принимая эту идею полимодальности, а вовсе не мономодальности, я хочу сделать одну оговорку, что мы говорим о слове уже в поле, то есть в месте и во время, как бы во временно-пространственном поле, хгм… где слово уже мономодально. То есть есть какие-то представления о слове, и поэтому мы, скажем, говорим : «Да, слово может быть, там… и в языке глухонемых, и в языке там, я не знаю, э-э-э… людей, каким угодно образом сенсорно недостаточных»… Но это-то возможно только потому, что у нас слово уже есть, эта концепция во всей своей конкретной и идеальной в принципе полимодальности, потому что без этого мы не можем… Вот поэтому меня всегда удивляет то бездумие, с которым лингвисты и семиотики говорят: «язык кино», «язык жестов», «язык движений ног»! А сейчас лондонскими идиотами в двух колледжах придумано уже предельно кретинское понятие «body language», вот. — Чушь по-о-олная!… Хотя, кстати, может быть интересным объектом и для такого блуждающего философского мышления — ну, вот как пример такого демонстративного бездумья! Вот один мой аспирант говорит, что вот — «Интересно, какую часть этого body они имеют в виду?» То есть он имел в виду какую-то там разницу… Но это в принципе бессмысленно, потому что о каком бы language — feel language и так далее и так далее мы ни говорили, это всё равно будет перенос! Потому что мы-то, то есть мы-то, вот те, которые оперируют этим понятием как каким-то абстрактом и осознают своё применение этого абстрактного концепта… мы-то прекрасно знаем, что о каком бы language или о каких бы словах ни шла бы речь — всё А. Пятигорский – Слово, которое я говорю равно концепт слова тем или иным образом (стучит по столу) сформулирован, и вот он так применяется, вот куда угодно! Или там, как говорила одна дама в одном английском модном журнале: «Язык ногтей». Это вот как подстрижены ногти.… простите, я вам покажу свою полную некомпетентность в этой области, или как они покрашены — уже содержит в себе определённую систему знаков. Такие вещи встречаются в очень многих культурах, только не придумывают для них глупых названий, как, например, в древней Южной Индии. И body language и язык ногтей и чего вам угодно… Но и там уже давно существовала классическая концепция слова; и любое другое слово, оно может фигурировать в любом, ну скажем, философском контексте или культурологическом, простите за употребление этого полностью кретинского слова «культурология», вот. Не потому, что культурологии нет. Я, например, очень люблю, когда говорят о том, чего нету, но здесь гораздо хуже, потому что в ней нет сформулированных и никто не сформулировал, ни один культурный человек не сформулировал исходные постулаты науки, которые он называет «культурология» и в особенности не сформулировано правило применения этих постулатов в отношении конкретных фактов и событий. Так вот в нашем запасе слово всё равно фигурирует, о чём бы мы ни говорили — о языке пальцев, ног, рук, глаз, ресниц, бровей, ушей, — ну, в таких выражениях, допустим, как: «Он подозрительно шевелил ушами» или что-нибудь в этом роде… Это может быть правильным, но тогда это должно быть сформулировано и всё время надо держать в сознании, что всё равно исходим-то мы уже из заданной сформулированности слова, а не, с вашего любезного разрешения, ушей… или ногтей как знаковых инструментов. Я уже не говорю о том, что здесь, как правило, существует постоянная путаница слова со знаком. Их можно соотнести и нужно соотнести, но, опять же, в пределах каких-то хотя бы элементарных, если не онтологических, то методологических постулатов, без которых это всё не имеет смысла. И вот я перейду к последнему моменту вот этого… э-э-э… этого введения, ну, как бы переходя к тому, что говорил и Улдис, и Заза, и… э-э-э… и Вардан, вот. Ну, можно задать, в конце концов, простой вопрос: «А всё-таки это слово — какое?» Ну, в порядке каких-то минимальных конкретизаций, ну… вот — «сказанное слово» или это слово, которое обязательно должно быть сопоставлено 17 с каким-то образом. Что здесь интересно — это, конечно, то, что в каких-то… мне не хочется даже говорить, — «культурах»… — в каких-то местах и в какие-то времена вот эта, будем её условно называть, в кавычках, «исходная концепция слова», из-за которой мы здесь собрались, потому что, согласитесь — что мы же здесь не слова обсуждаем, а мы обсуждаем, каким образом применяются… вот как можно наметить правила применения уже постулированной концепции слова и вот как эта концепция реализуется. Что замечательно — в одних местах и в одни времена она реализуется подчёркнуто зрительно, часто иконически, иероглифически. Ну, мы можем сказать… жалко, что здесь нет китаиста, который либо бы согласился со мной, либо сказал: «Молчи, дурак, не знаешь китайского!», — древнекитайского, вэньяна… Но совершенно очевидно, что, как меня учил один мой друг, замечательный китаист, ныне покойный, он всегда говорил: «Ты постарайся понять, что когда ты видишь иеро…»… (кричит) — Слово — это иероглиф! Или иероглиф, я путаю ударения… — «…это иероглиф. А вот его звучание нас не может интересовать, потому что в Шан-си это звучит так, в Кантоне — так, в Шанхае — так». Таким образом, это слово в этом регионе и в те, во всяком случае, времена было всегда зрительным в первую очередь, а прочесть можно было как угодно, это зависит от диалекта, уровня образования, среды населения и даже, если попросту говорить о танских временах, от количества сданных экзаменов, которые ты прошёл, то есть насколько у тебя отработана классическая фонетика… Или, например, вот даже… вот я недавно прочёл один замечательный перевод «Рассказы о поисках духов» на русский язык, и вот там один говорит: «Вот, я тебе даю эту записку, а произносить её можно как угодно. Запомни написание». «Запомни картинку»… И странным образом эта традиция существовала. Зрительная традиция слова очень чётко прослеживается во всех классических ближневосточных культурах. «Слово» — это «написанное» от древнейших шумерских текстов до уже нововавилонской библейской начальной и талмудической экзегезы: «Слово» — это «написанное», вот покажи — где, где?». Это зрительное. И возьмём совершенно противоположное… я не говорю — «толкование слова», а вот противоположный пример — толкуем мы, они не толковали, а просто так было, это мы толкуем… Конечно – Древняя Индия, где «слово» — это звук. Слово не 18 священно как слово, оно священно как звук. Веды — это сборник священных звуков. Это гигантский, только устно передаваемый в течение двух тысячелетий через поколения… Заза: Александр Моисеевич, извините, что я перебиваю, но это ведь всё-же только в одной даршане, Пурва-миманса, а в остальных… Пятигорский: Вы знаете, в Пурва-мимансе это как бы позднейшее осмысление… Нет, это конечно, было во всей ведической экзегезе. Ну, Пурва-миманса — это как бы уже первая философская система, гораздо позднее; вот такие философы были, как мы с вами, Арнис, и вы, Заза, безусловно — тоже, которые уже исходили из готовой концептуализации, как мы, занимающиеся не столько словом, сколько, конечно, идеей слова. Так вот там эта идея была чисто… Ну хорошо, ладно, не буду преувеличивать… ну хорошо — преимущественно звуковой, как бы в отличие от китайской, где она была преимущественно зрительной. И не надо говорить, что это там было потому, что была силлабическая деривативная от финикийской письменность деванагари… Вздор! Никакой письменности вообще не было тогда… А в Китае иероглифическая… Это всё не так. Это всё явно создавалось как бы одновременно, одно соответствовало другому, что вовсе не означает, что одно было причиной другого, здесь каузальность очень трудно установима. И вот тогда, от этого… (обращаясь к присутствующим) — Это всё понятно? Что вот слово, когда я говорил о его полимодальности, то есть если мы можем выделить зрительную и акустическую модальности слова… И если вы меня спросите: «А можем ли мы это транспонировать уже на повествование, на рассказ?», и вот тут я вам скажу: «Не-еет, мы сейчас говорим о концепции слова». А это, как бы… уже совершенно другой ход. Пределом этой, почти одномодальной концепции слова в Ведах, конечно, явилась идея слов, у которых нет никакого иного смысла, кроме звучания. Я сейчас подчёркиваю — я ввожу произвольно-непроизвольно слово «смысл». Вот только звучание! Я вас умоляю постараться себе это вообразить, потому что понять это невозможно, я, во всяком случае, никак не могу этого понять. Но мы не можем сказать, что звучание передаёт какой-то смысл с чего-то другого или что-то «не оно» и есть смысл, а там, где нет этого звучания — там мы не можем вообще о чем-то говорить. И вот пределом этой концепции явилась идея, что… э-э-э, ну ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА – Философия — идея мантры, идея… ну, «слова», в кавычках, у которого вообще нет семантики, оно ничего обозначать не может, оно ничего и не обозначает… То есть, грубо говоря, оно может обозначать ситуацию — вот, скажем: «Ом»! Начало молитвы… Значит, сейчас будет молитва, потом начнётся жертвоприношение. Это «когда» надо написать в словаре: «ом» — это «когда». Но ведь это же не так, потому что любой ведист, он скажет: «Ом» — это «ом»! Всё! Вот так поётся, так говорится, так шепчется про себя». Но вот в исходном материале это звук, которому можно приписать смысл, безусловно. Но смысл возникает здесь только в порядке приписывания, потому что нет иного смысла, кроме вот этого звучания, и не может быть. И вот тут на ходу мне хочется также сказать несколько слов о том, как я понимаю смысл. Для меня само понятие «смысл», заметьте, дамы и господа — я говорю не о «значении», (стучит по столу) а о «смысле», потому что в каждый данный момент количество значений, оно всё-таки… и, кстати, я спрашивал у математиков, они со мной согласились, они знают это лучше… во всяком случае, я знаю хуже — в каждый данный момент, тут я полностью витгенштейнианец, количество смыслов ограничено… То есть, простите! — количество значений ограничено, иначе вообще не было бы языка. Вот с этим я полностью согласен. То есть — «А где они?» — «А вот собери все словари», — скажет витгенштейнианец, — «и там ты найдёшь все значения». Но количество смыслов не может быть ограничено, потому что каждая новая ситуация может предполагать новый смысл слова… то есть не «новый», беру своё слово назад — другой. Если вы меня спросите, что такое значение, я всегда отвечу. Так вот, с точки зрения моей позиции вот то, что можно было бы назвать смыслом (повелительно) — и сейчас забудьте о мономодальности или полимодальности слова, — я перехожу ко второму моменту того, что я хотел сказать. Смысл прагматически возникает как «иной смысл». Это значит, что что-то произошло. Ну, и так, грубо говоря… классики мне скажут, так ли было в классической древности. Ну конечно, можно сказать: «Нас что-то не устраивает, и мы начинаем говорить, обсуждать слово»… То есть возникает потребность не в другом значении, понимаете? — а именно возникает нужда в смысле, в ином смысле. Собственно, всякий смысл, А. Пятигорский – Слово, которое я говорю строго говоря — иной. Тот же самый смысл — он никому ни к чёрту не нужен, нет этой проблемы… Вообще сам смысл — это проблема. Вот где есть проблема, к значению это не относится. Вот замечательно в двух английских словарях толковых описано, например, что такое «сапог», совершенно потрясающе… Правильно, безумно экономно и правильно. Но смысл? А вот оказывается, что это, с одной стороны, смысл его в угнетении одних другими «под сапогом», и вот знаменитая статуя Канишки в Западной Индии, где особую роль играют сапоги. Там, правда, у него гигантский меч, у императора висит, но меч — это ничто, главное — вот это два сапога, и всё под ними! Вот это уже смысл, значение совершенно то же. И когда мне говорят, что философия — это поиски смыслов, — это, конечно, метафора. Философия, в каком-то смысле — это схватывание того момента и той точки, где смыслы изменяются, значит, где появляется инаковость. И вот с этим может работать философ. Ну… это почти витгенштейнианская трактовка философии, только у него это здесь как бы полная сращённость с «одним языком людей»… Я не могу это принять, потому что для меня нет ни одних «людей» — «всех вместе», не верю в это совершенно, ничего не могу поделать — ну, не монист, не иудей и не христианин, вот… И нет, конечно, «единого человека» одного, ни единого одного, э-э-э… то есть внутренне в его любой бесконечной множественности в принципе переводимого языка. Вот тогда смысл оказывается чем-то, с точки зрения моей философской позиции, ну… оказывается чем-то очень функциональным. То есть он есть только тогда, когда нет чего-то ещё. То есть когда не всё в порядке с употреблением слова. Я думаю, что в нашем контексте смысл относится не к языку именно, (переходит на чрезвычайно драматический шёпот) — а к слову! (театральная пауза) — А если речь идёт о высказывании сколь угодно длинном, то в смысле «смысла» оно будет для нас фигурировать как (стучит по столу) слово. Молчание — это не не язык, это, конечно, «не сказание слова». Я не знаю, вы можете не согласиться… но вот поэтому в немом фильме не могло быть молчания. То есть тут возникает просто новый смысл именно слова. В этой связи я скажу, что я вообще не считаю, что бинарно-оппозиционный метод универсальный. Иногда работает, иногда не 19 работает, иногда плохо работает, иногда — хорошо. Но вот я бы сказал так, что слово для меня противопоставлено не молчанию, а слово противопоставлено «не-слову», когда вместо слова фигурирует в данной ситуации что-то другое, и вот тут важнейшая оговорка. — «Ну, это что-то другое там называется «не-словом» только потому, что это всё в поле слова!» То есть от слова мы никуда здесь уйти не можем не только в философии, но и в действительности. Слово, которое может быть сказано — а вот оно не сказано, и вот вам молчание, это «не-слово». Но поле-то слова! Это не поле смысла. Смысл приходит, если он нужен. Чтобы пришёл смысл, должно случится что-то, в комплементарном порядке, что к языку может не иметь никакого отношения и даже и к мышлению тоже. И поэтому мне кажется, когда вы, Владимир Вениаминович (то есть Бибихин), э-э-э… А если вы слышите: «Пора идти»… И вот если нет этого «Пора идти», а все встали, застёгиваются там, вещи собирают, кто ищет картуз, а кто цилиндр, портфели подбирают… И вот если этого слова не сказано… ну, можно называть это условно «словом» — «Пора идти»… Ну, это речение, тем не менее здесь оно фигурирует именно как слово, как некоторое, если хотите, даже одно слово. И вот когда его нет — то это молчание. Не когда нет ни одного слова, а вот… Он не говорит: «Пора идти», или то же самое в «Персоне»… Вот как у Параджанова… Я совсем не специалист по фильмам, и «Персону» не очень люблю, кстати, и не такой уж вот дикий поклонник Параджанова, он талантливый был страшно, но как-то вот не мой, конечно, режиссёр — никак, не говоря уже о Тарковском, никак не мой, вот… И вот тут, как вы заметили, не знаю, обратили ли вы внимание (к Бибихину, очевидно) на ваше собственное замечание здесь — это-то ведь и есть молчание. И Улдис бы сказал — «Но для этого необходимо внимание к смыслу»… Арнис: Это вы от себя говорите, да? То, что Улдис сказал… Пятигорский: Я не опираюсь в данном случае на Улдиса как на авторитет, то есть как на Вардана или как на Будду. Но когда один из докладчиков сказал, что при этом должно быть внимание к смыслу, а вот я комментирую этого высокоталантливого докладчика, не называя его имени, Будда ли он, Вардан или кто другой, я могу сказать, 20 что когда этот докладчик сказал: «Это внимание к смыслу слова»… Но ведь, дамы и господа, так ведь это возможно только тогда, когда что-то случилось. А что случилось? …Все уже застёгивались, тут человек встал — «А, пора идти»… — Нет!… И вот тут возникает проблема смысла. И вот если тут кто-то дотошный настырно спросит: «А что такое «смысл»?» — «А вот тут нет этого слова, тут возникает проблема смысла», — ответил бы один из не перечисленных лиц. И что интересно, даже буддийские метафоры, речь Будды — молчание, там все сидят, раскрыв рты и уши — «вот что учитель скажет?»… Но вот только, когда чтото случается. То есть, строго говоря, это «неслово» совпадает здесь с проблемой смысла. Вот первое событие, слово не сказано, вот как в примере Зазы, какое-то слово не сказано — и тем не менее тут проблема… Или как вот говорили некоторые учителя Упанишад: «Когда чего-то нет». Ну например, каждый дурак знает, что такое корова, основа древнеиндийского хозяйства, корова… «А ты чего здесь делаешь, ты же, я помню, пастух?» — «Какой пастух, у нас мор давно, все коровы давно полегли». Тогда учитель говорит: «Ага, а может быть, поговорим — а что такое «корова»?» Это не о значении «корова», а это о смысле. То, о чём они говорили, ни в одном словаре, ни в санскритском, ни в ирландском, ни в норвежском вы не найдёте против того же индоевропейского слова «корова», ничего не найдёте. А ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА – Философия что же было? — Событие. А средний человек, нормальный, если чего-нибудь не случилось, крайне неприятного, например — все коровы подохли, это уже, между прочим, на 75% голод во всём районе, а вот тогда начинает… — «Ага! А вот ты не понимаешь…» — А вот дальше идёт замечательное рассуждение, ну, уже там… комментаторских школ, замечательное рассуждение… — «Так вот, когда ты поймёшь, что корова — это Атман, а Атман не может подохнуть, как и не может родиться, то поймёшь, какую глупость сказал: «Все коровы подохли». — «Ну, а я не об Атмане, учитель!». — «А зачем пришёл тогда? О коровах разговаривать? Возвращайся тогда в деревню, о коровах…» Так возникает проблема «корова»… Вот нет коров если, скажите «молчание», «не слово» о коровах… Ну, это я в порядке комментария к одному из выступавших. И вот опять же, когда приводилась: «И образ мира, в слове явленный»… Меня, конечно, больше всего здесь по смыслу заинтересовали два слова — это «образ» и «явленный», оба слова относятся к зрительной модальности, вы согласны со мной или нет? А не, скажем, к акустической. Образ не в смысле «звуковой образ», а всё-таки зрительный, если мне скажут, что поэт не то имел в виду, я готов согласиться, я очень плохо всё знаю, то есть поэзию. Но мне кажется, но вот тут я настаивать никак не буду, что это всё относится к зрительной мономодальности слова. А. Бикбов — История знания как история управления населением: по следам Мишеля Фуко 21 Гуманитарные исследования Александр Бикбов История знания как история управления населением: по следам Мишеля Фуко (выступление в Риге 16 января 2010) Историчность знания. В модели или версиях модели, предложенных Фуко в работах разных лет, нет места для предельной формы «знания как такового». Знания институциональны и историчны, как сам порядок, частью которого они являются. То, что становится современным (научным) знанием: морфологическая родо-видовая классификация, «позитивная» группировка природных и социальных «вещей» по наиболее устойчивым наблюдаемым признакам, — формируется в рамках европейского политического порядка, сначала при переходе в XVI в. от монархического суверенитета к дисциплинарному обществу (сопровождающим демографический рост Европы: социальный мир утрачивает компактность), затем, с XVIII в. — к либеральному управлению населением. Вместе с компактностью общество утрачивает простоту и доступность, с которой могло бы осуществляться прямое принуждение: комплекс новых практических знаний становится ответом на это обстоятельство. Потребности и интересы контроля над природным и социальным мирами постепенно получают форму наук о природе, о государстве, о человеке, наделенных институциональной властью. Наиболее детальную проработку этот исторический маневр, привычно намечаемый Фуко пунктиром или фрагментами, получает в курсах, прочитанных им в Коллеж де Франс в 197379 годах. В центр исторического маневра попадает категория «населения» — индивидуализированная целостность, которой приписывается собственная телеология, не зависящая от проблемы территориального суверенитета: процветание, здоровье, безопасность. Именно «население» — связующее звено в дифференцированном комплексе знаний, или наук, охватывающих производство и налоги, градостроительство и коммуникации, наказание и контроль, физическую и психическую нормальность. Тактическая поливалентность знания. Пара- дигма поливалентности знаний в сети властных стратегий обозначена уже в работе Фуко «Надзирать и наказывать» (1975): знание не служит прогрессу и не является простой проекцией материальных или социальных структур. Отмена пыток и показательных казней в начале XIX века, которая сопровождается возникновением криминологии и психиатрии — это не изобретение благотворителей. Точно так же, изощренность телесных наказаний Старого Порядка — не выражение субъективной жестокости законодателей. В европейском обществе XVIII-XIX вв. происходит смена рациональности наказания, которая, однако, по-прежнему основана на принципе соразмерности. В ранний период наказание сфокусировано на отмеривании боли в ответ на преступное действие, в поздний — на средствах исправления, релевантных «патологической личности» преступника. В обоих случаях оно представляет собой специфическую экономику страдания, имеющую своей целью педагогический эффект. Этот эффект всегда крайне ограничен: пытка и казнь не укрепляют почтения к монархии, а тюрьма вместо инструмента исправления заключенного оказывается фабрикой по производству преступников. Принципиальна сама властная диспозиция: даже центрированное на насилии и смерти отправление власти производит схемы знаний, претендующих на строгость, и осуществляется в их рамках. Отсюда, «тюрьма — это аппарат познания». Власть нуждается в строгой классификации: в пределе акт классификации совпадает с актом отправления власти. Но знания, на которых основываются актуальные властные отношения, никогда к таковым окончательно не сводимы, оставляя возможным дальнейший маневр и пересмотр. Диффузия техник управления. Если власть нуждается в знании для своего эффективного отправления, и если знание содержательно определено стратегическими интересами 22 ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА – Гуманитарные исследования управления, любая научная модель общества: экономическая (рост продуктивности), социологическая (страты или классы), психологическая (норма и отклонение), — является одновременно потенциальной моделью управления, или актуальной моделью мышления об управлении/управляемости. Историческая интеграция этого знания в процедуры власти наделяет властью соответствующие дисциплины: медицину — в ходе универсализации гигиенического надзора, психиатрию — в рамках судебного процесса, градостроительство — в организации пространства проживания/перемещения и т.д. В XVIII—XIX веках эти разнородные области знания выстраиваются вокруг диспозитива либерального правления, имеющего своим объектом население. Либеральный диспозитив выражается в примате равновесия сил и взаимовыгодного обмена над монопольным распоряжением силой; в переходе от прямого (физического) воздействия на индивидов к управлению на расстоянии (с характерной для последнего проблематикой морального самоуправления индивидов); в последовательной спецификации категорий населения в целях полицейского управления, включая кодификацию/классификацию социальных аномалий; в переводе властных интересов из церемониального измерения в функциональное и экономическое; в конструировании реальной семьи как базовой «ячейки» контроля за общественным здоровьем, сексуальностью (в т.ч. детской), социальным благополучием; в отказе от воображаемой семьи как универсальной метафоры общества и политической власти. Анализируя властные интересы, в которых рождаются и институциализируются различные виды знания, Фуко указывает, что контроль индивидами собственной жизни образует общее пространство с техниками государственного управления населением. Моральное управление собой и ненасильственное управление другими — элементы единого режима правительности (gouvernementalité). Конкуренция моделей знания. Итак, понятие «либеральное» получает у Фуко не идеологический, а технологический смысл: управление другими на расстоянии через вменение им таких техник самоуправления, которые обеспечивают даже более устойчивый политический результат, чем прямое принуждение. Население разделяется и управляется через усложняющуюся систему социальных категорий: зажиточные и бедные, трудящиеся и праздные, больные и здоровые, семейные и холостые, производящие и бесплодные, опекающие и опекаемые, добропорядочные и монстры, разумные и сумасшедшие, оседлые и бродячие, образованные и неграмотные и т.д. Каждая из категорий является предметом дальнейшей содержательной спецификации в целях управления: в ходе спецификации одновременно уточняется, профилируется господствующий диспозитив. Решающая роль в этом принадлежит ученым, экспертам, политическим философам. Прослеживая генеалогию господствующих в XVII—XX вв. моделей дисциплинарного и либерального управления обществом и имманентных им форм знания, можно обнаружить, что полного отказа от предшествующей модели не происходит: в рамках либерального правления продолжают воспроизводиться релевантные суверенитету и дисциплинарные техники. Причем поскольку основным предметом управления выступает «население», конкурирующие деления и различия, такие как политические классы, приобретают в рамках господствующего диспозитива мерцающий статус. Анализируя парадигмы власти, Фуко указывает на конфликтность категориальной сетки «населения» (Мальтус) / «классов» (Маркс) (1978, курс «Безопасность, территория, население»). Ранее, в «Словах и вещах» (1966) он рассматривает классовую парадигму марксизма как прямое продолжение политэкономии XIX века, однако и в этом случае указывает на ее конкурентность «буржуазной» версии базовой исторической эпистемы. Так или иначе, господствующий диспозитив управления не предполагает редукции конкурирующих моделей знания к одной или ослаблении борьбы за истину. Напротив, его кристаллизация возможна лишь в децентрированном и конкурентном производстве знаний. Синхронизация диспозитивов. В одних случаях Фуко описывает диспозитивы дисциплинарного и либерального управления как хронологически упорядоченные, в других — как характерные для одного и того же исторического интервала XVII—XIX вв. Это становится ясно, в частности, при сопоставлении «Надзирать и наказывать», как образцового анализа дисциплинарного общества, с курсами «Безопасность, территория, население» или «Рождение биополитики», как парадигмальных описаний либерального правления. Данное обстоятельство не означает элементарной непоследовательности Фуко как историка. Оно означает, что различные диспозитивы исторически синхронизированы и, при различиях в своем генезисе, способны составить части одной формулы правления. Дисциплинарные техники, состоящие в захвате и упорядочении индивидуальных тел, и либеральные техники, сфокусированные на А. Бикбов — История знания как история управления населением: по следам Мишеля Фуко контроле индивидуальной свободы, имеют своей целью различные зоны одного и того же общества. Соединение телесной дисциплины и уполномочения свободой в один управленческий комплекс, на основе релевантных знаний — и есть «биополитика». Такая синхронизация диспозитивов и связанных с ними форм знания имеет прямое отношение к описанию уже позднесоветского и постсоветского пространств. Послевоенное политическое устройство СССР удаляется от мобилизационного тоталитарного, озабоченного вопросами суверенитета, каким в большой степени является СССР 1930-х. В позднесоветском обществе 1960—80-х присутствуют элементы либерального правления, распространяющиеся на самые разные области, от управления предприятием (инициатива, хозрасчет) до либеральной семейной педагогики по рецептам доктора Спока. Один из симптоматичных индикаторов: замещение в официальном языке мобилизационной категории «массы» (доминирующей в 1920—30-е) административной категорией «население» (1960—70-е). Технологии социального государства и организации быта сближают общества, расположенные по разные стороны железного занавеса. Однако позднесоветское общество не является тем же самым дисциплинарным/либеральным, как описанные Фуко европейские общества. Господствующим диспозитивом, который обеспечивает государственный интерес в СССР, продолжает оставаться патерналистская модель — непосредственное управление одних другими. В этом контексте можно сформулировать I гипотезу: по мере административной экспансии институций, выступающих носителями знаний, в большей мере релевантных либеральному правлению (в т.ч. за счет прямого заимствования европейских и североамериканских эпистемологических моделей), меняется сам режим управления, куда эти знания интегрируются. Таким представляется случай Академии наук, которая на протяжении 1960—70-х занимает все более значимое место в государственном аппарате как центр экспертизы, планирования, производства управленческих кадров. Если патерналистские и 23 либеральные технологии некоторым образом синхронизируются в режиме управления позднесоветским обществом, то жесткое дисциплинирование индивидуальных тел, по-видимому, не происходит ни в армии или тюрьме, ни в школе или на предприятиях — по крайней мере, в том плотном, ориентированном на максимальную эффективность ритме, какой Фуко приписывает европейским обществам XIX века. Парадоксальным образом, позднесоветское общество — это режим без ясно кодифицированной телесной дисциплины, что вкупе с указанным сочетанием патерналистского надзора и либерального самоуправления составляет одну из его специфических характеристик. Картина в очередной раз теряет очертания в ходе политической либерализации конца 1980-х — начала 1990-х, которая не означает внедрения техник либерального правления, но демонтаж ряда институтов политического и идеологического надзора. По мере переориентации различных социальных производств на эффективность и коммерческую доходность в 1990—2000-х в постсоветские общества внедряются инструменты либерального управления, которые наиболее широко представлены в коммерческом секторе и в политике, приобретающей отчетливую экономическую доминанту. Однако наряду с ними, в тех же или в иных социальных сферах, можно по-прежнему без труда обнаружить диспозитив патерналистского управления — прямо и окказионально используемую власть одних над другими. Помимо прочего, это можно косвенно проследить по изменениям социальной политики (по крайней мере, в постсоветской России), где «население», с его здоровьем и благополучием играет даже менее значимую роль, чем в позднесоветский период. Подобная практическая и категориальная «незавершенность» либерального диспозитива позволяет сформулировать II гипотезу: в современных постсоветских обществах технологическая формула правления имеет еще более подвижный и «пористый» состав в сравнении с западноевропейскими обществами — некоторые элементы либерального правления и индивидуальной дисциплины имплантируются на упрочивающейся патерналистской основе. ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА – Культура и религия 24 Культура и религия Юрий Сидяков Из архива Архиепископа Иоанна (Поммера) Письма от разных лиц От публикатора Предлагаемые в данной подборке письма из личного архивного фонда архиепископа Иоанна (Поммера) не имеют прямой тематической связи, написаны они в связи с различными обстоятельствами, но большей частью принадлежат людям заметным и уже поэтому вызывают к себе интерес. Первое письмо написано Ольгой Окулич, дочерью Якова Егоровича Эрдели, занимавшего в 1906-1912 гг. пост Минского губернатора. Его брат Иван Георгиевич (в документах отчество братьев писалось по-разному) был генералом, участником Первой мировой и гражданской войн, видным деятелем Белого движения на юге России. Автор второго письма — княгиня Мария Александровна Святополк-Мирская, — вдова сына атамана Войска Донского князя Владимира Святополк-Мирского. После смерти мужа в 1906 году целиком посвятила себя служению Церкви. В 1920 эмигрировала в Грецию в город Салоники, работала старшей сестрой в госпитале Афонского подворья. В 1921 году переехала в Югославию. Жила в Белграде, основала здесь Мариинское сестричество, которое занималось уходом за больными. Была его старшею сестрою. Скончалась в Женеве в 1959 году. Третье письмо написано Антоном Владимировичем Карташевым — историком Церкви, богословом, общественным и государственным деятелем. С августа 1917 он был оберпрокурором Синода, после его упразднения возглавлял министерство исповеданий в правительстве А.Ф. Керенского. В 1919 эмигрировал. С 1925 был профессором Богословского Института в Париже. Четвертое из публикуемых писем принадлежит журналисту Д. Ишевскому, автор пятого письма — Николай Степанович Батюшин, известный генерал, участник русско-японской и Первой мировой войны. В октябре 1914 он был назначен начальником разведывательного отделения штаба Северо-Западного Фронта, генералом для поручений при главнокомандующем армиями Северного фронта (с 6 октября 1915). В начале 1917 возглавлял комиссию по борьбе со шпионажем при штабе Северного Фронта. С конца 1918 участник Белого движения. Состоял при начальнике штаба Крымско-Азовской армии. После эвакуации из Крыма проживал в Белграде. Преподавал в белградском отделении Высших военно-научных курсов профессора генерала Головина. Во время второй мировой войны выехал в Бельгию. Автор книги «Тайная военная разведка и борьба с ней». Шестым из публикуемых документов является послание князя Николая Давидовича Жевахова (Джавахишвили). С 15 сентября 1916 по 28 февраля 1917 он занимал должность товарища оберпрокурора Синода, занимался также литературным трудом. Был участником право-монархического движения, членом Русского Собрания. Значительную роль в формировании взглядов Н. Жевахова сыграли сочинения С.А. Нилуса, с которым он был лично знаком. Был сторонником теории всемирного еврейского и масонского заговора. В 1919 эмигрировал. Первоначально жил в Сербии, В 1920 назначен заведующим подворьем святителя Николая в Бари, которое являлось собственностью Императорского Православного Палестинского Общества. С положением дел на подворье и связано содержание его письма. И, наконец, последнее, седьмое письмо, принадлежит пользовавшемуся в свое время известностью певцу Ф. Гонцову. Ф. Гонцов был женат на известной певице М. Куренко (Куренковой). Их дом на Тверской в Москве охотно посещали друзья — музыканты, певцы, художники, актеры и среди них — корифеи Московского Художественного театра К. Станиславский и И. Москвин, Л. Леонидов и В. Качалов (см. об этом подробнее: http://aleho.narod.ru/book/kuprin.htm [на 08.12.09]). Публикуемое письмо содержит в себе сведения о судьбе Ф. Гонцова в эмиграции. Ю. Сидяков - Из архива Архиепископа Иоанна (Поммера) ПИСЬМА К АРХИЕПИСКОПУ ИОАННУ 1 <Письмо О. Окулич> 4/IX 1921 Ваше Высокопреосвященство. Помня Ваше хорошее отношение к моему покойному отцу Якову Егоровичу Эрдели и ко всей нашей семье, я решаюсь обратиться к Вашему Высокопреосвященству с большой просьбой. Отец мой был убит большевиками летом 1919-го года в гор<оде> Елисаветграде. После его смерти моя мать прожила одна там же почти год, так как вся наша семья разбрелась в разные стороны, но в 1920 году моему брату удалось ее привезти в Москву, где жил он сам и сестра с мужем. Несколько раз писала я туда через Швейцарию, Берлин и Ригу, но ответа не получила. Правда, определенного адреса я не знаю; знаю только, что в 1918 году муж сестры, Николай Александрович Сулейман1, читал лекции в военной академии, куда я и посылала письма. Моя просьба к Вашему Высокопреосвященству состоит в том, чтобы, если Вы найдете возможным, снестись с Москвой и узнать через Н.А. Сулеймана, адресуя в военную академию, или через Ксению Александровну Энгельгардт2, служащую в Большом театре, жива ли и здорова мать моя, Вера Петровна Эрдели, брат — Егор Яковлевич и сестра, Раиса Яковлевна Сулейман, и сообщить им, что вся семья наша и второй брат мой живы и здоровы. Кроме того, прошу Ваше Высокопреосвященство не отказать сообщить мне, нет ли возможности каким-нибудь образом вывезти мою мать из Москвы, если она еще Жива, в Ригу и оттуда к нам в Бесарабию, или переслать ей через Красный крест продовольствие. Средства нужные на это я перешлю сейчас же, если Вы, Ваше Высокопреосвященство, возьметесь помочь мне в моем горе. Простите, что я Вас беспокою такой трудной просьбой, но судьба матери моей, которой уже 65 лет и которой пришлось столько ужасного пережить, меня так мучает, что я решаюсь обратиться к Вам, тем более что помню, в каких хороших отношениях Вы были с моим отцом и с каким уважением он всегда отзывался о Вас. Прошу Вас принять уверение в моем к Вам глубоком уважении и искренней привязанности. Ольга Окулич Адр<ес>: Roumanie, Bessarabie, Boudaki. ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 26. Л. 26-27. 25 2 <Письмо М.А.Святополк-Мирской> 27 февр<аля> ст<арого> ст<иля> 1922. Адрес мой: Белград, Русская миссия, мне – кн<ягине> М.А.Святополк-Мирской. Многоуважаемый Владыко. По совету епископа Досифея3 обращаюсь к Вам с большой просьбой, разрешить мне время от времени присылать Вам письма для отправки их почтой в Россию моим родным. Из Сербии мы еще не решаемся писать прямо, а потому утруждаю Вас и прошу меня простить. На конвертах я пишу все, что надо, и прошу ничего не прибавлять, в особенности моей фамилии не надо, а если у Вас почта требует на заказных писать от кого, проставьте любую фамилию, но не мою. Буду ждать Вашего разрешения на будущие письма, а это прошу Вас отправить. Зная от Владыки Досифея о Вашей доброте, решилась беспокоить Вас. Прошу Вашего благословения и молитв Ваших уважающая Вас княгиня Святополк-Мирская P.S. Меня очень смущает вопрос марок, но я не знаю, как помочь ему? ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 26. Л. 63. Автограф. 3 <Письмо А.Карташева> 1 февр<аля> нов<ого> ст<иля> 1924. Ваше Высокопреосвященство. Пользуясь случаем отъезда в Ваши края генеральн<ого> секретаря нашего Русск<ого> Нац<ионального> Комитета, Юлия Фед<оровича> Семенова4, через которого я имел удовольствие получить приветствие от Вас из Риги, с ним же посылаю и это письмо к Вашему Высокопреосвященству. Трудно и смутно в Церкви Православной. Сатана перепутал и пересоблазнил многих. Столпы колеблются… Тем отраднее видеть непоколебимых. Благодатиею Божией к ним принадлежите Вы, и да сохранит Вас и впредь Господь на радость святому православию право правяща Слово Его Истины. Смиряемые странствиями нашими, скудостию и падением братий, с восхищением созерцаем Вашу героическую борьбу за достоинство Православной Церкви, ее права и ее достояний и Ваши жертвы, приносимые Вами лично в этой борьбе. Да пошлет Вам Господь скорую и большую победу и ослабу в личном житии. Окрыляемся надеждой в этом году после 26 ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА – Культура и религия смерти «их» «красного царя» вновь видеть на Руси поворот к свету разума и совести и к концу гонений на Церковь — и не только в сбесившейся России, но и в иных хвалящихся свободою государствах… Помяните, Владыко, меня в Ваших святительских молитвах. Ваш искренний почитатель Антон Карташев ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 26. Л. 229. Автограф. В левом верхнем углу штамп: «A.V.Kartachoff. Paris – 7-e 63 Rue de Grineile» 4 <Письмо Д. Ишевского> Берлин, 1 сентября 1925. Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Архиепископу Иоанну. г<ород> Рига ВАШЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО, Милостивейший Архипастырь и Отец! На мою долю выпало большое счастье по мере своих скромных сил и возможностей информировать большинство зарубежных русских национальных газет о жизни Российской и заграничной Православной Церкви. Эта моя церковно-публицистическая деятельность удостоилась быть отмеченной особой высокомилостивой благословенной Грамотою в Бозе ныне почившего Святейшего Патриарха Московского и всея России ТИХОНА, текст коей опубликован в № 9—10 (76—77) «Церковных Ведомостей» — официального органа Архиерейского Синода Русской Православной Церкви за границей. Но после кончины Святейшего Исповедника моя связь с его Патриаршим Синодом сделалась настолько затруднительной, что я вынужден теперь силою этого прискорбного обстоятельства прибегнуть к Вашему Высокопреосвященству с всепокорнейшей и усерднейшей просьбой: придти мне на помощь и сделать зависящее от Вашего Высокопреосвященства распоряжение Вашему Синоду о снабжении меня всеми, по возможности, исходящими от Высокопреосвященнейшего Местоблюстителя Московского Патриаршего Престола митрополита Крутицкого Петра, церковными распоряжениями, посланиями и воззваниями, какие только становятся известными Латвийскому Православному Синоду. Также точно покорнейше прошу сообщать мне для печати и тот церковно-информационный материал Латвийской Православной Церкви, какой Вы, Владыко, найдете нужным опубликовать в русской и иностранной заграничной прессе. Так только на этих днях мне стал известен текст протеста Латвийского Православного Синода по поводу перехода 10 средних школ г<орода> Риги в ведение еврейского училищного отдела. Тотчас же этот протест был мною передан в газеты. Прошу святых молитв Ваших и Архипастырского благословения. Вашего Высокопреосвященства усерднейший почитатель и верный духовный сын Д. Ишевский Адрес для почтовой корреспонденции: Herrn D. Ischewsk. Berlin – Charlottenburg, 2. Schliessfach Nr. 58. ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 27. Л. 37. Машинопись. В левом углу листа типографским способом отпечатано: «Д.А.Ишевский. Журналист» внизу машинописью означен, очевидно, исходящий номер – 741. Подпись – автограф, в тексте отмечена курсивом. 5 <Письмо Н.С.Батюшина> Zemun, Jugo-Slavie, Novogradska № 13. Ваше Высокопреосвященство! Решаюсь послать Вам доклад мой и О<тца ?> Востокова5, который мы вдвоем подали в наш Синод относительно Парижской духовной академии. Сущность доклада не столько в академии, сколько в обрисовке той разрушительной работы, которую интенсивно ведет Общество Христианской Молодежи6 среди русских православных людей. Доклад появился в печати с благословения Владыки Антония7, сообщаю Вам об этом на тот случай, если бы Вы подумали, что представление мною доклада есть революционный или, лучше сказать, оппозиционный по отношению нашего Синода акт. Так как натиск на православие со стороны Общества Христианской Молодежи идет по всему православному фронту, то я и решил послать доклад и главам всех автокефальных Церквей православных, оговорив, впрочем, в письмах, что этим я вовсе не желаю вмешивать в наши внутренние дела, а лишь хочу обрисовать разрушительную работу этого общества. По-видимому, этому обстоятельству надобно приписать то, что Болгарский Синод официально высказался в отрицательном смысле о деятельности Общества Христианской Молодежи. У нас, в Сербии, после постигшей это общество на Хоповском съезде8 неудачи, благодаря энергичной работе митрополита Антония и здоровой части русского студенчества, и сербы Ю. Сидяков – Из архива Архиепископа Иоанна (Поммера) обратили внимание на натиск Общества Христианской Молодежи на их молодежь, и становятся ныне на путь борьбы с ним. Бога ради, не подумайте, Владыко, что посылка мною Вам доклада к чему-нибудь обязывает Вас. Я был бы бесконечно рад, если бы этот доклад мой послужит Вам справочной книгой в Ваших многотрудных занятиях. Простите, Владыко, за причиняемое Вам этим моим письмом беспокойство. В ожидании Вашего благословения остаюсь Вашего Высокопреосвященства покорный слуга Николай Степанович Батюшин. 24/XI 1925 ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 27. Л. 56-57. Автограф. 6 <Письмо Н. Жевахова> Ваше Высокопреосвященство, Прошел 1 год с момента выпуска прилагаемого при сем воззвания, а в положении Барградского Подворья мало что изменилось. Богослужение, хотя и стало совершаться в нижнем, наскоро оборудованном храме, но редко случайно приезжающими священниками, ибо постоянно живущего в Подворьи пастыря еще нет, покрыта лишь 1/6 часть тяготеющего над подворьем долга и требуется еще много денег для погашения долгов для достройки главного храма, где нет ни полов, ни дверей, ни иконостаса, для срочных ремонтных работ храма и здания Странноприимного Дома, стоящих свыше 10 лет без всякого ремонта… Мало что, или совсем ничего не изменилось и в России, где сатанинское засилье крепнет, а русские люди вымирают. Никогда еще в истории России не было более ужасного горя и страданий, и странно подумать, что никогда еще русские люди не были разъединены между собою так, как теперь, когда единение и дружная, совместная работа особенно нужны. А наряду с этим в Филадельфии жиды приступили к постройке Соломонова храма, собрав, как сообщают газеты, 900 миллионов долларов! Это ли не ужас? Это ли не ответ на вопрос, почему Россия так долго мучится и стонет под сатанинским игом, а мы, беженцы русские, уже девятый год живем в рассеянии. А у жидов нет ни Господа нашего Иисуса Христа, ни Божией Матери, ни Святителя Николая, которые помогают нам, и которые осуществили бы всякое наше благое начинание, если бы мы сами этого захотели, сознали бы свой долг к Ним и к Ним обратились. Недавно итальянское правительство объявило подписку на покрытие миллиардного долга Америке, предложив 27 каждому желающему внести в казну 1 доллар, и этот долг был покрыт с быстротою молнии, ибо каждый итальянец признал такой взнос своим долгом пред родиною, выполнял этот долг как свою государственную повинность. Таким долгом нашим, такою государственною повинностью мы должны признать нашу лепту Барградскому Подворью Св<ятителя> Николая, ибо Он, Святитель Николай, был и остался Заступником и Покровителем России, к Нему надо идти, Его надо просить о помощи, а для этого, в первую очередь, спасти Подворье от долгов и обеспечить регулярное богослужение в храме. Без Святителя Николая России не спасти и это великое дело нужно начинать отсюда. А здесьто почти ничего не сделано. Здесь слабо мерцающая лампада, где почти нет масла, тогда как должна гореть денно и нощно, как средоточие всех молитв русского беженства, возносимых к Престолу Всевышнего о спасении России. Умоляю Вас, глубокочтимейший Владыка, сделайте, что можете и что найдете нужным, объявите церковный сбор в своей епархии, привлеките частных лиц, отдельных прихожан, хотя бы и иностранцев, ибо Святителя Николая все любят и никто не откажет Угоднику в лепте, но только не забудьте нашей горячей просьбы и отзовитесь на нее. Не смущайтесь размером лепты, как бы скудна она ни была. Обратитесь с воззванием к Вашей пастве, кликните клич, и Сам Спаситель пошлет Вам Своих друзей, которые придут к Вам, как только услышат Ваш архипастырский призыв. Прилагаю освященные на мощах Святителя иконки. Раздавайте их жертвователям. Если нужно, пришлю еще. Пожертвования можно высылать: мелкие суммы заказными письмами по указанному выше адресу, а денежные переводы и чеки чрез отделения имеющихся в Бари банков: Banca di Roma, Credito Italiano, Banca Commerciale, Banca d’America e d’Italia и др. Будьте благополучны и хранимы Богом. Помолитесь за Подворье. Вашего Высокопреосвященства покорный слуга Кн<язь> Николай Жевахов. Уполномоченный Православного Палестинского Общества в Италии и Управляющий Барградским Подворьем. Бари, 16/29 ноября 1925 года. ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 27. Л. 63. Машинопись. В левом углу угловой штамп: PRINCIPE N.D.GEWAKHOW Chiesa Russa Carrassi BARI (Italia). Вписанное в машинописный текст от руки отмечено курсивом. 28 ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА – Культура и религия 7 <Письмо Ф. Гонцова> 18/XI <19>26 г<ода> Ваше Высокопреосвященство, Глубокоуважаемый Владыка! Не знаю, слышали Вы или нет о моем переселении из Риги в Париж — наполовину, конечно, вынужденном, наполовину добровольном. Добровольном потому, что при борьбе я мог бы еще достаточно защищать свои позиции и, м<ожет> б<ыть>, довольно успешно; вынужденном потому, что так напряженно жить этот последний год в условиях мирного времени, но как на войне, я больше уже не хотел и, можно сказать, добровольно отступил на заранее подготовленные позиции. Теперь припоминаю, что точно при таких же условиях я лишился своей московской квартиры (в своем же доме), а вместе с нею и своего последнего благосостояния, когда разумом единожды решил, что, квартиру защищая, душу гублю. Решил и… бежал из Москвы, вторично решил и… отступил от Риги. Ах, Владыка, если бы Вы знали, сколько нравственных пыток и унижений приходилось ежемесячно переносить от господ <Людыней ?>, — а за что? За то, что я, быть может, лучше других знаю свое дело и больше других люблю его, и за это в буквальном смысле мне не давали жить или, что еще хуже, — отняли у меня все то, для чего я жил и учился, запретив мне и выступать и преподавать. Такого заушения я, разумеется, снести не мог и в течение лета сумел немного окопаться в Париже, дабы покинуть Ригу, как свою постоянную базу. Больше всего жаль мне Ригу из-за сына, т<ак> к<ак> столь высоко поставленного школьного дела, как в немецких школах, во Франции не найти, и это для меня поистине большое горе, кот<орое> я буду чувствовать, должно быть, всю жизнь, ибо такого священнодействия в преподавании, как в школе моего сына, в наших школах я и в <нрзб.> не видел. Здесь он поступил в русскую гимназию с прекрасным составом преподавателей, каждый из них — бывш<ий> профессор какого-либо высшего учебн<ого> заведения, но духа той серьезности, того священного подхода, как у немцев, тут искать не приходится. Чувствуется какая-то беженская разболтанность, заставляющая и на дело образования детского здесь смотреть как на что-то временное, а отсюда — нет единой сильной непреложной воли, каковая должна чувствоваться у настоящего хозяина положения. Самочувствие у меня неплохое, деятельность же моя здесь, надо полагать, несколько видоизменится и будет направлена в сторону оперных и концертных выступлений и выступлений в салонах, что здесь очень теперь в моде. Это в свою очередь даст мне возможность больше работать над собой и в этом находить большое удовлетворение. В Риге же, зарывшись в педагогическую деятельность, я совершенно отстал как вокалист. На днях еду на 2 концерта в Женеву, а несколько позже в Мадрид. Конечно, нечего и говорить, что здесь поле деятельности и шире и много интереснее и, полагаю, что через 2—3 месяца я вполне войду в художественную жизнь Парижа. И вдобавок здесь есть чему и у кого поучиться, что страшно радует, т<ак> к<ак> стремление к самоусовершенствованию, мне кажется, живет в человеке до самой смерти. Итак, дорогой и незабвенный Владыка, позвольте попросить у вас благословения на новую и, м<ожет> б<ыть>, трудную жизнь Искренно преданный Вам Ф. Гонцов 107 rue de Sevres. Paris ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 27. Л. 160-163. Автограф. Комментарии 1 Сулейман Николай Александрович — генерал-майор. Добровольно вступил в Красную армию. С 12.10.1918 преподавал в Академии Генштаба; Начальник Военно-Хозяйственной Академии. В 1920-е гг. преподаватель по военному хозяйству Военной Академии. В 1938 — комбриг, инспектор боевой подготовки Сухопутных войск, репрессирован, умер в заключении в 1942 году. Очевидно, речь здесь идет об известной русской арфистке, впоследствии профессоре Московской консерватории Ксении Александровне Эрдели (бывшей замужем за офицером Н. Н. Энгельгардтом, потомком друга М. И. Глинки). С 1918 по 1938 год К.А. Эрдели была солисткой оркестра Большого театра. 2 Досифей — епископ Нишский, впоследствии митрополит Загребский, ныне прославленный Сербской Православной Церковью святой. Родился 5 декабря 1878 г. в Белграде, в 1898 г. был пострижен в монашество, рукоположен в диакона, затем во иерея. В 1899 г. окончил Белградскую духовную семинарию и в 1900 направлен на учебу в Киевскую духовную академию, где и произошло его знакомство с тогда будущим рижским архиепископом Иоанном. После окончания Киевской духовной академии иеромонах Досифей изучал богословие и философию в университетах Берлина и Лейпцига. В 1907 г. вернулся на родину, был назначен преподавателем Белградской семина3 Ю. Сидяков — Из архива Архиепископа Иоанна (Поммера) рии, но уже в 1909 г. вновь направлен для продолжения образования за границу — теперь во Францию, где изучал философию и социальные науки в Сорбонне и Высшей школе социальных наук, затем обучался в Женевском университете. 25 мая 1913 г. был хиротонисан во епископа и назначен на Нишскую кафедру. Во время первой мировой войны активно занимался благотворительной деятельностью, помогая беженцам и пострадавшим. Большую помощь он оказывал также и русским эмигрантам в Югославии. В начале 1920-х гг. епископ Досифей был направлен в качестве делегата от Сербской Православной Церкви в Чехословакию для налаживания православной церковной жизни в Подкарпатской Руси, выразившей тогда желание войти в юрисдикцию Сербской Православной Церкви. В 1932 г. епископ Досифей был избран митрополитом Загребским. После нападения Германии на Югославию во время второй мировой войны и провозглашения независимости Хорватского государства митрополит Досифей был арестован. Скончался 13 или 14 января 1945 г. 4 Семенов Юлий Федорович – журналист, общественно-политический деятель. В 1918-1919 был председателем Русского национального совета в Тифлисе. Участник белого движения. С 1920 в эмиграции в Париже. С 1924 генеральный секретарь Русского национального комитета. В 1926 председатель Русского зарубежного съезда в Париже. В 1927-1940 редактор газеты «Возрождение». Очевидно, в данном случае речь идет об отце Владимире Игнатьевиче Востокове, впоследствии протопресвитере. До революции он был настоятелем церкви Института благородных девиц, редактором-издателем духовно-литературного ежемесячника «Отклики на жизнь» и общественно-литературной газеты «Расссвет». Из-за статьи, направленной против Распутина, был вынужден покинуть Москву. Участвовал в работе Всероссийского Собора, был членом Учредительного Собрания. Во время гражданской войны находился при армии Врангеля. С 1920 в эмиграции 5 29 в Сербии. После второй мировой войны переехал в США. Текст доклада обнаружить не удалось. Название не совсем правильное. Речь в данном случае идет о Христианской Ассоциации Молодых Людей (YMCA), одной из крупнейших молодежных организаций в мире, основанной в Лондоне в 1844 году. Эта организация оказывала помощь русским эмигрантам, однако отношение в различных кругах русской церковной эмиграции к этой помощи было неоднозначным. Крайне отрицательно к YMCA относился Карловацкий Архиерейский Синод. 6 Антоний (Храповицкий), митрополит — бывший Киевский и Галицкий. В эмиграции возглавлял ВРЦУ за границей, затем Архиерейский Синод. Один из виднейших церковных деятелей в дореволюционной России и в эмиграции. 7 Речь в данном случае идет об общей конференции РСХД в Хоповском монастыре в Сербии в 1925 г. На конференции обсуждались вопросы о сотрудничестве с инославными и о взаимоотношении Движения с церковной иерархией. По последнему вопросу мнения разошлись. Часть участников выступала за полное подчинение Движения церковной иерархии, другие были за автономию. Никаких окончательных решений на конференции принято не было, но год спустя в 1926 году на третьем съезде РСХД в Клермоне было принято решение о том, что Движение не может себя признать «формально подчиненным иерархии». Ряд православных иерархов, в частности, входивших в Карловацкий Архиерейский Синод, видели в подобных тенденциях влияние протестантских интерконфессиональных организаций. На архиерейском соборе в Сремских Карловцах 1926 года такие организации (YMCA и YWCA) были признаны «явно масонскими и антихристианскими», а членам Православной Церкви запрещалось «организовываться в кружки под руководством этих и подобных им неправославных и нецерковных организаций и быть в среде их влияния». 8 30 ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА – Культура и религия Сергей Мазур Тайная полиция, митрополит Августин и судьба Православия в Латвии после мученической кончины архиепископа Иоанна (Поммера) «Однако жители русской национальности в большей степени желают церковные праздники справлять по старому стилю…» Из донесения агента тайной полиции Мученическая кончина архиепископа Иоанна (Поммера) (1876—1934) на архиерейской даче в ночь с четверга на пятницу 12 октября 1934 года прочертила границу между внешне благополучным периодом существования Православной церкви в 1-й Латвийской Республике (1918—1940) и периодом перманентного кризиса, вызванного деградацией церковной и общественной жизни. Уже за 10-15 лет до трагических событий 1934 года Православная церковь вместе с русской паствой некоторыми политическими кругами воспринималась в Латвии как реликт Российской империи. Положение Православия в начале существования Первой Республики в свое время охарактеризовал архиепископ Иоанн на Соборе ЛПЦ 30 октября 1923 года: ненависть и злоба, «...это не просто гонения, это изощренные пытки». Несмотря на протесты верующих, 20 июля 1925 года в Риге, чтобы не осталось больше «воспоминаний о временах царизма и по желанию общественности», при большом скоплении народа была снесена с лица земли привокзальная православная часовня во имя Св. Александра Невского. Комментируя это трагическое событие, архиепископ Иоанн открыто заявил, что часовня была отнята у православных и «разрушена по политическим соображениям». «По политическим соображениям», «по желанию общественности» — это своего рода эвфемизм, используемый для обозначения неправовых действий со стороны государства по отношению к общественным институтам. Наступившая эпоха, казалось, не ограничилась только этой стороной дела. На смену старым привычным типам поведения пришел новый тип отношений с характерным культом силы. «Мы есть те, кто идет вперед и только вперед!», — это из передовицы газеты «Latvijas kareivis» от 1 ферваля 1936 г. Заметка, опубликованная следом за передовицей о том, что в 1935 году посетителей Военного музея в целом больше, чем за предыдущие три года. Из 31 825 посетителей — 86 процентов принадлежало молодому поколению. В том же 1936 году 6 июня Административный департамент МВД принял решение о ликвидации «Общества русских эмигрантов» как нежелательной государственным и общественным интересам Латвии организации. После установления в Латвии режима К. Ульманиса провели перерегистрацию всех общественных организаций, в результате которой из 142 национальных общественных организаций к 1939 году осталось только 40. С новыми временами пришли и новые люди. Один из них, протоиерей Августин Петерсонс (1873—1955) — новый глава Латвийской Православной Церкви, продвинувшийся благодаря своей домовитости, вдовству и «давним связям с военными кругами». В первом своем обращении к пастве митрополит Августин провозгласил о «слиянии целей» Православной Церкви и Латвийского государства и призвал православных Латвии отдать все свои силы на осуществление на практике заветов «нашего Вождя — Карлиса Улманиса... быть всем и всегда в единстве». Решительность, с которой митрополит Августин приступил к реформированию Церкви, сродни призывам из передовицы «Latvijas kareivis» от 1 ферваля 1936 г. Новый метод С. Мазур — Cудьба Православия в Латвии после мученической кончины архиепископа Иоанна (Поммера) управления церковью неразрывно оказывается связан со слежкой, доносительством тайной агентуры Министерства Внутренних дел. Прочитаем несколько документов, характерных для ведомства Министерства Внутренних дел того времени: Список лиц 3235 (1/22)688 Антипов Николай — связи с младороссами (прим. ред. младороссы — эмигрантское русское националистическое движение 1920-х — 1940-х годов) Балодис Петерис — бывший секретарь «Живой церкви» (живоцерковник); Баронов Симон — сторонник Елевферия; Белоцветов Сергей — монархист; Быков; Бочагов Александр — связи с Елевферием; Богоявленский Елевферий — Каунасский митрополит; Бот Борис – сторонник «Братства Русской Правды» (прим. ред. Братство русской правды (БРП) — русская белоэмигрантская организация, образованная в 1921 году в Берлине герцогом Г.Н. Лейхтенбергским, литераторами С.А. Соколовым-Кречетовыми, А.В. Амфитеатровым, генералом П.Н. Красновым, полковником А.П. Ливеным и другими бывшими белогвардейцами для подрывной антисоветской деятельности. Центральным печатным органом БРП был журнал «Русская Правда». БРП имела свои отделения в Париже В.Л. Бурцев, в Прибалтике (А.П. Ливен) и т.д.); Брицен Теодор; Брилин Янис — кандидат на пост епископа Латвийской Православной Церкви; Ципрдеев; Черняев Александр — священник в епархии Елевферия; Четвериков С. — монархист; Данов; Декснин; Демидов Николай — бывший сторонник Елевферия; Дмитриев Назарий — сторонник Елевферия; Дорин Константин; Горкин — в оппозиции к Августину; Ильин Дионисий — сторонник Елевферия; Ишевский Дмитрий — агент Москвы; Янсонс Янис — кандидат на пост епископа, председатель общества «Единение»; Янсонс Владимир — участник «Парижской группы»; Ефимов — участник «Братства Русской Правды»; Костилюк Екаб — сторонник Елевферия; 31 Крейлис — бывший социал-демократ; Кузрибов — связи с Елевферием; Запикен Янис — сторонник Елевферия; Михайлов — участник «Парижской группы»; Недумов — связи с Москвой и Парижем; Никаноров — связи с Елевферием; Орлов; Петерсен; Преображенский-Дараганс — участник организации «Единение»; Преображенский Василий — участник «Парижской группы»; Рушанов Василий — участник «Парижской группы»; Смирнов — в оппозиции к Августину; Свемпс Янис; Шаховской Янис — кандидат на пост епископа; Трубецкой Николай — участник «Парижской группы»; Вошницин — сторонник Елевферия; Заяц Кирилл — враг архиепископа Поммера; Заливский — сторонник Елевферия; 1936 год, 16 сентября. 126460. Начальнику Управления духовных дел Министерства Внутренних Дел Мне представляется необходимым предоставить в Управление духовных дел информацию об обстоятельствах в Латвийской Православной Церкви, систематически собираемой с осени прошлого года до настоящего времени. После смерти архиепископа Иоанна основана латышская православная община, которая до этого не существовала. При основании этой общины не было религиозных мотивов. Главная цель заключалась в необходимости добиться победы в выборах нового Владыки, т.к. после смерти архиепископа все дела управления церковью угрожали перейти в руки русских. Принимая во внимание вопрос выбора нового архиепископа, в Совет общины вошли следующие члены: доцент Я. Берзиньш, адвокат Зариньш, учитель Поммерс, проф. Закис, агр. Скубиньш, доц. Старцс, начальник паспортного отдела министерства Внутренних дел Курземниекс, старший учитель Давис, секретарь сената Зонне, отставной капитан полка Рижских айзсаргов Милгравис и Наудиньш из группы государственного контроля, который должен отстаивать на выборах епископа позицию национальных латышских интересов. У этой группы взгляд на дело Православной Церкви был следующий: «Православная Церковь, как общественный ин- 32 ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА — Культура и религия ститут, должна служить государственным интересам. С этой целью церковь необходимо передать в руки латышей, так как среди русских много негосударственного элемента, которые хотят использовать Православную Церковь в своих политических интересах. Эти политические цели идут от эмигрантов и из Москвы, и из русской части православной церковной жизни. Оба эти направления существенно ощущаются. Русские ощущают неудобство от сотрудничества с латышами, потому что латыши не дают им свободно действовать и удерживают в рамках государственной политики. Уже во время архиепископа Иоанна (Поммера) и сейчас, после его смерти, русские пытались и пытаются оторваться от латышей и особенно соорганизоваться под властью своего епископа, чтобы в своей церкви реализовать свои устремления. В качестве примера они берут отношения латышей и немцев в лютеранской церкви как между архиепископом Гринбергом (раньше архиепископ Ирбе) и епископом Пелцхау. В связи с тем, что покойный архиепископ Иоанн (Поммер) не дал русским самостоятельности в делах церкви, русские в свое время обратились к президенту Чаксте с просьбой повлиять на архиепископа Иоанна (Поммера), чтобы архиепископ Иоанн (Поммер) дал им викарного епископа, под властью которого они могли бы соорганизоваться. В связи с этим возник вопрос. Архиепископ Иоанн (Поммер) желал узнать от власти: власть хочет, чтобы он бросил Латгалию или вел себя по государственному, отвечая политически и за Латгалию? Если же в Латгалии был бы викарный епископ, то он не мог бы нести ответственность за Латгалию. Не было доверия для того, чтобы русским дать своего викарного епископа, но они все-таки беспрестанно пытались оторваться от латышей. Они беспрестанно приставали к архиепископу Иоанну (Поммеру) с требованиями дать им викарного епископа, но их требования не были выполнены. Архиепископа Иоанна (Поммера) пытались отстранить от должности, чтобы дать место истинным русским или тем русским, которые выполнят требования в полной мере. Так как архиепископ Иоанн (Поммер) был против исполнения требования, а достичь избрания епископа законными средствами не было возможности, то тогда эти русские начали против архиепископа кампанию травли, стремясь его уничтожить морально, всячески стараясь его дискредитировать в глазах общества. Так, например, был следующий случай в то время в Даугавпилсе. Он ждал местное священство, и его обняла женщина с сомнительной репутацией, а фотограф заснял этот момент. Полиция отобрала у фотографа негатив фотографии и уничтожила. Похожая ситуация случилась с фотографией у священника Зайца и какой-то женщины, принятой в православную конфессию. Из снимке изображение Зайца было вырезано, вклеено изображение архиепископа Иоанна (Помера) и послано в редакцию газеты «Sociāldemokrāts». Член этой партии Декенс не принял этой фотографии, но тогда Заяц пошел с тем же предложением к другим социалистам. Когда морально уничтожить архиепископа не удалось, то стали распускать слухи о болезни Иоанна (Поммера), связанной с манией величия. Все это закончилось лишь после мученической смерти архиепископа Иоанна (Поммера). Устремления русских оторваться от латышей продолжались после смерти архиепископа Иоанна (Поммера). На пост архиепископа интенсивно искали кандидата – русского, среди которых упоминали имя князя Шаховского (Берлин), кто-то Иллариона и епископа Иоанна (Булина). Когда иностранные кандидаты отпали, тогда Синод начал искать прорусски настроенного латыша, и сначала такого нашли в лице обрусевшего Янковича, но когда Янкович отказался, тогда выдвинули кандидатуру Янсона. Янсон прорусски ориентированный человек, и уже с 1920 года он устроился в русскую газету, где засвидетельствовал свою приверженность идеалам русских и русского народа. Про Янсона известно, что он состоял в Парижской монархической организации «Содружество», в которой его уже выбрали председателем в латвийское отделение «Единение». Янсон неотступно держался этой организации, до смерти Иоанна (Поммера) этот факт держал в секрете. Янсон также противился организации совета православной общины при Кафедральном соборе и уступил в этом вопросе лишь после того, когда ему стали угрожать жалобой. В латышских делах Янсон был воздержан, напротив, в русских делах очень активен. В силу этого кандидатура Янсона среди латышей была неприемлема. Деятельность русских в Синоде Православной Церкви была очень активна, они стремились действовать в Синоде согласно своему духу, и Синод полностью шел на поводу у русских. И только обстоятельства и сопротивление латышей, состоявших вне Синода в Совете Кафедральной общины, заставляли их брать во внимание интересы латышской церковной общины, при этом они беспрестанно продолжали проводить свою политику. С. Мазур — Cудьба Православия в Латвии после мученической кончины архиепископа Иоанна (Поммера) Говоря про следующего кандидата на пост архиепископа, латышская группа (члены Совета Кафедрального собора) подчеркивали, что русским и латышам необходимо выбирать кандидата на должность только государственника, с государственной точкой зрения на положение вещей. Приемлемой на должность персона может быть лишь та, которая лояльна власти, обладает патриотизмом и должна наблюдать за церковью как за общественной организацией. Русские, напротив, верили, что власть не вмешается в выбор кандидата и они на правах старшего выберут своего кандидата. У государства были соображения о необходимости выбора епископа с безукоризненной чистотой каноничности, чтобы ни одна группа не могла отколоться. Но русские пытались достичь своего и поставить на должность архиепископа Херманоса (Hermanos) и высказывались, что при известных обстоятельствах русские могут отколоться от Латвийской Православной Церкви... 03.10.1936 Агентурный листок № 109. Секретно. Начальнику политического управления от агента «Яниса» Сейчас полностью определена прояснившаяся политическая линия, которую ведет митрополит Августин. Еще до его назначения главой Латвийской Православной церкви он сообщал, что церковь должна быть национальной, по крайней мере, в языковом аспекте; и митрополит этот свой взгляд четко проводит в жизнь. Богослужения в церкви все чаще и чаще происходят на латышском языке. Открывшийся новый Теологический институт — «латышский» в полном смысле этого слова, т.к. все лекции читаются только на латышском языке, а все русские лекторы от преподавания отстранены. Богослужения проходят только в соответствии с новым стилем, однако жители русской национальности в большей степени желают церковные праздники справлять по старому стилю. В то же время государственная власть установила свои требования использования латышского языка. Так, например, 1 октября на ежегодной ярмарке отслужили панихиду в связи с осенним урожаем. В этом году во время панихиды явилась полиция и предупредила, что богослужения должны проходить только на государственном языке. Выполняя это требование, пришлось срочно перевести многие песни и молитвы на латышский язык. 33 Это требование полиции внесло сильное смущение в ряды торговцев и большое неудовольствие среди жителей Латгальского предместья. Незамедлительно расползлись слухи про то, что государство хочет отнять Кафедральный собор, и между русскими жителями Латгальского предместья уже читали просьбу про оставление Кафедрального собора русскими, потому что латыши и немцы считают, что им (русским) вполне хватит в Риге и четырех церквей. Вообще, нельзя с полной уверенностью судить о настроениях русского народа в Риге в религиозной и церковной жизни. 20.10. 1936 год. В политическое управление. Я. Стиебрис В кругах русских в Риге распространяются первые недовольства против митрополита Августина как латыша. Во многих русских церквях в Риге митрополит хочет ввести также богослужение на латышском языке. В связи с этим русские проявляют свое недовольство. Так, в Пардаугавской русской православной церкви священник Смирнов тайно побуждает своих членов общины против Августина, который хочет основать временную латышскую общину как филиал общины Вознесения. Смирнов высказался, что он проводит богослужения на латышском языке раз в месяц, но латыши их не посещают. Несчастье в том, что священник Смирнов не владеет латышским языком. Старший священник Н. Шалфеев в церкви Иоанна Московского предместья собрал русских, главным образом пожилых женщин, вызваших беспорядки в церкви и обвинивших митрополита Августина, что тот хочет отнять у русских церковь. Регент Покровской русской общины, молодой человек, возбуждает хор и молодежь среди членов общины против латышской церковной власти. Игуменья женского монастыря по адресу Рига, ул. Кр. Барона 126, высказала недовольство и распространяет слухи среди рижан русской национальности, среди священников православной церкви о том, что у русских хотят отнять монастырь и реформировать его. Правда же в том, что митрополит Августин в Синоде ввел новые правила о монастырях в Латвии и они (правила) противоречат старым правилам, принятым в бывшей России. Игуменья женского монастыря сказала своим монахиням, что митрополит не должен вмешиваться и ничего не должен менять. Монастырь содержит себя сам, и обязанность митрополита наблюдать только за церковными делами. ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА — Культура и религия 34 07. 11. 1936 год. Я. Стиебрис Собрание рижских православных священников происходит каждую пятницу в квартире митрополита по адресу ул. Меркеля, 5. На вчерашнее собрание явились Т. Буценс, Александр Македонский и русский священник Смирнов, которые составляют отдельную группу. Можно наблюдать, что Пардаугавская русская община обеспокоена деятельностью митрополита (в связи с решением латышской общины о передаче русских церквей для нужд латышей). И это не только священник Смирнов, но и его ближайшие друзья и знакомые. В связи с этим делом Буценс кое-что начал предпринимать. 20. 12. 1936 год. Я. Стиебрис В рижском женском монастыре по адресу ул. Кр. Барона собрались русские, которые недовольны главой Русской Православной Церкви и тем, что административное управление находится в руках латышей. Они считают, что православие — дело чисто русское. Этот язык можно услышать утром, когда на утреннее богослужение собираются русские и в других церквях их невозможно заметить. Настроение их враждебное против митрополита и священника Легкого из Даугавпилса. 02. 03. 1936 год. Я. Стиебрис В Агенскалнской Св. Троицы русской общине священник Николай Смирнов возобновил нападки против латышской православной общины и проповедывал мятеж против государства в рядах граждан русской национальности. Латышские воины, которые находятся в частях Пардаугавской армии, в связи с деятельностью упомянутого священника выразили недовольство. Жалоба в Синод не имела долгосрочного воздействия. Опять начались волнения. Секретно. В политическое управление. Агентурный листок № 287. Податчик — Х. Принял начальник агентурного отдела 6 мая 1938 года В Православной Церкви сейчас как никогда требуется справедливая и обоснованная реформа, чтобы была возможность если не полностью ликвидировать, то хотя бы смягчить острый конфликт, который сейчас угрожает как расколоть церковные власти и паству, так внести раскол и в саму паству. Кто привел Православную Церковь в тупик, где господствует вражда и беспорядки? По курсирующим чаще всего слухам — виноваты евреи (в тексте «жиды»), масоны и разного рода сектанты. Их роль велика в развале каждой церкви, также обвиняют власти, латышей, Синод, себя, потому что были слабохарактерными и не уничтожили первопричины беспорядков с самого начала… Какие угрожают последствия полностью ясно — полная ликвидация Православия. Таким образом, в настоящее время идет еще скрытная, но все же острая борьба между истинными православными и теми, кто быть может если и не желает уничтожения православия, но не признают изменений в Православной Церкви. Это борьба опасна… так как общество не может обойтись без двух вещей — родины и веры… Что является главной причиной вражды и распрей? Конечно, не то, что считают противники Православия — перевод Православной Церкви на латышский язык богослужения. Без сомнения, трудно, но, возможно, придется считаться с тем, что большинство изменений в православии не приживаются. Как уже было сказано, искривлены основы, связанные с ритуалами, традициями, верой, догматами и богослужением. Можно ли себе представить празднование Великой Пасхи православных вместе с евреями? Это же полный абсурд и смертный грех с точки зрения православных догматов!.. (перевод с латышского) В. Бакусев— Лестница в бездну 35 ТЕКСТ Вадим Бакусев Лестница в бездну Бакусев Вадим Маркович (р. 1957) закончил кафедру истории зарубежной философии философского факультета МГУ (1979), свободный исследователь. Автор ряда статей и книги «Лестница в бездну», переводчик философской, психологической и художественной литературы. Ниже публикуются фрагменты готовящейся к печати книги «Лестница в бездну», любезно предоставленные автором для нашего Альманаха. Я не случайно начну с ответа на вопрос о том, почему именно Ницше было суждено первым учуять в истории Европы врага всего человечества, — с вопроса и ответа, которые, казалось бы, можно оставить «на потом», для более подходящего места. Думаю, потому, что в нем, как ни в ком другом (из тогдашних пасторских, профессорских и т. д. очень воспитанных и образованных сынков), проявился инстинкт (равнозначный судьбе или даже року), названный мною самостановлением. Эта стихия — особого рода: по мере того как человек в нее входит, врастает, все больше становясь из индивида личностью, матричное, коллективное начало в нем постепенно уступает место нематричному. Отсюда сугубая тяга таких людей к жесткому разбирательству с матрицей и всем, что ей свойственно, к враждебному разбирательству — ведь матричное начало по самой своей коллективной природе энтропийно препятствует самостановлению, как только может. Эта тяга мало-помалу захватывает все существо человека, от его телесности до высших уровней мышления. Ниже, в нужном месте, я еще вернусь к этой теме – она далеко не исчерпана сказанным до сих пор. Ницше начал свое разбирательство в том возрасте, когда мышление достигает первой ступени зрелости — в его случае около 1870 года, будучи примерно двадцати шести лет, то есть отнюдь не чрезмерно рано, а, пожалуй, как раз вовремя. Следы такого подспудно начинающегося разбирательства и нащупыванья я усматриваю в тех историко-философских предпочтениях, которые он проявляет в ранних своих работах, — сначала Эмпедоклу, потом главным образом Гераклиту (из них последний остался фаворитом до последних дней сознательной жизни мыслителя). Их он пока еще довольно смутно противопоставляет остальным грекам и сближает с Востоком (которым для Греции была Персия); особенно это относится к Гераклиту с его идеями сплошного становления и постоянной войны (такие предпочтения типически показательны, хотя и не в абсолютной мере, для психологии самостановления). Но уже очень скоро он нащупывает настоящую мысль и одновременно находит своего настоящего героя — но только в качестве антигероя! — с которым так и не расстанется, вернее, с которым так и не расстанется его рука, мечущая в беднягу молнию за молнией. Этот антигерой — конечно, Сократ, а мысль — конечно, о роли, нет, о сути музыки в греческой культуре и сути музыки вообще1. Кем же был для Ницше Сократ и чем — музыка? В общем-то, все это хорошо всем известно, и всякий внимательно читавший Ницше с большим или меньшим успехом сможет выступить с соответствующим докладом — я только расставлю сейчас известные вещи в своей собственной перспективе. Итак, Сократ, словно Сальери у Пушкина, «поверивший алгеброй гармонию», — по Ницше, убийца музыки, точнее, убийца трагедии и музыки как ее «духа». Это — прямое, лобовое столкновение двух принципов, двух систем ценностей, и никто теперь не удивится, если я скажу, что эти принципы и системы имеют кое-что общее с изображенной См. его ранние работы, послужившие подготовительными ступенями для «Рождения трагедии из духа музыки»: «Греческая музыкальная драма», «Сократ и трагедия» и «Сократ и греческая трагедия» (1870-71; последнее из них почти без изменений вошло в «Рождение трагедии») — и, разумеется, само это первое большое произведение Ницше. В дальнейшем я буду исходить в рассуждениях на эту тему из целого корпуса его сочинений, а вернее, прежде всего — из их духа, то есть и из ранних, и из поздних, совершенно promiscue. 1 36 мною выше сущностью матрицы и нематрицы. Уже в 1870 году Ницше улавливает и устанавливает самое важное — столкновение в греческой культуре 5-го века до н.э. принципов сознания и бессознательного: «Если Софокл сказал об Эсхиле, что тот все делает ладно, хотя и бессознательно, то Еврипид позже полагал, что тот все делает неладно, потому что бессознательно» («Сократ и трагедия»). «”Чтобы быть прекрасным, все должно быть осознанным” — такова Еврипидова параллель сократовскому принципу “Чтобы быть добрым, все должно осознаваться”. Еврипид — певец сократовского рационализма» (там же). Эти два принципа, по Ницше, выражают два типа художественного творчества: принцип бессознательности, или, как он все чаще говорит, инстинкта, — древнюю трагедию, и принцип сознания — трагедию новую, выродившуюся, а заодно, разумеется, новую аттическую комедию. Эти принципы он почти немедленно эстетизировал, введя в оборот для всех читающих знаменитую пару аполлоновского и дионисовского начал в греческой культуре. Эстетизировал2 — и одновременно, вернее, именно поэтому, затемнил их себе и остальным. Теперь, чтобы толково обращаться с этой его парой понятий, нужно возвращаться к их исходному пункту и простейшей психологической основе. Ницше о ней никогда не забывал, но она у него в какой-то степени отделилась от его эффектной, нарядной, слепящей глаза античной «надстройки» (он так до конца и гордился своим нововведением) и, вероятно, поэтому оказалась недостаточно разработанной. Поэтому, например, уже вводный образ Сократа оказывается у него, по сути, сильно упрощенным, хотя очень глубоким для своего времени — тогда о таких вещах и не догадывались: «Бессознательная мудрость у этого совершенно необычного человека возвышает голос, чтобы там и сям поставить на пути сознания препятствия. Это тоже показывает, в каком поистине вывернутом наизнанку, перевернутом с ног на ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА голову мире жил Сократ. У всех продуктивных натур именно бессознательное действует творчески и положительно, в то время как сознание критикует и отговаривает. У него же критиком становится инстинкт, а творцом — сознание» (там же). Да нет, бессознательному тоже присуща критическая функция — это оно пытается компенсировать неверные шаги сознания (как и в случае Сократа, см. выше, на 2-м уровне), а сознанию — функция творческая: ведь полностью бессознательное существо ничего творить неспособно (если только не считать творчеством пение соловьев). И все же Ницше уловил тут две важнейшие вещи: во-первых, сам факт бессознательной компенсации в ситуации дезориентированности сознания (которое само о том не знает), и во-вторых, что, может быть, еще важнее, — иллюзорность, свойственную сократической, то есть — в моих терминах и понятиях — матричной позиции (см. опять-таки выше, на разных уровнях 1-го поворота). Иллюзорность европейского сознания — вообще одна из главнейших тем Ницше, и чем дальше, тем больше. К разбору темы иллюзорности у Ницше я еще обращусь ниже, а пока направлю взгляд читателя на одну связанную с нею странную особенность аполлоновского начала, как он его себе представляет. И в самом деле, странно, что аполлоновскому, если оно равнозначно всему сознательному, разумному, «индивидуирующему», Ницше приписывает свойство быть «видимостью» (в значении «кажимость, мнимость») или даже «сновидением» — ведь и дионисовское для него — тоже видение3 и сновидение. Разница между ними, поясняет Ницше, подобна разнице между сновидением и опьянением, причем первое из них видит мир как ряд отдельных, расчлененных образов и соответствует знаменитому в философии «principium individuationis», в то время как второе, наоборот, возвращает индивида к его доиндивидуальному существованию, уничтожает индиви- 2 Между прочим, эстетизация действительности – вообще один из почти неизбежных начальных этапов или, лучше сказать, эффектов самостановления: ведь это самый доступный способ дистанцироваться от реальной, непосредственно окружающей коллективности, в которой и впрямь очень мало красивого… Правда, красота может быть достоянием коллектива, но никогда не бывает его достижением: она всегда – дело рук и душ творящих одиночек. У Ницше эстетическое было еще (а впоследствии главным образом) крайней противоположностью морального, явления опять-таки коллективного по самой своей природе (хотя в некоторых индивидуальных случаях изредка не лишенного и какой-то окоченевшей, натужной красоты; я, кажется, варьировал тут чью-то мысль, может быть, самого Ницше). А если эстетизация сильно затрагивает мышление, как у раннего Ницше и особенно у позднего Хайдеггера, то это приводит к его, мышления, неартикулированности, нечеткости и запутанности. Уж лучше заниматься красотой и мышлением порознь – глядишь, тогда и первая осенит собой второе. Но если личность оставляет этот этап самостановления позади, она уже больше не нуждается в формуле «мир оправдан только как эстетический феномен»; красота просто пропитывает ее сама собой, но не выступает наружу. 3 Слово, которое употребляет Ницше (а именно die Vision), по-немецки означает «восприятие чего-то несуществующего (или только предстоящего)», то есть, в сущности, галлюцинацию. В. Бакусев— Лестница в бездну да в пользу коллективного начала. Эта мнимая запутанность распутывается, видимо, так: дионисовское сновидение равнозначно состоянию бессознательности, а аполлоновское… Как быть с ним? Не понять ли его как иллюзорность сократического сознания и сознания вообще? Ясных указаний на этот счет, если исходить только из понятия аполлоновского начала, у Ницше не найти – и, вероятно, из-за той путаницы, о которой я сказал выше: пара «дионисовское — аполлоновское» введена им как выражающая суть раздвоенного греческого искусства. Хорошо, пусть искусство, в свой черед, наиболее глубоко, адекватно выражает суть греческого мироощущения вообще. Но тогда почему оказывается, что есть другая форма мироощущения, способная не просто воздействовать на искусство, а прямо-таки погубить его, — а именно сократическая логика? Не значит ли это, что для Ницше есть вещи, еще более фундаментальные, еще более сильные, чем искусство? И дело ведь для него тоже (как и для меня) не просто в самом по себе Сократе: «Сократизм старше Сократа; его губительное для искусства воздействие проявляется уже много раньше» («Сократ и трагедия»), в общем правильно считает он. Следовательно, аполлоновский сократизм, который орудует где-то вне искусства, силой воздействует на искусство извне. Но тогда он — одно из общих направлений, в которых двигалась по истории греческая душа4. Второе, противоположное — это, конечно, дионисовский трагизм. То и другое — явления более общего порядка, нежели искусство. Уф, вот мы наконец и вернулись «к исходному пункту и простейшей психологической основе» этих понятий, как я и намечал, — хотя, может быть, от- 37 части вопреки Ницше. Ведь выходит, что если аполлоновское начало в искусстве творит иллюзии (как, впрочем, и дионисовское — с этим мы разберемся позже), то и наука (см. близлежащую выше сноску), коль скоро она — тоже выразитель аполлоновского, порождает их же, только иначе и другие. Но теперь надо проследить смысл, который Ницше наращивает на эту основу, — тот смысл, что излучается его понятиями и рассуждениями и, стало быть, содержится в них лишь отчасти. Для этого возьмем основное, наиважнейшее для его философии понятие5 трагического(и обойдемся тут без прямых цитат). Итак, трагическое, а также дионисовское – это всеприятие жизни в ее полном объеме, как целостности, состоящей из света и мрака, всеутверждение неисчерпаемой, бьющей через край жизни, ликующее в жертвоприношении ей ее же «высочайших типов» (лучших представителей). И это, по Ницше, — подход к психологии поэта-трагика, совершенно противопоставленный им подходу Аристотеля (с которым в античные времена по этому поводу никто, кажется, и не спорил), считавшего, что трагедия путем катарсиса, очистительной разрядки, избавляет от опасных аффектов, от ужаса и сострадания. Прав ли Ницше, вписывая в классическую аттическую трагедию фигуру сатира, пускай только как роль, в которую входил зритель (он подразумевал, что трагедия через дифирамб унаследовала суть более древних дионисовских оргиастических праздников) согласно замыслу автора? Кто же из авторов, героев и зрителей греческой трагедии с ликованием принимал все самые страшные проявления жизни, оправдывая их? В том-то все и дело, что никто. В «Рождении трагедии» для подтверждения сво- «В Сократе воплотилась одна из сторон эллинского духа – аполлоновская ясность в ее беспримесном виде: словно чистый, прозрачный луч света предстает он, этот предвестник и герольд науки, которой тоже было суждено родиться в Греции. Но наука и искусство исключают друг друга: с этой точки зрения кажется многозначительным, что Сократ – первый из великих эллинов, кто был безобразен; да, собственно, в нем символично и все остальное», – говорит Ницше в том же сочинении. Характерно — и хорошо было бы, чтобы читатель отметил это для себя, – что он видит символизм фигуры Сократа. Внешнее безобразие Сократа наш мыслитель подчеркнет еще не раз, но вот чтó именно «все остальное» в нем символично, об этом от него не узнать. 5 Надо сказать, что понятий в строгом, философском смысле этого слова с их жесткой однозначностью и окончательной содержательной очерченностью у Ницше вообще не найти – он работает сплошь со связями, мостами (так сказать, с логическими операторами, и чаще всего с негацией) между готовыми, традиционными понятиями: традиционные связи между ними он разрушает, а новые строит. Одновременная, на ходу, разборка и строительство мостов – дело очень и очень странное, особенно если учесть, что сваи старых мостов Ницше выдергивает, а новых свай (в виде понятий) не ставит, предпочитая висячие и притом подвижные, хочется сказать даже виртуальные мосты. Хождение, передвижение строителя больше напоминает при таких условиях полет. Лучше всего такой метод характеризовать как выстраивание новых перспектив (а не архитектурных комплексов, как в классической философии), в которых вещи, сама жизнь видны совершенно иначе, или как магнитное поле, по-своему, по-новому организующее все вокруг себя. Источник этого поля — созидающая себя личность. Аполлоновское и дионисовское начала — в сущности, единственные у Ницше смысловые конструкции, близкие к статусу понятий, но, как уже ясно, еще ближе они к статусу смысловых перспектив, а уж трагическое — и вообще классическая смысловая перспектива, несмотря на то, что сам Ницше дает ему титул понятия, — может быть, дает чисто риторически, не вкладывая в это строгого смысла. 4 38 ей точки зрения Ницше цитирует кого угодно, даже Вагнера (о котором он там думал на самом деле и в которого тоже «вписал» свое понимание трагедии), но только не греческих авторов. Тут мне придется напомнить читателю то, что я сказал о трагедии у греков выше (кое-что добавив): никто из них, ни трагики, ни зрители, не ликовал по поводу «ужасного и сомнительного» в жизни и не радовался жертвам, которые бьющая через край жизнь приносит сама себе. Правда, никто из них и не отворачивался от этих ее сторон — но трагедии писались именно для того, чтобы показать: ужасное в жизни посылают всеблагие и всемогущие боги, чтобы наказать дерзких и вразумить остальных. Эти дерзатели — отнюдь не злодеи, они даже симпатичны, более того, в чем-то героичны; но они (по замыслу авторов, отвечавшему ожиданиям зрителей) должны быть очень строго, жестоко наказаны. С точки зрения психологической, это была попытка компенсации уже наметившегося матричного уклона со стороны более древнего, естественного уклада психики: боги-архетипы не дают сознательному «я» занять центральное место в психической системе, отталкивают его, наказывая за слепоту (в которой можно, к примеру, жениться на собственной матери) всяческими бедами, безумием и смертью. Это — слепота и бессознательность самого сознания, вернее, дерзкого человеческого «я». Не боги карают его слепотой — оно ослепляет себя само и в этом ослеплении творит то, что подлежит суду и осуждению богов. Сказать об этом яснее, чем греческие трагики, нельзя. В том-то и была вся трагедия — для греков, — что уже давно вожделевшаяся ими эмансипация разума от бессознательного все еще оставалась под жестким запретом «богов», а соответствующие попытки раз за разом терпели крушение, до той поры, пока их интегральное сознательное «я» не накопило достаточно энергии, чтобы утвердиться в новой, самостоятельной роли. Эта пора отмечена появлением на сцене софистов и особенно Сократа; но и тогда для полной свободы разума понадобилась искупительная жертва – главным из «высших типов» тогдашней жизни. Сразу после этого трагедия как жанр чахнет (что правильно заме- ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА тил Ницше) — разуму уже не надо было кусать себе локти и рвать на себе волосы от сознания собственного бессилия вырваться на свободу, хотя эти неаппетитные жесты были прикрыты благочестивыми мотивами — требованием скромности в отношении богов; эта-то раздвоенность порыва и прикрывающих мотивов и была, по-моему, замечена и осмыслена Ницше в его восхитительно запутанной картине взаимоотношений аполлоновского и дионисовского6 . Но значит, трагедия все-таки несла в себе нематричные установки, и если всеприятие жизни как целого, если отсутствие разумной и произвольной селекции, равнозначной сужению, обеднению восприятия, — это тоже нематричная установка (а выше мы с читателем выяснили, что это так), то выходит очень странная вещь: хотя Ницше и ошибался, но… был прав! Мысль его при этом как-то причудливо раздваивается, словно бы проходя и под землей, и над землей в одно и то же время; причем обе «части» проходят во встречных направлениях (энантиодромия) и тем создают своего рода натяжение (не правда ли, это что-то напоминает?) — не столько мысль, сколько смысловую перспективу. Такое раздвоение, правда, не приводит к апории и параличу, остановке мысли, но сообщает ей некоторую творческую недоопределенность («меональность»), своего рода телесность. Пожалуй, происходит это оттого, что говорит Ницше об одном, а именно об искусстве, а думает о другом, а именно о жизни; но ведь они и совпадают, и резко несходны между собой, так что возникает какая-то особая смысловая иллюзия, которая… вовсе не иллюзия. Может быть, этот очень нестандартный, так сказать, объемно-динамичный, или, говоря на гераклитовско-юнговский лад, энантиодромный, «противобежный» метод мышления вообще преимущественно и принципиально свойствен Ницше? Мы еще увидим это. А пока примем во внимание то, что Ницше говорит о двух типах греческого искусства, и попробуем сделать что-нибудь стоящее с его двоящейся оптикой. Итак, аполлоновское искусство (или, точнее, аполлоновское начало в искусстве) творит иллюзию, будучи индивидуирующей пластикой светлой поверхности и 6 Тот, кто пройдет по этой лестнице в бездну вслед за мной (хотя бы и читатель), идущему вслед за Ницше, обнаружит, может быть, что следы предшественников иногда проходят в мучительно дразнящей близости от моего курса, например: «Человек, поднявшийся до сфер титанических, завоевывает себе культуру и вынуждает богов вступить с собою в связь, поскольку в своей самочинной мудрости распоряжается их существованием и определяет его границы. Но самое изумительное в этом поэтическом творении о Прометее, которое, по сути, есть настоящий гимн нечестию, — подлинно эсхиловская тяга к справедливости: неизмеримые муки дерзкого “одиночки”, с одной стороны, и бедственное положение богов, даже предчувствие их гибели…» («Сократ и греческая трагедия»). В. Бакусев— Лестница в бездну «видимостью», — творит «сияющую картину облаков и неба, отраженную в темном озере печали», а под этой поверхностью скрыты «пучины и смертный ужас природы». Значит, аполлоновское искусство, будучи прикрывающей иллюзией (а заодно компенсацией, по Ницше, «исцеляющей поврежденный ужасной ночью взгляд»), прикрывает действительность — ибо что же другое может прикрывать, искажать иллюзия? Но и дионисовское искусство тоже создает иллюзии — оно на время лишает индивида сознания своей индивидуальности, опьяняя его и внушая ощущение причастности к «единому» (то есть коллективному). Ложно ли это ощущение? Пока речь идет только об искусстве и, стало быть, временном опьянении, оно ложно. Но ведь, по Ницше, дионисовским было и все трагическое мироощущение греков, а оно ощущает мир именно как «пучины и смертный ужас природы»! А значит, видит его не как иллюзорную поверхность, а как подлинную действительность! Не заявить ли поэтому на свой страх и риск, что ницшевское дионисовское начало — в противоположность аполлоновскому — было у греков единственно безиллюзорным? Правда, тогда выходит, что мы оказались уже за пределами искусства… а может быть, и не совсем… ведь грань между искусством и жизнью куда как зыбка и проницаема! А что же музыка, из духа которой у греков, по Ницше, и родилась трагедия, — не забыл ли я о ней? Да, теперь самая пора сказать о ней коечто еще. Когда наш мыслитель говорит, что музыка растворяет индивидуальное во всеобщем и даже «уничтожает» его, то он прав. Но эта правота нуждается в одном серьезном уточнении. Что коллективное начало в музыке есть и что без него музыки не бывает, это мы уже выяснили (если угодно). Выяснили мы и то, что в ней есть и личностное начало, почти полностью обходиться без которого музыка, конечно, может, но тогда она почти не будет музыкой. Однако сказать то и другое — значит еще почти ничего не сказать о музыке, хотя сказать это и надо. Но вот что требуется сказать, чтобы по крайней мере затронуть ее существо: музыка — это непрестанное превращение коллективного начала в личностное и личностного в коллективное, их настоящая «иерогамия» («неслыханный гименей» Рильке!), превращение, в котором коллективное «возгоняется» до личностного, а личностное растворяется в коллективном (в этом-то, собственно, Ницше и прав), чтобы, пройдя через него в растворенном виде, снова стать личностным. Из такого самообнов- 39 ления через погружение в коллективные глубины, в «пучины природы» личностное начало выходит уже не тем, каким было до того, а обогащенным чистой, прямой энергией бессознательного, и чем чище эта энергия, тем больше самообновление музыкой воспринимается личностным началом как красота. Под чистотой я имею здесь в виду соответствие звучащего музыкального тела архетипическим «узорам», некоторым врожденным конфигурациям энергии, выраженным в терминах чистой, ни на что не направленной воли. Эта красота в модусе личного предстает как мелос, в модусе коллективного — как гармония (стоит ли говорить, что такое разделение на модусы совершенно условно и предпринято только для артикуляции «неслыханного» и несказуемого). В красоте личность, обогащаясь и обновляясь, растет, то есть все больше становится личностью: это утверждение, извлеченное из рассуждений о музыке, не покажется излишним и чересчур смелым, если вспомнить, что музыка вообще — модель (так сказать, parvum in magno) психики как целого. Значит, психика, ориентированная преимущественно на музыку, будет преимущественно нематричной. Попытки рационализации красоты никогда ни к чему хорошему не приводили, особенно в музыке, — ведь они равнозначны обратному обеднению души, изъятию из сплава одной из двух субстанций, и притом «заряжающей», то есть бессознательного. И если Ницше приписывает мелодическое начало в музыке дионисовской стихии, а гармоническое — аполлоновской, то это говорит только о том, что, во-первых, в своих попытках теоретической рационализации греки перевернули музыку вверх дном (их аполлоновская музыка и впрямь звучала как ритмичная последовательность гармоний — наслаждаться ею могли только геометры, вхожие к Платону) и, во-вторых, о нашей – и Ницше тоже — полной неосведомленности насчет того, как на самом деле звучала дионисовская музыка в древности. Подозреваю, что «козлиная песнь» (таково, напомню забывшим, значение слова «трагедия») была все-таки не более чем козлиной: с Марсия недаром содрали кожу. Кстати, два слова об искусстве. Оно – сфера тонкого, тончайшего, постоянно нарушаемого, но все вновь возрождающегося динамического равновесия света и мрака — избыток или нехватка одного либо другого непоправимо разрушает искусство. Этот пустой, холодный, тяжелый свет, силой размыкающий веки, — ах, зачем он язвит блаженные глаза, зачем изымает их из мира невесомой радости сна! ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА 40 Занавес пал, на сцене пусто, пыльно и скучно, поникли, уснули теплые очи рампы, и утробную тишину искусства гонит вон острый шум насильственного дня. Тонут, гаснут в глубинах, и уже неудержимо, и радуга, и небывало близкая и жаркая звезда — вот, это уже не они, это только случайный блеск в хрустальной подвеске, ненужно и трезво горящий на освещенном потолке, горящий скучно, горящий навсегда. Жалкий, предательский блеск! Непоправимо и бессильно уходит прочь бесправная, отныне бескрылая, словно изгнанная душа. Так непоправимо осыпаются листья, падают звезды, улетают последние птицы… А рациональная иррационализация ткани искусства тоже ведет к его вырождению — Ницше мучительно испытал это в своем отношении к Вагнеру, и когда он славит его как трагика в «Рождении трагедии», то в глубине души все равно знает правду, которая через некоторое время с такой болью вышла на поверхность его знания. Теперь, наверное, можно лучше понять, почему Ницше в первом своем большом сочинении говорит о «синтезе» аполлоновского и дионисовского начал в греческой трагедии и, шире, во всяком искусстве вообще. Но ведь то — трагедия, погибшая с приходом Сократа! Что же, собственно, погибло, а что осталось? Ответ прост: погибло дионисовское, осталось аполлоновское. Значит, погибла одна иллюзия, осталась другая? Давайте остановимся сейчас на этой теме немного подробнее еще раз и уже окончательно, чтобы выбраться из этого томительно запутанного, лабиринтного участка лестницы и получше разобрать или, лучше сказать, еще раз осмотреть и разведать одну из важнейших перспектив ницшевского мышления. Иллюзия (точнее, дионисовская иллюзия), усиливающая жизнь, по Ницше, – это и есть реальность; а «истина» (и с нею вместе заблуждение) — нереальна; это иллюзия «аполлоновская», ослабляющая жизнь. В основе иллюзии как реальности лежит воля к власти (бессознательное) — она движет всем, в том числе и разумом с его «истинами». Если она о себе вспоминает, то понимает себя как иллюзию, подни- мающую жизнь, как искусство в любом смысле слова и как искусство жизни вообще; если же забывает, то занимается подлинно иллюзорными «истинами», но все равно действует как воля к власти, хотя и в ослабленном, извращенном, «декадентском» виде. Ослабление жизни здесь означает разрыв связи с ней, ведущий к тому, что жизнь (воля к власти) чахнет. Чтобы по возможности не ошибиться тут и развеять свои и читателя сомнения на этом очень скользком месте, приведу все же подтверждающую цитату из Ницше 7. «против слова «явления». NB. Видимость, как я ее понимаю, есть действительная и единственная реальность вещей, — то, чему следует прежде всего приписывать все наличные предикаты и что соответственно характеризуется лучше всего даже всеми, то есть и самыми противоречивыми предикатами. Но это слово выражает не более чем ее <видимости> недоступность для логических процедур и дистинкций: то есть видимости в отношении к «логической истине» — каковая, однако, сама возможна лишь в приложении к некоему воображаемому миру. Таким образом, я не противополагаю «видимость» «реальности», а, наоборот, полагаю видимость реальностью, которая не поддается превращению в воображаемый «истинный мир». Точным названием этой реальности была бы «воля к власти», причем как внутренняя форма, а не та, что отталкивается от ее <воли к власти> неуловимой, текучей протеевской природы». С точки зрения логико-грамматической, этот текст и сам обладает «неуловимо-текучей протеевской природой», но мы не будем углубляться в эти материи. Я, кстати, даю здесь привычный для русского читателя перевод «воля к власти», хотя прошу учитывать: во-первых, «явления» в начале текста связаны с «видимостью», что совершенно очевидно по-немецки (Erscheinungen — Schein), но не по-русски; вовторых, в абстрактном контексте, как вот и в этой цитате, слово «die Macht» означает гораздо скорее «силу-способность», чем «власть распоряжаться чем-нибудь» 8 (это значение тоже всегда есть, но в данном случае оно вторично). И даже, в виде исключения, точную ссылку: этот текст еще не доступен на русском языке. Цитата представляет собой фрагмент 40 [53] из 11-го тома «Kritische Studienausgabe» (далее при ссылках – KSA, первая цифра означает том, вторая – номер фрагмента; есть опубликованный русский перевод 12 и 13 томов) под ред. Дж. Колли и М. Монтинари (черновики и наброски весны 1884 –осени 1885 гг.). 8 Вообще «воля к власти» – довольно скользкий термин, если пользоваться этим переводом-калькой, оправданным только как «эстетический феномен». Его подлинный смысл можно передать очень неуклюжим оборотом «стремление получить возможность влиять на обстоятельства (шире – на мир)». Достигается эта возможность созданием перспективы: ведь она заставляет вещи выглядеть (что, по Ницше, равнозначно быть) иначе (то есть быть иными). 7 Ф. Талберг — К истории постановок оперы Чайковского «Евгений Онегин» в театрах Риги 41 ТРИ ВЕКА РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЛАТВИИ Феликс Талберг К истории постановок оперы Чайковского «Евгений Онегин» в театрах Риги Впервые Рига познакомилась с русской оперой в конце XVIII века. Тогда, в 1798 году, сюда приехала из С.Петербурга Придворная оперная труппа под руководством Ивана Петрова, режиссёра Императорских театров. Эта труппа представила тогда местному зрителю новую постановку оперы М. Соколовского и Е. Фомина «Мельник, колдун, обманщик и сват» на либретто писателя А. Абалмасова. 16 мая она была поставлена на сцене Рижского городского театра, а через неделю — в Пардаугаве, на летней площадке «у Эрасма Менде». Ещё раз рижане услышали эту популярную в России оперу в 1858 году во время гастролей первого в Латвии русского театра из Динабурга, созданного военным инженером местной крепости Н.Н. Хегельстромом. Более основательное и регулярное знакомство рижан с русским оперным искусством произошло во второй половине ХIХ века, когда в России зародилась частная оперная антреприза (1870-е годы). В первое время антрепризы создавались в основном из провинциальных певцов, однако впоследствии в их составах стали появляться и звёздные певцы. В этот период в Риге проходят регулярные гастроли частных оперных трупп Любина и Салтыкова, Луковича, Ярона и Михайлова, Шейна и многих других. Эти труппы и познакомили рижан с русской оперной классикой. На рижских сценах зазвучала музыка лучших русских опер: «Жизнь за царя» М.И. Глинки, «Демон» А.Г. Рубинштейна, «Русалка» А.С. Даргомыжского, «Мазепа», «Опричник», «Снегурочка», «Черевички» П.И. Чайковского, «Рогнеда» А.С. Серова, «Садко» Н.А. Римского-Корсакова. Роли в этих и многих других операх исполняли выдающиеся российские певцы и певицы. Правда, слабым местом зачастую были хоры и оркестры. Поэтому иногда руководители оперных трупп прибегали к услугам местных музыкантов и хористов. Таким образом, это было время проникновения русского музыкального искусства в наш край. Оценивая результаты этих гастролей, музы- кальный обозреватель газеты «Рижский вестник» писал: «Мы не сомневаемся, что успех этот был бы ещё значительнее, если бы представления состоялись не при столь неблагоприятных условиях и такой сценической обстановке». Имелись в виду плохие сцены и холодные помещения. Но при этом русская пресса с удовлетворением отмечала, что на спектакле в Торнбергском театре (в Пардаугаве), где давали оперу «Жизнь за царя», присутствовало 704 человека, тогда как в Городском немецком театре в тот же день и на том же спектакле — 374 театрала. Большой интерес к русским операм проявляли латыши. Русская оперная музыка им была ближе и понятнее, чем западноевропейская. Большой популярностью пользовалась опера М. Глинки «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»). Она сразу заняла прочное место в латышской музыкально-театральной жизни. В 1886, 1888 и 1913 годах она шла на сцене Рижского латышского театра, а также в Валмиере, Виетлаве и Елгаве. В 1913 году её разучил Лиепайский латышский театр. До начала 1-й Мировой войны эта опера в Латвии была поставлена 85 раз. Кроме того, её разучивали русские певческие общества «Баян» и «Лада». Таким образом, к началу ХIХ века речь уже шла не о знакомстве с русским оперным искусством, а об его освоении. Успехи русской оперы в Риге были настолько впечатлительны, что вызвали неофициальное соперничество между русскими гастролирующими оперными труппами и Рижским городским немецким театром. Тем более, что в репертуаре этих трупп были и оперы Верди, Бизе, Мейербера, Галеви и других европейских композиторов. Нужно сказать, что эта конкуренция складывалась не в пользу Городского театра. Русские оперы завоёвывали сердца латышей. О масштабах русских оперных спектаклей говорит соглашение, подписанное известным антрепренёром Алексеем Фёдоровичем Картавовым с комитетом Рижского русского театра. По этому соглашению его труппа обязывается дать в Риге в сезон 1888—1889 года 55 оперных 42 ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА – Три века русской культуры в Латвии спектаклей. Тогда начались регулярные оперные спектакли в Риге. В отдельные годы этого периода русские оперные постановки давались ежедневно. В них участвовали выдающиеся русские певцы Я.Н. Любин, С.В. Тамарова, С.Н. Нечаева, И.С. Виноградов и другие. На фоне успехов русской оперы в Прибалтийском крае особое место занимала опера Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин». Она имела большое значение в создании латышской национальной оперы, и ей принадлежит особое место в её истории. Впервые в Риге опера «Евгений Онегин» была поставлена труппой А.Ф. Картавова 17 октября 1888 года. Тогда партию Татьяны пела Палице, Онегина — молодой, талантливый баритон Брыкин, Ленского — Я.М. Любин, один из известнейших в России лирических теноров. Представление вызвало повышенный интерес и собрало большое количество зрителей. Пришли почитатели творчества Чайковского и Пушкина, которых было много и среди латышей. Поэзию и прозу поэта тогда переводили на латышский язык многие местные литераторы. Это подогревало интерес к спектаклю. Премьера тогда не произвела должного впечатления на рижан и вызвала споры. Возможно, причиной был малочисленный оркестр, со слабой струнной группой, которым руководил непрофессиональный дирижёр, музыкант В.О. Зеленый. Некоторым могло показаться спорным либретто оперы и недопустимыми отступления от великого оригинала. Однако восхитительная музыка не могла не очаровать публику, даже если многие ушли со спектакля с вопросом: опера ли это или просто музыка к «Лирическим сценам» из романа в стихах поэта? Подобные сомнения неизбежно возникают, когда речь идёт о великом оригинале. Вспомним, что автором либретто был сам композитор, хотя некоторую лепту внёс и друг Чайковского, актёр и музыкант Константин Шиловский. В свою очередь идея положить на музыку «Онегина» принадлежала певице Мариинского театра Елизавете Андреевне Лавровской. Сначала эта идея показалась композитору абсурдной, но со временем она овладела им настолько, что избавиться от неё было уже невозможно. «Какая бездна поэзии в «Онегине»! Я не заблуждаюсь: я знаю, что сценических эффектов и движения будет мало в этой опере — писал он брату Модесту, — но общая поэтичность, человечность, простота сюжета в соединении с гениальным текстом заменят с лихвой эти недостатки». При всей прозрачности истории создания оперы многое всё-таки осталось за кадром. Дело в том, что в период работы над музыкой оперы в Глебово произошла история неожиданной для всех женитьбы Чайковского на Антонине Ивановне Милюковой. Молодая женщина, как и Татьяна, написала композитору письмо с признанием. Скоропалительная женитьба закончилась столь же стремительным разрывом. Душевные переживания не могли не отразиться на работе над оперой и несомненно привнесли в оперу личные мотивы. Композитор был вынужден покинуть Москву и уже за границей продолжить эту работу. Осенью 1877 года был готов клавир оперы: «Лирические сцены». «Я написал эту оперу потому, — писал композитор, — что в один прекрасный день мне с невероятной силой захотелось положить на музыку всё, что в «Онегине» просится на музыку. Я сделал всё, что мог». Из романа Пушкина Чайковский взял лишь то, что связано с миром душевных переживаний и личной жизнью его героев, вынеся за скобки остальную часть «Энциклопедии русской жизни». Поэтому своё либретто он и назвал «Лирические сцены». «Я ищу интимную, но сильную драму, основанную на конфликте положений, мною испытанных или виденных, могущих задеть за живое». Могли ли рижане тогда в октябре 1888 года понять всё это и по достоинству оценить работу композитора?.. Смогли. Правда, тот спектакль вызвал много споров: пушкинская ли это опера или просто музыка к «Лирическим сценам». Но важно, что музыка Чайковского завоевала тогда сердца рижан, и они ждали новых встреч с ней. И новая постановка «Евгения Онегина» труппой Картавова последовала уже в 1890 году. Было ясно, что настоящий успех русских опер может прийти лишь в условиях хорошей сцены, и комитет Русского театра возбудил вопрос об организации оперных постановок труппы Картавова на сцене Рижского городского немецкого театра. Дирекция Рижского городского немецкого театра за внушительное вознаграждение уступила сцену своего театра для четырёх лучших постановок Картавова и оперы «Евгений Онегин» в том числе. В конце января 1890 года состоялся дебют оперы Чайковского на сцене главного рижского театра, а ещё через неделю оперой «Евгений Онегин завершился сезон русской оперы 1889-1890 года в Риге. Даже немецкие газеты Риги единодушно высоко оценили успех русских опер, отметив прекрасный ансамбль солистов и превосходный хор труппы Картавова. Успех русской оперы имел большое значение не только для улуч- Ф. Талберг — К истории постановок оперы Чайковского «Евгений Онегин» в театрах Риги шения её положения в городе, но и для активизации музыкальной общественности города в том числе. В русской и латышской прессе стали широко обсуждать вопросы исполнительского мастерства и музыкально-театрального искусства. Появляются даже требования ограничить привилегии немецкого искусства и создания общедоступного театра на основе Рижского городского театра. Казалось бы, такой оборот событий мог только укрепить позиции русского оперного искусства в Риге и труппы Картавова в частности. Но на самом деле всё произошло иначе. Чрезмерная активность русской театральной общественности вызвала раздражение местного самоуправления. По его требованию Лифляндский губернатор Зиновьев упраздняет Общественный театральный комитет как «непредусмотренный законом». Сформированный лично губернатором новый театральный комитет создал для приезжих русских театральных трупп невыполнимые условия. При создавшемся положении Картавов и его коллеги отказались от антрепризы в Риге. Планомерное распространение русского оперного искусства в крае было приостановлено. Дальнейшее развитие событий пошло в двух направлениях. С одной стороны, вместо гастрольных оперных трупп в Ригу стали приезжать лишь солисты оперных театров, правда, в том числе и выдающиеся. Достаточно назвать имена Н.Н. Фигнера и Ф. Шаляпина. В своих концертах они продолжили знакомить рижан с русской оперной классикой. С другой стороны, на успех у зрителя русских оперных трупп отреагировал Рижский городской немецкий театр. Понимая, что это принесёт повышенный доход, руководители театра решили ставить на своей сцене русские оперы, правда, в переводе на немецкий язык. За короткий срок, начиная с 1893 по 1896 год, в театре были поставлены «Жизнь за царя» М. Глинки, «Моисей» и «Демон» А. Рубинштейна, «Иоланта» и «Евгений Онегин» П.И. Чайковского. 29 января 1896 года в Рижском городском театре состоялась премьера оперы «Евгений Онегин». Оркестром дирижировал Х. Егер, партию Татьяны исполняла Нора Нольден, Онегина пел Генрих Монвикель, ему же принадлежала режиссура оперы, партию Ленского исполнял Иост Дворский, балетными сценами руководил А. Фьёра. Пресса живо откликнулась на премьеру: «Госпожа Нольден так сумела сжиться с образом Татьяны, что исполнение её было вполне верно, типично, жизненно… Особенно хороша 43 артистка была во второй и в последней картинах, самых выдающихся в опере. Она играла и пела с особым увлечением, с редкой силой и имела заслуженный успех. На долю господина Монвикеля выпала весьма трудная, даже неблагодарная задача, которую артист, однако же, выполнил очень хорошо. Он особо удачно оттенил разницу между Онегиным, которому любовь нежной, простой девушки, в глуши, в деревне, не говорит ничего, и тем, который вновь просыпается к страстной любви… Голос господина Монвикеля звучал с необыкновенной силой. Дикция была как всегда примерная: каждое слово звучно выделялось. Но особенную благодарность мы должны выразить господину Монвикелю за обдуманное режиссерство, которое чувствовалось во всей постановке оперы». Таково было мнение музыкального обозревателя газеты «Рижский вестник». Второй спектакль этой оперы прошёл ещё более успешно, и, таким образом, опера закрепилась в репертуаре Рижского городского театра надолго. Уже в следующем году состоялись гастроли на сцене Рижского городского театра известного российского лирического тенора Николая Николаевича Фигнера. Он пел свои партии в операх «Ромео и Джульетта», «Кармен» и «Гугеноты». Но с особенным нетерпением рижский зритель ждал его участия в опере Чайковского «Евгений Онегин», где ему предстояло петь партию Ленского. «Он выделил на первый план роль и партию Ленского, красоты которой както не замечалось… Ария «Куда, куда вы удалились» стала шедевром в изящном исполнении этого музыкальнейшего из современных лирических теноров — вся партия целиком была пропета великолепно». Так снова отозвалась газета «Рижский вестник». Фигнер открыл рижанам красоту арии Ленского, Шаляпин, давая в Риге концерты — арии Гремина. Вскоре рижанам полюбились едва ли не все фрагменты этой оперы. В 1898 году главным дирижёром Рижского городского театра стал молодой Бруно Валтер. В своих воспоминаниях он рассказывает, что принял предложение Рижского театра потому, что здесь работал Рихард Вагнер, что он мечтает быть его наследником. Но придёт день, когда надо будет выбрать оперу для своего бенефиса, и он выберет оперу Чайковского «Евгений Онегин». Партию Татьяны в опере споёт его будущая супруга Эльза Корнек, а Бруно Валтер напишет родным в Германию об ажиотаже перед спектаклем: «В девять часов утра, когда открылась касса театра, был такой наплыв людей, что конец очереди ещё в час дня не добрался ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА – Три века русской культуры в Латвии 44 до кассы. А ведь продажа началась за пять дней до дня спектакля. К вечеру первого дня продажи уже не было ни одного билета». Известно, что на премьере оперы «Евгений Онегин» 4 февраля 1900 года присутствовало 1385 человек (в Рижском городском театре было 1305 мест). В том году состоялось 6 постановок «Евгения Онегина» в городском немецком театре. Рижане уже любили эту оперу и отдавали ей предпочтение. Рудольф Тунце и Дагмара Розенберга Паулс Сакс В 1907 году снова здесь гастрольные спектакли давал Николай Фигнер. Рига с восторгом встречала этого замечательного российского певца, лучшего исполнителя партии Ленского. В Риге знали необычную биографию Н.Н. Фигнера. Знали, что он был морским офицером из дворянской семьи. Что его дед полковник А.А. Фигнер был лифляндским дворянином и жил в Риге. Что три его родные сестры были революционерки. Из них Вера была приговорена к смертной казни, заменённой заключением в Шлиссельбургскую крепость, а Евгения и Ольга были сосланы в Сибирь. Что сам Николай Николаевич, уйдя со службы, обучался в петербургской и неаполитанской консерваториях. Пел в оперных театрах Неаполя, Милана и Мадрида и лишь 1887 году вернулся в Петербург, где выступал на сцене Императорской оперы и вскоре получил звание солиста Его Величества. В Ригу он приехал уже третий раз, а впервые он, вместе с супругой Медеей Ивановной Фигнер-Мей, в 1892 году дал два концерта в Малой гильдии. Тогда в газете «Рижский вестник» Всеволод Чешихин писал: «Певец представляет в высшей степени отрадное явление одной из самых блистательных побед, какую когда-либо одерживал человек над природою: своими небольшими голосовыми средствами он располагает с могу- ществом мага и волшебника». С этого времени Фигнер стал любимцем рижской публики. Опера «Евгений Онегин» прочно вошла в репертуар Рижского городского театра до начала 1-й Мировой войны. Менялись режиссёры-постановщики, дирижёры оркестра, исполнители оперных партий, но оперу продолжали ставить. Во время последнего сезона театра 19131914 года «Онегина» исполнял сильный оперный ансамбль под руководством главного дирижёра Матхауса Питтерофа и хормейстера Клеменса Крауса (в будущем выдающегося дирижёра). Оркестр состоял из 70 музыкантов, а хор из 50 певцов. Партию Ленского исполнял известный тенор Герман Ядловкер, которого тогда называли немецким Карузо. Талант юного певца, уроженца Риги, открыл Бруно Валтер в период его работы в Рижском городском театре. Певец окончил Венскую консерваторию и с успехом выступал на лучших оперных сценах мира. В опере «Евгений Онегин» рижане восторженно приветствовали своего земляка. В 1902 году в Риге открылся постоянный Городской русский театр, со вновь построенным зданием и залом на 800 мест. В уставе театра были предусмотрены ежегодные антрепренёрские оперные спектакли. В 1903 году оперные спектакли давала труппа известного тенора Императорских театров М.И. Михайлова и М.Т. Ярона. В марте состоялась постановка «Евгения Онегина». Оперный ансамбль был не звёздный, но высоко профессиональный и ровный. «Во всяком случае, спектакль «Онегина» стоит гораздо выше спектакля этой же оперы в здешнем Немецком театре, в котором мы так редко можем услышать то, что называется настоящим естественным пением», — такой радикальный отзыв дал музыкальный обозреватель латышской «Ригас авизе». В данном случае нам важно отметить, что латышская пресса внимательно отслеживает русскую оперную классику, тем более, что этим музыкальным критиком был талантливый латышский композитор Эмиль Дарзинь. С 1905 по1910 год оперную труппу в Ригу привозил Григорий Яковлевич Шейн — русский антрепренёр младшего поколения. В его труппе был небольшой, но хороший хор и вполне профессиональный оркестр под руководством Ивана Петровича Палиева (родного брата композитора Захария Палиашвили). Оперу Чайковского «Евгений Онегин» труппа поставила в марте 1910 года. Партию Татьяны талантливо исполнила Е.И. Негина, Онегина пел будущий солист Большо- Ф. Талберг — К истории постановок оперы Чайковского «Евгений Онегин» в театрах Риги го театра и профессор Московской консерватории Леонид Филиппович Савранский. Давая оценку выступлениям труппы Шейна, Эмиль Дарзинь с болью отметил: «Слушая столь прекрасный ансамбль, просто переживаешь за латышей: когда же у них будут такие голоса». Возможно, это была последняя публикация замечательного композитора («Латвия», 1910, № 77). Паул Юрьянс Окончательное решение о создании наци ональной оперы созрело у Юрьянса весной 1912 года. По его просьбе певица Паула Лицит перевела либретто оперы «Евгений Онегин» на латышский язык. Музыкант Арвид Паруп помог Юрьянсу сформировать оркестр. Срочно был создан хор и сформирован ансамбль солистов. Сразу после рождества, 27 декабря 1912 года в помещении Рижского латышского общества Певица Лиците Паула Создание Латышской оперы связано с именем Паула Юрьянса, воспитанника Харьковской музыкальной школы и Петербургской консерватории. В России и родилась у него мечта о создании латышской национальной оперы. Когда в 1904 году в Риге открылась школа Русского музыкального общества, Юрьянс поступил туда преподавателем пения. В 1906 году по его инициативе в школе был открыт оперный класс. С воспитанниками этого класса П. Юрьянс поставил оперу Чайковского «Евгений Онегин». Спектакль вызвал интерес публики. Особенно понравились исполнители женских ролей Роге, Мартинсоне и хор. В газете «Мусу лайки» была напечатана рецензия на эту постановку, которая заканчивалась словами: «Остаётся только радоваться, что у нас, латышей, появился такой педагог в области музыки, который своими успехами начинает обращать на себя общее внимание, и уже добился вполне заслуженного признания. Хочется пожелать, чтобы за этим спектаклем последовали и другие…». Через три года (1909) Эмиль Дарзинь скажет: «Только русские могут нас познакомить с шедеврами своего национального искусства в области драматической музыки, так как латышам эти оперы психологически намного ближе, нежели соответствующие произведения искусства западноевропейских народов». 45 Мединьш Янис состоялся первый спектакль Латышской оперы. Конечно же, этой оперой был «Евгений Онегин» П.И. Чайковского. Зрительский интерес был огромен, все билеты были распроданы загодя, и зрители в своих ожиданиях не обманулись. Партию Татьяны пела О. Звайгните-Якулис, Онегина — Екаб Карп. Ольгу пела Паула Лицит, Ленского — Паул Сакс, который был известен рижанам как популярный исполнитель песен Э. Дарзиня и А. Калниня. Гремина пел Я. Ниедре, Трике — Р. Тунце. Самой опытной в этом ансамбле была Мальвина Вигнер-Гринберг, исполнявшая роль няни. Оркестром дирижировал сам Паул Юрьянс, а режиссуру осуществлял, приглашённый из Рижского городского театра Генрих Пецольд. Поскольку все желающие не попали на первое представление, сразу после новогодних каникул оперу повторили. Второй спектакль прошёл с ещё большим успехом. Поскольку первые спектакли прошли успешно (был поставлен ещё и «Демон» А. Рубинштейна), и положительно были решены финансовые вопросы, то стало ясно, что родился новый театр «Латышская опера». Официальное открытие нового театра состоялось 8 сентября 1913 года в помещении Рижского латышского общества. Но сам создатель театра Паул Юрьянс считал днём его «рождения» 27 декабря 1912 46 ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА — Три века русской культуры в Латвии года, то есть день первой постановки «Онегина». Главным режиссёром театра был назначен Екаб Дубурс, талантливый тенор и режиссёр, единственный латыш, выступавший в качестве солиста на сцене Рижского городского немецкого театра. Именно Дубурс руководил постановкой «Евгения Онегина» к новому театральному сезону 1913/1914 года. Несколько изменился состав ансамбля солистов оперы. Партия Татьяны была поручена Олге Плявниаце, в роли Ленского дебютировал Д. Клавс, Гремина пел Я. Карклинь, Трике – Паэглитис, Зарецкого — Я. Ниедре. Онегина и Ольгу снова пели Е. Карп и П. Лицит. Дирижёр — П. Юрьянс. Декорации готовил выпускник Петербургского художественного училища Штиглица Петер Кудзинь. Усилился состав оркестра, в котором пресса сразу же отметила нового концертмейстера Юрия Файера, в будущем выдающегося дирижёра Большого театра. В дальнейшем репертуар театра пополнился операми из русской и западной классики: «Демон» А. Рубинштейна, «Иван Сусанин» М. Глинки, «Пиковая дама» П. Чайковского, «Кармен» Ж. Бизе, «Травиата» и «Риголетто» Д. Верди. Кроме того П. Юрьянс организовал серию симфонических концертов, один из которых был посвящён творчеству П.И. Чайковского. С началом 1-й Мировой войны положение театра резко ухудшилось. В помещении Рижского латышского общества разместили военный госпиталь. Латышскую оперу перевели в небольшой зал театра «Казино». Театральный сезон 1914/1915 года был последним для «Латышской оперы» П. Юрьянса. С приближением линии фронта к Риге труппа распалась, и большинство артистов уехало в Россию, где они работали в разных городах. В 1918 году началось возобновление деятельности «Латышской оперы». Инициатива принадлежала профессору Петербургской консерватории Язепу Витолу и студенту этой же консерватории Теодору Рейтеру. Весной 1918 года Т. Рейтер закончил консерваторию, продирижировав оркестром на выпускном экзамене в спектакле «Евгений Онегин». После окончания учёбы он руководил симфоническим оркестром 6-го Тукумского латышского стрелкового полка, который перевели из Новгорода в Петербург. Туда же из разных городов начали съезжаться бывшие солисты Латышской оперы: А. Кактинь, М. Вигнер-Гринберг, Паул Сакс, Олга Плявниеце, Янис Ниедре, Дагмара Розенберг, Роберт Тунце и другие. Ещё в Петербурге этот коллектив под руководством Теодора Рейтера начал готовить к постановке оперу Чайковского «Евгений Онегин». Для того, чтобы вплотную заняться воссозданием Латышской оперы, Язеп Витол покинул должность профессора Петербургской консерватории. Вместе с Рейтером и латышскими дипломатами он организовал переезд труппы в Ригу. Здесь в этот период на короткое время была провозглашена Советская власть, и был создан Комиссариат просвещения во главе с Я. Берзинем-Зиемелисом и Э. Эфертом-Клусайсом. Отделом искусств, при этом Комиссариате, руководил Андрей Упит. Этими учреждениями была проделана громадная работа, заложившая основы латышской национальной культуры. Были национализированы библиотеки, что создало основы для организации Центральной библиотеки (впоследствии Латвийская национальная библиотека). В феврале 1919 года были опубликованы декреты об основании Латвийского Государственного университета и Латвийской консерватории. Этими декретами были национализированы и театры. Латышская опера приобрела статус государственного театра, и ей было передано здание Рижского городского театра. Не хотелось, чтобы всё это было забыто. Художественным руководителем и главным дирижёром театра стал Т. Рейтер. По прошествии лет, Андрей Упит вспоминал это время: «Моим ближайшим соратником во всей руководящей работе и в новых исканиях был Теодор Рейтер... воспитанник русской музыкальной школы и её методов, одарённый мастер оперного и хорового дирижирования». После падения Советской власти, в сентябре 1919 года изменился статус и название театра: он стал Латвийской национальной оперой. В наши дни театр отмечает 90-летний юбилей, как будто история театра началась именно тогда. Проходят годы, меняются времена и политические формации, художественные пристрастия и руководители театра, но неизменной остаётся традиция ставить на сцене этого рижского театра шедевр русского музыкального искусства оперу П.И. Чайковского «Евгений Онегин». 6 июня 1999 года этим спектаклем был отмечен 200-й юбилей А.С. Пушкина. Новую постановку (седьмую в истории театра) поставил музыкальный руководитель и главный дирижёр Г. Ринкевич и режиссёр В. Кайриш, главные партии исполняли в тот день С. Изюмов, А. Кирсе, К. Задовска, А. Антоненко и Н. Горшенин. Этим спектаклем Латвийская национальная опера завершала свою деятельность в ХХ веке, как бы давая понять, что опера, в своё время сблизившая две национальные культуры, сохранится в репертуаре театра и в новом столетии. А. Ракитянский — Рига в начале XVIII века. Штрихи к портрету города 47 Анатолий Ракитянский Рига в начале ХVIII века Штрихи к портрету города Для Риги год 2010 особый — это год 300-летия с того времени, как войска Петра Первого вступили в Ригу. На то, что происходило в 1710 году, любопытно взглянуть с расстояния сегодняшнего дня, в особенности на то, что было в начале восемнадцатого века связано с правлением Петра Первого. Хроника событий, указы и рескрипты Петра I относительно Риги. (1709 — 1710) (По материалам и публикациям XIX — ХХ веков). После Полтавского сражения Петр отправился в Киев, а оттуда в Торн (Торунь) для встречи с королём польским Августом II, где с ним был заключён новый союзный договор (октябрь 1709 г). Из Торна царь направился в Мариенвердер, где встречался с королём прусским, и затем прибыл к армии под Ригу. В июле 1709 года из Малороссии русские войска во главе с фельдмаршалом В.П. Шереметьевым двинулись в Лифляндию. В составе русской армии находилась дивизия Репнина, другими частями войск командовали Галларт, Брюс, Ренель и Головин. В октябре войска овладели Кобер-шанцем на левом берегу Двины и заняли позиции перед городом. В свою очередь шведский генерал граф Стрёмберг ввёл 22 полка своих войск в Ригу, увеличил запасы продуктов, а также вооружил жителей города. 14 ноября под непосредственным руководством царя начались военные действия. 9 ноября к осадному корпусу прибыл сам Пётр и приказал бомбардировать Ригу. Бомбардирование началось после полуночи на 14 ноября, где участвовал сам Пётр, помнивший обиду, нанесённую ему во время его первого путешествия и пребывания в Риге тогдашним рижским комендантом Дальбергом. В письме Меньшикову и своим министрам Пётр написал следующее: «Сего дня о пятом часу по полуночи бомбардирование началось Риги, и первые три бомбы своими руками в город отправлены, о чём зело благодарю Бога». Бомбардировка скорее носила чисто символический характер. Пётр понимал, что Рига хорошо подготовилась к боевым действиям и, учитывая наступившие холода и зимнюю непогоду, приказал Шереметьеву отправить войска на зимние квартиры в Курляндию, для блокады же оставить князя Репнина с 7000 корпусом. Сам же царь 15 ноября отправился в Петербург. Здесь он пробыл не более месяца, в память о полтавской битве заложил храм во имя святого Самсона и корабль «Полтава». 7 декабря Пётр отправился в Москву, где встретил новый 1710 год, в то же время постоянно интересовался событиями под Ригой, ведя переписку с Шереметьевым. Репнин всю зиму стоял на подступах к Риге, время от времени напоминая о себе обстрелом города. Непонятным образом вел себя Стрёмберг, командующий шведским гарнизоном. Он практически бездействовал всю зиму, имея трёхкратное превосходство над корпусом Репнина. Это без- 48 ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА — Три века русской культуры в Латвии действие, теснота в границах крепостных стен и отсутствие свежих продуктов затем стали при- чиною эпидемии чумы. Возможно, он надеялся на помощь извне, на подход войск из Швеции для разблокирования города. Но с весны Апраксин вёл активные действия в Финляндии, тем самым не давая перегруппироваться шведским войскам для помощи в Прибалтике. Письмом из Москвы царь от 7 февраля сообщает Шереметьеву о том, что Турция предрасположена к миру и Карлу ХII не будет чинить препятствий к свободе. К середине марта 1710 года все русские войска в составе 24 полков пехоты, 8 конных полков и 2100 казаков сосредоточились у Риги. Под руководством полковника Ласси были оборудованы батареи, (впоследствии граф Ласси стал фельдмаршалом и прибалтийским генерал-губернатором). 30 марта на севере и на восточной стороне города русские войска овладели укреплённым форштадтом, навели плавучий мост и, несмотря на вылазки шведской стороны и желание помешать, вокруг Риги кольцо замкнулось. Чума вышла за пределы городских стен. Она свирепствовала среди осажденных и осаждавших, а также в ближайших окрестностях Курляндии. Другие источники указывают на следующую достоверную информацию, вот цитата: «С 14 мая в осадном корпусе началось сильное моровое поветрие, занесенное из Пруссии». 15 апреля к армии прибыл князь Александр Меньшиков. Блокада продолжалась апрель, май, июнь. Пока Шереметьев блокировал Ригу, под командованием Апраксина русские войска вступили в Финляндию и осадили город Выборг. Осада Выборга продолжалась с 21 марта по 12 июня. Город сдался, и в июле капитуляцию принял сам Пётр Первый. 11 июня Шереметьев предложил Стрёмбергу сдаться и отвел на принятие решения три дня, но предложение было отвергнуто. Тогда командующий дал приказ вести бомбардировку со всех сторон. Десять дней продолжалась атака и обстрел, гарнизон осаждённых понёс огромные потери, боеспособных осталось всего около 2-3 тысяч единиц. Стрёмберг попросил перемирия и прекращения военных действий на 10 дней. Шереметев согласился на перемирие до 29 июня, а затем продлил его до 1 июля. 4 июля переговоры закончились капитуляцией. Условия для города и его граждан А. Ракитянский — Рига в начале XVIII века. Штрихи к портрету города 49 подписаны были в 22 пунктах, с дворянством в 33 пунктах, со шведским войском в 65 пунктах. После подписания Репнин вступил в город, стал генерал-губернатором, Остена назначили губернатором. Вступив в Ригу, Репнин послал поздравление царю о приобретении важней- ников — прим. автора) Катерины, ежели они обретаются в Риге осведомиться и писать ко мне». Речь идёт о родственниках Екатерины. Рижский гарнизон (кроме артиллеристов) перешёл на русскую службу. Вслед за Перновом сдался Аренсбург и, шего пункта в Лифляндии, а в ответ получил письмо с предписанием выполнения обязательных мер и личною просьбою: «Также посылаю при сем роспись именам сродников (родствен- наконец, 29 сентября сдался Боуру и Ревель. С падением Ревеля прекратилось владычество шведов в Лифляндии и Эстляндии. Петр и после всех этих событий писал Репнину и требовал, 50 ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА — Три века русской культуры в Латвии чтобы тот подробно сообщал обо всех послевоенных мероприятиях, в том числе и о мерах, принятых против эпидемии чумы. Он также распорядился выставить кордоны небольших отрядов от реки Наровы до Двины, чтобы оградить российские земли от распространения болезней. Пётр Первый ещё неоднократно и подолгу бывал в Риге, об этом было сказано в предыдущих материалах. С середины семнадцатого века правители России давали возможность самоуправления некоторым краям и провинциальным образованиям. Так было с Украиной после подписания Переяславского договора 1654 года, так было в этом же году и со Смоленском после освобождения Смоленска из-под польского владычества. Так поступил Петр и с Лифляндией, Эстляндией, сохраняя для них многие привилегии и давая развиваться им как особым самоуправлениям. Так было и с присоединившимся Курляндским герцогством к России в 1785 году. Примечание: Хроника составлена исходя из следующих публикаций: Фридрих-Вильгельм Берхгольц, ГеннингФридрих Бассевич. Юность державы. Фонд Сергея Дубова. М., 2000. 515 с. /Немецкие наблюдатели о России при Петре Великом и Екатерине I/. Немецкие наблюдатели о России при Петре Великом/. Юст Юль, Оттон-Антон Плейер. Лавры Полтавы. Фонд Сергея Дубова. М., 2001. 459 с. /Евродипломаты о России после Полтавской победы/. Письма Русских Государей и других особ царского семейства. М., 1861. Исторические сведения об основаниях и ходе местного законодательства губерний остзейских. (1158 – 1829 гг). /Анонимное издание. Рига, не раньше 1830 года. Чешихин Е.В. Сборник материалов и статей по истории Прибалтийского края. Т.1-4. Рига, 1876. Т. 1 – 525 с.; Р., 1879. Т. 2 – 592 с.; Р., 1880. Т. 3 – 638 с.; Р., 1882. Т. 4 – 617. Сборник содержит уникальные исторические материалы, документы, дневники, в том числе из петровской эпохи/. Neumann Wilhelm. Riga und Reval. Verlag von E.A.Seemann. Leipzig, 1908. /Нейманн Вильгельм. Рига и Ревель. Издание Е.А.Зееманна. Лейпциг, 1908. 160 с. / Neumann Wilhelm. Riga und Reval. Verlag von E.A.Seemann. Leipzig, 1908. / Нейманн Вильгельм. Рига и Ревель. Издание Е.А.Зееманна. Лейпциг, 1908. 160 с. / Пшеничников П.Р. Русские в Прибалтийском крае. Клуб «Русская беседа». Рига, 1910. С. 27 Сивицкий С.Н. К двухсотлетию Русского владычества в Прибалтийском крае 1710-1910. Издание Рижского педагогического общества. Рига, 1910. 46 с. Болдырев В.Г., Генерального штаба подполковник. Осада и взятие Риги русскими войсками в 1709 – 1710 гг. К 200 летнему юбилею. Издание Рижского городского общественного управления. 101 с. 1910 год. И. Цыгальская — Не уходи (рассказы) 51 Русский писатель в Латвии Ирина Цыгальская Не уходи (рассказы) Абрам Аронович был когда-то моим дачным соседом, но никакого близкого знакомства мы не водили. И мне странно, что теперь в долгие часы ночной бессонницы я так много о нем вспоминаю. О нем и о его жене Марии, которая умерла на пару лет раньше Абрама Ароновича, а перед смертью долго и тяжело болела. Он успел застать горбачевские перемены, правда, самое-самое начало. Сочувственно следил, как Горбачев старается переделать страну. Наверно, много думал о своей прожитой жизни, убеждениях. Или — об отсутствии убеждений: так ему порой начинало казаться. Он не говорил, что жил напрасно, не спешил каяться, не суетился. Казалось, единственное, о чем он сожалеет, был уход жены. Главное, она умерла в его отсутствие, пока он, гуляя и стараясь отвлечься от мрака в своем доме, занимался поисками смысла жизни или просто утопал в каких-то неясных грезах, печальных и не печальных представлениях. В период нашего соседства Абрам Аронович обычно со мной не заговаривал. Здрасте – здрасте, вот и всё. Мне казалось, что он напряжен, сосредоточен, поэтому я невольно воображала его внутренний монолог или, может быть, диалог с самим собой. Но однажды Абрам Аронович меня остановил. «Послушайте, — попросил он, — напишите о моей жизни!» Просьба была неожиданной, я не отвечала и смотрела на него с удивлением, может быть, и с мистическим испугом: откуда ему известно, что я воображаю его внутренние беседы с самим собой. «Кое-что я расскажу вам, — пробормотал он смущенно, — остальное придумайте сами. Или постарайтесь разглядеть, вы ведь тоже здесь живете. Я имею в виду время и место земного пребывания». — Не уходи, — удержала его Мария, — послушай... Она не могла вспомнить, и это уже начинало мучить, — не могла вспомнить, какие стебли у тех синеньких весенних цветов. Сам цветок виделся ясно: обычная чашечка, довольно мелкая, не то, что глубокие колокольчики. Весной эти цветы продавались на базаре, в цветочных магазинах. Да на каждом углу. — Скажи мне, какие стебли... — Да обыкновенные: стебли как стебли. — А листья? — Что — листья? Ну, тоже: листья как листья. Абрам Аронович всё сильнее досадовал, что не удалось ускользнуть. «Скрипнула, поганая, — проворчал на дверь, — а вчера еще не скрипела». Еще бы секунда, — и он скрылся во второй комнате. А то бы и совсем ушел, бесшумно закрыв наружную дверь — там-то он петли смазал! «Из чистого, Машенька, человеколюбия».Ну, да: чтобы Мария не сразу поняла, что опять одна. — Абра-ам! — окликнула она. «Господи, сколько отчаяния. Будто я снова на фронт». — Он застыл на пороге. Не обернулся, не отозвался — «а?» или «что?». Одной напрягшейся спиной выразил покорность зову. — Я не могу вспомнить. Была тропинка. По-моему, весной. Солнце хорошо согревало спину, но после спряталось. Где это было? Когда? — Ой, Маша, — простонал он, — знаешь, сколько тропинок на свете?! Ради Бога! 52 ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА — Три века русской культуры в Латвии — Не так и много, — у меня. Когда родилась наша Ася, мы гуляли втроем, помнишь? Больше я не гуляла, уже с Любочкой ходили ты и Ася. Потом стали брать Анечку, потом Ниночку... Теперь тоже весна! Весна радовала и Абрама Ароновича. Но и томила. Дочки собирались в отпуск. Звонили наперебой. «Чтобы нас подготовить. Как будто не уезжают каждое лето». И он раздраженно отвечал телефону: — Да едь, куда хочешь! Надолго? Ну, хоть на всё лето пропади! «Да и в Риге никто не напоминал, что мы евреи». Они переехали в Ригу, когда туда после немцев опять вернулись русские. Переехали по просьбе его родителей, те не хотели стариться и болеть тут в одиночестве. В Риге Абрам Аронович тоже работал на заводе. — Мы, конечно, бедно жили. Но я себя чувствовал человеком. — А мама? — допытывалась Ниночка. Ниночка тоже, видно, почувствовала раздражение. Напустилась на отца, нашла зацепку: народный контроль. Был такой на заводах, то ли под конец брежневской эпохи, то ли в самом начале горбачевской. — Для жизни твой народный контроль — тьфу, — пищала Ниночка, телефон забавно искажал ее голос, — теперь на энтузиазме далеко не уедешь! Спор продолжился и при встрече, в воскресенье. «Подумайте, — говорит мне Абрам Аронович, — съехались все четыре! Ну, и ну! Лишь бы поспорить»... — Что — мама? — А мы? — Что — вы? Девчонки как девчонки. «Мария не вмешивалась в эти споры, — вспоминает Абрам Аронович, — мне кажется, она слушала их голоса, как музыку. Радовалась: здесь они, вон, говорят чего-то»... — У тебя, Нинок, идеалов нет, — поучительно замечает Ася. — Ты, папа, вообще, — старалась повысить свой тонкий голос Ниночка. Воображает, что она одна меня понимает. А в действительности... Да я на самом деле гораздо хуже, чем ей кажется». Она могла и не продолжать: он знал, что дочки, особенно младшая, его считают «вообще идеалистом». — Почему же нет? — возражает Ниночка. — Просто мы с тобой их по-разному представляем. «Идеалист?» — переспрашивает себя Абрам Аронович, и при этом чуть не вся жизнь быстрыми кадрами пробегает перед глазами. алы? — Я был всегда, — объясняет дочкам, — убежденным советским человеком. Гитлеровское нашествие мы пережили в осажденном Ленинграде. И слава Богу, я так считаю. Лучше блокада, чем газовые камеры. А могу ли я забыть послевоеннное строительство? Тогда было чувство плеча. Будет у вас время, я покажу фотографии тех лет, я их часто разглядываю. Там все, с кем я работал на ленинградском заводе. Ну, не было среди них ни злодеев, ни завистников. И что я — еврей, ни разу никто даже не напомнил. — Да это потому, — спорят они, — что вы ничего знать не знали, кроме своей рабочей совести. Так чему бы и кто завидовал? Он считал, что нашлось бы и чему, и кому. Только девочкам не объяснишь, другие времена. Да ну вас! — кричит Люба. — Какие иде- — Пропади пропадом идеалы. Нам важно, чтобы папа не оставлял надолго больную маму. Пока мы не вернемся, — вносит ясность Аня. Дочки разъезжаются по домам, однако их беспокойство не проходит. «Названивают, пока не отбудут в отпуск, — рассказывает Абрам Аронович. — «Пожалей маму», — передразнивает он. — А то я не жалею»... У него в ушах еще долго звенит восклицание Аси: «Представь себя на ее месте!» «Если бы они знали, — вздыхает он, — насколько натурально я представлял и как были безнадежны мои попытки хоть ненадолго отключиться. Невидимой тенью ходила со мной душа Марии»... И. Цыгальская — Не уходи (рассказы) Покинув дом, он совершал в воображении ее путь к окну. Сперва Марии надо было, оперевшись рукой о столик, подняться с кровати и постоять с минуту, стараясь обрести равновесие. Шагнуть к стулу, а дальше двигать его перед собой, держась за спинку обеими руками. В окне была только слепая стена соседнего дома. Осенью, когда еще оставались свежими дачные впечатления: пышный сад у порога, хорошо слышные людские голоса, Мария без труда поворачивала здание лицом к себе. В глухой стене проступали окна, на стеклах вспыхивало отраженное солнце. Мария напрягала память, — дом приближался, окна распахивались. К одному из них подходила аккуратно причесанная блондинка средних лет. Мария Иосифовна блондинку не знала, до ее болезни тут такая не жила. Но незнакомка приветливо кивала: — Уже вернулись? Отдохнули на даче, сил набрались. — Какие мои силы. — Не лучше? — Да я не страдаю телом. Ноги, спина, тяжесть на сердце, - всё терпимо. По сравнению с тем, что болит душа. — Маша, — мучаясь, шепчет за ее спиной Абрам Аронович. — Дай же мне поговорить! Мария Иосифовна продолжает беседу с аккуратно причесанной блондинкой. — Я люблю поговорить, это мой праздник. Редкий — редкий. Одна весь день. Скучаю. Читать не вижу. Остается думать. — Думать! — почти с восторгом вскрикивает Абрам Аронович. — Это же чудесно, что наконец есть время думать. — Да-да, — Мария Иосифовна теперь не хочет таить в себе обиды, — да-да: он судит по себе. А я — простая женщина, — ее голос звучит ядовито, — стихов не сочиняю, акварелью не балуюсь. А что? Ведь позавидуешь: такая радость! Сочинил стихотворение! Да я не издеваюсь, это правда. Сочинил. И чувствуешь себя необыкновенным, хотя бы миг. А я? О чем мне думать? Всё ясно. Надо дожить до получки. Да 53 я не жалуюсь. Перед получкой хлеба нет, так лепешки пеку, чего там думать. О том, зачем живу? Всегда казалось: для других живу. Ему, детям. Но он мне нынче говорит: это тебе наполняли жизнь другие! — Машенька, — страдает он за ее спиной, — какие стихи? Откуда тебе известно про стихи? И я ничего тебе теперь не говорю. — Не говорит! Скажите... Да так и есть: молчит. Да и не слышит, когда не хочет. Я помню, Ася как-то пришла из школы и просит меня: Уедем в Биробиджан! — Зачем? — Ася как заревет: Там наша родина, домой. — Да дом не там! — А где же? — Спроси папу. — Ася его и спрашивать не стала. Но ночью, когда все уснули, он шепчет мне: Какой Биробиджан? Училась бы, чем слушать глупости. ...Перед ожившей под взглядом Марии стеной вырастал палисадник. Качались на ветру черные, пропитанные дождем палки, — всё, что осталось от летних подсолнухов. Мария Иосифовна глядела на них, бормотала что-то блондинке в окне — и так избавлялась от ненужного ей теперь времени. Еще оставались свежими и без труда оживали в памяти летние впечатления, разговоры с сестрой на дачной веранде. Сестра приезжала теперь каждое лето поухаживать за Марией. О приближении зимы Мария вспоминала с содроганием. Зимой память уже не подчинялась ей. Перед наступлением весны и дом не разворачивался лицом, оставался безглазым и глухим. Всё забывалось. По двору, как в царстве теней, растерянно скитались, не находя своего места, предметы, люди. А ведь Мария так старалась запомнить. Вернувшись с дачи и быстро домчавшись с вокзала на такси, стояла во дворе, выучивала наизусть, где что. Прекрасно понимая, как мучит этим Абрама Ароновича. Он томился, даже тихо постанывал, но не торопил. Жалел ее, потому что впереди были долгие слепые и немые месяцы. Двор у них был огромный. И оригинальный: непохожий на другие рижские дворы. Деревня в миниатюре. С улицы, как составная часть большого двора, вклинивается еще дворик, на три четверти обнесенный забором, но вполне самостоятельный. Со своим собственным хозяйством: штабелями дров, детскими колясками и бельевой веревкой. ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА — Три века русской культуры в Латвии 54 Кроме этого дворика в большом дворе помещались два палисадника. Мария Иосифовна тревожится, что, когда начнут сносить деревянные дома в их дворе, убирать заборы, то поспиливают и все деревья. — Да ты что! — возмущается Абрам Аронович. — Теперь всё наоборот: зеленое берегут. — А если помешает? — Спланируют, на чертежах всё предусмотрят. — Эх, ты... всё-то веришь в разумное устройство мира. — Верю? — Господи, Господи, помилуй нас, грешных. Ладно уж, иди, — отпускает Мария. Виновато вобрав голову в плечи, Абрам Аронович выходит из комнаты, а затем и вовсе ускользает из дому. Он не может не жить, и жизнь, кажется ему, не здесь, а за порогом. «Какая-то неодолимая сила тянет, — оправдывается перед собой, — и не потому, что больна Мария: всегда тянула. Но в разумное устройство мира я совсем не верю. Потому что всё вижу и знаю. В том числе и про несчастный Биробиджан. Ну, решил усатый. А нам-то что? Пока не трогают? Что же, думает Мария, я должен был объяснить Асе?» Когда-то Абрам Аронович убегал на свидания к Милочке. Минуты с нею ему казались настоящей жизнью. «Душа, бывало, трепещет, — вспоминает он, — дрожит, как струна, при самом ничтожном впечатлении... Но не любви я ждал от Милочки, не общения с ней искал. Хотя, понятно, и это было, куда денешься. Но главное... что же? А вот — что-то! Ветер меня ласкал при ней, запах сирени будоражил... Я утешал себя: это совсем не то, что могут подумать люди. Просто — иду я с Милочкой и вижу: вот яблони зацвели... вот падает мокрый снег». А дома он ощущал странную раздвоенность. Как будто необходимые движения, к примеру, чтобы затопить печи, делает кто-то другой, не он. И особенно невыносимым становилось это ощущение от житейской болтовни. Когда они с Марией слегка осуждали родственников, подразумевая при этом правильность собственных привычек. Абрам Аронович считал, что о чем-нибудь настоящем вообще говоришь редко.Тем более это невозможно, если в беседе участвуют больше двух человек. Ну, например, у них на даче. Каждое лето там гостит сестра Марии Анастасия. Абраму Ароновичу кажется, что, сидя с сестрами на веранде, он не улыбается своей натуральной улыбкой, а лыбится. Но он с нетерпением ожидает лета, с каждым годом всё с большим нетерпением и всё с большими надеждами. А лето пролетает всё быстрее и оставляет всё большую досаду, что не сбылось. Он не знает, что именно не сбылось, не знает, чего он ждал. Если бы его спросили, он бы молча задохнулся от нахлынувших чувств. Зелень, морские волны, запахи... «Голова кругом». Одной из видимых причин досады было то, что Абрам Аронович не смел уйти из дому, не напоив сестер вечерним чаем. Мало сказать —напоив: он должен до конца выдержать ритуал чаепития, затем еще перемыть посуду. Так хотела Мария, считая, что это немного: летом все прочие хлопоты берет на себя сестра. Абрам Аронович сидел, молча слушая и не слушая, как болтают женщины. — Жасмин цветет, — уронит, бывало, Анастасия Иосифовна. — Совершенно невероятный запах! — восторженно подхватит Мария. «Как будто они что-нибудь видят в темнеющем саду, — заворчит про себя Абрам Аронович, — как будто могут почуять этот запах жасмина отсюда, с этой веранды». Он сам в их присутствии не мог вдыхать никаких запахов. Да он и вообще ничего не чуял, не видел, не понимал. В полном отупении сидел и лыбился. Наконец его отпускали. Абрам Аронович грустно брел по направлению к морю. Но по влажной у берега кромке пляжа навстречу двигалась лавиной людская толпа. Казалось, он должен лыбиться и этим незнакомым людям. Он уходил с пляжа, сворачивал в тихую улицу, по обеим сторонам которой тянулись пышные сады. Здесь наконец-то вдыхал запах того жасмина, о котором болтали Мария с сестрой. Порой внезапно улавливал аромат примятой или скошенной травы. Но этот запах был редким и мимолетным, — кому и зачем косить в курортном поселке. И. Цыгальская — Не уходи (рассказы) В тихой улице на его лице разглаживалась гримаса не своей улыбки. «Вот тут что-то сбывалось, — говорит Абрам Аронович, — оно, казалось, всегда сбывается, если удастся сбежать от странного чувства, что в семье не замечаешь жизни, так как ее заслоняют мириады житейских мелочей. Напрасно Ниночка винит мой идеализм. На своем бывшем заводе, в группе народного контроля, я проводил не больше часу. Улаживал какоенибудь дело — и отправлялся бродить по городу. Народный контроль — это так: для отвода глаз». ...Абрам Аронович прошел к центру Риги. Постоял у памятника Свободы, наслаждаясь теплом весенних лучей. Справа был парк, Абрам Аронович направился туда. Щурясь, стал смотреть на деревья и заметил, что на черных ветвях наклюнулись зеленоватые почки. Пологая тропинка подняла его на Бастионную горку. Он уселся на скамью. Когда-то его девчонки кубарем скатывались с этой горки вместе с ворохом осенней листвы. «И сам бы скатился... Но почему-то не отважился ни разу». Мария в этот парк не ходила. Бывала рада, когда он уходил, забрав детей. Прогулки ей казались напрасной тратой времени. А домашние хлопоты никогда не тяготили. Это было ее место, может быть, даже назначение... Задумавшись, Абрам Аронович не заметил, как белое облачко разрослось и потемнело, расползлось по небу тяжелой тучей. «Странно, — сказал он себе, — странно жили. И ведь любили друг друга. Хотя соседки ей про Милочку не раз нашептывали: Провожает, видели? Козел! — Но Маша не обращала внимания. Без труда, потому что жила, как хотела. И я — тоже. Так о чем жалеть?» Но беспокойство не отступало. «Грызет что-то. Совесть? Потому что теперь она не может жить, как хочет». Чувство неспокойной совести поселилось с той поры, как Мария заболела. «Уж эта совесть. Съедает и покой, и волю». Он задрожал без солнца от холода. «Какой тебе жизни?» — прикрикнул сам на себя. Вернувшись домой, он долго возился с дверью, ключ не входил в замочную скважину. Измучившись, он постучал, ни на что не надеясь, просто с отчаяния. На стук почти сразу ответил тихий вздох: 55 — Папа? Он узнал голос Ниночки. Она повернула внутри ключ, открыла дверь и уткнулась лицом ему в грудь. — Мама... — Да-да, я понял, тише. — Тише? Зачем? — Тише, тише, пойдем, сядем. — Они сели, обнявшись. Спустя несколько минут Ниночка задала ему неожиданный вопрос: — Ты помнишь дело врачей? — Я-то помню. Но ты же была совсем маленькой. — Ася рассказывала, что ты тогда защищал евреев. — Нужна им моя защита, — пробормотал Абрам Аронович. И подумал: «Как будто это возможно... защищать народ до того, как на него нападут... с ножом хоть, что ли». — Ты, будто бы, ей сказал: «Не верь, дочка. Евреи так не поступают». — Боже ты мой, — простонал он, начиная горевать о Марии, слыша внутри себя ее голос, умоляющий «не уходи». — Откуда мне знать, как поступают евреи... ... Не знаю, хорошо ли я выполнила просьбу Абрама Ароновича, так ли написала о нем, как он хотел. Я не успела дать ему прочесть написанное. Уезжая в Израиль, Ниночка взяла с собой небольшую акварельку Абрама Ароновича, зеленый пейзаж: на фоне леса — поляна, на ней только что сметанные стога. Иные из гостей Ниночки пристально вглядываются в эту акварель, Нина смущенно объясняет: «Это папина... Ничего особенного, я понимаю. Но мне она дорога, как память». Оглашенная Я подслушала Иренину историю в маленьком кафе на окраине Риги. Самое начало разговора я услышала нечаянно. А потом увлеклась — как пьесой в театре. Или сериалом. Скорее — сериалом: история преподносилась в продолжениях. 56 ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА — Три века русской культуры в Латвии Ирена ее рассказывала сверстнице, вероятнее всего — бывшей подруге или просто однокласснице. Словом, той, кого когда-то видела каждый день, с кем делилась своими тайнами: из некой фрагментарности Ирениного рассказа вытекало, что эти женщины когда-то знали друг о друге многое. Мне же иные события их не слишком еще длинных биографий оставалось додумывать и присочинять. Я вошла в кафе, Ирена была одна. Я села за соседний столик. Показалось, я эту женщину уже видела в Пурвциемсе, она успела привлечь мое внимание, постоянно попадаясь навстречу. Чаще всего она медленно идет по улице, проходит между недавно построенными костелом и Макдональдом. Возле костела она встанет иной раз и стоит как вкопанная. Но в костел не заходит и не крестится. Лишь поднимет голову и смотрит куда-то в вышину, не то крест разглядывает на башенке костела, не то плывущие в небе облака. Сейчас она сидит так близко, что не будь это неудобно, я могла бы ее разглядеть получше, может быть, я бы поняла, чем она задерживает внимание. Вдруг дверь кафе решительно распахивается, и вошедшая молодая особа бросается к заинтересовавшей меня незнакомке. — О! Ирена! Так я впервые слышу имя. — Привет, — отвечает Ирена сдержанно. Молодая особа представляется мне человеком открытым, из тех, кто способен съимитировать душевную откровенность и таким образом расположить к ответной. — А Ирена, судя по взгляду: взгляд ее словно выплывает из-под приспущенных ресниц, как неохотливое солнце из-под тучи, — кажется скрытной. Лицо ее вполне обыкновенное, черты приятные, хоть и не броские. Только вот этот взгляд... Женщины сразу заговорили, громко и увлеченно, так что начало истории не услышать было невозможно. Но конца не было — ни в этот раз, ни в следующий. История прерывалась, но женщины опять и опять встречались в кафе и всякий раз, по-моему, начинали ровно с того места, где в прошлый раз остановились. Может быть, они встречались тут случайно, а может быть, и преднамеренно, — я не знаю. Конечно, они говорили о любви. — Вот я и захотела тогда научиться молитве, — говорит Ирена, — чтобы вложить непролившиеся слезы счастья... Да что оно такое — счастье? Наверно, это другой человек. Это явление другого человека; по чьему-то капризу или по предопределенной закономерности между другим и тобой вспыхивает некое свечение. Ну, как там эти батарейки заряженные, — Ирена поднима- ет на собеседницу глаза с лукавинкой, — плюс, минус. Они укладываются куда надо и как надо, производится щелчок — и батарейки принимаются рождать энергию. Энергия преобразуется — возникает голос, музыка; голос вызывает трепет, а музыка вливается в тебя и повелевает раствориться в залитой счастьем Вселенной. А это нечто — ну, батарейки, — вновь — уже и от тебя — собирают энергию, чтобы снова вспыхнуло свечение: между кем-то и кем-то. А он... — Да, да: я знаю, — перебивает подруга. Надо же: она знает. Я досадую: помолчала бы! Они принимаются трещать о чем-то, на мой взгляд, неинтересном. И, пользуясь увлеченностью женщин болтовней, я бесцеремонно их разглядываю. Они совсем еще молодые, лет тридцати, ну, может быть, с небольшим. Привлекательные — какой-то естественной, что ли, прелестью. Ни тени подчеркнутой холености какой-нибудь современной модницы, про которую реклама возвещает «ты этого достойна». Нет в них подчеркнутого совершенства — ни в одежде, ни в макияже. «Не центральные девочки, — определяю я про себя, — пурвциемские. Маргиналки?» — У тебя еще есть немного времени? — Ну-у, на бокал вина, — отвечает Ирена. — А ты... одна живешь? Ой, прости ради Бога, я имею в виду всего лишь запас времени. — Одна? У меня же двое детей. — Конечно-конечно: я помню. Так ведь они уже подросли. Нет, я про... мужика. Ты замуж не вышла? — Н-нет, – запинается Ирена, может быть, смутившись, а то – и застыдившись своего ответа. — Неужели не выбрала? Ведь за тобой увивались, как... как пчелы, вот именно: роились, как пчелы над раскрывшимся цветком. — Увивались? Ну-у, не знаю. Ну, какое-то время, может быть, и увивались... *** — Случалось, я — вынужденая какими-то своими обстоятельствами — уходила из кафе раньше обеих подруг, не дослушав очередной серии. Оторвавшись от истории до следующего раза, — в том, что и встреча в кафе, и продолжение обязательно будут, сомнений не было, — я не могла не думать об Ирене и ее подруге. В судьбе Ирены было так много обычного, похожего на все наши судьбы, что иногда казалось: она рассказывает про нас всех, про каждого или каждую, — как жили, как теперь поживаем... Но, в отличие от многих нас, Ирена, казалось, не только жила, но и, как бы сказать, разглядывала свое бытование с разных сторон, в том числе, — сверху. Разглядывая, она рассуждала и думала. Ее, например, в проживаемом вре- И. Цыгальская — Не уходи (рассказы) мени волнует вот что — это я передам ее словами: «Однажды... у меня возникло настойчивое желание запоминать, чем ознаменовался каждый день. Как будто мне предстоит перед кем-то отчитаться. Как ты думаешь, перед кем? Перед Богом? Но я не знаю, есть ли Он... Нет, должно быть, перед собой. Я хочу, чтобы дни, часы: время – было у меня пусть потраченное, пусть истраченное или даже совсем утраченное. Только бы не растраченное. Понимаешь?» Может быть, вот поэтому-то я, главным образом, и думала об Ирене, об ее словах и судьбе. И, мысленно разговаривая с ней, добавляла и свои подробности... Скажем, случается нечто радостное, и ты чувствуешь, как после многих сереньких дней, угрюмых даже месяцев тебя будто бы вздымает на волне, чтобы нести к солнцу. Ты чувствуешь, как вновь охватывает жажда жизни — и живешь с этим ощущением в груди. День, и два дня. Однако, дни не останавливаются, время течет, — и заносит случившуюся радость новым мусором. Да, я физически ощущала иной раз, как зарастают быльем мои радостные переживания. Быстро зарастают: скорее, чем поле – сорняками... на самом деле их было два. Два любимых человека: в юности Вячеслав, а потом — Святослав. — Какое совпадение! И ты, наверно, и того, и другого называла «Славиком»? — Нет: Славой. Святослав появился недавно, вот на днях исполнилось два года со дня нашей первой встречи. Он мне назначил свидание. Я одеваюсь, смотрюсь в зеркало. Стрелка приближается к нужной цифре, а за окном хлещет проливной дождь. Но меня ждет Слава, — говорю я себе и повторяю: Сла-ва — и знаю, что ни дождь не остановит меня, ни гром, ни молния. Потому что – Слава! Ирена вздрагивает: Все два года если я его вспоминала, то всем телом... — Она шепчет подруге, но шепот ясный, и я тоже слышу: — Ощущение пробежавшего тока приближалось к оргазму. Только оргазм — это конец, разрешение. Напряжение спадает, приходит благостная усталость. Похожая... вполне, может быть, похожая на смерть... А я, его вспоминая, переживала — и до сих пор еще переживаю, пусть в уже ослабленном виде — мучительное наслаждение, которое не знает спада: одно лишь приближение к наивысшей точке. Приближение длится-длится, становится невыносимым, я зову — Сла-ва! — Нет, не знаешь: он возвратил мне жажду жизни. Не той, которая заключается в обыкновенных заботах. Не той, которая есть тяжкий труд и борьба за существование. Или достижение карьеры... Не той, которую озвучивает детский плач, звон детских голосов, такой долгий и громкий, что, и умолкнув, продолжает звенеть в ушах, да что — в ушах: во всем теле! — Нет, не этой жизни жажду... 57 — И все-таки не той, радость ков сексуальном наслаждении. — Святослав воскресил во мне радость жизни. Или, может быть, точнее сказать — жажду радости. Радость проходит, вот, в чем дело. А жажда не кончается никогда. Она может лишь затихнуть, подавленная близкими людьми или обстоятельствами. Затихнуть, сжаться, как под угрозой удара. Потому что на жажду радости постоянно кто-нибудь замахивается. — Он воскресил во мне свободу, чувство свободы, которое часто окрыляло еще так недавно, может быть, каких-нибудь десять лет назад. Заботы порабощали постепенно. Разрастались и до того распространялись на моей жизненной площади, что вытеснили — Свободу! Ирена, похоже, увлеклась и говорила бы еще. Но бокал вина, на который рассчитано ее время, был выпит, и подруга выразительно приподняла свой, показала Ирене: пуст. — Пойдем. — Они расплатились и вышли, обе примолкшие, показалось — погрустневшие. — А на следующую серию я немного опоздала и все не могла понять, почему Ирена, уже решившись принять православие, так и не стала верующей. — ...осталась оглашенной, так случилось тогда. Выстроился ряд судьбоносных случайностей... — «Да мы все оглашенные, — рассуждала я, расхаживая по улицам Пурвциемса, — с самого рождения стоим перед последней тайной: смерти. «Изыдите, оглашенные!» — это ко всем относится. Так что ряд судьбоносных случайностей, о чем помянула Ирена... ну, какое это имеет значение»... торой *** — А он — ну, тот, первый: моя первая любовь, помнишь? Вячеслав? Ну, конечно, помню. Он сильно отличался от других мальчишек. Может быть, семья такая? Ведь кажется, его родители были ортодоксы? Ну, в смысле, очень верующие? — Ну, не знаю. Главное, он сам. А я торопилась. Мы все торопились, думали — разве и не для нас хлынувшая свобода? Дайте! И я думала — эти условности... притворство... кому нужны они? Мне казалось, любовная игра, любовные ухищрения в происходящем со мной неуместны. Потому что я — совсем другая, чем все... — Ну, не сердись: мы же все так думали, каждая считала... Ну, ладно. Мать говорила: влюбился — это что! Этого мало. Вот удержать! — Да кого и зачем удерживать? — возмущалась я. — Подожди! – Ждать? Чего и зачем? Теперь свобода... — При упоминании свободы мать взглядывала грустно и иронично. Иног- 58 ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА — Три века русской культуры в Латвии да не комментировала, но, случалось, не могла удержаться от замечаний. — Вы вседозволенность принимаете за свободу. — А бывало, и грубее скажет: Вам лишь бы мужик под боком, и больше ничего не надо... — Подруга хохотнула. Но Ирена продолжала говорить с некой истовой серьезностью, казалось, она хочет не просто вместе с подругой вспомнить ушедшие годы, но и наконец-то осмыслить, что же с ними было. — Мне наша юность вспоминается как сплошной праздник... — Ого! — Тебе так не кажется?... Ну, может быть, имитация праздника? — Ирена призадумывается, усмехнувшись, говорит дальше: — Или оргия? Нет, — вздыхает она, — тут не подходят эти слова, ни одно, ни другое... Подруга молчит, то ли не хочет, то ли не может помочь Ирене, а та не в состоянии остановить поток слов. Подруга, видно, скучает, а Ирена говорит о том, что далеко не каждому поколению выпадает в столь ранней юности — им было всего четырнадцать-пятнадцать лет — пережить такую резкую ломку в общественном устройстве. Что тогда, можно сказать, с утра до вечера: по радио, телевидению, чуть не на каждом уроке в школе, чуть не в любом кружке, объединявшем детей, так сказать, по интересам, они слышали слова «свобода и независимость». Но что свободы от повторения этих слов не прибавлялось. Что ее мама, например, была привязана к дому еще плотнее, чем до наступления свободы. «Свобода? — говорила мама. — Рыскать по магазинам, стоять у плиты? Или смотреть на голодных детей? Невелик выбор»... Ирене казалось, что мать преувеличивает и напрасно тратит силы и время на приготовление обедов... — Ну, какие там голодные дети?! — Не скажи, — оживилась подруга, — в школе, помню, мы были вечно голодны. В буфете большинство могли купить только несладкий чай, в какой-то момент он стоил тридцать пять рублей. Цены менялись не по дням, а по часам... — Да-да-да, — подхватывает Ирена, — это число: тридцать пять — мне тоже запомнилось, потому что однажды мать мне дала утром сорок и механически сказала «поешь там». У меня глаза на лоб, «да? ты, видно, хотела сказать — попей! Чаю голого!» Ну, да: в школе голодные были, но дома-то... Ну, сдаюсь: мамиными заботами... Но мы ведь тоже хотели свободы! Раз ее так много везде, так дайте и нам! — Ну, и гуляли напропалую. Слово «секс» стало культовым. Девчонка, у которой не было секса, чувствовала себя паршивой овцой в стаде. — Ирена криво усмехается: — Я сама была паршивой овцой! Ты говоришь — за мной увивались. Да, но это потом, и то недолго. А в те годы за мной как-то никто не ухаживал, а я была готова любому броситься на шею! В благодарность, что заметил. Был один такой, ужасно смешной. Вел со мной какие-то мистические беседы, какие-то числа писал. Учил играть на компьютере. А главное — шевелил ушами! — Забавлял, наверно. — Не помню. Только при всей комичности того чучела я благодаря ему перестала испытывать скуку. — Наверно, это грешно — говорить о скуке. Что значит — скука? — Как часто мне в ответ на жалобы о скуке говорили – займись делом. Или: как можно скучать, когда столько дела. — Ну, да. Но это же все невообразимо скучные дела. Если мне хочется проникнуть в тайну Вселенной. Я знаю — проникнуть нельзя, можно лишь приблизиться. Но и приближение не происходит мгновенно. Оно требует постепенного познания. Терпеливого чтения и перечитывания уже открытого. Затем — сосредоточения над постигнутым, долгого-долгго и трудного. Настолько долгого и трудного, что вновь ... одолевает скука. Да: бывают и озарения. И тогда охватывает чувство счастья. Только эти озарения не запоминаются, то есть не поддаются описанию. Их невозможно схватить и запихнуть в слова. У меня было несколько озарений, я помню два из них. Но запихнуть в слова могу лишь сопровождавшие внешние обстоятельства. Первое было связано с влюбленностью — уж не в то ли чучело? Которое ушами шевелило. Скорее — с предчувствием любви. Я была одна. Шла утром — поздним утром — по улице Бривибас, — от Элизабетес: прочь от центра. Может быть, я только что рассталась с ним. Или предстояло верное свидание. Помню ликование в душе — потому что подтвердилось ответное чувство. Ведь в нем, ответном чувстве, всегда сомневаешься, амплитуда переживаний широкая, смена настроений мгновенная... И вот, будто в ответ на мое ликование вдруг хлынул с неба розовый, нежным-нежный розовый свет. Залил здания на Бривибас, верхние этажи, распространился вокруг меня. В вышине, впереди. Мне стало необыкновенно хорошо. Это длилось совсем недолго, я успела пройти до улицы Стабу, не дальше. И. Цыгальская — Не уходи (рассказы) Так же вдруг, как нахлынул, розовый свет погас. Вместе с ним и моя радость потухла. Это не было восходом солнца, ни в коем случае: утро было позднее, и было уже давно светло. 59 Ранним-ранним утром я покинула этот дом, осторожно, чтобы не хлопнула, закрыв за собой тяжелую старинную дверь. Ну, не знаю, не поклянусь, что нет. После бессонной ночи было легкое головокружение. Но в остальном самочувствие было прекрасное, такое, будто все мое существо пронизано осознанием начала моей бесконечной жизни и впереди — много-много радостей. Мне было пятнадцать лет. Только — тысячу раз я видела, как солнце прячется и вновь выныривает из-за тучи. Но никогда это не находило такого счастливого отклика во мне, такого, будто бы это одно: моя душа и нежным-нежный розовый свет. Но разве не пятнадцать было и накануне? И несколько месяцев назад? Так ведь разве помнилось, разве каждый день ощущалось, что я нахожусь в начале жизни и у меня все-все еще впереди? А повторилось это лишь однажды. И было связано... как бы это выразиться, чтобы не получилось слишком патетично. Было связано, скажем так: с известной эйфорией в обществе, получившем надежду на свободу. Молодых часто уговаривают, журят, утешают, как заклинание произнося эту совершенно справедливую фразу: «у тебя все впереди». Но фраза эта чаще всего произносится как раз в те минуты, когда с тобой что-то случилось, по-твоему — непоправимое; когда кажется, что свет померк навсегда. Поэтому — фраза или пропускается мимо ушей, либо раздражает кажущейся несостоятельностью, даже лживостью: чувства настроены на другую волну, которую можно обозначить другой фразой — «все кончено»... Может быть, из-за тучи выплыло солнце? Еще никто не успел, да и не хотел, задуматься о множественности категорий свободы, о неизбежном ее преобразовании в неволю, мягкую или жесткую, пропитанную ложью или с просачиванием правды. Никто, наверно, никто еще не успел задуматься, будет ли это свободой лично для него или она будет какая-то общая. То есть ничья. То было раннее утро после одной из баррикадных ночей в январе 91 года. Кружным путем — чтобы заглянуть на Домскую площадь, — я возвращалась домой после ночного дежурства в одном учреждении. Тогда было несколько таких точек в центре Риги — для стоящих на баррикадах. Медпункты, столовые, ну, просто место, где отдохнуть... — Да я отлично помню! Там же была моя мама! Медсестричкой. Она и тебя, и меня туда пристроила, ты забыла? Если бы не она, кто бы нас пустил? Соплячек? — Ну, да, верно. Мы там занимались обыкновенным делом: варили суп для замерзших на баррикадах, резали и подносили им хлеб, мясо — копчености; этой едой снабжали нас деревенские люди. Накормив, перемывали посуду... Словом, ну, работали, как в обыкновенной столовой, в ночную смену. Тихо, спокойно... Хотя в одну из тех ночей был обстрел, несколько человек убили. Могли и к нам ворваться. Но я, по наивности, должно быть, в это не верила. Да просто и не думала об этом, настолько мне моя жизнь казалась в безопасности. Было раннее-раннее утро. После нескольких дней январской оттепели, распустившей по городу слякоть и лужи, этой ночью слегка подморозило. И сразу город стал казаться чище, как будто даже прозрачнее, что ли. Да и воздух был чистый и прозрачный, и тишина необыкновенная. Только-только возобновили движение трамваи и троллейбусы, и еще не породили ни звона, ни дребезжания. И я, не сговариваясь с собой, нечаянно пошла в противоположную от своего дома сторону — к центру, к Домской площади. Этот розовый, нежным нежно-розовый свет — как тогда, на улице Бривибас, — застал меня почти у площади; уже видны были тлеющие костры, тихие грузовики и тракторы, сидящие у костров притихшие люди. Меня обнимала доброжелательная атмосфера, я ее, казалось, вынесла на себе из того дома, где ночью дежурила, — на одежде как, бывает, выносишь из помещения и приносишь к себе домой запах курева. Эта ночь, которую я там провела, атмосфера этой ночи, была почти семейной. Да и в семье так бывает совсем не часто... В эту ночь... Да их было несколько, — когда множество людей по-родственному, по вза- ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА — Три века русской культуры в Латвии 60 имной приязни объединились в сообщество воистину человеческое. Очеловеченное. Ну, и вот это освещение. Не то с неба нисходящее, не то льющееся из человеческих душ. Или — и с неба, а ему навстречу — и с земли тоже. Такое счастье! Не меньше, чем в тот раз, на улице Бривибас. Только теперь не примешивалась влюбленность. Напротив: про чудака, что шевелил ушами, мне девчонки доложили: сидит в кафе с какой-то мымрой, ручки ей пожимает! Но мое «все кончено» быстро на сей раз быльем поросло: уж очень многое происходило. Не знаю, как другие, но я, да, наверно, и большинство наших сверстников, большими глотками пили свободу. Свобода текла, как вольная река. Да нам и пить-то было больше нечего, кроме этой свободы. Сам воздух стал разреженным, вдох оказывался так глубок, что впору задохнуться. Да и будь другие напитки, разве сладостный от горького не отличит и ребенок? А мы уже были не дети... *** Так что же с Вячеславом? — спросила при следующей встрече подруга, едва пригубив вина. Моя первая любовь, — шепчет Ирена в ответ, — тот Слава: мой первый... Ну, что... Мне еще не было восемнадцати. Все бегали на свиданья, торопились, кто еще не успел, приобрести бойфренда. Мужика под бок, как выразилась моя мама. И я наконец-то стала бегать, слава Богу... «Опоздаешь, как же, — иронизировала мать. — Учись-ка лучше искусству исчезновения. Ускользни — чуть раньше, чем хочется: тебе будет совсем другая цена». «Мне цена не нужна». ...Едва мне сравнялось восемнадцать, Слава сделал предложение. — Какой старомодный. — Ну, да. «Обвенчаемся», — он сказал. Я была готова хоть сейчас, но батюшка отказал: я же некрещенная! Сперва полагалось пройти обряд крещения. Я сделалась оглашенной, могла бы вскоре и креститься. Но... что-то во мне взыграло, какая-то обида. Слава сказал еще: «ты такая пыл- кая, Ирена», мне услышался упрек в излишней торопливости. Припомнилось, как в раннем детстве бабушка говорила мне: «Что орешь, как оглашенная». Значит, я — оглашенная: не такая, как все, — думалось мне. Ну, строптивый у меня характер, вот такое дело... — Нашлась строптивица! — в голосе подруги послышалась насмешка. ...Исчезнуть? Мать советовала Ирене овладеть искусством исчезновения. Батюшка в церкви несколько раз повторил: «Изыдите, оглашенные!» В словах этих почудилось нечто мистическое. Ирена вышла из церкви в странном состоянии, казалось, она куда-то уплывает. Или — улетает, лишенная весомости... Наутро она решила и на самом деле исчезнуть: просто уехать из города на некоторое время. Слава позвонил, она ответила суховато. Положив трубку, проворчала: «Нашелся праведник! Венчаться ему! Ну, и ладно: исчезну, как мать велела. Раз уж мне на роду написано быть не такой, как все». — «Дай ключи, пожалуйста», — обратилась она к матери. — «Какие?» «От теткиного дома». Мать посмотрела на Ирену без удивления, даже с какой-то радостью и без слов вручила ключи от пустого дома в деревне, доставшегося ей по наследству после умершей тетки. Ирена рассудила — матери так ... спокойнее: она боится, как бы в Риге дочка не наделала глупостей. «С нее все станется, не дождавшись ни крещения, ни венчания с тем, кого, кажется, по-настоящему полюбила, возьмет и убежит. Бог знает куда и зачем, а там, в этом «Бог знает где», может стать и наркоманкой, и алкоголичкой. Да кто знает, к чему может привести ее пылкий характер». Целуя мать на прощание, Ирена не удержалась от замечания: «Ты ничего не понимаешь». В глазах матери тревога сменилась обидой: «Ну, конечно: только вы все понимаете. Умники». А у Ирены всю дорогу — сперва в поезде, потом — в пыльном автобусе, — было муторно на душе. — «Ну, почему я так?» И. Цыгальская — Не уходи (рассказы) Припомнилось, как когда-то — ей было не то четырнадцать, не то пятнадцать лет — они с матерью переругались. Как никогда, серьезно. «У всех, ты пойми — у всех, — орала Ирена, — есть друг! У Ванды он живет, и ее мать никаких пожаров от этого не раздувает!» мать. «А кто его кормит?» — поинтересовалась 61 тери на тропинке к дому еще не вызвало в Ирене никакой тревоги. Ирена знала, что мать не утерпит, приедет к ней. Пожалуй, она уже начинала ждать маму, по-детски: смутно ожидая, что та ее накормит. Привезет из Риги кусочек мяса, сварит какой-нибудь суп. Ирена даже припрятала в шкафу несколько карамелек, чтобы угостить маму, если та приедет. «Ну... Ванда!» «Вот как! А саму Ванду?» — Сейчас — в электричке, — Ирена рассмеялась. Но тогда, она понимала, было не до смеха. Особенно матери... Теткин дом в деревне был пустой и холодный. Печь в комнате дымила, а плиту в кухне из-за дыма и вовсе было не растопить. Сельский магазин тоже пустовал. Ирена покупала карамель, радовалась, если привозили хлеб. В теткином саду жевала прозрачный спелый крыжовник, давила языком красную смородину. От кислого сводило рот. Начались боли в желудке. Чувство постоянного голода угнездилось в ней, казалось, навсегда. Ирена чувствовала себя больной, отверженной — в своей добровольной ссылке. Пришел август, а с ним — признаки осенних перемен в природе, самый заметный — другое освещение. Ирена все больше погружалась в наблюдение природы и однажды обнаружила в себе желание запоминать увиденное, — чтобы все потом пересказать Вячеславу. Она стала вслух разговаривать с ним, забыв, что она одна в этом деревенском доме. «Уже четвертый день дует северо-восточный ветер. Липы клонят ветви в сторону моего крыльца, ветер несет холод, неуют, неприкаянность. А вечера такие темные, и с каждым днем все темнее»... Уж не этот ли — один из главных признаков любви? Неугомонное желание всем, что ни есть в тебе, поделиться с Ним. Наполненными великим смыслом казались каждое дуновение ветра, каждый крик летящих мимо журавлей, каждая звездочка, которая загорается темной ночью в просвете меж темными облаками... Желание делиться возникает именно в разлуке. А при встрече — немота. То, что казалось важным, обращается в ничтожное, ненужное ни ему, ни ей. ...Все кончилось внезапно. Появление ма- *** «Вячеслава больше нет, — пробормотала мать, обнимая и целуя Ирену. — Мой бедный Пан»... Она рассказала, что Славик погиб темной августовской ночью при невыясненных обстоятельствах. Его нашли неподалеку от дома. ла». «Следов насилия полиция не обнаружи- «От сердца?» — еще ничего не понимая, спрашивала Ирена. «Ну, сердце, конечно, остановилось, медленно старалась объяснить мать. — Но я не понимаю, почему. Славик, кажется, был здоровый»... «Что ты удивляешься, — взялась Ирена объяснять матери и самой непонятную смерть, — теперь многие умирают молодыми. И гибнут — от случайной пули, в каких-нибудь уличных потасовках. Сколько среди моих сверстниц одиноких, так и не успевших выйти замуж за своих мальчиков... Они хоть жили с ними, а я»... «Да-да, — соглашалась мать, — но те были алкоголики, наркоманы. Пьяные драки, поножовщина. Передозировка. Или, напротив, при добывании дозы. Кто-нибудь пытался отнять и... Но это же все не относится к Славе»... Наутро Ирена отправила мать обратно в Ригу, объяснив, что хочет остаться наедине с природой. «Космос, мама. Вселенная, — назови, как хочешь. Я верю, что здесь я найду способ к нему обратиться и высказать свои чувства». «Да ты повредилась в уме! Мой бедный Пан!» — в глазах матери отразился, конечно, последний ужас. «Все пройдет»... «Я даже денег тебе не могу оставить, чем ты будешь питаться?» — Это былпоследний довод. Убедительный. Почти правда: денег дейс- ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА — Три века русской культуры в Латвии 62 твительно было очень мало, и матери нужно было кормить на них младших детей. «Я вернусь, заработаю». «Где? Тебя уборщицей — и то не возьмут!» «Ну, а как ты считаешь: на что мы бы жили с Вячеславом?» «Вот я и просила вас не торопиться». И это было почти правдой, хотя, убедившись в невозможности повлиять на Ирену, мать и уговаривала себя: как-нибудь да проживут — вдвоем, любящие, молодые... Конечно, образование, о котором она мечтала для своей Ирены, грозило так и остаться всего лишь мечтой. Оставшись одна, Ирена принялась ломать голову, как же ей донести до Славика обращенные к нему слова. Она бралась за карандаш — в пустом теткином доме даже ручки не нашлось, — усаживалась за стол и долго оставалась неподвижной над чистым листом бумаги, глядя в стенку — в какую-то точку там. Нарастало напряжение, а слов не находилось. Она не знала, как выразить, зато мощно ощущала в себе — что. «Даже будь у меня адрес... Он же просил писать «до востребования». А я только твердила имя: Слава, Сла-ва! Ах, как же написать? Рассказать себя? Но возможно ли это? Собственная личность ускользает: неуловимые черты, признаки. Изменчивые, как погода. Даже в летнюю пору». Лишь только в июле было долгое, долгое, будто застывшее на одной точке неподвижное лето. Погода не менялась. Солнце вставало... да что — вставало! Оно почти и не ложилось, почти никуда не уходило. Чуть вздремнешь – и оно снова тут, и лучи уже почти такие же жаркие, как были накануне в час зенита. Вот она: вечность. Остановившееся летнее время, замершее. «Да это не мое открытие, этот летний пик уже давно назван летним солнцестоянием». ния. А через несколько дней пошли измене- Показалось, что темнеть стало раньше вдруг, что освещение тоже изменилось вдруг, и по-другому зашелестели листвой деревья. Не по-другому: в солнцестояние они и вовсе не шелестели — ветра почти и не было. точный ветер, до самого наступления полнолуния. В пустом доме гуляли сквозняки, хотя Ирене казалось, что она с вечера закрыла окна и утром ни одного не открывала. «Может быть, причина беспокойства — голод? Ни ягоды, ни чай нисколько не насыщают». У крыльца появляются соседские дети, два мальчика.«Здравствуйте!» «Ну, привет». «А мы вчера в лес ходили»... До наступления полнолуния не стихал ветер с востока. Ветви старых лип клонились в сторону дома, шумели, не давая сосредоточиться на письме. Ирена хотела написать ему, чтобы избавиться... От чего? Ирена не знала, но что-то ее переполняло так сильно, что казалось — еще немного, и она не вынесет этого странного напряжения, от которого хотелось иногда просто убежать. Но куда? Как? Казалось — к нему: к Вячеславу. Что его уже нет, Ирена забывала, думая лишь о том, как же сказать то невозможное, что творится в душе. Пришло полнолуние. Ветер прекратился. Луна выкатилась из-за высокого, раскидистого дерева на горизонте. Ирена сперва ее не узнала. Увидела что-то красное, необыкновенное, похожее, может быть, на костер. А то и на далекий и странный пожар. Она не испугалась, только силилась понять, что же это, напряженно вглядывалась. Вновь казалось, что душу надрывает непонятность, невыразимость. Не только в ней самой, но и вовне. Тут эта огромная, красная луна полностью вынырнула из-за своего укрытия. Ирена рассмеялась, узнавая. «Полнолуние». Ночь наступила чудная. Светлая, светлая. Деревья, дом, соседский сарай, поленница дров отбрасывали тень почти как днем, при солнечном свете. И все-таки было все совсем иначе: все напоминало о невероятном множестве тайн; о страшной таинственности мира. Ирена вспомнила свою готовность приобщиться. «Ну, а теперь задул. Сделалось неуютно». «Изыдите, оглашенные!» — почему же, почему так поразили эти слова священника? Так пленили, так обольстили! — «Изыдите!» Возбуждая тревогу, дул и дул северо-вос- После обретения свободы девочки и маль- И. Цыгальская — Не уходи (рассказы) чики, ослепленные, сбитые с толку, многие — несытые и неодетые — ринулись к познанию всего. Однако мало что впечатляло, не обреталось их душами ни равновесия, ни покоя... «Мужик под боком...» — вот, точно врезалось в память выражение матери. И слышится так, как и было произнесено, с полным повтором тембра голоса, интонации». Ну, да: девочки и мальчики спешили приобщиться к таинству брака, — «а брак — это связь, по-гречески, кажется», — потому что так поступали все...» «А мы вчера в лесу были». «Ягоды?» «Угу: десять литров черники набрали. Хотите, и вам принесем?» «Спасибо, не надо: денег нет». «А вы хлеба дайте. Обменяемся». «Да и хлеба нет. Вчера прихожу в лавку — нет, говорят, не привезли». «Так сегодня автолавка у школы будет! Точно! Мы бы сбегали, да мама говорит, далеко еще до пособия, не дождешься... А вы купите себе, и нам сколько-нибудь дайте, за чернику». «Хорошо». Мальчики убежали за черникой, а Ирена вернулась в дом, к столу и, чтобы не забыть, записала на так и оставшемся чистым листе бумаги: «сходить за хлебом». Написав эти простые слова, Ирена не выпустила карандаша, стала водить бессмысленно по бумаге, пока само собой, как-то помимо воли, не написалось еще: «Какая ночь»... Так на листе в раскрытой тетради только и осталось — от бездны! от всей бездны пережитого — всего и осталось пять слов в двух записях: «сходить за хлебом» и «какая ночь». *** Я спровадила мать в Ригу на другое же утро: казалось, она мешает... А сама... оцепенела, что ли. Дала заполнить горю все клетки своего тела и души. И старалась не шевелиться. Да и не могла. Простившись с матерью, рухнула в траву и весь день лежала, как парализованная. Под вечер открыла глаза и стала глядеть в небо. А оно оставалось таким же — как вчера, позав- 63 чера. Там тихо и спокойно плыли белые облака. Потом по самой серединке пролегло перистое облачко, такое легкое и красивое. Скоро оно исчезло, будто растворилось. Показалось, я и сама исчезла, не то умерла, не то перенеслась в параллельный мир. И с неба, что ли: откуда-то, глядит, будто бы, на меня некто, с сочувствием. Больше ничего не помню. Конечно, я собиралась вернуться в Ригу. Конечно, понимала, что не могу остаться в этом теткином доме, ничего не делая для какойнибудь организации своей жизни. ... «Ох, ты вернулась наконец, слава Богу, – встретила в Риге мама и осторожно обняла меня, но быстро отстранилась, будто сомневаясь, хочу ли я ее ласки. — Кто тебя поймет», бормотала она, робко меня оглядывая. По прошествии лет я поняла, почему как только могут оберегают детей и юных мальчиков и девочек от всего страшного и тяжелого, не спешат сообщить о беде, стараются подготовить. Еще бы — в юности любое переживание имеет сокрушительную силу. Оно интенсивно... однако... — не слишком продолжительно. «Со мной все в порядке», — доложила я. «И что же ты намерена делать?» «Жить». Слово «жить» я сказала со всей страстью, какую только возможно передать голосом. Я, —так мне думается, — стала осуществлять свое желание жить наконец, как все... — Ну, и правильно, — одобрила подруга. Однако Ирене казалось, что годы и годы проваливаются куда-то, исчезают, незамеченные. Какие-то беспамятные годы. Она почти постоянно находилась в состоянии не то дремоты, не то беспамятства. Порой даже казалось, что хуже — безумия. «Ты какая-то ... не такая. Я за тебя боюсь». «За мой рассудок?», — криво усмехнулась Ирена обеспокоенности матери, называя словом то, что мать не хотела проговаривать. Из многих лет запомнились еще слова отца — показалось, что они значительны. Разговор родителей она подслушала случайно, вовсе даже не только не желая услышать что-нибудь о себе, но и просто ничуть не интересуясь ни их разговорами, ни самой их жизнью, предпочитая оставаться в своей дремотности. ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА — Три века русской культуры в Латвии 64 — Вероятно, мать — уже не в первый раз, — делилась своим недовольством Ирениной жизнью. Отец сказал: «Это природа, и с ней ничего не сделаешь. Дверь запрешь — выскочит в окно. Разобьет, изрежется в кровь, но все равно убежит». «Оглашенная», — подтвердила мать. «Да все они оглашенные, — отстраненно заметил отец, подразумевая, должно быть, нынешнее молодое поколение. — Помешались на сексе, превратили в культ». Подумалось — вскользь, — что отец, пожалуй, прав. То, что она меняет любовников, волновало не особенно. Казнилась, что ею все сильнее овладевает дремотность. — Подумаешь — мужчины... — А что — мужчины? — проворчала подруга. — Вокруг тебя так и увивались, так и роились... На твоем месте и любая бы грешила вовсю. Ну, и я не выпендривалась. Раздвигала ноги... Ирене нравилось наутро расспрашивать очередного партнера о себе. «Ну, что, скажи: что тебе кажется во мне главным?» Иной ничего не умел выдавить, другие не хотели: может быть, их вообще раздражала болтовня. Ирена тогда сразу переставала выпытывать. «Красота», — мог ляпнуть кто-нибудь, не утруждаясь поиском более утонченного комплимента. Она смеялась в ответ. Но могла и рассердиться: была уверена, что он лжет. Ну, какая красота? Вечные прыщи на лбу. Правда, она умело их прикрывала челкой. «Но в постели-то». ка. За «красоту» Ирена скоро покидала умни- «Да не за «красоту», — морщилась она, если удостаивала задуматься. — Скучно делалось. Невыносимо»... Один журналист сумел сказать нечто пооригинальнее. «У тебя такой вид... как бы это поточнее... — он задумался и наконец изрек: — Словом, так — я на тебя смотрю, а ты, будто бы, отвечаешь на мой взгляд — знаем, но не скажем. Вот». «Печать тайны», — хмыкнула Ирена. А про себя подумала серьезно: «Наверно, оставшейся от того лета, когда я изображала лесного Пана. Всего-то недели три... ну, месяц. Чепуха... Хотя я, и правда, сильно тогда страдала. Любовь, конец любви... Закаты и восходы... Северовосточный ветер. Потом полнолуние. Так много всего. Но осталось лишь пять слов: «сходить за хлебом» и «какая ночь». Мужчины ко мне тоже не привязывались. Нет, не прикипали. Я, правда, и не старалась привязать. Однако понимала, — и захоти, все равно не сумею. Может быть, бойфрендов отпугивала моя отстраненность. Не хотели оставаться подле такой: вроде бы беспредельно свободной, независимой, а в то же время — настырной, какой-то навязчивой. «Прилипнет — не отвяжешься», — так, говорят, сказанул в компании один мой бывший. Конечно, профанация. Но с журналистом возникло некое подобие — если не взаимопонимания, то хотя бы равенства. От него я и родила своего первенца — Сашу. Однако Танечка родилась уже от другого, хотя разница у детей всего два года. ... Вот так, дорогая, осуществлялось мое страстное желание жить! Да я не просто жила — я хлебала жизнь! Нахлебалась — забот, вечной нужды, нелюбимой работы! А беспокойства! А тревог! Дети росли, родители умирали... Я все глубже уходила в свои беспамятные годы. Что было в них? Я приходила в отчаяние, когда вдруг как бы пробуждалась от своего беспамятства и начинала задаваться никчемными вопросами. Я не знала ответов. Из-за неудержимости убегающего времени и осознания, что не могу придать ему ни смысла, ни оправдания, я приходила в ужас. Изредка забредала в церковь. Опять и опять слышала: «Изыдите, оглашенные!» Никто из прихожан и не двигался. Наверно, это была пустая формальность — ну, то есть, священнику полагалось перед причастием произнести эти слова. Но я-то в них слышала — набат. Колокол, звонящий по моей жизни. Свою непринятость в осмысленное бытие, отторжение. Ирена, допивая вино, криво улыбается: Ну, что я за отпетая такая личность? Будь проще, — вздыхает подруга, — не принимай все так близко к сердцу. И. Цыгальская — Не уходи (рассказы) — Как будто я принимала когда-нибудь! Да никогда! Ни с кем и ни с чем не считалась. Ну, детей, конечно, не бросала, воспитывала, как могла. Я думаю, — шепчет она, — меня спасти по-настоящему мог бы Слава. Первый. Первая моя любовь. Слава был истинно верующим. А я... да не наступи эти перемены, может быть, так бы и прожила, не задумываясь ни о Боге, ни о вере. Но верить в Бога стало модно. Тоже, знаешь, один из аттрибутов свободы. И выбор есть: вот тебе православная церковь... Некоторые наши одноклассницы, если ты помнишь, приняли католичество. Можно в лютеране. А хочешь — хоть в кришнаиты иди. С бухты-барахты, тут же другие традиции... А теперь я тебе расскажу про Святослава — мою вторую любовь. Не знаю, кто позвал первый, я ли, он ли. Я-то, льстя себе, думаю, что, уж конечно, первый сигнал исходил от него. А я только разглядела в его глазах желание проникнуть в мою тайну. В существовании тайны я не сомневалась. Какая-то стала во мне проявляться двойственность. Я ее ясно поняла, опять исчезнув из Риги, — как тогда, после оглашения, — и схоронившись вместе с детьми в теткином доме. «Главное — имя, — шептала я себе, удивляя детей, — такое совпадение. Я опять смогу повторять: Сла-ва, Слава, — как заклинание, как мольбу. Вот только не знаю, о чем». «Что ты там шепчешь?» — спросил Саша. А Танька кокетливо наклонила светленькую головенку и, заглядывая мне в глаза, говорит: «Колдуешь, что ли?» Я провела ладошками по головкам детей, жестом успокаивая, но давая понять, что не надо меня тревожить. Ну, хотя бы потому, что я собираю вещи в дорогу. 65 не требует никаких разъяснений. Реальное... Хотя... второе-то чем не реально? Вот и разберись... Словом, это первое, так называемое реальное — оно совсем простое, и мы в нем постоянно. Это наша работа, карьера. Это дом и семья. В это реальное бытование погружаешься с головой, а бывает, в нем утопают и душа, и сердце. Не будешь ведь о детях заботиться без души. Хотя, конечно, мы бываем к ним куда как бессердечны. Однако второе бытование тоже вполне реально. Только там я вижу не присутствующих около меня людей, а совсем других, случается —и уже ушедших в мир иной. И я беседую с ними о разных предметах. Больше всего — о любви. Но послушай еще немного про Святослава.Он вновь разбудил во мне жажду жизни! В этой жажде нашлось столько очарования, а ведь я давно уже не прельщалась ничем. Приехав с детьми в деревню, мы каждый день — недели две это длилось, — находились какое-то время во власти вот этого: второго бытования... — И дети? — Да-да: и дети. Они-то как раз к такому бытованию куда больше расположены, чем взрослые. Ты, если подумаешь, и сама вспомнишь, как твоя дочка с ходу может включиться в какую-нибудь игру. Скажешь ты что-нибудь шутливое или придуманное, чего и ты, и она знаете, на самом деле не бывает. Ты только заикнись, она слету подхватит, по-своему развивать начнет. Так? Подруга кивнула. Ну, вот, значит, я и дети находились во власти второго бытования. Дети — своего, а я, понятно, совсем другого. Собираясь, я думала о том, что вновь, как и тогда, чувствую себя оглашенной. То есть в преддверии чего-то важного, судьбоносного... Знаешь, говорят, когда-то давно провинившихся в чем-нибудь собор отлучал от причастия, и они четыре года тоже стояли с оглашенными. ...В деревне, как всегда, пленила, даже соблазнила особенность тамошнего мира. Я бы назвала ее — отрешением. Погода выдалась жаркая и сухая. Месяц июль, самое начало. Ночи светлые, теплые. Солнце долго не садится, и, если дети не хотят спать, мы идем смотреть закат. Это вечерняя прогулка, не очень далекая: надо только выйти из сада, затем немного по тропинке к большаку и еще чуть-чуть от большака по другой тропинке, — пока не останутся позади густые и высокие липы, за которыми не видно уходящего солнца. Тут и откроется необыкновенная, волшебная панорама. Ведь я, с тех пор, как у меня дети, никак не могу полностью отрешиться: не дают. Тем отчетливее я начинаю различать грань в своем двойственном бытовании. Одно — понятное, В саду к этому часу уже бывает сумеречно; чуть отойдешь от нагретого солнцем дома, сразу со всех сторон обступит влажная прохлада. — Бр-р, — скажет кто-нибудь из детей, и «Мы уезжаем». 66 ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА — Три века русской культуры в Латвии второй, конечно, тут же повторит и нарочито вздрогнет. Я обниму обоих, прижму к своему еще горячему после жаркого дня телу, и мы все трое рассмеемся. А за большаком еще теплынь. Поле заливает вечерний свет, а небосклон яркий, желтооранжевый. Иногда больше красный, и солнце огнем горит, это значит, что завтра будет ветер. Это вечернее освещение... А если на солнце чуть-чуть надвинулось темное облако, то можно вообразить, что это волшебный фонарь. Как будто кто-то играет с нами и нарочно прикрыл лампу абажуром из темной плотной бумаги. Дети притихшие, смотрят во все глаза... — И тут вы попадаете в свое второе бытование? — нетерпеливо спрашивает подруга. — Нет, почему? — удивляется Ирена. — Это — час гармонии, мы так любим друг друга, все трое. У меня на душе тепло, я чувствую редкостное удовлетворение уходящим днем. Будто бы выполнила что-то на меня возложенное. Свыше, конечно: никак не меньше; но и не больше, — Ирена смеется. — Остается довести дело до конца: уложить детей по кроватям. И без крика, по возможности, — она опять смеется. — Ну, а утром, можешь догадаться: все кувырком. Дети вопят, ссорятся. У меня голова кругом — подступает жара, надо убегать к воде. На пруд мы ходим, у нас там огромный карьер, гравий копают. Заодно вырылся чудесный водоемчик, чистый, глубокий. Дети наперебой пристают — когда пойдем купаться? А мне же их накормить надо! И еще вопрос — чем. С продуктами так себе. В лавке продают по большей части что-нибудь дорогое и не очень нужное, а то и вредное, тем более детям. Ну, там чипсы и так далее, это разве еда? Когда мало денег, выгоднее всего купить мясо. А мяса-то и нет. Ладно: варю гороховый суп на кусочке колбасы, жарю сырники из старого творога, взятого еще из Риги. Стою как проклятая у плиты, расстраиваюсь — еще ведь и недовольны будут гороховым супом. Ну, уф — обед сварганила. Можем убегать. Опять шум и гам: я это возьму, а где моя лопатка, а я не понесу, а я тебе тогда играть не дам... Ирена умолкает. Молча смотрит куда-то. Она сегодня сидит лицом ко мне, а подруга — спиною. И я вижу, что Ирена смотрит совсем не на подругу, а куда-то мимо, в какую-то, не знаю чем примечательную, точку на стене. Однажды она сказала подруге, что мать сокрушалась по поводу ее вот такого взгляда: это нехороший признак, когда человек долго глядит остановившимися глазами в одну точку. На сей раз я хорошо вижу, что у Ирены глаза — не как у всех: другие. Рассуждаю с собой — уж не это ли и привлекло мое внимание к Ирене? Я стараюсь не позволить себе смотреть слишком пристально, но взгляд Ирены притягивает помимо воли. — Ирена! — Будто бы стараясь разбудить, окликает подруга. — Да-а-а, — тянет Ирена, прикрывая рот ладонью, стараясь подавить зевок. — Да: возле воды водворяется тишина. Вокруг — никогошеньки, и тишина такая, что слышно, кажется, как пролетают над водой стрекозы. Дети мои переплывают на остров. Да там мелко, можно и пройти, но они воображают, что плывут. После опять возвращаются, вещи перенести, держа над головой, чтобы не намочить. Ну, там, полотенце, запасные трусики, лопатку. Теперь, я знаю, они погрузятся в бытование на своем собственном, якобы ими, отважными мореплавателями, открытом острове. Остров каменистый... ну, на самом деле не остров, а всего лишь большая куча гравия, оставленная посреди водоема. Там, на ней, и огромные валуны есть, а сколько солнца! Дети, значит, там, и я тоже оказываюсь на своем «острове», попадаю в свой «очерченный круг». На самом деле это каменистый берег, не очень длинная узкая тропинка, где нет, наверно, случайно, ни одного крупного голыша, только совсем меленькая галька, к ней мои ступни уже притерпелись. И вот теперь ты постарайся мне поверить. Я хожу по своей тропинке, несколько раз, туда и обратно. Размеренные шаги, тишина раполагают к особенному сосредоточению — и возле меня, совсем рядом, возникает Святослав: моя вторая любовь. Мы некоторое время разговариваем — о чем-то совершенно обыкновенном, но я чувствую его проникновение... его способность и труд проникнуть... в мою жизнь, мой душевный настрой, мое дыхание... Слава, Славик, — я бормочу имя, как заклинание, и уже не помню, кто со мной: тот, первый? Кажется неважным, что того, первого, давным-давно нет на свете... Или я вижу Святослава? Второго? Что нисколько не менее невероятно: Святослав находится за много километров отсюда... Мы смотрим на облака; сначала только смотрим, а затем и сами делаемся такими же легкими, как облака, и тоже оказываемся в вышине. Оттуда все на земле видится необычайно красивым. Ржавые железки, некогда забро- И. Цыгальская — Не уходи (рассказы) шенные сюда, в карьер, как на свалку, видятся всего лишь пятнами чуть побуревшего песка; стрекозы над водой глядят закрытыми глазами куда-то в неведомые дали. Мир кажется гармоничным, а своего дыхания я даже просто не замечаю, настолько оно легкое, незатрудненное... — Долго ли? — Ты спрашиваешь о часах, минутах? Я не знаю, так как нахожусь вне времени... И вот, слышу голос в вышине, не сердитый, а скорее — отрешенный: «Изыдите, оглашенные!» Я понимаю, что должна покаяться, и мое покаяние будет принято, потому что много милосердия и на земле, и на небе. Но я знаю и другое: мне на роду написано всю жизнь простоять с оглашенными. Меня будут отлучать и отлучать от причастия, потому что я останусь среди тех, кто желают узнать неизреченное нечто, а также гадают по бегущим облакам... Ирена — я по-прежнему хорошо вижу ее лицо, оно мне кажется преображенным, вдохновенным, — переводит глаза на подругу и повторяет: «Я оглашенная: гадаю по облакам». Взгляд ее невыразимо печален, но я вижу в нем и прекрасную, будто бы свыше дарованную отрешенность. Подруга Ирены молчит, они выдерживают долгую-долгую паузу, наверно, думаю я, необходимую им обеим, да и мне, чтобы прочувс- 67 твовать постигнутую этой молодой женщиной связь земли и неба. Затем подруга, будто бы стараясь разбудить, осторожно касается пальцами локтя Ирены. — А что же Святослав? Где он? — Здесь. Живет себе в Риге. — Один? — Не знаю. Может быть, и не один. — Но почему же вы расстались? Такая любовь... — Во-первых, я боялась или – не хотела... утяжелить, что ли, мое первое, так называемое реальное бытование. Еще одна сердечная привязанность... Да у меня дети. — Он... не смог бы полюбить детей? — Послушай, я ничего не знаю. Мы вернулись из деревни. Я встретилась с ним несколько раз. Только все было как-то странно. Не мне было странно: ему. Я почувствовала. Он всего-то и сказал: ты, Ирена, все чаще глядишь в одну точку застывшими глазами. Ирена улыбается, чуть передергивает плечи, будто бы желая стряхнуть наваждение. — Да не слушай ты меня! Это все ерунда. Однажды он больше не пришел, вот и все. Может быть, и другую встретил. А я не хочу признаться, что меня бросили, потому и сочиняю! ЧТЕНИЯ ГУМАНИТАРНОГО СЕМИНАРА 68 Стенографический отчет (15 декабря 2009 г.) XL Чтения гуманитарного семинара SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS на тему: «Проблемы изучения биографии Бориса Федоровича Инфантьева» с выступлениями и комментариями историка Бориса Равдина, доктора исторических наук Татьяны Фейгмане, историка Олега Пухляка, доктора философии Арнольда Подмазова, библиофила Анатолия Ракитянского, председателя Латвийского общества русской культуры Елены Матьякубовой, журналиста Игоря Ватолина Ведущий Чтений – Сергей Мазур Сергей Мазур: Сегодня — 15 декабря 2009 г. В помещении Дома культуры «Иманта» в библиотеке Латвийского общества русской культуры открываются юбилейные XL Чтения гуманитарного семинара SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, посвященные теме: «Проблемы изучения биографии Бориса Федоровича Инфантьева» (14 сентября 1921 — 18 марта 2009). Прошло почти девять месяцев после того, как от нас ушел Борис Федорович. Обращение к биографии, к проблемам в ее изучении вызвано следующим обстоятельством: отсутствием, на мой взгляд, объективной оценки вклада Б. Инфантьева в русскую культуру Латвии. В 21 номере Альманаха SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS опубликован автобиографический очерк Б. Инфантьева. Альманах начал издаваться с 2004 г., а с 1997 г. произошел настоящий прорыв в творчестве Бориса Федоровича, т.к. его статьи о фольклоре, об истории русской культуры впервые увидели свет как в Польше, так и у нас в Латвии. Поэтому с момента существования Альманаха мы сосредоточились на статьях биографического толка, в которых отражались наиболее важные этапы жизни Б. Инфантьева. Важной вехой в этом деле стала публикация наших коллег в третьем номере журнала «Даугава» за 2000 г. автобиографического очерка «Curriculum vitae» и подготовленной И. Михайловым брошюры, изданной в 2004 г. «Борис Федорович Инфантьев: жизнь и труды. Био-библиографический указатель» и повторенной в книге «Балто-славянские культурные связи: лексика, мифология, фольклор» 2007 г. издательства «Веди» . Предлагаю познакомиться с планом изучения биографии Б. Инфантьева, которая классифицирована: 1) по периодам его жизни — детство, государственный переворот 1934 г. и последовавшие за переворотом изменения, учеба в Рижской латышской классической гимназии (Первая правительственная) (1934—1940 гг.), 1940 — 1941 гг. (до начала Великой Отечественной войны), Вторая мировая война, период советской власти в Латвии и Период Второй Латвийской Республики (1991-2009); 2) биографические источники; 3) лица, оказавшие наиболее значимое влияние в его жизни. Из списка отмечу подвижника старообрядчества Ивана Никифоровича Заволоко, преподавателя Латвийского университета Людмилу Константиновну Круглевскую, близкого друга и соратника Александра Германовича Лосева; 4) наиболее важные события в том или ином биографическом периоде. План изучения биографии Б. Инфантьева Детство (1921—1934 г.) а) Биографические источники: «Хождение по верам», «Через тернии к звездам». б) Роль религиозного воспитания (индифферентность родителей, немецкий детский сад при Лютершуле. в) Лица, связанные с периодом детства — о. Евстратий Рушанов, «благочестивая вдова» Анна Петровна Воробьева, «наставница в вере» Анна Савельевна Васильева. г) Основная школа при русской частной гимназии Ольги Эдуардовны Беатер. д) Школьный монархизм, антисоветизм, отношение к латвийскому государству. Стенографический отчет (15 декабря 2009 г.) XL Чтения гуманитарного семинара е) Религиозное воспитание в школе и его неэффективность. Государственный переворот 1934 г. и последовавшие за переворотом изменения а) Биографические источники: «Хождения по верам», «Русский язык и русская культура в Латвии в 20—30-е годы», «Через тернии к звездам», «Политический анекдот — мощный фактор интеграции». б) Лица, связанные с периодом 1934 г. — розенкрейцеры, поселенцы Земгале и Курляндии. в) Анекдоты про Карлиса Улманиса. Рижская латышская классическая гимназия (Первая правительственная) (1934—1940 гг.) а) Биографические источники: «Через тернии к звездам», «Русский язык и русская культура в Латвии в 20—30-е годы», «Curriculum vitae», «Странички из воспоминаний об Иване Никифоровиче Заволоко», «Хождение по верам». б) Лица, связанные с периодом 1934-1940 гг. — директор русской правительственной гимназии Георгий Петрович Гербаненко, учительница Клавдия Ивановна Яковлева, И.Н. Заволоко, теософ и сельская учительница Алиса Гутмане, конфирмандка Мария Краузе, наставник кафедрального Христорождественского собора Иоанн Янсон. в) Еврейский вопрос. Школьная цензура. Почему школьная учительница заставляла учеников вычеркивать реплики евреев из комедии Юрия Алунана и Рудольфа Блаумана? г) Монархизм в школе. д)Антисоветизм. е) Национальный вопрос в школьном обучении. ж) Почему Б.Ф. Ифантьев поступил учиться в Первую правительственную гимназию, отношение к нему преподавателей и учеников. з) Отношение к русскому языку и литературе. и) Вопрос профориентации. 1940 — 1941 гг. (до начала Великой Отечественной войны) а) Биографические источники: «Через тернии к звездам», «Curriculum vitae», б) Лица, связанные с периодом 1940— 1941 гг. — Людмила Константиновна Круглевская, руководитель славянского отделения, профессор Анна Абеле, профессор Эндзелин. в) Классическое отделение филологического факультета Латвийского Университета (ЛУ). 69 Отношение к переменам в университете Б.Ф. Инфантьева после июня 1940 г. Вторая мировая война а) Биографические источники: «Curriculum vitaе», «Русские в оккупированной гитлеровцами Латвии. Беседа современника», «Светлой памяти Людмилы Константиновны Круглевской». б) Лица, связанные с периодом Второй мировой войны: Проректор университета профессор Карлис Страуберг, полицейские – полковник 15 дивизии СС Роберт Осис, друзья лейтенант Штейн и Пудник; Людмила Константиновна Круглевская, профессор Э. Блесе, профессор Эндзелин, профессор Я.А. Янсон, доктор Фукс, мать Зинаида Ивановна, профессор Ленинградского университета Виктор Григорьевич Чернобаев. в) Угроза репрессий. г) Студенческий профсоюз. д) Религиозное возрождение. е) Призвание быть фольклористом. ж) Отношение к «Строителям Новой Европы», немцам, власовцам, легиону СС. з) Холокост. Период Советской власти в Латвии а) Биографические источники: «Иван Янис Михайлов. Борис Федорович Инфантьев. Краткая биография», «Три недели с парнями Арайса», «Светлой памяти Александра Германовича Лосева», «Из архивной папки «Юрий Иванович Абызов». б) Лица, связанные с периодом Советской власти в Латвии — Мария Фоминична Семёнова, Штейн и Пудник, Александр Германович Лосев, Юрий Иванович Абызов. в) Институт фольклора в Риге. г) Советские репрессии. д) Реформа преподавания русского языка в латышской школе и в Советском Союзе. е) Газетная публицистика. Период Второй Латвийской Республики (1991—2009) а) Биографические источники: «Иван Янис Михайлов. Борис Федорович Инфантьев. Краткая биография»; «Авторецензия на книгу «Балто-славянских культурные связи». б) Лица, связанные с периодом Второй Латвийской Республики — Александр Германович Лосев, Иван Янис Михайлов. в) Проблема публикации наследия Б.Ф. Инфантьева при жизни; г) Отношение к наследию Б.Ф. Инфантьева со стороны латышской интеллигенции; д) Отношение к наследию Б.Ф. Инфантьева со стороны русской общественности. 70 Классификация жизненных периодов Бориса Федоровича возникла исключительно из логики публикаций в Альманахе, из автобиографических статей, заметок самого Бориса Федоровича. Таким образом его жизнь оказалась разделенной между шестью разными периодами, связанными с политическими событиями Латвии, Советского Союза и Европы. Это разные, непохожие друг на друга этапы жизни. В детстве главная тема раскрывается в воспоминаниях, размышлениях Бориса Федоровича о религиозном воспитании. Это чуть ли не единственная тема первого периода жизни. Все фигуры, появляющиеся в воспоминаниях, связаны исключительно с религией — либо с православием, либо со старообрядчеством. Те периоды, которые охватывают с 1934 г. по 1940-й г., хотя и оставляют существенное место для экзистенциальных вопросов, связанных с выбором веры (вспомним специальный очерк, посвященный преподавателю латвийского университета и другу, наставнице в вере Людмиле Константиновне Круглевской), но наряду с религиозным вопросом появляется то, что сегодня русским людям, живущим в Латвии, покажется близким в общественно-политическом измерении. Например, отношение к латышскому и русскому языку в Первой республике. В Первой правительственной гимназии он учился на латышском языке. Первая мысль, с которой Борис Инфантьев пришел в гимназию — а что с ним будет? Его высмеют как русского, прогонят из школы преподаватели или ученики? Появляются темы, которые сегодня вряд ли кто-нибудь осмелится связать с именем Бориса Федоровича. Например, кто сегодня сможет подумать об Инфантьеве как ученике розенкрейцеров или участнике сеансов спиритизма? Оказывается, без розенкрейцеров и спиритизма нельзя осмыслять биографию Бориса Федоровича на втором и третьем этапе его жизни. 1940 год открывает новую тему — отношение Бориса Федоровича к власти, не только к советской власти, над которой он не устает иронизировать, но к власти в Первой, Второй Латвийской Республике. Вторая мировая война — наиболее значимая тема в жизни Бориса Федоровича. Здесь ЧТЕНИЯ ГУМАНИТАРНОГО СЕМИНАРА мы столкнемся с проблемами, которые остаются нерешенными до сей поры — отношение к власовцам, легионерам, к коллаборационизму, Холокосту, советским партизанам... Недаром Борис Федорович возвращался к теме войны даже в последние годы своей жизни, переводя произведения латышских писателей на русский язык в своей неизданной книге «Миф о русских в латышской литературе». Это уже новая тема, русско-латышских литературных связей. В свое время переводами с латышского языка на русский литературных произведений занимался журнал «Даугава». После его закрытия, наверное, единственный, кто профессионально работал в данной области, был Борис Федорович Инфантьев. Книгу, или точнее подборку статей, которую я назвал «Миф о русских в латышской литературе», оставил после себя Борис Инфантьев. Их публикацию я отодвигал и отодвигаю из-за сложности подготовки. Сотрудничать с Борисом Федоровичем я стал, когда он был уже в достаточно пожилом возрасте. В последние годы он предоставлял мне рукописи в довольно-таки неряшливом виде. Не потому, что возраст не позволял работать более скрупулезно. У него были такие проблемы, которые нормальному пишущему человеку представить себе невозможно. Могли бы вы напечатать статью на печатной машинке без ленты, через копирку? Первая страница, которую он печатал, оставалась белой, а на второй копировался текст. У Бориса Федоровича даже в таких обстоятельствах получались неплохие тексты, но требующие, конечно, редакторской обработки. То, что еще сдерживает возможность опубликования рукописей — использование Б. Инфантьевым в своих текстах нескольких языков. При жизни еще можно было обратиться к нему с вопросом — а правильно ли я напечатал на немецком, литовском, польском языках. Сейчас обращаться с таким вопросом не к кому. Мешают и идеологические представления, которые у меня, как редактора журнала, сидят в голове, т.к. я разделяю — это хорошее, это плохое. Борис Федорович поступал как историк: положительно или отрицательно латышский писатель оценивает русских, живущих в Латвии? Борис Федорович переводил все, независимо от оценки автора, писателя. Стенографический отчет (15 декабря 2009 г.) XL Чтения гуманитарного семинара 71 Борис Инфантьев Русские в Курземском мешке Один из популярнейших современных латышских писателей, проживающий ныне в Америке, Дзинтарс Содумс (род. В 1920 году) в своих автобиографических романах, как и многие другие латышские писатели, определенное место отводит тем русским людям, с которыми ему приходилось встречаться в Латвии, в том числе и в Курземском Мешке, где он ожидал того вожделенного момента, когда удастся на лодке перебраться в свободную землю Швеции. Образы русских, с которыми ему пришлось встретиться здесь, в Мешке, до того рельефны, что ни в каких пояснениях и комментариях не нуждаются. Стр. 300. Русские партизаны с автоматом под мышкой, не обращая внимания на окружающих, в круглых кожаных шапках, нахлобученноых на затылок, вторглись в комнату беженцев, и оттуда послышались их крики: — Руки вверх! Руки вверх! Следующая пара партизан вошла в кухню, быстрой рысью вбежали в хозяйскую половину. Четверо других встали в дверях и с интересом рассматривали кухню. В комнату беженцев вошли двое партизан, выгнали в кухню жильцов комнаты, которые сидели за праздничным столом. «Единственный» (так в романе автор называет сам себя) поднял руки, и партизан принялся ощупывать его карманы. К голой спине Скайдрите (то есть к ее декольте, — Б.И.) один из стоящих у дверей партизан приставил дуло автомата, она также подняла руки. Партизан нашел в кармане «Единственного» фонарь — ручное динамо, похожее на металлическое яйцо (недавно сконструированный в Италии — который действовал давлением ладони). Русский думал, что это ручная граната и собрался выбросить ее в окно. Когда «Единственный» возразил, другой русский взял фонарь, стал его щупать и поворачивать. «Единственный» показал, как осуществить нажим динамо. Окружавшие его русские бросились в укрытие. Фонарь зашипел и дал свет. Поняв, что это за штука — не надо батареек, а светит, русский с усмешкой похлопал «Единственного» по плечу: — Вот хороший парень, носит в кармане именно то, что нужно партизану. Ушедшие на хозяйскую половину двое партизан выгнали на кухню хозяйку с детьми. Партизан придвинул плетеный стул, и она села, держа на коленях младшего ребенка. Остальные дети теснились вокруг нее. Старший сын стоял за стулом матери, руками обхватив спинку стула, и его светлые волосы куце вздымались вверх. Лицо матери было белым, как льняное полотно. Она молчала, когда русский спрашивал, куда ушел лесник. Партизанский атаман вошел — под каждой подмышкой по автомату и сумка с картами сбоку. Две партизанки сопровождали болотного вольного господина. Старшая, с осповатым лицом и с отрубленным или отрезанным ухом. Вторая — мягкая, сладкая, в широких армейских галифе. За ними — молодые и старые партизаны — русские, монголы, татары, киргизы, туркмены, узбеки, таджики. Для этого похода были собраны силы широкой округи. В комнате распространился запах болота и хвойного дыма. Атаман посмотрел на девятерых беженцев: — Откуда вы? — спросил он. — Из Риги. Художники, — отвечала госпожа Коцинь на хорошем русском языке, как обучавшаяся в свое время в гимназии русских аристократов. Ее муж был полковником Латвийской армии и в свободное от домашних работ время писал романы. — Почему не остались в Риге, когда Советская Армия ее освободила? — Немцы выгнали. Ничего, скоро вернемся обратно. — Знаем, знаем, — он процедил сквозь зубы. — В Швецию хотите бежать, голубчики!Но останетесь тут и будете нашими. Беженцы молча смотрели в пол, в стену. Один партизан в вещах «Эго» (так тоже автор называет себя, – Б.И.) отыскал дорожную карту Латвии. Он принес ее показать атаману. — Кому принадлежит эта карта? – спросил атаман. — Мне, — отвечал Эго. 72 — Офицер? — спросил атаман у госпожи Коцинь. — Это туристическая карта, — отвечала она. — У нас здесь нет военных. — Туристическая карта! — вскликнул атаман. Ему показалось удивительным, что средства расходуются на печатание туристических карт. — Вы хорошо говорите по-русски, — сказал он госпоже Коцинь. — Где вы учились? Госпожа Коцинь назвала школу. Затем атаман поведал, что сам он родился на Украине… Партизаны показали ему на комнату лесника, и он поспешил туда. Оба стража велели обысканным беженцам сесть рядом на кухонную скамейку и держать руки поднятыми вверх. Один из них быстро отправился в комнату беженцев, где уже несколько партизан как бы искали оружие. Оставшийся страж беспокойно ерзал, направив дуло автомата на пленников. Ему тоже хотелось в комнату посмотреть, что хорошего люди везли так далеко. Язеп (один из беженцев, — Б.И.) начал говорить со стражем: — Руки устают. Пусть разрешит держать руки на затылке. Страж сказал: — Нет. Глаза его вращались. Несколько партизан тащили с чердака в деже засоленную буханку хлеба, в корзинах куски копченого мяса и колбасы. Татарин принес мешок муки и хвалился, что он его нашел: был спрятан. Русские смеялись над ним: дурак, сам пусть несет мешок всю лесную дорогу до землянки. Вот тебе блины! Страж поймал мимо бежавшего коллегу, гаркнул, чтоб тот постоял за него, а сам быстро отправился в комнату беженцев. Пока новый страж ругался, смотря в двери комнаты беженцев, сидящие на скамейке пленники сложили затекшие руки на затылке. В комнате беженцев раздались громкие резкие крики. Поссорились из-за какой-то понравившейся вещички. Желтый монгол с разбитым в кровь носом, получивший мощный удар размокшим сапогом, вылетел из комнаты беженцев в кухню. Двое русских остановились и смотрели на девушек и смеялись, явно выражая свои чувственные желания. Раздался окрик. Одноухая партизанка не допускала разврата. Оба «кавалера» бросились вон. Пришел атаман и, повысив голос, сказал беженцам: — Это вам наука! Поняли? До утра никто не смеет оставлять дом. Кто выйдет, того застрелят. Запрещено сообщать немцам. Благодаря ЧТЕНИЯ ГУМАНИТАРНОГО СЕМИНАРА моему мягкому сердцу я вас не беру с собой. Три партизана ввели в кухню лесника. Широко раскрыв немного затуманенные рождественским пивом соседа глаза, он посмотрел на свой разворошенный дом. Атаман криком сразу же созвал свое войско. Оно спустилось с чердака, вылезло из комнат, кладовой, погреба, из шкафов и комодов. Тяжело обвешанные, они обступили лесника и радостно перекликаясь, стали выходить. Сын лесника пошевелился, как бы хотел бежать к дверям. Страж ему пригрозил, подняв дуло пистолета. — Этого возьмем с собой? — спросил страж атамана. — Э, пусть остается на семя, — размашисто махнул тот рукой. Оставшиеся двое партизан и сами поспешили уйти. Полуметровый слой хлама покрывал пол комнаты беженцев: солома из постели, одежда, разбросанные вещи, лужа брусничного варенья и обгрызенные кости оленя. Золотистый мешочек Силзвии также исчез… Беженцы выкапывали из мусора вещи, складывали и пытались угадать, кому что принадлежало. Не всегда встречи с бывшими красноармейцами для латышских беженцев, пытавшихся на лодках перебраться в Швецию, оказывались сопряжены с такими весьма драматичными эпизодами. Иногда встречи происходили весьма миролюбиво. Все зависело от того, насколько умело латыши сами начинали такие непредвиденные встречи. Стр. 324. Трое молодых красноармейцев, сгрудившись, стояли посередине кухни и наблюдали за пятью (беженцами, — Б.И.) как бы не понимая, что делать. У всех троих были одинаковые круглые, румяные деревенские лица, на голове пилотка, на плечах ватники, на шее русские автоматы. Знатенс (хозяин усадьбы, — Б.И.) пришел в себя первым. Бодро по-русски сказал «добрый вечер», сел за стол и начал сворачивать «козью ножку». Русские тоже уселись. Положив автоматы на колени, двое из внутреннего кармана вынули каждый свою жестяную конфетную коробку с зернами махорки, насыпали в клочок газеты и начали сворачивать. Русский спросил, кто эти пятеро? Знатенс по-русски рассказал, что они сбежали от немцев из-под ареста. Красноармеец вытащил карту и стал расспрашивать, в каких лесных усадьбах размещены немцы, и какие части леса окружены. Сегодня у них был трудный день. Наташа из их землянки напоролась на немецкую цепь. Отстреливаясь, бежала, пока загнанная не была убита прикладами. Стенографический отчет (15 декабря 2009 г.) XL Чтения гуманитарного семинара Выкурив махорку, русские поднялись, пожелали успеха и поспешно ушли. Советские порядки в Курземском Мешке отстаивали не только оставшиеся красноармейские подразделения, то ли части регулярной армии, в какой-то мере имевшие или уже потерявшие связь с командованием, то ли даже прямые дезертиры, но и латыши из бывшей местной партийной и административной номенклатуры. Через совсем непродолжительное время «изба лесника» снова была удостоена посещения, на сей раз другим командиром. (Б.И.) Стр. 339. Как только айсарги на один день отлучились, вечером появился другой атаман, не тот, что тогда был в доме лесника. Назвал даже свое имя: Федя. Самый сильный и могущественный из всех партизан. Мы опять сидели с поднятыми руками, и бойцы Феди искали наше спрятанное оружие. На сей раз были вконец изголодавшиеся новички. Брали даже одеяла. Сильвия отстаивала свое теплое широкое одеяло. Когда русский его взял, она вцепилась в другой конец и рвала из рук русского. Партизан скользил по полу и ругался. Но он был сильнее. И это не все. На другой день пришли немцы по следам Феди. Двое «проверяли» хозяйскую клеть. Там лежал и кусок нашего оленя, которого выменял Язеп. Немцы все же конфисковали только половину оленя. Стр. 347. Виргис открыл двери землянки. Старший лейтенант Федя во всех погонах сидел у «чугунки». На одной постели отлеживался его дедунька, на второй — молодой паренек, чистильщик ремней. Сегодня утром бурбульцы (латышская полиция, действовавшая под руководством немецкого командования, — Б.И.) увезли всех троих, чтобы сдать немцам. Немцы отдали Федю власовцам. У них своя единица охраны в соседней волости. Они берегут Федю, как героя. Он уже вместе с власовцами ходит собирать «пошлину». Те же самые киргизы и татары днем с власовцами, ночью партизанят. Кое-кто стал уже миллионером. По ночам беженцев очищают от колец, ожерелий, шуб, царских золотых монет. Днем от свинок и овечек. У такого может быть полный воз, и он нанимает несколько монголов, которые охраняют его имущество. А Федя обещает с Бурбуля живого содрать кожу, как только его поймает. А Бурбулис теперь великий. Немцы теперь ему доверяют. Дали ему кусок берега охранять. Насилия и грабеж, чинимые советскими партизанами, не вызывают у автора романа гнева и ненависти. Скорее нотки юмора чувствуются в его рассказах. Но это уж особенность его творчества, как об этом было уже сказано. 73 Продолжение стенографического отчета Биография Бориса Федоровича до окончания Второй мировой войны представлена довольно-таки подробно. То, что касается советского периода и последних 20 лет жизни, лишено пласта воспоминаний. Я с трудом уговорил написать воспоминания о А.Г. Лосеве, т.к., по-видимому, отношения между ними были непростыми, а писать о плохих сторонах жизни Борис Федорович не любил. Поэтому к концу жизни не удалось скопить достаточно много материала, из которого можно было бы сложить монумент русской культуре Латвии. Какое-то время тому назад в Балтийской международной академии в кабинете «Русского мира» завязался разговор о том, можно ли сделать из Бориса Федоровича символ русской культуры Латвии. Здесь-то как раз возникла заминка. Заминка возникла из-за того, что наследие оказалось несобранным. Трудность возникает еще в том, что Борис Федорович жил и работал в разные эпохи и творил он в стилистике, более приемлемой для 50-60-х гг., а не для XXI века. Даже на фоне возникшей дискуссии о роли личности, думаю, вклад Бориса Федоровича в русскую культуру неоспорим. Он не был философом и методологом культуры, но по охвату тем он незаменим. Поэтому изучение наследия Бориса Федоровича — одна из ключевых задач русской культуры в Латвии. Есть еще один аспект, который, на мой взгляд, необходимо учитывать. За пределами Латвии все больший интерес проявляют к нашей русской культуре. Буквально через несколько дней после нашего семинара Татьяна Дмитриевна, Арнольд Андреевич, Олег Николаевич, Анатолий Тихонович, как я знаю, вы отправляетесь в Москву, в Дом Русского зарубежья со своей известной выставкой «Русские в Латвии». В нашем сегодняшнем семинаре участвует американский антрополог Александр Беляев, который профессионально занимается изучением русской культуры в Латвии, от бывших моих учеников я получаю письма с просьбой дать консультации, т.к. их заставляют писать рефераты о русской культуре в Латвии. Буквально три-четыре месяца назад у нас в Риге в связи с научной командировкой гостила доктор лингвистики из Эдинбурга Кристина Ужуле, специально собиравшая интервью о русской культуре в Латвии, из фонда российского политолога И. Бунина пару месяцев назад брали интервью по вопросу «Русская культура и предпринимательство». Русская культура востребована, но для ЧТЕНИЯ ГУМАНИТАРНОГО СЕМИНАРА 74 чего она необходима, в связи с чьими целями, планами, программами... это уже иной вопрос. Но вот если посмотреть, как она представлена хотя бы в российском информационном пространстве, было бы неплохо осознать нашу ответственность за такого рода образ русской культуры. Недавно я был в Москве на Всемирном дне философии и приобрел монографию, написанную доктором исторических наук, ректором РГГУ Е.И. Пивоваром «Российское зарубежье: социально-исторический феномен, роль и место в культурно-историческом наследии» (М.: РГГУ, 2008). Книга вызвала крайне неприятное впечатление. Не просто неряшливая монография, но еще и вписанная в идеологический контекст, и она будет определять представления российских студентов о русской культуре Латвии. Пусть лучше молодое поколение российских студентов ничего не знает о русской культуре в Латвии, чем будут повторять то, что позволил себе написать уважаемый ректор. Задача самопрезентации русской культуры в Латвии, то, что вы будете делать в связи с выставкой «Русские в Латвии» в Доме Русского Зарубежья — важная культурная и общественная задача. Вернемся к теме «Проблемы изучения биографии Бориса Федоровича Инфантьева». Позвольте задать вопрос: что, кроме опубликованных литературных, исторических, краеведческих, фольклорных материалов должно быть включено в биографические источники изучения творчества Бориса Федоровича Инфантьева? Борис Равдин: Не знаю, что сказать. Если говорить о материалах, то нужно смотреть Резекне, начало. Это важная часть биографии Бориса Федоровича, которая нам не совсем ясна. Например, если не ошибаюсь, Б.Ф. имеет отношение к известному советскому военному деятелю Венцову, уроженцу Резекне. М.б. стоит внимательнее отнестись к рассказам Б.Ф. о том, что его двоюродный дед по отцу — П. Инфантьев, — был командующим Туркестанcким военным округом. Что-то любопытное может найтись в архиве Латвийского университета. Но м.б. ключ к биографии Бориса Федоровича лежит не столько в материалах, сколько в том времени, через которое ему пришлось пройти. Мне кажется, что задуман был Борис Федорович замечательно. Замысел был хорош и в отношении талантов и способностей, и трудолюбия не занимать, и память замечательная, и неостываемая любознательность, и внешний вид соответствовал герою, который мог бы войти в пантеон деятелей русской культуры, и не только в местный пантеон. И здоровье, и голосовые данные, и жестикуляция, и мимика, независимая походка, не говоря уж о полноценном долголетии — все говорило о том, что природа позаботилась о Б.Ф. А исполнение, по независимым от Б.Ф. обстоятельствам, случилось не самое полнокровное. Он родился, жил на перекрестке русской, латышской, еврейской, немецкой культуры, на перекрестке политических эпох и культур. Считается, что перекресток — это хорошо. Но в случае с Б.Ф. — хорошо, да не очень, уж больно ветры сильные, сдувает. По-моему, Б.Ф. не смог окончательно сориентироваться — где же его место на этом самом перекрестке, точнее — так наз. ветры истории не позволили ему реализовать изначально заданный вектор. Его биография, если говорить о его научной биографии, на мой взгляд, оказалась смещенной историей, история ограничила его возможности в науке. Б.Ф. был человеком, который исповедовал — всякая власть от Бога, точнее, был, как и положено ученому, достаточно индифферентен к власти. Но власть не слишком заботилась о том, чтобы дать ученому работать в меру его сил, наоборот — только и занималась тем, что ограничивала его возможности. Сетка XX столетия наложилась на биографию Бориса Федоровича Инфантьева и испортила замысленную для него сверху карьеру. Б.Ф. сделал немало, но мог сделать куда больше. Конечно, мы нуждаемся в пантеоне, так сказать, местных деятелей культуры. Но мне кажется, что этот пантеон мы собираем не всегда в соответствии с теми требованиями, которые пантеон предлагает. Олег Пухляк: Нужно поднимать архивы и начинать с гимназии О. Беатер, в которой учился Б. Инфантьев. Наверное, там не много материала, но какие-то следы его ученической деятельности мы найдем. Татьяна Фейгмане: Я сомневаюсь, что архивы гимназии О. Беатер сохранились. Олег Пухляк: Я дополню. Моя дипломная работа называлась «Русские молодежные организации Латвии в 20-е и 30-е гг. XX века». Я пришел к выводу, что архивы существуют. Может быть не столь подробные, чтобы на каждого ученика получить подробную информацию... Татьяна то найти, Фейгмане: если очень Можно чтосильно повезет. Сергей Мазур: Какого рода документы можно обнаружить в этих школьных архивах? Олег Пухляк: Это могут быть различ- Стенографический отчет (15 декабря 2009 г.) XL Чтения гуманитарного семинара ные благодарности, грамоты, ведомости об успеваемости, прошения родителей. Мы в свое время делали выставку в Балтийском институте «Русские традиции в Латвии». При подготовке к выставке мы использовали рабочие ученические тетради, блокноты, адресные книги с пожеланиями были переданы Борисом Федоровичем на организацию этой выставки. Тогда мы надеялись создать Русский музей в Риге. Для музея создавался фонд источников, в том числе и Б. Инфантьевым. Борис Федорович был щедрым человеком, и его материалы в нашем городе обнаружили в разных руках, начиная от его статей, использовавшихся по-разному, в том числе и нечестно. Его студенты также могут стать одним из источников изучения биографии Б. Инфантьева. Русской тематикой я начал заниматься в университете уже после службы в армии и тогда же услышал о светоче русской культуры — Б. Инфантьеве. Случай познакомиться с Инфантьевым представился мне в 1995—96 гг., когда группа единомышленников искала возможность открыть общество, позволяющее академическим образом изучать историю русских в Латвии, т.к. было понятно, что университет в Латвии не будет заниматься интересующими нас темами. Мы столкнулись с идеей создания фонда славянской культуры и письменности. Как потом оказалось, один подобный фонд уже существовал в Риге и в нем уже предложили Борису Федоровичу стать президентом. Мне, не знаю точно почему, предложили место первого вице-президента фонда (в то время я еще не проявил себя выступлениями и публикациями). Олегу Вовку предложили место второго вице-президента, который, собственно, и должен был стать настоящим руководителем фонда. Именно тогда я узнал двор на Рупниецибас, в котором располагалось общество и где проходили его заседания. Борис Федорович серьезно воспринял предложение, но вместо работы в обществе пошла не совсем корректная борьба за власть, и мы столкнулись с тем, чем иногда бывает русская общественность в Латвии. Борис Федорович в этой ситуации проявил себя как настоящий интеллигент: не повышая голоса, заявил о выходе из этой организации. Мы решили создать новую структуру и в 1996 году юридически оформили Рижское славянское историческое общество. Первое большое дело, которое осуществили общество — провело юбилей Бориса Федоровича Инфантьева. Во время юбилея мы столкнулись с тем, 75 что Б. Федорович оказался кросс-культурной фигурой. В его 75-летнем юбилее участвовали не только русские, но и евреи и латыши... В Рижское славянском историческом обществе президентом был Борис Федорович, занимавшийся методической работой, черновую работу приходилось выполнять мне. Поражала глубина знаний... Историю я еще могу оценить, а лингвистические знания Бориса Федоровича уже по ту сторону моего понимания. В качестве примера позвольте рассказать одну историю. Однажды Борис Федорович достал документ XIII или XIV века о том, как русские и немецкие купцы находили друг с другом общий язык. Документ для историка очень ценный, и его Борис Федорович читал очень медленно. Мне показалась, что так и должен размеренно читать пожилой человек. Мне стало интересно, а чем заканчивается документ? Зашел со спины Бориса Федоровича и увидел печатный текст на латинском языке. Я тоже в университете учил латынь, но чтобы с листа читать и переводить на литературный язык... Переспросил — откуда вы так хорошо знаете латынь? На что Борис Федорович не меньше моего удивился. Ну, как же, в гимназии учили же латынь. Анатолий Ракитянский: Документы необходимо искать в Академии наук, в государственном архиве. Кроме того, надо упомянуть архив выступлений на радио. Частично документальные материалы хранятся в семье Инфантьева у его дочери Борис Равдин: Борис Федорович выступал на суде, который шел в Германии над военными преступниками из Латвии. Должны сохраниться протоколы судебных заседаний, материалы предварительного следствия. Б.Ф., он рассказывал мне об этом, выступал одним из экспертов на предварительном следствии по делу Юрия Ивановича Абызова, середина 1950-х гг. Давал экспертную оценку материалам, в основном частушкам, изъятым на обыске у Юрия Ивановича. Следствие квалифицировало эти материала как порнографические. Юрий Иванович настаивал на том, что эти материалы имеют фольклорный характер. Комиссия дала такую оценку — материалы являются фольклорными, но советскими учеными не изучаются. Где могут храниться документы? Так как суда не было, думаю, что и следственного дела также нет. Копии выписок по предварительному следствию хранятся и у меня... Елена Матьякубова: Сергей Александрович, 76 ЧТЕНИЯ ГУМАНИТАРНОГО СЕМИНАРА вы знаете, что дочь большую часть семейного архива передала в староверческое общество Латвии. Архив таким образом хранится в староверческом обществе. Он описан поверхностно, непрофессионально. К сожалению, Илларион Иванов не смог участвовать в сегодняшних Чтениях, он более подробно рассказал бы о проведенной ревизии архива. Я переговорила с Ириной Маркиной, директором программы «Управление культурой» Балтийской Международной Академии, и Людмилой Спроге — заведующей отделением славистики филологического факультета Латвийского университета. На сегодняшний день планируется дать студентам как исследовательскую работу полное описание архива Б. Инфантьева. Если мы делаем сейчас попытку обобщить какие-то материалы по биографии Б. Инфантьева, то тогда целенаправленно надо рассматривать биографические источники, пока параллельно будет идти серьезная работа по архиву. мощь, совершенно необходимая для подготовки серьезных академических сборников. Арнольд Подмазов: С Б. Инфантьевым я соприкасался только в последние годы его жизни, когда в рамках староверческого общества проходили семинары. Борис Федорович был председателем, а я секретарем этих семинаров. Надо сказать, что семинар при центре «Веди», начавшийся, кажется, с 1993 г., сам себя изжил. Он замышлялся не как просветительский, а как организационный семинар, на котором обсуждалось, что делать, какие конференции провести. Главный результат семинара в том, что по разработанным на нем программам прошел целый ряд конференций. Для Бориса Федоровича старообрядчество было далеко не первостепенной темой, но он эту тему знал почти досконально. Я вместе с ним был редактором двух больших тематических сборников, он как редактор обращал внимание на очень тонкие вещи. На последнем конгрессе по риторике он выбрал тему выступления — спор двух или трех рижских начетчиков с протестантским теологом. Для непосвященного рассказ не производит никакого впечатления. Собрались начетчики и поспорили с протестантским богословом. Но Борис Федорович увидел в тексте особенности быта того времени, менталитета и т.д. В тексте использовано обращение к начетчику «старчик», а не «старче». Старче — это старец, почти духовный мастер, а старчик — уничижительное название... Это всего лишь один эпизод, который сейчас могу вспомнить. Труды трудами, а у Бориса Федоровича их было более 500, но была еще такая деятельность как редактирование, методическая по- Анатолий Ракитянский: Б. Инфантьев часто шутил, что он — атеист. И это он говорил с серьезным видом. Попробуй определи, где правда, а где вымысел. Сергей Мазур: А известен ли дом, в котором родился Борис Федорович Инфантьев? Первый период, т.е. детство, связан с Резекне. В автобиографическом очерке большая часть воспоминаний посвящена церковной тематике. Но староверческие молельни маленький Борис не посещал, т.к. они находились далеко от его дома. Анатолий Ракитянский: Надо обратиться к семье, также должны знать дом Инфантьева резекненские краеведы, прежде всего историк старообрядчества Латгалии Владимир Никонов. Не следует забывать, что Борис Инфантьев работал долгие годы в рижской православной семинарии. Сергей Мазур: Борис Федорович очень плохо отзывался о православной семинарии. Арнольд Подмазов: Позвольте рассказать один факт из биографии Б. Инфантьева. Борис Федорович неоднократно упоминал, что когда-то по поводу И.Н. Заволоко от ленинградских исследователей пришла петиция с просьбой помочь решить вопрос о его пенсии. Вице-президент Академии наук Латвийской ССР, академик АН ЛатССР П. И. Валескалн не знал о Заволоко ничего и попросил Инфантьева дать пояснительную справку об этом человеке. Одновременно то же самое задание он отправил в наш институт, и оно попало ко мне и к уже покойному З.В. Балевицу. Мы написали. И наш ответ Валескалну пришел вместе с запиской Инфантьева. Борис Федорович расписывает, какой большой ученый Заволоко. Мы тоже написали о Заволоко как большом ученом с просьбой повысить пенсию. Правда, из наших усилий ничего, к сожалению, не получилось. После этого эпизода прошло много времени. Мы вынуждены были переезжать из одного места в другое. Я недавно разбирал какие-то свои бумаги и нашел ответ на запрос Валескална. Там из двух страниц машинописного текста сохранилась лишь последняя страница, то что я обнаружил. Там ссылка на письмо и разъяснение Инфантьева. Мы там хвалим, хвалим Заволоко. Дальше наша фраза — «...нужно отметить, Стенографический отчет (15 декабря 2009 г.) XL Чтения гуманитарного семинара что многоуважаемый товарищ Инфантьев относительно оценки Заволоко допустил одну ошибку. Заволоко к атеистической пропаганде, как пишет Инфантьев, никогда не привлекался». (Громкий смех...) То есть Борис Федорович настолько хвалил Заволоко, что приписал ему лишнее, чего никогда вообще-то и не было, как мы знаем. Борис Равдин: Боюсь, что сбор материалов, посвященных Борису Федоровичу Инфантьеву, грозит неожиданностями, которые не так легко будет объяснить. Я думаю, что он из презрения к государственной идеологии мог в бумажном виде такую хвалу им воздать, что придется почесать всем нам в затылке. Сергей Мазур: Борис Анатольевич, вы специально занимаетесь немецким периодом в истории Латвии. Где могут сохраниться документы, рассказывающие о Борисе Федоровиче? Борис Равдин: Трудно сказать, еще труднее найти. Многое погибло, какие-то бумаги того времени сохранились в Риге, но, в основном, искать надо в Германии, хотя — что найдем, что может найтись? Думаю, какие-то формальные сведения, не более. Что мы хотим получить из биографии Бориса Федоровича? Мне кажется, что его биографию никак нельзя оторвать от времени, в котором он жил. Потому что его биография — это история времени, — оно его накрывало, укрывало, подавляло, эксплуатировало и Бог знает, как с ним обходилось. Повторюсь, Б.Ф. относился ко времени индифферентно, но время отнеслось к нему довольно пристрастно, в соответствии со своими корыстными интересами . Что мы хотим получить в итоге? Биографию человека или биографию человека, отраженного во времени? Что? Игорь Ватолин: У меня краткая реплика. У меня есть аудиозаписи бесед с Борисом Федоровичем, которые не были использованы в газете. Их я могу распечатать и предоставить для публикации в Альманахе. Поэт В. Маяковский сказал — я поэт и тем интересен. Борис Федорович был исследователь русской культуры и тем был интересен, в этом его биография. Тут начинается самое интересное. Во-первых, насколько деятельность Б. Инфантьева как исследователя является значимой и важной? Для русских Латвии, тех, кто его знал — несомненно. Он локализовал универсальные знания или он совершил какие-то открытия? Это может сказать 77 только фольклорист. Это вопрос, кого можно привлечь к экспертизе наследия Б. Инфантьева, когда оно будет собрано. Другой вопрос, насколько будет истинна любая экспертиза? Другой момент, когда ты упомянул ректора РГГУ Е. Пивовара с его концепцией о Русском зарубежье как России-2 — это методологический и рефлексивный момент в этой ситуации, что биография всегда пишется из потребностей времени. Одно дело, собрать материалы позитивистски и опубликовать. Но возникает вопрос, а зачем? Это вопрос о смысле, вопрос о социальном заказе на написание биографии Б. Инфантьева. В рамках какого проекта востребован образ Б. Инфантьева и его наследия? Мы не сможем ответить на этот вопрос, пока не поймем, что такое Латвия и что такое русская Латвия вообще. В рамках проекта Е. Пивовара, согласно которому все, кто говорят на русском языке — россияне, даже если по тем или иным причинам оказавшиеся в рассеянии. Сакральный центр — в Москве, в который всех, кто в рассеянии, туда влечет (в этом смысл проекта «Росссия-2»), тогда как Б. Инфантьев с его мультикультурностью и сложностями биографии мало интересен. Если мы говорим о другом проекте, если мы говорим о том, что есть альтернативная русскость, которая не сводится к концепции российского рассеяния... Да и сколько надо прожить в рассеянии, чтобы приобрести самобытные черты? Вот в таком измерении биография Бориса Федоровича может стать смыслообразующей, а он культовой фигурой, патриархом альтернативной русскости вне России в русской Европе или в русской Латвии. Елена Матьякубова: Для меня существенный вопрос, зачем мы с вами это делаем? Есть ли у нас определенный политический, этический, педагогический, общественный заказ на эту работу или это порыв души отметить незаслуженно забытого человека? Тоже считаю, что на этот вопрос ответить надо тем, кто разрабатывает эту деятельность. Я сейчас начну задавать провокационные вопросы. На одном из Советов семинара разразился спор между Павлом Тюриным и Гарри Гайлитом. Гайлит утверждал, что Инфантьев не заслуживает внимания гуманитарного семинара, но с ним не соглашался Павел Тюрин. То есть у людей сложились разные оценки Бориса Инфантьева. Неоднократно у специалистов Латвийского университета просила дать оценку Б. Инфантьеву, признаюсь, каждый раз получала разную оценку значимости его научного вклада. Поэтому при экспертизе оценки могут быть неоднозначными. Еще 78 один аспект. Личностью, научным наследием, биографией Инфантьева занимается несколько групп. В этом году посмертно Борису Федоровичу вручена премия 2009 г. «Признание». Балтийская Международная Академия решила поддерживать семью Инфантьева, также учредила стипендию имени Инфантьева и конкурс студенческих научных работ. Другое — это деятельность староверческого общества, которое тоже возложило на себя определенную миссию, связанную с архивом Б. Инфантьева. Третья фигура — это Сергей Мазур, который на своих семинарах также раскрывает данную тему. Не имеет ли смысла координировать действия по изучению творчества Б. Инфантьева? Мы делаем общественно важное дело, т.к. личность Инфантьева остается кросс-культурной по своему характеру. Показательно выступление Бориса Равдина, когда он задает вопрос, насколько реализовал свои жизненные цели Б. Инфантьев? Сергей Мазур: Позвольте по этому вопросу изложить собственное мнение. Мне представляется замечательным явлением наличие хоть каких-то групп в Латвии, причем разных групп, занимающихся собиранием наследия Бориса Федоровича. Споры могли бы возникнуть в ситуации финансирования проекта сохранения наследия Б. Инфантьева. Тогда деятельность групп можно было бы изобразить как конкуренцию, борьбу за денежное вознаграждение. У нас нет такой ситуации, т.к. изучение наследия Бориса Федоровича — добровольное и безвозмездное дело. Почему для меня важен сегодняшний семинар? Потому что тема сохранения наследия Б. Инфантьева должна оставаться актуальной. Сама встреча, споры показывают актуальность наших усилий. Каждый работает с теми материалами, которыми располагает. Никто не заменит и не выполнит работу за Олега Пухляка, не будет описывать докумен- ЧТЕНИЯ ГУМАНИТАРНОГО СЕМИНАРА ты в архиве, оказавшиеся в староверческом обществе Латвии. Наши встречи могут проходить под любой эгидой — SEMINARIUM'а или под эгидой БМА. Но главное в том, чтобы беспамятство не заслонило образ Бориса Федоровича Инфантьева. Конечно, образ Бориса Федоровича будет «работать» на тот проект, о котором беспокоится Игорь Ватолин, т.е. указывать на самобытность, богатство русской культуры в Латвии. Несмотря на то, что существуют разные оценки наследия Бориса Федоровича, для меня он останется прежде всего моим учителем, которого я хотел бы помнить очень долго, личностью, до момента смерти соединявшей два разных поколения русских людей в Латвии — одних, живших в Первой республике, других – живущих ныне, в том числе он был чуть ли не единственным исследователем русско-латышских культурных связей. Его последний труд «Миф о русских в латышской литературе» до сих пор не то, чтобы оценен, но не прочитан даже по отдельным публикациям в Альманахе. Борис Федорович — первый русский профессиональный фольклорист. Вспомним фрагмент из его автобиографии. Во время войны в Латвийском университете Борис Федорович получил благословение на дальнейшую академическую деятельность от профессора Лудиса Берзиня, ассистента профессора Карлиса Дравиньша, обратившегося к Инфантьеву во время занятий со следующими словами: «На нашем семинаре побывали и литовцы, и немцы, и евреи, русские же — впервые. Поэтому пусть ничем я не планирую в дальнейшем заниматься, как изучением русско-латышских фольклорных контактов». Проблему я вижу в том, что при жизни первые серьезные статьи по фольклору Борису Федоровичу удалось опубликовать лишь в очень преклонном 75-летнем возрасте. Хотелось бы, чтобы после смерти нашего выдающегося соотечественника его наследие не было бы предано забвению. LII Чтения гуманитарного семинара «Модернизм и постмодернизм в музыке второй половины XX века» 79 LII Чтения гуманитарного семинара с участием музыковеда, Dr. art, профессора Рижской Академии педагогики и управления высшим образованием Бориса Аврамца, редактора программы “Классика” на Радио-3 Маруты Рубезе, докторанта РГГУ Алексея Романова на тему: Модернизм и постмодернизм в музыке второй половины XX века Алексей Романов: Господа, мы начинаем LII Чтения. У нас сегодня первый из трех семинаров, посвященный современной музыке. С Борисом Аврамцом мы уже были знакомы по предыдущим семинарам в прошлом году. Их было четыре. Сегодня первый семинар по современной музыке. Тему вы видели. Она вывешена на сайте и на сайте же материалы к сегодняшним Чтениям. Работаем мы следующим образом. Как всегда первая половина — это изложение материала Бориса Александровича и Мариты Рубезе, музыколога с радио Klasika. Я полагаю, все прекрасно знают эту радиостанцию. После перерыва обычно у нас докладчики отвечают на вопросы аудитории, но поскольку сегодня нам кроме речи выступающего еще предстоит прослушать и фонограммы, а это займет время, потому посмотрим, что у нас будет со временем во второй части и будем исходя из этого сообразовываться. Будучи историком философии, позволю себе некоторое историко-философское введение в проблематику современной музыки. Дело в том, что музыка существенно отличается от всех других видов искусства. У музыки судьба совершенно иная. А именно в том отношении, что музыка в Античности и для последующей европейской культуры возникает как философская дисциплина, то есть музыкальная практика это одновременно практика философская — ни у одного искусства такого соединения вы не найдете. Более того, музыка как философская подготовка входит в перечень дисциплин квадривия. Я надеюсь, вы понимаете, что такое квадривий, перечислять эти дисциплины я не буду. И вплоть до XVIII века эта университетская программа по философской и богословской подготовке сохраняется в Европе. Вот что такое, господа, музыка. То есть это способ познания, способ мышления, точно такой же, как и вербальный, как и словесный. А что познает человек? Он познает, говоря языком архаическим, свою душу и космические законы вселенной, не больше и не меньше. Музыка как философская дисциплина претерпела серьезные изменения только с XVIII и по XIX век — в этот период мы не найдем музыкантов и философов в одном лице. Если я ошибаюсь, то музыковеды меня поправят, я с удовольствием эту поправку выслушаю. Однако именно в модернизме музыка и философия вновь соединяются — философ и практикующий музыкант. Я могу назвать много имен от Скрябина до Штокгаузена... какая философия, это уже другое дело, но тем не менее композитор чувствует необходимость вернуться к музыке как к методу познания, как к способу мышления. И вот модернизм... кстати, очень содержательная статья вывешена на сайте, которая говорит об интересных перипетиях в истории этого термина и этого музыкального явления, модернизма и постмодернизма, там эти перипетии достаточно ясно и четко формулируются. Еще для понимания этого явления важно, что в период модернизма и в живописи возникает философия, чего вплоть до Ренессанса, если смотреть назад, мы ничего такого не найдем. В Новое время живопись и музыка из философии исчезают и вновь становятся философскими только в модернизме. То есть звучание — это не развлечение, это не эстрада, разделяющая музыкальную практику на исполнителей-артистов и пассивных слушателей, как это было в XVIII—XIX веках. Это было нормально для периода романтизма и классицизма. В модернизме музыка — это уже лаборатория мыслителя, философа или исследователя, ученого, и слушая такую музыку, от нас требуется хорошая предварительная и самостоятельная подготовка. Это не развлечение вроде всем известной так называемой «попсы», отчасти сходное с ожидаемыми возбуждением и аффектом при слушании произведений романтического 80 и классицистического периода. Однако я на этом остановлюсь, чтобы не наговорить глупостей, и передаю слово Борису Александровичу. Борис Аврамец: Добрый день, рад вас видеть. Насчет извинений, это относится к аппаратуре. Дело в том, что у нас такая традиция, на Чтениях, посвященных музыке, организаторы, и я в том числе, мы стараемся делать так, чтобы не только были разговоры о музыке, но и звучала музыка сама. Вы хорошо помните, прежде, когда были музыканты. Но сегодня по ряду причин этого не получилось, и я захватил записи. Но чтобы записи звучали достаточно хорошо, нужна качественная аппаратура. Здесь из-за нестыковок организационных не получилось достать приличную акустику. Этот аппарат (указывает на CD-проигрыватель) не самый плохой, но это переносной аппарат, чтобы слушать поп-музыку, а то, что я намерен сегодня показать, это музыка очень сложная, сложная даже в акустическом плане. Даже осмелюсь утверждать, что здесь даже требования к аппаратуре более серьезные, чем если бы слушать даже шопеновские прелюдии, где ничего такого по звучанию невероятного нет. А сегодня, если вы читали тезисы, сегодня поговорим немножечко о таком направлении в современной музыке, как спектральная музыка. И даже само название — спектральная, оно сразу отсылает к акустике, к математике, к физике, это говоря о том, что там звучит, это выражается в невероятно тонких дифференцированных звучаниях. И чтобы звучало так, как надо, нужна соответствующая аппаратура. Я не обольщаюсь, если даже миницентр Hi Fi, это тоже далеко не то, что должно по-настоящему звучать, но это лучше, чем с этим аппаратом. Еще, если говорить об изменениях, некоторое предупреждение: я знаю, что у большинства есть хорошая привычка перед семинарами заходить на интернет-страничку и читать не только тезисы, но и разные материалы. Алексей упомянул прекрасную статью, которую я решил вывесить на этом сайте. Я не знаю, как тут с авторскими правами, может быть не очень позволительно. Дело в том, что и статья «Модернизм», и статья «Постмодернизм», и статья «Спектральная музыка» по-английски, как вы заметили, я их взял из великолепнейшей, международной по сути лучшей на сегодняшний день в мире музыкальной энциклопедии. Энциклопедия опубликована на бумаге, поанглийски и все ее содержание, причем содержание уже давно в электронном виде более обширное, чем в бумажном варианте, причем, ЧТЕНИЯ ГУМАНИТАРНОГО СЕМИНАРА что напечатали в 2001 году, то и есть большого объема 29 больших томов по тысяче страниц мелким шрифтом большого формата. Время идет вперед, музыка развивается и исследования продолжаются. И чем удобна эта форма, электронная, там регулярно можно пополнять, что нужно исправлять, что нужно добавлять, и пишутся даже новые статьи. Так что касается электронной версии, это, во-первых, платный ресурс, и просто войти, сидя у домашнего компьютера, на работе — не получится. Есть места в Риге, если есть желание, можно после перерыва, когда будет более свободная дискуссия, могу вам рассказать, где в Риге можно получить бесплатный доступ, легальный. Могу сразу назвать — это национальная библиотека, в частности, музыкальный отдел, в читальном зале, даже четыре компьютера, которые предназначены посетителям библиотеки, читателям. И там можно неограниченно и читать, цитировать, и пересылать материалы на свой электронный адрес, и дальше что можно делать? Читать, цитировать, распечатывать, но нельзя публиковать. Статья очень интересная, очень качественная. Не зря Алексей ее хвалил. И еще, тезисы все прочитали? Список литературы, который тоже приложен, вы видели? Один из вопросов можно прокомментировать. Что касается материалов, которые вывешены, то тут нужно предупредить о том, что один из материалов, а именно: статья Яблонской с довольно длинным названием «Медитация…» и так далее появилась независимо от меня, не по моей инициативе. И статья эта — не самое лучшее, что можно рекомендовать. Поэтому заранее хочу предупредить: я за то, что написано, не отвечаю, боле того, ко всему отношусь весьма критически, и еще лучше — вам бы эту статью лучше и не читать, потому что то, что там сказано, может сбить с толку. Там есть и ляпы, есть и неточности, и в музыкальной части опора не на самых лучших авторов. Эта статья будет убрана, мы согласовали с руководством семинара, никого смущать она не будет. Если кто успел ее скачать или распечатать, лучше ее не читать. Почему, это особый разговор, могу только сказать, что по ряду объективных и субъективных причин бывшее советское, а ныне российское музыкознание пребывает в довольно неважном состоянии. Там по-прежнему очень большая оторванность от того, что сделано и делается в мировой науке, там доморощенные концепции, сумбур и прочее, прочее. Я ничего не преувеличиваю, поверьте, что так оно и есть, поэтому, когда я составляю список литературы для студентов, я очень осторожно к этому отно- LII Чтения гуманитарного семинара «Модернизм и постмодернизм в музыке второй половины XX века» шусь. И стараюсь ничего такого, где есть позитивные моменты и негативные, лучше вообще не давать, потому что человек начинающий, как он разберется, как он сможет отличить, что там толковое, а что бестолковое? Поэтому со статьей Яблонской дело обстоит именно так. Извините за затянувшееся вступление. Теперь хочу перейти к сути темы. Когда мы с Сергеем, а инициатива принадлежит Сергею, говоря о прочтении музыки, обсуждали, что бы было интересно вам и как это делать, у меня постепенно возникло такое представление, что стоит поговорить о разных явлениях, разных вещах. В следующий раз, когда мы будем говорить о музыке, я надеюсь, удастся пригласить в Ригу прекрасного композитора из Москвы, даже могу назвать имя. Может кому-то оно известно, может, кому-то нет, есть такой композитор в Москве, Владимир Тарнопольский. Он профессор Московской консерватории, заведующий кафедрой композиции. Это очень важное обстоятельство, потому что традиционно, так сложилось десятилетиями, на кафедре композиции люди очень консервативны, а Тарнопольский не таков. По его инициативе возник и существует до сих пор центр музыки Московской консерватории. Он сделал много, чтобы ознакомить и музыкантов и не музыкантов с тем, что сегодня происходит в музыке. Человек очень эрудированный, контактный. Он человек очень занятой, но надеюсь его сюда пригласить. Еще позже, я думаю, если ни у кого не будет возражений, мы хотим поговорить о том, что сейчас пишут наши композиторы, что происходит сейчас в латышской музыке, а происходят замечательные вещи. Можно сказать, что есть уже два поколения молодых композиторов, композиторов разнообразных, ярких, они абсолютно не страдают ни провинциализмом, ни комплексами неполноценности, которые в советской время зачастую были. И идея такая, чтобы поговорить об этом и пригласить музыкантов, чтобы здесь что-то прозвучало, и пригласим еще кого-то из молодого поколения композиторов. А для того, чтобы вас в какой-то мере к этому подготовить, я уже давно понял, что надо начать с некоего введения. Вот сейчас это самое введение. Это с одной стороны. С другой стороны даже в теме есть такие важные термины как модернизм, постмодернизм; я не хочу, чтобы это смущало хотя бы часть здесь находящихся, поэтому мы можем все эластично здесь строить. Хотите, можем больше поговорить о весьма сложной проблематике, культурологической, в какой-то части философской, историко-куль- 81 турной. Хотите, больше можем говорить о музыке, а у меня на самом деле было намерение, и сейчас эта задача сохраняется, поговорить скорее о месте, которое музыка сейчас занимает в нашей жизни, и наоборот, о месте, которое мы занимаем в этой музыке. Потому что здесь, я глубоко убежден, масса проблем и сложностей. И это особенно касается вот здесь живущих, и, увы, касается той части, которые живут и говорят по-русски. Вспомните, я как-то в одной дискуссии упомянул весьма печальный факт, причем это не только моя субъективная интерпретация, а это постоянно подтверждается тем, что я наблюдаю. В Риге весьма хорошая интенсивная музыкальная жизнь, то и дело проходят великолепнейшие концерты, зачастую выступают мастера международного мирового класса. И на этих концертах стало редкостью и даже начинаешь удивляться, когда слышишь русскую речь. Зал полный, сейчас, в кризис особенно, люди очень охотно ходят на концерты и слушают очень сложные программы, но там чаще всего звучит латышская речь, очень часто шведская, немецкая, английская, но не русская. Вряд ли русские маскируются и говорят по-шведски, когда приходят на симфонические концерты, я сомневаюсь. И это не случайное стечение обстоятельств, это отражение весьма глубоких тенденций, именно об этом я хотел говорить сегодня. Причем не для того, чтобы стыдить, даже вот об этом я написал в тезисах, есть расхожее мнение, что настоящая подлинная музыка уже кончилась, если говорить о творчестве, о создании новой музыки. Для некоторых людей, настоящих любителей музыки, настоящая музыка кончилась Рахманиновым, для кого-то на Мессиане, но факт этот совершенно очевиден и бесспорен, увы. Современные люди, особенно люди культурные, люди активные, живущие здесь у нас, живущие на всем постсоветском пространстве, они, сами того не замечая, оказались в большой изоляции от изрядной части современной музыки, от того, что называют музыкой серьезной, классической. Все эти дефиниции не точны, ненаучны, естественно, но чтобы было понятнее, речь идет не о джазе, а о музыке другого рода, которую и создают, и исполняют специально обученные профессионалы. Раньше в прежние эпохи не было особенно больших проблем, и всегда находились люди, непрофессиональные музыканты, которые могли эту музыку не просто воспринимать, они ее искали, они в ней нуждались, они не могли даже помыслить, как можно жить без того, чтобы регулярно эту музыку не слушать. Да, конечно, 82 раньше в прошлом этими людьми были аристократы. И эта музыка, о которой идет речь, она по сути своей явление элитарное. Сейчас вряд ли мы начнем дискуссию о том, хорошо это или плохо, мнение и отношение к этому феномену менялись. Были времена, когда про элитарность говорили, что это очень хорошо, потом были времена, особенно в советские годы, когда элитарность было бранное слово. Сейчас после постмодернизма вообще ничего непонятно. С одной стороны очень хорошо, каждый может верить в то, что ему нравится и никаких претензий, то есть плюрализм в кубе. Но тем не менее, и с этим приходится считаться, что прикосновение к настоящему, подлинному, к глубокой, серьезной музыке, оно все-таки предполагает некоторую подготовку — раз, и потом главное акт слушания, восприятия, он всегда так или иначе серьезно сопряжен с серьезной внутренней работой. А мы знаем, что современная жизнь, современное общество так ориентирует людей, чтобы они усилий употребляли меньше, все тебе в готовом виде присылается, попадает, даже жевать не надо. А с этой музыкой так не произойдет. Это с одной стороны общие причины. Но было бы наивно полагать, что так обстоят дела везде. Как ни странно, эту современную академическую, серьезную музыку очень охотно слушают очень многие люди и в Швеции, и в Финляндии, и в Германии, и даже в Штатах, к большой неожиданности, потому что европейцы по инерции привыкли считать, что Америка — страна почти бескультурная. Да, богатая, активная, люди предприимчивые, сумели создать супермощную индустрию музыкальной культуры, а вот самой музыкальной культуры у них нет. Все обстоит не так, а совсем наоборот: там очень серьезные, большие слои общества, это не просто люди, которые приобщены к культуре — они ею живут, они эту музыку благополучно слушают в концертах, и сегодня благодаря интернету можно многое чего услышать... даже у нас в Риге, даже не выходя из дома. Так же точно в музыке можно через интернет найти программу нашего радио Klasika, можно слушать в живом режиме, а не в архивированной записи замечательную нью-йоркскую радиостанцию классической музыки. У них две программы одновременно звучат в эфире, звучат параллельно. Вот в одной из этих программ они постоянно передают музыку, созданную буквально за последние лет тридцать, хотя не только. У них есть замечательная музыка за последние 500 лет, то был ренессанс, то барокко, то ЧТЕНИЯ ГУМАНИТАРНОГО СЕМИНАРА ранний классицизм, но в основном вот... с пылу с жару — свеженькая музыка. Теперь говоря о причинах такого печального явления, когда люди оказываются как бы в чем-то без музыки определенного качества, определенного рода... Это можно по-разному трактовать. Можно трагически переживать, что музыка нас покинула, куда-то ушла, улетела, и больше ее нет. Можно по-другому трактовать: а может мы сами то ли за ней не поспеваем и отстали, то ли пошли в другом направлении? Но, увы, это так, это факт. И для начала я хотел бы обратить ваше внимание на то, о чем бы я хотел, в принципе... в тезисах написано тоже... Прежде, в прежние эпохи все было абсолютно иначе, даже 100 лет назад. Любой уважающий себя член общества, а как вы знаете, к обществу принадлежали далеко не все, само собой - адвокат, само собой — предприниматель... но даже лавочник не стал бы себя уважать, если бы не покупал себе билеты в оперу, а еще лучше абонемент в оперу. Любой гимназический учитель не мог себе представить, что на очередной вечеринке, а если на бал пошел, то тем более, он не будет в состоянии что-то сказать по поводу последней симфонии Чайковского, о которой пишут все газеты. Это была пища для разговора, это было то же самое, как спектакли театральные или рассказы Чехова или романы Бальзака. Музыка — необходимая, составная часть культурного обихода. К чему по существу это приводило? — в общем-то к лицемерию. Человек эту музыку терпеть не может, по крайней мере не получает от нее никакого удовольствия, а ему надо быть как все и поэтому он ходит регулярно в те же симфонические собрания и на все оперные премьеры. Так, кстати, во многом сегодня устроена жизнь в Штатах. В Соединенных Штатах Америки давно добились такого состояния, что уже более 30 лет существует и действует симфонических оркестров больше, чем во всем мире вместе взятых, включая Голландию, Германию, Францию и так далее. Причем американцы настолько прагматичны и трезвы — не принято, чтобы оркестр играл в пустом зале, — артисты играют в полных залах. Попробуйте так сами подумать, откуда берутся все эти люди, которые ходят на концерты? Там целый ряд причин: воспитание, традиции, статус. Если человек начинает заниматься бизнесом и у него идут хорошо дела, его не будут всерьез воспринимать, когда он хочет подниматься по этой лесенке и попадать в более высокие слои, если он не ходит на концерты, если он не занимается благотворительностью — так до сих пор LII Чтения гуманитарного семинара «Модернизм и постмодернизм в музыке второй половины XX века» устроена их жизнь. И, конечно же, так уже давно сложилось. И незачем впадать в такую крайность и считать, что все там так замечательно и прекрасно. Часть посетителей концертов не такие уж страстные любители музыки. Но с другой стороны, что все-таки происходит? Регулярно ходя на концерт, они привыкают к этой музыке, и что-то постепенно начинает для них открываться. А учитывая тот факт, что многие ходят семьями... Если они детишек берут с собой, дети гораздо дальше могут продвинуться. Так что, возвращаясь к тому, как обстоят дела с музыкой современной, я хочу сказать, что все, о чем здесь пойдет речь, будь то имена, будь то произведения — это все реально звучит, реально слушается, появляется на дисках, об этом пишут критики, причем не только в узко специальных академических изданиях, но и в серьезных газетах, журналах. А сегодня эта музыка очень активно обсуждается на интернет-форумах, и будет неверно полагать, что если нам так кажется, так, как мы привыкли, то такова сейчас и ситуация в целом. Отнюдь. По ряду параметров ситуация у нас особенная, и особенная скорее со знаком минус. Тем более, что... я уже говорил сегодня, на концерты в Риге со сложной музыкой ходят и ходят очень охотно. Один только факт, хотя в принципе надо говорить о концептуальных вещах, но факт совершенно из реальной жизни: совсем недавно в середине января в Большой гильдии состоялся ставший уже традиционным ежегодный концерт симфонической музыки композиторов Латвии. Первый концерт сделали в опере. сейчас из-за кризиса, из-за большой цены аренды, сделали в Большой гильдии. Концерт очень сложный и правда — затратный, длинная программа, а разучить новое сочинение — это особая работа, отнимает много времени, и правильно решили организаторы — пригласили несколько коллективов, все симфонические оркестры, что есть в Латвии, а их три профессиональных, все играли в тот вечер, и национальный, и оперный, и Лиепайский оркестр, и еще Simfonietta Rīga. Программа была действительно достаточно сложная, там были даже две премьеры. Зал был практически полон, а в тот же самый вечер, это была суббота, в Forum Cinema сразу в двух залах шла прямая трансляция... не новой музыки м оперы «Кармен», из Метрополитен Опера, из Нью-Йорка. Почему полный зал? — причем билеты безумно дорогие, почти 15 лат билет стоит, — потому что там в главной роли наша певица — Элина Гаранча. Там этот фактор тоже сыграл свою роль, патриотизм, но тем не менее 83 два зала полных в тот вечер, один из них очень большой, почти 800 мест. Но столько было желающих, что потом уже сделали повтор, уже в записи, в воскресенье, два зала тоже были проданы за две недели, и еще в понедельник два раза. Я просто напоминаю, чтобы было более понятно, что люди у нас отнюдь не вне музыки находятся и музыка им нужна. Ведь нашлось достаточно много людей, чтобы пришли на большой концерт в таком огромном количестве. И вот еще один важный факт — сосем недавно в новом концертном зале, в котором, помните, я однажды упомянул — около рынка Центрального, почти на берегу Даугавы, один из этих лабазов, складских больших зданий крепкого кирпича, там 1 октября открылся для публики концертный зал новый, по-латышски называется Spiķeris. И там на днях был потрясающе качественный концерт — пела вокальная группа радиохора — голос плюс электроника. Там звучали сочинения и зарубежных композиторов, и две премьеры — сочинения наших композиторов. Причем одно из сочинений будет хитом, его будут исполнять во всем мире, композитора зовут Эрик Эшенвальдс. И естественно, что те, кто регулярно ходит на концерты, уже болееменее знают... мест там не очень много, но было битком — 250-300 человек. По-моему, я там встретил двоих русскоговорящих. Я полагаю, что статистика удручающая, если вспомнить, что до сих пор в Риге русских больше половины, раньше было 2/3. Но это все для затравки. Теперь немножечко о том, о чем необходимо сказать очень определенно, и Алексей уже частично сказал. То, что произошло на протяжении ХХ века с музыкой, это очень серьезное событие. Результатов много. Один из результатов заключается в том, что сегодня музыка... не скажу, что полностью музыка раздроблена, но очень разная и разнообразная. Прежде такого не было, вот если мы говорим о западной культуре, о европейской музыке, причем музыки сложной и по выделке, и по смыслу, и по содержанию. Прежде все было во многом гораздо и гораздо проще. Менялись эпохи, менялись принципы музыкального языка, менялось музыкальное мышление, менялись вкусы. Но если возьмем каждую эпоху в отдельности, там все было более-менее просто и понятно. Вот так называемое барокко, правда, тогда так никто не называл это время, а это вторая половина XVII века. Музыка разнообразная, яркая, сложная, но глубинные принципы устройства этой музыки едины, те же самые. Эпоха романтической музыки — то 84 же самое. А в ХХ веке, особенно во II половине ХХ века даже близко к этому нет. Сосуществуют разные системы музыкального мышления, разные системы принципов музыкального языка как разные музыкальные миры. Большая часть профессиональных музыкантов в состоянии перемещаться между этими мирами. Более того, все мы, любой, даже совершенно неискушенный слушатель, все равно умеет какие-то кнопочки нажимать и то услышит джаз, то услышит рок-группу, то услышит рэпера, и у него реакция более-менее адекватная, хотя это разные по устройству типы музыки. А потом если вдруг услышит «Щелкунчика» Чайковского или Баха органную прелюдию, тоже все правильно происходит. Одно дело, если мы говорим о разных сферах музыки, родах музыки, эпохе, другое дело, если говорим о чем-то как бы едином и как бы единообразном, единообразной серьезной академической музыке. Так вот сегодня ситуация такова, что тут уже одного единства нет и сосуществуют абсолютно разные по сути типы музыки. Тут можно говорить, и так и говорят, что идет развитие в разных направлениях. Почему я об этом рассказываю? Да потому, что... и к тому же всего этого очень много, и к тому же, что для многих является совершенно не очевидной вещью, в каждом из этих направлений мы можем найти истинные шедевры. И там работают выдающиеся мастера, а может быть даже их в свое время будут называть великими мастерами. И еще один посыл изначальный, как введение... Когда проходят занятия Чтений, этот посыл заключается в том, я хочу поспешить поделиться такой радостной новостью, что музыка не только не умерла, но что по-прежнему создается великая музыка. И что и в ХХ веке, и даже недавно ушедшие, и даже сейчас живут наши современники, есть великие композиторы, которых абсолютно без всяких проблем можем называть рядом с величайшими композиторами прошлого. Мы не в Италии, слава Богу, в Италии меня стали бы забрасывать помидорами, потому что для музыкантов, для любителей музыки это уже нечто кощунственное вот такое сказать. Особенно учитывая, что для многих людей само понятие современная музыка ассоциируется с чем-то крайне неприятным, а тут такие заявления... Но вот поверьте мне, ситуация именно такая, ничего тут не преувеличиваю. Понимаете, человеку, который жил когдато в Советском Союзе, особенно трудно к этому привыкнуть, потому что это было частью идео- ЧТЕНИЯ ГУМАНИТАРНОГО СЕМИНАРА логической обработки советского человека, когда постоянно говорили о непрекращающемся и все углубляющемся кризисе культуры на Западе, что все там ужасно, распадается, гниет — и тут вот такие утверждения. Но начнем с того, что часть замечательных композиторов жили в России или совсем недалеко от нас жили — Арво Пярт, всем известный автор, великолепный композитор. Он вырос недалеко от нас, стал композитором, живущим в Таллинне. Но все-таки большая часть этих имен, которые, как я полагаю, должен знать каждый культурный человек — это имена иностранцев. Сейчас можем небольшой эксперимент провести, я назову несколько имен, и вот интересно, у скольких из вас возникнет хотя бы реакция узнавания. Итак, начнем. Джонатан Харви (J. Harvey), 1939 года рождения, можете поднять руку, кто знает этого английского композитора, слушал его музыку, в прошлом году у него был юбилей, 70 лет. Поразительный композитор, у меня есть с собой диск одной его композиции. Между прочим, Джонатан Харви был в Риге. В Риге был фестиваль «Арена», где половина программы была посвящена его сочинениям, это было полтора года назад, совсем недавно – феноменальный композитор. Дальше, еще одно имя — Анри Дютийе (H. Dutilleux). Ну, здесь-то я ничего особенного не ожидаю, потому что большинство профессиональных музыкантов, с кем я лично знаком, этого имени не знают и не слышали — Анри Дютийе. Знаете, тут очень интересная вещь, я уже давно понял, что это не случайно. Есть такая плеяда композиторов, которые живут, живут и живут, умирать не собираются и продолжают писать феноменальную музыку. Анри Дютийе 1916 года рождения, посчитайте, сколько сейчас ему лет. У меня с собой есть диск с его музыкой. Естественно, эту музыку желательно слушать в живом исполнении, а не в записи, тем более не на таком аппарате. Поверьте мне, это великий композитор, без всяких преувеличений, без всяких скидок, наш современник. Еще одно имя — Эллиотт Картер — великий американец. Тут вообще особенный случай. Он 1908 года рождения. Ему будет 102 года. Живет, пишет, путешествует. Они большие друзья еще с одним выдающимся музыкантом, который не только великий композитор, но и дирижер. Есть такой французский композитор Булез (P. Boulez), я думаю, вы слышали это имя. Булез его младше. Но они давно сдружились, а поскольку то у одного, то у другого были большие юбилеи, они стали друг друга поздравлять через океан. Я сегодня не принес его записи, LII Чтения гуманитарного семинара «Модернизм и постмодернизм в музыке второй половины XX века» зато принес, это редкий очень случай, когда порусски что-то издано — сборник его статей. Это я его включил в список литературы. Обратите внимание, я пока произношу только живущих композиторов, хотя, увы, совсем недавно, буквально на протяжении нескольких лет ушли уже несколько великих мастеров. Один из них, надеюсь, вы знаете его имя — итальянец, Лучано Берио. Его музыка звучала в Риге неоднократно. Еще один — это грек, всю жизнь прожил в Париже и работал там. Кстати, он был тем, что говорил Алексей, и философом, и математиком, да еще и архитектором — Янис Ксенакис. Я называю тех, кто недавно умер, в ближайшие годы. Упоминавшийся Алексеем немец Карлхайнц Штокхаузен тоже совсем недавно умер, 1928 года он. Еще один из недавно ушедших, композитор, с чьей музыки мы можем начать слушанье, японский композитор Торо Такемицу. Причем о живущих труднее так категорически оценочные суждения формулировать. Скажем, про Харви далеко не все сразу согласятся, что — да, да, это великий мастер. Но что касается умерших, то тут вообще однозначно. Это уже как бы устоявшееся мнение. И Такемицу — великий композитор. И Берио великий композитор. Штокхаузен великий композитор. Картер, хотя и живой, но уже давно в классиках ходит. И вот подумайте, то, что я уже написал в тезисах... хоть однажды у вас была ситуация, где бы вы сталкивались с такими именами? У вас возникает хотя бы мимолетное ощущение внутренней неловкости: как же так, я живу, но имени никогда не знал, даже не слышал этой музыки? На самом деле мы давно уже к этому привыкли, и это свидетельствует об очень серьезных изменениях. Достаточно вспомнить, как это было 100-150 лет назад, когда любой образованный культурный интеллигент, просто человек общества не мог себе представить, что может быть поиному. Как жить и не знать музыки Чайковского, или Верди, или Брамса? Может, кто-то знает из истории музыки — скажем, во II-й половине XIX века практически вся образованная Европа разделилась на два лагеря: пробрамсианцы и вагнерианцы. Невероятные баталии происходили, споры, обиды, оскорбления даже. Казалось бы, что там делить? Музыка-то на самом деле отличается, но все равно принадлежит к одному типу музыки. А сейчас даже никому в голову и не придет, что можно серьезно с кемто спорить и кричать: мне Стив Райх больше нравится, чем Терри Райли и не навязыва мне своего Терри Райли! Вы знаете, кто такие Терри Райли и Стив Райх? Это величайшие американ- 85 ские композиторы-минималисты. Так что первая задача — это как бы призвать вас немножечко на это обратить внимание. Как мы дошли до жизни такой, что можем жить вообще вне музыки, вне музыки определенного типа, конечно. Попса-то звучит, никуда она не денется. А вот что с этой музыкой? А можно и дальше об этом думать. А что, после всего этого можно продолжать себя считать человеком культурным и интеллигентным? Музыка с незапамятных времен, со времен Древней Греции была одним из фундаментальных принципов, на которых зиждилось не просто образование, но делание личности. Я глубоко убежден, что ни музыка не переродилась, ни она не потеряла своего значения. В результате мы страдаем, что музыки нет у нас и рядом с нами. Но поскольку мы говорим уже долго, я предлагаю кое-что послушать. Времени мало, а я принес довольно много дисков, но мы всего не успеем. Я хочу поставить в качестве первого образца современной музыки сочинение японца, его зовут Тору Такемицу, родился в 1930 году, умер в 1996 году. Музыка, вы услышите, она очень красочная, очень тонкая и в принципе легко понимаемая, воспринимаемая по той простой причине, что он по велению сердца и потом сознательно очень в большой мере ориентировался на традиции французского музыкального импрессионизма, Дебюсси, Равеля, а потом даже и на более позднего французского великого мастера Оливье Мессиана. И поэтому здесь никаких ужасов не будет. Причем здесь довольно интересная вещь — японец-то он японец, но обратился к европейской музыке, европейское музыкальное мышление знал в совершенстве. Сейчас посмотрите, как он блестяще оркеструет — симфонический оркестр... хотя потом с годами он стал все больше и больше интересоваться и своими национальными традициями, японской музыкой. У него есть несколько сочинений, где сочетание: европейский симфонический оркестр и некоторые японские инструменты, но это уже особая статья, особый рассказ. Здесь, условно говоря, западная музыка, но написана японцем. Сочинение не так уж давно написано, 1985 год, два названия дал он этому сочинению, по-английски: «Dream» и «Window». Dream — это как мечта и как сон, Window — это окно. Вот послушаем... А потом нам Маруте что-нибудь скажет, вот об этой музыке, (к Маруте Рубезе), хорошо? (Звучит фонограмма Т. Такемицу Dream\Window) Вот краткий фрагмент... Еще раз хочу напомнить, что эта техника не позволяет нам услышать, как все на самом деле звучит... как 86 все обволакивается тончайшими звучаниями... здесь басов почти нету, сочных и глубоких, какие должны быть. Этот опус не очень длинный, он 8 или 9 минут. То, что мы сейчас слышим и что можно услышать в концерте — это соотношение примерно такое, какое у картины маслом и ее черно-белой репродукции. Теперь я слово предоставляю Маруте. Марута Рубезе: Добрый день... Можно, я буду сидеть? Так я чувствую себя стабильнее. Потому что я вообще не лектор, ради Бога! Не помню, когда я так последний раз говорила в живой аудитории. Но представлять я ее должна, когда бываю у микрофона, а это довольно часто бывает. Но политика нашей радиостанции программы Klasika такая, что мы должны думать о слушателях и очень внимательно смотреть, что из современной музыки мы предлагаем, даже в программах, специально посвященных современной музыки. Это у нас по средам, в Риге на 103,7, звучит именно современная музыка. Но что такое современная музыка? Это для нас начало ХХ века, потому что мы все-таки еще в этой же современности находимся, поскольку 1908 год считается тем моментом, когда можно говорить о большом перевороте в музыке, когда Арнольд Шенберг написал свой одиннадцатый опус для фортепиано, в котором он вообще не опирался на какую-либо тональность. Мы знаем, что тональность — как в школе нас учили, что есть до мажор, белые клавиши, ре мажор — два диеза и так далее. А Арнольду Шенбергу все это оказалось ненужным, и у него были, конечно, так же мыслящие коллеги, которые указывали на то, что это нормальное развитие музыки, музыка становится все сложней и сложней, и вот мы пришли к такому периоду, что тональность не нужна. И вот с этого момента, с 1908 года, как принято считать, начался этот процесс, который даже по мысли этого философа привел все-таки к какому-то тупику. Я очень рада, что есть книжка Булеза на русском языке, а вот книга Алессандро Барико на латышском языке. Я не знаю, вышла ли на русском языке его книга, а на латышском есть его небольшие, красивые книжки. Каждое предложение как конфетка, очень легко читается, например его самая известная книга «Шелк». Алессандро Барико, он и философ, и писатель, он в этой книге, которая только что переведена на латышский язык, очень много пишет о модернизме и о том, на чем базируется вообще представление человека о музыке, как он ее слушает, и как мы оказались в ситуации, что нам приходится теперь ЧТЕНИЯ ГУМАНИТАРНОГО СЕМИНАРА жаловаться, что современную музыку не хотят слушать и не ходят на ее концерты. Меня очень обрадовало одно предложение. Оно короткое, которое он цитирует. «С модернизмом так как джазом: если ты должен спрашивать, что это такое, ты никогда об этом не узнаешь». Это парафраз Луи Армстронга, известного певца джазового и тромпетиста. Это меня всегда очень успокаивало, потому что тоже я в принципе не знаю, что такое модернизм. Я очень многое чего не знаю. И когда я закончила учиться, это были 70-е годы, у нас была конечно история современной музыки XX века, Паулс Дамбис, один из известных композиторов, нам тоже об этом рассказывал, познакомил с этим языком. В наше время, в 70-е годы, это было табу, и это было большим событием, что мы могли, комсомольцы, тогда в те 70-е поехать на фестиваль Варшавская осень и сами убедиться, что есть такая музыка, как у Джона Кейджа, американского композитора. Это было на ночном концерте. На сцене происходило что-то вроде хэппенинга, чем-то стучали, что-то сооружали, был там американский флаг, и все это считалось музыкой, мы в этом могли убедиться. И были еще такие преподаватели, принимающие экзамен... был такой анекдот, что на экзамене по современной музыке можно было педагогу перечислить имена футбольной команды, скажем, Бельгии, и вот за это он ставил пятерку. То есть никто ничего не знал. Это было очень недавно. И вы абсолютно можете не переживать, что вы не знаете авторов, там... Дютийе или Картера, все это придет со временем. Мы живем, конечно, в эпоху информации. И эта информация, которую нам предлагают в интернете, как бы свидетельствует: ах, какие мы дураки, этого не знаем, того не знаем... Чем мы больше узнаем, тем мы больше будем знать, что мы ничего не знаем. И так оно и будет продолжаться. Но все-таки я тоже могу себя считать любителем современной музыке, но шла к этой музыке очень долгим путем. И это только один путь, про который Борис говорит, что нужно узнавать эту практику, нужно как-то подготовиться к слушанию современной музыки. Как ни парадоксально, но мне кажется, что это абсолютно не так. Современную музыку очень часто совершенно естественно принимают те, которые считают, кто вообще ничего не знают о музыке, и тем это легче, потому что им не мешает эта традиция классической музыки, которую мы знаем и с пяти лет впитывали эти гармонии, тональности, каденции... и все это в современной музыке теперь разрушают. У нас конечно есть чувство сопротивления. LII Чтения гуманитарного семинара «Модернизм и постмодернизм в музыке второй половины XX века» И еще я постаралась перевести то, что мне понравилось у Алессандро Барико, он тоже очень провокационные мысли высказывает насчет современной музыки. Он говорит так: «Современная музыка представляет собой некую искусственную реальность. Это организм в коме, жизнь которого поддерживается хорошо проверенными устройствами. Странно, что в мире, в котором уже давно властвуют торговые законы, такая вещь, как современная музыка, которую в коммерческом плане ожидал бы неминуемый провал, еще существует в гордой и самодовольной защищенности. Публика ее до сих пор не понимает, избегает и в лучшем случае терпит». И дальше он пишет об этом прорыве 1908 года, когда Арнольд Шенберг все это разрушил, и он поясняет, почему так музыка может воздействовать, потому что все-таки люди, слушая музыку, что-то в ней заранее предполагают. Это игра. Слушатель ждет — и музыка ему отвечает тем, что он ожидает, и всегда эти ожидания оправдываются. И музыка ему понятна. А если есть атональная музыка, в которой нет никакой системы, ему нечего ожидать, и тогда у него пропадает интерес к этой музыке. Потому что нет никаких строгих законов. Он даже думает, что тот юноша, который слушает U2 или что-то еще, он ничем не хуже того, кто слушает что-то другое, и я с ним абсолютно согласна, потому что музыка — это духовная пища. А мы же знаем, что мы такие разные. Есть души молодые, есть души старые, и каждая душа в этом мире эту духовную пищу, которую мы называем музыкой, ищет и находит, которая именно в этот момент этой душе нужна. И мне кажется, силой никого заставить слушать такую или другую музыку мы не должны. Начну с того, что Тору Такемицу, например, аранжировал для гитары битловские мелодии, так что вам ясно, что это не такой уж авангардист. Он просто французский импрессионист и на этом языке говорит очень красочно. И музыка, хотя она очень интенсивна в тембровом значении и в гармоническом значении, дает большое пространство в ритмическом плане, и свободу, и темп. Она даже становится медитативной. И он использовал один из первых в музыке ХХ века, в европейской музыке, инструменты традиционные, японские — кото, сямисэн. И это людей очень привлекает. Ведь русские композиторы-классики применяли восточные мотивы. Это же то же самое. Тогда они могли поехать на Кавказ, теперь это можно делать на самолетах, добираться до Австралии, к пигмеям, как Дьердь Лигети, он наслушался пигмеев и в своей музыке использовал очень 87 сложные ритмические формулы, которые он там слышал. И мне кажется, что иногда от того, что мы очень многого не знаем, то как бы за чистую монету очень многое принимаем такого, что на самом деле заимствовано. На этом же фестивале «Арена»... есть в Латвии фестиваль, особенно связанный с современной музыкой, это фестиваль «Арена», обычно в октябре. В прошлом году он был посвящен ориентальной музыке. И приезжал композитор, который живет в Германии, а сам он араб из Ливана. И он оказался очень возмущен тем, что композиторы современные только и делают, что что-то услышали, что-то узнали от иорданской или арабской музыки, выбрали из контекста какой-то материал или текст и там вставили в свою музыку. И тем они сделали медвежью услугу и слушателю, и себе, потому что это искусственно и никак не связано с теми традициями, с той музыкой, где она родилась. Она вырвана из контекста. И мне кажется, что это случается довольно часто. И мне кажется, что латышские композиторы тоже немножко грешат этим. Ну как грешат? Нам интересно. Вот Санта Ратниеце, тоже наш композитор, ее музыка уже звучала в Париже и во всем мире. Она недавно написала хоровое произведение на тибетский текст. Коллега, Юрис Аболс, который старше и сам придумывал всякие языки, он думает, что лучше придумать свой язык какой-нибудь, такое тоже случается в музыке в ХХ веке. Мы думаем, на каком языке он поет, а потом находим, что это его придуманный язык. Придумал и все, ему так нравится. Юрис Аболс сказал: ну, тибетский язык, ну как она так... лучше свой придумать. Ну, конечно, может быть никакого тибетского языка там нет. Это просто человек, творческий человек всегда просто что-то ищет, и он должен искать, хотя бы потому, что у него такая специальность — он композитор, он должен ее оправдать, он должен искать, он должен что-то придумать, чтобы хотя бы коллеги подумали: о, что это такое... Борис Аврамец: Я не сторонник того, чтобы силой заставить кого-то что-то полюбить, упаси Господь, нет. Но я глубоко убежден в том, что очень многие люди будут рады и даже счастливы, если вдруг в каких-то обстоятельствах что-нибудь услышат, что им может дать массу радости. Это не то, чтобы обязательно как маленьких детей... есть такая ошибочная метода, силой впихивают как какую-то кашу, отнюдь нет. Просто мир сейчас настолько усложнившийся и этой музыки сейчас столько, что че- 88 ловек зачастую может прожить всю жизнь и никогда нигде не услышать того, что на самом деле и есть его музыка. А он просто этого не подозревает. Нужны обстоятельства, которые бы хоть иногда способствовали этому, что было бы можно что-то услышать. Марута Рубезе: А вы знаете, я тоже об этом мечтала, чтобы я услышала музыку, которую я еще никогда не слышала и которая стала бы именно моей музыкой. Но этого не случилось. Борис Аврамец: А у меня такое случалось. И я хочу рассказать немножечко и показать в сочинениях уже упоминавшегося американского композитора-минималиста Стива Райха. У меня так было с некоторыми его сочинениями, когда слушал эту музыку. Было фантастическое ощущение радости и счастья, и несколько раз поймал себя на мысли, что есть такая музыка, о которой я мечтал. Хорошо, чтобы было такое, и вдруг я это слышу. Мне повезло. Что же касается очень серьезных проблем, о которых тоже Мара говорила, о которых пишет Барико... Да, в ХХ веке все так происходило, и в первую очередь это касается серьезного, сложного комплексного явления, именуемого модернизмом, что не только музыка, но и во многом часть литературы и изобразительного искусства с поразительной скоростью стала удаляться от слушателя, читателя, зрителя. Да, так происходило, и действительно все началось еще в начале ХХ века. И Шенберг, конечно, одна из знаковых фигур в этом отношении, и здесь я хочу напомнить, что все здесь присутствующие читали великий роман Томаса Манна «Доктор Фаустус», где главный герой — гениальный композитор, создающий революционно новую систему музыкального мышления, но создающим, почему и называется роман «Доктор Фауcтуc», заключая сделку с дьяволом. Что значит великий писатель? Сильнейшие образы он создает, когда это ощущение новизны творения он сравнивает с нахождением высоко в горах, а вокруг только камень и лед, абсолютное одиночество. Это удел, это судьба целого ряда великих художников ХХ века, композиторов в том числе. Они оказались там, где никого почти нет. Любое искусство и музыка в том числе... тут существует совершенно разные концепции. Средневековая концепция, как мы знаем, заключается в том, что музыка, подлинная великая музыка вся уже есть, дал ее Господь, и композитор в лучшем случае — только посредник, который эту музыку может донести до живущих на нашей Земле. Но есть и другой ЧТЕНИЯ ГУМАНИТАРНОГО СЕМИНАРА аспект в этом феномене. Здесь предполагается некая коммуникация. И поэт пишет все-таки, даже об этом специально не думает, что ктото прочитает его стихотворение и откликнется чья-то душа. А вот ситуация в ХХ веке такова, что вот нету этих людей. И Леверкюн в романе «Доктор Фаустус» очень остро это переживает и ощущает. И там ничего Томас Манн не преувеличивает. Так оно случилось, так оно происходило. А роман был написан во время Второй мировой войны, и там гениальное прозрение, предсказание того, что дальше случалось в последующие лет двадцать с европейской музыкой. Правда, когда я первый раз читал роман, я совершенно был потрясен. Потом-то я узнал, что не все было так просто, что у Томаса Манна был гениальный советчик и помощник. Это Теодор Адорно, он был философ, музыкант и музыковед, и он консультировал Томаса Манна. Они оба были эмигранты, жили в Калифорнии и часто встречались, он очень помог Томасу Манну в написании этого романа в том, что касалось музыкальных вещей. Там, где описывается несуществующее сочинение выдуманного композитора Леверкюна, там поразительно предсказано то, что потом происходило в авангардной музыке Западной Европы и Штатов в 50-е и 60-е годы. Меня в свое время это поразило настолько, что я один из своих первых научных докладов, еще очень давно, посвятил именно этой теме. В университете был когда-то на филологическом факультете кружок теории литературы, в котором занимались много чем другим в том числе. Меня пригласили, и я подготовил доклад, это был 1975 год, на тему что и как было предсказано в этом романе в связи с тем, что случилось с европейской музыкой. Почему я сейчас об этом рассказываю? Потому что расцвет тогдашнего авангардизма, а он одна из ипостасей вот этого явления — модернизма... Та авангардистская музыка во многом звучала так и несла то, что до сих пор говорили, что это страшилка, безумно сложно, неприятно, подавляюще, сеет ощущение беспокойства. Почему я сейчас об этом говорю? Потому что тот тип музыкального авангардизма давным-давно кончился. Уже так практически никто не пишет, и нету внутренней потребности даже писать. Музыка поразительно быстро меняется. И целый ряд выдающихся мастеров, которые тогда почитались главными авангардистами, они нашли в себе силы и желание, внутренние ресурсы идти дальше вперед и создавать поразительную, жизнеспособную, яркую и сильную музыку. LII Чтения гуманитарного семинара «Модернизм и постмодернизм в музыке второй половины XX века» И вот одно из этих имен — Дьердь Лигети. Еще одно имя, которое вы бы должны знать, тоже великий композитор. У него есть очень известный реквием, где мрак страшный в отличие от канонических реквиемов. Но ведь для любого христианина смерть — это только этап. А что такое апокалипсические мотивы? Нас в советские годы пугали этим понятием. А ведь любой человек, который хоть немножечко знаком с христианством, знает, что это такое, Судный день. Господь разберется во всем, а потом будет Царство Божие — замечательно, прекрасно для всех людей, единственная надежда и радость. Так вот у Лигети в его Реквиеме такого света нет — там мрак. Но он, слава Богу, прошел через это, он избавился от всего этого, избавился от кошмаров, которые переживал во время Второй мировой войны, и потом стал писать другую музыку. Я хочу показать очень короткое сочинение Лигети, это его этюд для фортепиано. Это он писал уже в 70-е годы, притом настолько здорово написал... потом еще написал одну тетрадь этюдов. И здесь что успею сказать? Писать этюды, особенно для фортепиано, это стало очень серьезной традицией в эпоху романтизма. Этюд, это что такое? С одной стороны это упражнение, чтобы развивать беглость, технику игры. А с другой стороны лучшие композиторы старались эти упражнения превратить в настоящие произведения искусства. И я знаю, что очень многие люди с удовольствием слушают этюды Шопена, этюды Листа, позже Рахманинов писал эти этюды. Хорошая, достойная, серьезная традиция. И вот представьте себе, что этот Лигети, как бы страшилка для очень многих, хотя все тоже неоднозначно... По многим телевизионным каналам крутят когда-то невероятно нашумевший фильм американца Стэнли Кубрика «Одиссея 2001 года». Далеко не все знают — фильм... очень сильный фильм, в свое время потрясший всех, 1968 год. Там фантастика, космос. Там практически вся музыка, которая звучит, Лигети. И об этом широкая публика не знала, а музыка очень мощная, электронная часть, хоровые сочинения. И оказалось, что этот фильм смотрели тогда и сейчас миллионы людей. И все они это прекрасно проглатывают, музыку в том числе. Но увлеченные визуальным рядом. Но то, что я вам покажу, это другого рода музыка, вот этот этюд фортепианный. Тут энергия, движение, моторика, здесь поразительно интересна игра ритмической структуры, хотя я не думаю, что он вдохновлялся пигмейской музыкой. В этом этюде не очень-то, есть у него 89 другие гораздо более яркие номера... Вот послушайте. Он очень короткий. Здесь настолько все хитро сделано, к тому же требует настоящей виртуозности от пианиста, здесь настолько остроумно все написано, что почти все время впечатление такое, что это можно сыграть как минимум только тремя руками или чтобы два пианиста играли. А играет на самом деле он один. Даже иногда на лекции я делаю так, что один раз поставлю, а потом, когда начинаю рассказывать, что там было, студенты просят еще раз поставить и еще раз послушать. Но опять же нужно, чтобы качественно звучало. Мы здесь всего не расслышим. (Звучит фортепианный этюд Д. Лигети) Первое, что можно сказать, кажется, что это довольно долго звучит. На самом деле две минуты 35 секунд. Это уже первый фокус. Как так можно сделать? Конечно, тут Лигети не первый, он ориентировался на великого Веберна, который так спрессовывал музыкальный материал, который стали называть музыкальными кристаллами. 50 секунд и масса сказанного, раньше так просто никогда не делали. Что касается корней традиционных или этнических, здесь, во-первых, слышно Венгрию. Здесь, как Барток делал, слышно ритмику венгерской народной музыки, очень яркой, очень живой, она тоже здесь присутствует. Нет времени долго об этом говорить. Но представьте себе, это настоящая современная музыка 1985 года, ничего кошмарного не происходит: старая добрая рояль, и все так довольно строго и в чем-то академично, и энергичная музыка. В тезисах я обещал чуть подробнее рассказать о двух актуальных направлениях современной музыки — одно минимализм, второе — спектральная музыка. Так вот, минимализм. Статья Петра Поспелова, музыкального московского критика, опубликованная еще в начале 90-х годов, в списке литературы она у вас есть, «Минимализм и репетитивная техника». Я хочу показать один пример, но это уже минимализм не в чистом виде, но здесь еще поразительно интересные совершенно новые вещи появляются. Композитора зовут Стив Райх (St. Reich), американец, родители его евреи из Германии, Райх, Рэйч, по-разному произносят. Он тоже был в Риге несколько лет назад, он был гостем фестиваля «Арена», несколько концертов звучала его музыка. Я с ним даже познакомился, но забыл спросить, как он сам произносит свою фамилию. В Америке это всегда важная проблема. Люди со всего света приехали, фамилии самые невероятные и никогда не можешь знать, как все это произносить. 90 Он один из главных композиторов нового направления, возникшего еще в 60-е годы, он родился в 1936 году, человек уже в годах. Начинал он в 60-е годы как экспериментатор. К нему применяли понятие авангардиста, на самом деле по мотивам, по мотивации это и тогда не было авангардизмом. Но он наряду со своими единомышленниками, это люди все одного поколения — особенно для студентов очень удобно это запоминать, родились буквально год за годом, в 34-м Ла Монт Янг, в 35-м Терри Райли, в 36-м Стив Райх, в 37-м Филип Гласс, — они и создали это направление в музыке, которое называется репетитивным минимализмом. Чем они занимались в 60-е годы? Это были абсолютно сознательно организованные эксперименты. По ряду серьезных причин у них было ощущение — нельзя писать музыку, используя принципы музыкального языка, нормы которого к тому времени были всем хорошо известны. Их не устраивал тотальный сериализм, то, что они делали, продолжая начатое Шенбергом, музыка безумно сложная. И тогда и сейчас слушателей такой музыки очень мало. Это им было абсолютно чуждо. С другой стороны, их не вдохновлял пример Джона Кейджа, мною упоминавшегося, потому что он много чего перевернул, разрушил. Их этот деструктивный пафос не привлекал, они искали третий путь, они нашли очень интересный выход. Это совершенно иное поколение по сравнению с отцамиавангардистами. К тому же американцы. Райх и Райли, они увлеклись джазом. Райх на ударных, Райли на фортепиано, на саксофоне, да и Гласс тоже занимался рок-музыкой. И все совершенно новое ощущение звучания и пульсации музыкального времени привнесли в музыку. С другой стороны, и это уже особая тема, как и почему, у них стало очень важным то, как делается музыка в совершенно иной культуре. Для Райха — он сразу погружался и осваивал принципы музыкального мышления, музыкальной практики Индии, Африки, Индонезии, а потом еще добавилась традиция Торы, древнееврейская традиция. Все это было на самом деле очень серьезно, никакие они не верхогляды, люди не только с серьезной мотивацией, но и с потрясающей работоспособностью. Постепенно шаг за шагом они стали задавать принципиально новую систему музыкального языка. Почему я назвал ее репетитивной? — потому что один из основополагающих принципов заключается в том, что создается довольно простая мелоритмическая структура с определенным ритмическим рисунком. Потом эту фразу повторяют много раз, и потом после этой фразы или встав- ЧТЕНИЯ ГУМАНИТАРНОГО СЕМИНАРА ляются дополнительные тона, или вынимаются тона... самые разные техники, об этом я не буду рассказывать, это долго и обременительно. Главное, что из этого получилось? Поначалу просто надо было что-то сделать и проверить, как это работает. То есть здесь эксперимент является в полном его смысле. Мы же знаем, что эксперимент — понятие из точных наук или технических наук, либо в химии эксперимент: если смешать вещества, неизвестно, что получится. Или изобретатели в технике, создается новая конструкция и нужно проверить, как она работает или не работает, что она делает, чего не делает. Здесь такого же рода деятельность. Но то, что они наработали, оказалось очень эффективно, очень жизнеспособно, и эти эксперименты оказались крайне интересными и привлекательными. Но это я говорить не буду. Ставить не буду. Дальше, что касается Стива Райха, когда он уже наработал новую систему приема. Он стал сочинять серьезное музыкальное произведение, которое по многим параметрам ближе к хорошо нам известной музыке прошлого с особым содержанием, с эмоциональностью, с особым развитием внутренним. И тут он создал несколько музыкальных шедевров. Завершился этот этап сочинением великого произведения, кантата «Музыка пустыни», хор, оркестр небольшой, там очень серьезная поэзия используется, философского характера. Музыка поразительная по силе. И, казалось бы, что теперь делать? Стричь купоны. Если до этого на него смотрели косо обычные композиторы и весь академический мир — а, дикие люди, непонятно чем занимаются... А после нескольких удачных сочинений, особенно этой самой кантаты... В Америке был и сейчас, наверное, есть очень авторитетный журнал «Музыкальная Америка», не научный по сути, а вот для всей публики, очень солидный журнал, как журнал Time или Life. И есть такая традиция, что там на обложке время от времени помещается портрет музыканта, оперной певицы, дирижера, композитора. И сам факт, что на обложке появляется фотография, означает официальное признание, весь истеблишмент признает, что это фигура очень крупного калибра. И вот вдруг выходит журнал, где на обложке портрет Стива Райха, а в журнале статья, очень влиятельный критик пишет, что можно теперь сказать, что музыкальный минимализм это самое важное, что сейчас происходит в американской музыке... Американская музыка большая, разнообразная и богатая. Это, так сказать, внешний факт. Но вместо того, чтобы писать и LII Чтения гуманитарного семинара «Модернизм и постмодернизм в музыке второй половины XX века» продолжать писать так, как он пишет, вдруг Стив Райх на некоторое время замолкает, и потом исполняется сочинение, которое основывается во многом на совершенно иных принципах. Сочинение называется «Разные поезда», сочинение для струнного квартета. Но тут необходимы пояснения. Для того, чтобы произведение правильно прозвучало, надо сначала записать еще запись. Сначала записывают в студии, причем два раза то, что там в нотах есть. А когда они выходят на сцену и начинают играть, запускается не только фонограмма, но еще заранее записанная композитором фонограмма. Что вы здесь услышите вначале? Сразу поясню, почему такое название. Придется немножечко коснуться предыстории. Я уже говорил, в 36-м году ему было всего три годика, когда родители разошлись, такое часто происходит. И так получилось... забыл, где живут его отец и мать, но его нянька возила через всю Америку, они договорились, что мальчик будет жить то там, то там. Один жил в Нью-Йорке, другая в Лос-Анджелесе. Несколько раз в год его возили через всю Америку. Нью-Йорк, Лос-Анджелес — большое расстояние. И так получилось, что когда он вырос, для него эти поезда чуть ли не самое лучшее, что у него было в его детстве. И запахи, и то, что видно в окно, и ритм колес... И вот потом так случилось, это был 85 год, он слушал серьезную радиостанцию, там была большая передача, посвященная Холокосту, массовому уничтожению евреев в Европе во время Второй мировой войны, и там были взяты интервью с людьми, которые остались живы. Во время трагических событий они были детьми, жили в разных европейских странах, а потом уцелели, оказались в Штатах. Их разыскали журналисты, социологи, историки. С ними говорили, попросили что-то вспомнить наиболее сильное, эмоциональное из тех событий. Райх это слушал, а сам он еврей тоже, и его поразил тот факт, что практически в каждом из рассказов, что звучали в передаче, была такая деталь — посадили отца в поезд и повезли в другой город в гетто. Его пронзила мысль, ощущение, что он-то сам еврей, предки его из Европы, а если бы он жил в Европе, то он бы ездил в совершенно других поездах в то время. Это оказалось импульсом в создании сочинений. Что он сделал? Он разыскал архив, что американцы называют Oral History, устной истории, где хранятся магнитофонные ленты, километры с рассказами огромного количества людей, договорился, чтобы разрешили скопировать эти рассказы. Он разыскал свою няньку, она была очень пожи- 91 лой женщиной, и попросил ее рассказать, как они ездили, и записывал все это на магнитофоне. Он разыскал одного очень старого бывшего служащего компании, бывшего проводника. Когда приближались к станции, он должен был выкрикивать: пересадка на такой-то поезд. Все это он тоже записал. Для чего? Чтобы сделать сэмплы. Дальше уже без электроники, без компьютерных программ не обойтись. Он выбрал из этих записей-рассказов такие фрагментики, где был особенно ярко выраженный интонационный контур. Вы знаете, что любой язык устроен так, что говоря, мы звуки произносим на разной высоте, в английском это еще более выражено. Он нашел вот такие места в рассказах разных людей, потом он эти фразы транскрибировал, то есть записал нотами, на разной высоте звука разной длительности. Первая фраза, что вы услышите здесь... временами мы слышим, как говорят эти люди, и вот эти бывшие европейцы, и его нянька, и вот этот кондуктор говорит. Во-первых мы слышим, как звучат эти голоса, скажем, первая фраза будет: (пропевает) from Chi-cago to New Yo-ork... такая интонация. Он ее записал нотами, и дальше уже на основе этих фраз то, что должны играть инструменты квартета — одна скрипка, вторая скрипка, альт, виолончель и так далее. Создается интересная сеть взаимоотношений. В одних случаях... вот мы услышим: только что прозвучит эта фраза, а потом мы услышим, как эту же фразу играет альт или виолончель или скрипка. А иногда наоборот, то, что играет инструмент, предвосхищает, что говорит голос. Здесь очень интересный метод – тематический материал музыкальный не сочиняется, а он берется из жизни, так сказать. Дальше... Это же композитор, он создал целый композиционный план. Весь квартет длинный — три части. Первая часть называется «До войны», вторая часть «Война», третья часть «После войны». В первой части эти фразы мы слышим, когда он ездил на поездах, а когда война — воспоминания о тех трагических событиях и так далее. Дальше, что он еще сделал? Поскольку для него очень важно ощущение поезда, движения... Когда струнный оркестр играет, играет и вживую, и наслаивается заранее сделанная запись, пульсация получается такая, как будто несется поезд, ритм колес, все тоже есть. Это называется на старом добром языке звукоподражанием. В музыке это существует с незапамятных времен. Вот так это устроено в общих чертах. Что в результате получилось? Поразительное сочетание с одной стороны глубоко субъективного рассказа... он 92 как бы исходит из того, что он сам пережил, что он сам испытал. Но это сделано так мощно, он настоящий художник, что как это было всегда в прошлом с романами: описывается индивидуальная история, а через роман там все — там и человечество, и история. Здесь то же самое. Это он закончил в 88-м году — большая дистанция временная. Там даже годы объявляются — 39год, 40-й год, — (пропевает) nighteen forty, nighteen forty, тоже сэмпл повторяется. И что здесь очень важно: мир ведь поразительно быстро меняется. То, что было в 39 году, из 88 года представляется невероятной архаической историей. Или годы войны — тоже все по-другому. Здесь сочетается личное и общественное плюс новейшая технология, сэмплы. Без компьютерной программы он этого бы не сделал, но это полностью подчинено художественным задачам. Это очень успешный, очень удачный пример такого синтеза. Причем Стив Райх прекрасно отдавал себе отчет, что он сделал. Когда состоялась премьера, слушатели были в основном в восторге, сразу стали брать у него интервью, и он не раз даже выразился в том плане, что он полагает, что он вот своим этим сочинением положил начало новому типу искусства. ЧТЕНИЯ ГУМАНИТАРНОГО СЕМИНАРА Потому что с одной стороны здесь как бы чистая документалистика, мы слышим голоса реальных людей, это не актеры, людей, которые жили той жизнью. С другой стороны, это все здесь превращается в ткань художественного произведения. Плюс то, что я говорил — и история, и психология, и технология... И это, на мой взгляд, прекрасный пример того, что нельзя так уж панически боятся всего того нового, что несет та же техника. В человеке всегда есть силы, чтобы в любых обстоятельствах не стать их рабом, а их подчинить и остаться человеком. И плюс то, о чем я говорил — я уверен, что Стив Райх действительно гениальный мастер. Не только то, что он новатор, но в нем еще настоящая сила художника проявляется. Я забыл сказать, что говоря здесь о реальных звуках, есть записанные сигналы паровозов. Есть специальный архив, где можно найти эти записи, американцы все стараются найти, записать, сохранить, в том числе гудки локомотивов. (Звучит фонограмма первой части квартета Стива Райха Different Trains) Е. Абдуллаев — Русская литература на постсоветском 93 Доклад литератора, кандидата философских наук, социолога и юриста Евгения Абдуллаева Русская литература на постсоветском пространстве (институты, авторы, тексты) к LIII Чтениям гуманитарного семинара 1. Определение. Русская литература на постсоветском пространстве — совокупность текстов, персоналий, сетей и институтов, определяющими для которых является лингвистический (писание, общение и публикация на русском языке), территориальный (постсоветские государства — кроме России) и хронологический (после 1991 г.) маркеры. Лингвистически она отличается от современных литератур на национальных языках в постсоветских республиках (латышской, узбекской, украинской и т.д.); территориально — с одной стороны, от современной российской литературы, а с другой — от русской литературы эмиграции (США, Израиля, Германии и т.д.); хронологически — от русской литературы, развивавшейся в этих государствах до 1991 г. (до политической независимости этих государств и потери русским языком своего статуса). 2. Предыстория. Русская литература «союзных республик» фактически не обладала выраженной спецификой, составляя, вместе с нестоличной российской литературой, «литературную провинцию». Особенностью бытования русской литературы в республиках была ее большая зависимость от «национальной политики», от величины русскочитающей аудитории. Идентичность русских литераторов была обычно наднациональной (напр., Д.Самойлов, долгие годы живший в Эстонии, не считался эстонским поэтом). Как правило, ни национальная литература не пыталась «присвоить» себе русскопишущего автора, ни сам автор не стремился обрести местно-национальную идентичность. Ситуация стала меняться в 1980-е по мере вхождения в литературное поле авторов«автохтонов», пишущих на русском языке (начало сказываться постепенное обрусение местных элит, не везде однако равномерного). После распада Союза, сопровождавшегося вытеснением русского языка и отменой либо трансформацией прежней системы организации ли- тературного процесса (лито, союзы писателей, литературные журналы и т.д.), местная русская литература оказалась в состоянии «свободного плавания». В ряде случаев (например, в Туркменистане, Таджикистане, частично — республиках Закавказья) произошло вымывание русской литературы; в других случаях (в Украине, отчасти Узбекистане, Белоруссии и т.д.) — напротив, наблюдалось появление заметных авторов и литературных проектов (литературных групп, фестивалей, журналов/альманахов) Контекст. Контекст бытования русской литературы на постсоветском пространстве определяется целым рядом факторов: политических (степень свободы слова/печати; включенность литературы и отдельных литераторов в политический процесс; в некоторых случаях — отношения с Россией), экономических (состояние книжного рынка; наличие некоммерческого финансирования: меценаты, фонды и т.д.), собственно литературных. Важным является отношения постсоветских литератур с четырьмя потенциальными читательскими аудиториями: (1) местной русскочитающей аудиторией, (2) русскими читателями (прежде всего, в России, но также и в других русских диаспорах), (3) местной нерусскочитающей аудиторией и (4) зарубежной («западной») аудиторией (в 3-м и 4-м случаях — через переводы). Институты. Хотя основным «продуктом» литературы является именно художественный текст, однако в ситуации, с одной стороны, распада советской интституциональной базы литературного процесса в бывших республиках и сужения русскочитающего пространства, а, с другой, — вызовов глобализации и интернационализации культурного процесса, вопросы институционального развития вышли на передний план. Параллельно с прежними, «советскими», институтами — союзами писателей, «толстыми» журналами, лито и т.д. — возникают новые литературные группы, 94 фестивали, журналы/альманахи/сайты и т.д. 1.1. Группы и объединения. Наиболее заметными являются фонд «Мусагет» (Казахстан, с 1998), текст-группа «Орбита» (Латвия), объединение «Ташкентская школа» (Узбекистан, с 1999 г.). Например, выпускниками мастер-классов «Мусагета» были достаточно известные сегодня поэт Ербол Жумагулов и прозаик Михаил Земсков. 1.2. Издания. В целом, сохранились и продолжают издаваться прежние «толстые» республиканские журналы, например, «Радуга» (Украина), «Звезда Востока» (Ташкент), «Простор» (Казахстан) и др. Среди новых изданий можно отметить журналы «ШО» (Киев) и «Союз писателей» (Харьков) в Украине, альманах «Аполлинарий» (с 1993 г.) и журнал «Книголюб» в Казахстане, альманах «Малый шелковый путь» (1999—2007) и антологию «Анор» (2008) в Узбекистане, сайт русской литературы Эстонии «Воздушный змей» (www.tvz.org.ee/index.php) и др. Определенную активность в плане представления и освещения постсоветской русской литературы стали в 2000-е проявлять московские издания. Ряд московских «толстых» журналов предоставляют свои номера для наиболее интересных постсоветских авторов и объединений. Кроме «Дружбы народов» (magazines.russ. ru/druzhba/), специализирующейся на литературе бывших республик, стоит отметить публикации переводов из современной грузинской и украинской поэзии в журнале «Октябрь», публикации переводов грузинской и азербайджанской поэзии в журнале «Арион», рецензии на издания стран СНГ в журнале «Знамя», а также электронный журнал «Интерпоэзия» (Нью– Йорк–Москва) (magazines.russ.ru/interpoezia/). Заметным событием стал выход антологии «Освобожденный Улисс» (М.: Новое литературное обозрение, 2004), а также начала издания этим же издательством серии «Поэзия русской диаспоры», в которой вышли сборники и ряда постсоветских поэтов — Ш. Абдуллаева, Д.Лазуткина, С. Морейно, А. Полякова и др. Кроме того, информация об авторах и изданиях стран постсоветского пространства содержится в словаря-справочника Сергея Чупринина «Русская литература сегодня: Зарубежье» (М.: Время, 2008), «Аннотированный каталог писателей и переводчиков стран СНГ и Балтии» (Ереван: Антарес, 2009) и на сайте «Новая литературная карта России» (www.litkarta.ru/world/) 1.1. Творческие встречи/создание сетей. Относительно новой формой творческих встреч стало фестивальное движение. Наиболее важную роль в развитии фестивального движения сыграл Московский международный фести- ЧТЕНИЯ ГУМАНИТАРНОГО СЕМИНАРА валь «Биеннале поэтов» (с 1999 г., проводился 6 раз www.poetrubiennale.ru/), ставший своеобразным «смотром» постсоветской литературы 2000-х. Среди остальных фестивалей можно отметить Ташкентский открытый фестиваль (с 2001 г., проводился 6 раз), крымский «Волошинский фестиваль» (с 2003 г., 7 раз), «Киевские лавры» (с 2006 г., 4 раза), (минский фестиваль «Порядок слов» (с 2006 г., 3 раза), русско-грузинский фестиваль «В поисках золотого руна» (с 2008 г., прошел 2 раза). Кроме фестивалей, проводятся и другие встречи — ежегодный форум молодых писателей России в Липках (с 2000 г., проводился 9 раз), на котором обычно участвуют и молодые авторы из постсоветских республик; встречи писателей и редакторов (с 2006 г.), проводимые журналом «Дружба народов», а также Форум переводчиков, писателей и издателей стран СНГ и Балтии (с 2008 г.) 1.1. Премиальные институты. Основные премиальные институты для поощрения русских авторов «ближнего зарубежья» находятся, за небольшим исключением (напр., премия «Киевские лавры»), в России. Это, прежде всего, «Русская премия» (с 2005 г.; www.russpremia.ru/); периодически постсоветские русские авторы становились лауреатами премии им. А.Белого, журнальных премий «Дружбы народов», «Знамя» и др. Авторы и тексты. Постсоветская русская литература 1990—2000-х дала целое созвездие ярких имен — прозаики Инна Лесовая, М. и С. Дяченко, поэты Борис Херсонский, Александр Кабанов, Наталья Хаткина (Украина), поэты Шамшад Абдуллаев, Санджар Янышев, Вадим Муратханов (Узбекистан), прозаики Талип Ибраимов и Алекс Торк (Кыргызстан) и др. Можно заметить значительный разброс жанров — при том, что, отчасти под влиянием культурной ассимиляции в постсоветском «национализирующемся» ландшафте, эта литература гораздо больше чувствительна к местным реалиям, чем это было до распада Союза. Стилистика авторов также может значительно различаться: например, Николая Гуданца — и Сергея Тимофеева (Латвия), Александра Кабанова — и Анастасии Афанасьевой (Украина) и т.д. Среди очевидных проблем современной постсоветской литературы можно назвать постепенное сокращении русскочитающей аудитории, а также отсутствие интституциональной поддержки на местном (национальном) уровне. В результате заметно сокращение числа молодых имен среди литераторов, что в долгосрочной перспективе может означать угасание русской литературы, ее ре-провинциализацию и диаспоризацию. Выступление Е. Абдуллаева на Чтениях гуманитарного семинара 95 Выступление Евгения Абдуллаева на LIII Чтениях гуманитарного семинара 20 февраля 2010 г. Большое спасибо всем организаторам и, прежде всего, конечно, Сергею Мазуру. Естественно, это не просто такая ритуальная фраза — благодарность за возможность быть здесь, за возможность встретиться с людьми, коллегами, с авторами, с читателями. Совершенно фантастическая ситуация, никогда не думал, что окажусь в Риге в этом качестве. Я здесь не первый раз... Но первый был в позапрошлой жизни, в 1987 году, я был гораздо моложе. И Ригу осваивал не в литературном, а в другом качестве: ходил с этюдником и рисовал. У меня до сих пор сохранились эти этюды. Художником не стал. Становлюсь литератором. Почему я говорю «становлюсь», потому что я не знаю словосочетания «готовый поэт», «сформировавшийся поэт» или «сформировавшийся прозаик», в этом есть что-то страшноватое. Вспоминаю наш разговор с главным редактором журнала «Знамя» Сергеем Ивановичем Чуприниным в Алма-Ате. Он говорил: «Сегодня утром ко мне пришел человек…» И смотрит визитки, на визитке написано — такой-то, а внизу: «поэт». Я говорю, что на визитках такое писать, ну... просто не нужно. Сергей Иванович говорит, а как же Кушнеру, что же ему на визитке писать? Я говорю, а Кушнеру — ему тем более не нужно писать, его и так все знают... Кроме ритуального введения, мне бы хотелось сделать терминологическое введение, чтобы ввести какие-то слова, которые буду произносить — слова не страшные, не наукообразные, слова, довольно часто встречающиеся, но от этой частой встречаемости не всегда адекватно понимаемые. Прежде всего, я буду говорить в отношении использования, восприятия литературы как «текста». Это понятие спорное. Например, замечательный критик Андрей Юрьевич Арьев считает, что это недопустимо, называть стихотворение и прозаическое произведение текстом. Я считаю, что оно допустимо, потому что оно безоценочно. Конечно, когда школьница в «голубом глазу» говорит: «А в третьем классе мы изучаем тексты Пушкина...» — да, это понятно, что у Пушкина не тексты, а стихотворения. Но в остальных случаях я считаю, что понятие «текст» вполне употребимо, поскольку оно снимает оценочный момент. Особенно учитывая современную поэзию, где мы видим как сохранение классических силлабо-тонических традиций, так и верлибр... Чтобы снять этот оценочный момент, я буду говорить — текст. Вторая терминологическая конвенция и соглашение, которое я с вами заключаю, онокасается понятия русской литературы на постсоветском пространстве. Я сам недоволен таким длинноватым термином, но вот ничего лучшего я не придумал. Когда я буду говорить «русская литература на постсоветском пространстве» — это будет касаться русской литературы за пределами России и, с другой стороны, не литературы эмиграции. Хотя, например, если бы здесь был поэт из Израиля Александр Бараш, он бы тут же начал полемизировать. Ну не тут же, он человек интеллигентный, он бы сначала меня выслушал… Он как раз лет 10 назад выступил с концепцией «международной русской литературы», согласно которой приращение русской литературы будет осуществляться так называемой русской литературой в диаспорах, куда входит достаточно большая диаспора русских прозаиков, поэтов Израиля, Соединенных Штатов, отчасти Германии, совсем немножко может быть Франции. В основном это США, Израиль и частично Германия. Тем не менее, я предполагаю, что у русской литературы, о которой я буду говорить, есть своя специфика. Это, грубо говоря, русская литература прежних «окраин». Почему? Прежде всего, это литература не эмигрантов. Все-таки психология и взгляд на мир эмигранта так или иначе откладывают отпечаток на творчество писателей или поэтов. То есть он уже попадает в некое предшествующее ему «готовое» иное языковое окружение. И соответственно здесь две стратегии, либо он полностью вливается в это окружение, начинает писать на языке этого окружения, что опять-таки неплохо. Мы помним Набокова, например. (Подсказывают с места — Василия Аксенова). В. Аксенов менее сильный пример, потому что все же он не стал англоязычным писателем. Можно назвать русского немецкоязычного писателя, Владимир Каминер, эмигрировавший в Германию человек, который пишет на немецком. Страшно популярен сейчас в Германии. Он пишет на не 96 совсем правильном немецком. Но в этом есть какой-то шарм, его печатают и публикуют. Итак, либо первый путь, то есть влиться туда в этот давно уже сформировавшийся контекст, либо второй путь — более распространенный и более понятный психологически, физиологически, потому что язык это не просто средство коммуникации, это нечто гораздо большее. Кстати, И. Бродский это пытался отрефлексировать. Если человек думает, мыслит, страдает, например, на русском языке, то вполне естественно продолжает писать на этом языке, но в другом окружении. Это что касается литературы эмиграции. А вот с литературой на постсоветском пространстве ситуация интереснее, поскольку люди никуда не эмигрировали. Они-то оставались там, как правило, где они родились, а контекст вокруг них — напротив… В случае литератора-эмигранта человек меняется, а контекст как был, так и остается, а здесь-то наоборот. Человек никуда не эмигрировал, он остался прежним, а контекст меняется. И в этом, на мой взгляд, специфика русской литературы постсоветского пространства, за исключением России, потому что в России, в общем-то, контекст тоже изменился, кто же спорит. Система прежняя полностью ушла, но языковый контекст остался относительно прежним. Да, конечно, русский язык меняется, какие-то процессы происходят. Если раньше никому в голову не могла прийти мысль, что какие-то нецензурные фразы попадут в поэтический текст, то сейчас никто за сердце не хватается, увидев нечто нецензурное в прозаическом или в поэтическом тексте. Но в целом языковой и культурный контекст, в принципе, не так сильно поменялся, как он поменялся на окраинах. Я не люблю слово «окраина», но давайте его использовать в бахтинском понимании, когда М. Бахтин говорил, что все интересное происходит на границах, на окраинах. Она имеет не только свою территориальную, но и свою хронологическую специфику. То, о чем я буду говорить — что возникло после 91-го года. Хотя остались и авторы, которые работали и публиковались до 91-го года. Например, случай с Узбекистаном — замечательный поэт Сабит Мадалиев, узбекский поэт, пишущий на русском языке. Тем не менее я буду говорить о литературе после 91-го года хотя бы потому, что это такое для большинства республик «посмертное» существование русского языка, «жизнь ЧТЕНИЯ ГУМАНИТАРНОГО СЕМИНАРА после смерти». Немножко трагически звучит, но это действительно новое качество русского языка. Он уже не первый среди равных, как он был до этого... Он как бы и официально как-то и особо не поддерживается, и, по идее, все должно постепенно затихнуть, затухнуть, замереть. И парадоксальным образом особенно с конца 90-х мы видим очень много новых ярких фигур, которые возникли на этом постсоветском пространстве. Новых авторов. Откуда это возникло? Опять-таки этому можно дать социологическое объяснение: в 70-е годы Советская власть озаботилась распространением русского языка. В 60-е, в 70-е. В Узбекистане даже специальный съезд прошел, как сделать русский язык родным для нерусского населения. Русский начинали изучать с детского сада. Была такая массированная инвестиция в русский язык в 70-е и в начале 80-х годов, захватившая и мое поколение, и плюс чуть старше и плюс чуть позже, кто учился в школе. Причем это не обязательно русские. В случае Узбекистана — это узбеки, в случае Таджикистана — таджики и так далее, кто учился в школе в 70-е, в первой половине 80-х годов, и кто соответственно пришел в литературу. Приход этот как раз попал на конец 90-х — начало 2000-х годов. Поэтому понятно, почему такой всплеск, хотя ни одно социологическое объяснение не способно дать исчерпывающий ответ, да оно не должно давать исчерпывающий ответ, почему появился тот или иной яркий поэт. Но какую-то подсказку оно дать может. Ну и, наконец, лингвистически чем отличается постсоветская литература, понятно. Русская литература отличается от литературы, написанной на языках тех бывших советских республик, а ныне уже давно суверенных государств. Вот такое терминологическое длительное вступление, и сейчас следующий вопрос. Я уже на него частично ответил, почему 91-й год? Но что было до 91-го года? Насколько я могу судить, и тут я могу произнести известную фразу: «пусть старшие товарищи меня поправят», потому что в силу своего возраста не могу настолько хорошо знать всю алхимию и пиротехнику прежней организации литературного процесса... Но насколько я могу судить, русская литература в республиках фактически по статусу своему приравнивалась к литературе провинции. Была литература русской провинции, автор, который писал в Свердловске или Новосибирске и автор, писавший в Ташкенте, русский автор (я буду говорить о русских Выступление Е. Абдуллаева на Чтениях гуманитарного семинара авторах), или в Тбилиси, или в Риге — это были авторы приблизительно одного статуса. Поскольку существовали две литературные столицы, Москва и Ленинград, а все остальное была русская литература провинции. Единственно, что, конечно, была своя особенность бытования в том, что, с одной стороны, русскочитающая аудитория была значительно меньше, это первое, во-вторых, все это зависело от того, какова была на дворе национальная политика. В некоторых случаях русская литература более поддерживалась в одних республиках, в других она менее поддерживалась в зависимости от колебаний линии партии. И как только автор что-то серьезное представлял, он постепенно перебирался в одну из литературных столиц. Например, так из Ташкента уехала Дина Рубина, которая начинала как литератор в Ташкенте, хотя первая публикация ее была в журнале «Юность». Потом она уехала в Москву, эмигрировала потом уже из Москвы. Это довольно характерный путь для многих авторов, хотя многие продолжали жить в республиках. Тот же самый Давид Самойлов, который жил в Эстонии. Таких примеров в Латвии я не знаю… как относятся к Н. Задорнову? Вот жил человек, жил в республике, публиковался, имя было на слуху. Что интересно, что русский автор воспринимался как автор над-национальный. Случай Чингиза Айтматова — это некоторое исключение. Все-таки Айтматов публиковался как национальный автор, писал на киргизском языке, только постепенно, со временем он перешел на русский... Никто же не назовет Давида Самойлова эстонским поэтом, и никто его так не называл, может быть, только какие-нибудь отчаянные головы до такого додумались. Что начало происходить, на мой взгляд, еще в 80-х годах? Прежде всего, появилось поколение авторов, представителей титульной нации, автохтонных народов, которые начали писать на русском языке. Например, в Узбекистане несколько авторов, например, поэт Шамшад Абдуллаев, или же Хамид Измайлов. Сабита Мудалиева я уже назвал. Это узбекские авторы, которые, тем не менее, писали и публиковались на русском языке. Хотя, когда мы сейчас говорим о русских авторах на постсоветском пространстве, вопрос пятой графы это самый последний вопрос. Понятно, что это неважно, кто у тебя были мама и папа, важно, как человек пишет. Но, тем не менее, сам вектор интересен. После распада, понятно, стало происходить вытеснение русского языка и изменение всего литературного процесса. Пос- 97 тепенно либо исчезали, либо трансформировались прежние литературные объединения, Союзы писателей, литературные журналы… Местная русская литература оказалась в состоянии свободного плаванья. Мне бы тоже хотелось сейчас сделать еще одну оговорку: снять возможный вопрос о «судьбах русской культуры». Вопрос важный и очень сложный, но мне бы не хотелось об этом говорить, это другая тема. Меня сейчас интересует то, что происходило с русской литературой не потому, что она оказалась в каких-то трагических условиях. Условия мы все прочувствовали и как-то пережили, но как стало складываться это посмертное существование, эта «жизнь после смерти», которая во многом... в чем-то не хуже оказалась и предыдущей? Во-первых, огромное количество лишних людей отсеялось, отпало в литературе, которые прежде занимались литературой, потому что это было престижно, потому что это было на дотации государства. Было огромное количество окололитературных чиновников, помните термин — «секретарская проза»… Нет, я не прыгаю от радости, я не хлопаю в ладоши: ах, как хорошо, как замечательно все очистилось — это десятки искореженных судеб, все не так просто. Да еще ведь литература не только очистилась от балласта, она, к сожалению, «очистилась» от многих талантливых людей. Я обычно говорю — «смыло девяностыми». Пример Исмайлова. Он написал в 90-е годы роман «Железная дорога», на мой взгляд, очень интересный роман и лучшее, что он писал после этого. Сейчас Исмайлов публикуется и в «Дружбе народов», и в «Знамени», и в «Новом мире»… А тогда опубликовал, но вещь прошла незамеченной. Это действительно беда. Что происходило с Союзами писателей — там своя история. В Белоруссии — там сейчас два Союза писателей. Один такой сервильный, судя по рассказам моих белорусских коллег, а второй либеральный. Та же самая ситуация двух Союзов писателей, дуалистическая модель двух Союзов писателей и в России. Я понимаю, все это завязано на судьбы, на интересы, на бытовании русского языка. Например, в Узбекистане. Хорошо, что есть Союз писателей, в котором есть русская секция... Но с точки зрения того, что там происходит, это никак… Ни тепло, ни холодно. Остались прежние толстые журналы, где-то они исчезли, например, здесь, в Латвии, «Даугава». В Узбекистане журнал «Звезда Востока» то исчезал, то снова возрождался, сейчас, кажется, окончательно исчез. Что интересно, предыдущий главный редактор был утвержден на уровне аппарата Президен- 98 та, но при этом совершенно без финансирования. Живите за счет подписки. За счет подписки, естественно, никто жить не может. Понятно, главного редактора можно было чаще видеть в Российском посольстве, в Росзарубежцентре и в других организациях, где он искал деньги для журнала. Ну, это все частности. В ряде случаев, например, в Туркменистане, Таджикистане, частично в республиках Закавказья произошло просто вымывание русской литературы, не осталось там русских читателей. Я не исключаю пример Эмили Дикинсон, то есть человек пишет, пишет, его никто не читает, он ничего не публикует. Пишет, а потом через несколько лет после смерти находят рукописи и говорят: вот, был писатель. Но в целом для писателя должен быть читатель, хотя бы один, два, три. «Нас мало, нас может быть трое», как писал Б. Пастернак. Например, в Таджикистане вообще вымыло почти всю интеллигенцию печальными событиями. Журнал «Памир» по-моему, скорее жив, чем мертв. Но в том качестве, в котором он жив... Русские писатели там есть, я видел их. Они есть, эмпирически присутствуют. Они сказали: у нас праздновался юбилей какого-то местного исторического деятеля, мы написали в соавторстве роман. Я их от души поздравил, но других писателей я там не обнаружил. Приблизительно сходная ситуация в Туркменистане, и по-моему более печальная. В Закавказье есть, безусловно, авторы, но среды нет. Есть, например, в Грузии интересный поэт Инна Кулешова. Она и организовывала последний русско-грузинский фестиваль, интересный поэт. Это, скорее, как говорил Г. Шпет в своем «Очерке развития русской философии»: да, были философы, но не было философии. И наличие персоналий скорее подчеркивало, что самого феномена философии не было. И еще… Когда я говорю об институтах, то это не означает, что только Союз писателей является институтом, это может быть философский семинар, гуманитарный семинар, на котором мы присутствуем. Это тоже институт, это не союз писателей, здесь нет пузатого дяди, изможденного литературными трудами, который сидит и «рулит». Я и вчера это говорил, и сегодня повторяю, самое важное это текст, я начинаю и заканчиваю текстом… Но для меня очень важно понять: а что вокруг него? Невозможно понять текст, не понимая контекст, включая в том числе и социальный. Это замечательно, когда поэт или прозаик имеет возможность просто писать. Написал, поставил точку — все, дальше это не его проблемы, дальше включа- ЧТЕНИЯ ГУМАНИТАРНОГО СЕМИНАРА ется литагент, редактор толстого журнала, кто угодно, у писателя об этом не болит голова. Это идеальная ситуация. Но когда мы говорим о ситуации русской литературы на постсоветском пространстве, да в том числе и в России, там хотя в некоторых издательствах появились литагенты, но в целом, учитывая общемировую, общероссийскую тенденцию спада в книгоиздании, приходится быть в одном лице многим. И литагентом, и редактором, и критиком. Как говорил мой коллега из Грузии, грузинский поэт Шота Иатишвили, он говорил: мы писали стихи, писали, смотрим, нас никто не критикует, мы сами стали друг друга критиковать. Конечно, желательно, чтобы был литературный критик, который мог бы оценить, не будучи сам поэтом или прозаиком, который мог бы со стороны дать оценку, дать развернутую рецензию, критическую статью. Я не знаю, как ситуация в Латвии, в других бывших советских республиках я встречал поэтов... они есть, больше поэтов, чем писателей. Больше всего уцелели поэты, ничем нас, разве что дихлофосом, не возьмешь… Выживают, продолжают люди нагло писать стихи, и неплохие стихи, что интересно. Тяжелее прозаикам. Прозаиков меньше. Я не имею в виду, кто детективы пишут, хотя там тоже что-то интересное встречается. Но я не имею в виду тех, кто пишет, чтобы зарабатывать, я говорю о тех, кто зарабатывает, чтобы писать. Прозаикам хуже. Если есть поэт, он может прочесть стихотворение, его послушают. Так вот представьте, прозаик вышел, читает роман... Не все пишут рассказы, многие пишут повести, романы, да и Лев Толстой, когда он читал вслух, по воспоминаниям своих современников, ему было самому тяжело читать. Мы помним, что «Зависть» Ю. Олеша вначале прочел вслух, и, тем не менее, все-таки представить себе сегодня вечер прозы по аналогии с вечером поэзии довольно сложно. А где «оставь надежду всяк сюда входящий», так это в критике. Критика как отдельный институт на постсоветском пространстве просто исчезла. Если мы встречаем сейчас критиков, то это либо поэт, либо прозаик. Приходится идти на такую вынужденную многостаночность, и он же сам литагент собственных произведений, потому что литагентов нет. В некоторых республиках, как я уже говорил, произошло почти исчезновение литературы. В других напротив, например, в Украине, в Белоруссии, в Латвии наблюдается появление заметных авторов литературных проектов. Появляются новые литературные группы, возни- Выступление Е. Абдуллаева на Чтениях гуманитарного семинара кают фестивали, возникают журналы и альманахи. Ну, например, в Узбекистане параллельно со «Звездой Востока» с 2000 года по 2005 год издавался альманах «Малый шелковый путь», я являлся одним из его соредакторов, потом мы перестали его по разным причинам издавать. Стал издаваться альманах «АРК». В Казахстане наряду с журналом «Простор» возник альманах «Аполлинарий» еще в 93 году. Интересно не то, что «жизнь продолжается», а что продолжается она в интересных, на мой взгляд, формах, с интересными авторами, с интересным текстом. Иначе это была бы просто суета, суета сует — просто скучно людям, вот они и хотят что-то сделать… и тогда об этом можно не говорить. А я об этом говорю, потому что, например, в том же Казахстане, если говорить о семинаре, который проводился под эгидой объединения «Мусагет» и альманаха «Аполлинарий» — оттуда вышел интересный поэт Ербол Жумагулов, прозаик Михаил Земсков. Контекст бытования русской литературы на постсоветском пространстве я бы определил рядом факторов. Понятно, хотим мы этого или нет, действует политический фактор. Например, степень свободы слова и свободы печати. Например, два выпуска альманаха «Малый шелковый путь», который мы издавали с Санджаром Янышевым и Вадимом Муратхановым, мы отпечатали в Москве. Четвертый альманах мы уже печатали в Ташкенте, это было одно из условий грантодателя. Нужно было искать гриф, без грифа никто не соглашался печатать. Потом этот альманах сам же грантодатель отнес, как он сказал, не цензору, а к «опытному человеку». «Опытный человек» прочел и сказал, что не криминально, что альманах не представляет угрозы. Единственно, что он потребовал… Там были напечатаны стихи киргизского поэта Вячеслава Шаповалова, которые назывались «Кировское водохранилище». «Опытный человек» потребовал «кировское» убрать. Это первое, и второе, мы альманах оформили фотографиями Владимира Жирнова, там еще советская фотография, очень интересная: площади Ленина бывшей, ныне площади Независимости. Там жерла фонтанов как будто гильзы, и вдалеке маленький памятник Ленину. И подпись. Мы знали, что у нас будут проблемы с Лениным. Сказали, центральная площадь города в 70-е годы, на что «опытный человек» сказал, замените на «Центральная площадь города в период тоталитаризма». После всего этого я сказал, что ничего не буду менять, как было, так и есть, так все и осталось. 99 Я бы сказал, что это еще бархатная ситуация, бывает посложнее. Так что от политики здесь не уйти. Экономический фактор тоже понятен: рынок должен быть. Важно кто печатает, как печатают, кто готов вложить деньги в публикацию. Опять-таки я сам себя хватаю за руку, говорю, ну если есть талантливый автор, он сам свои произведения распечатает на принтере, и если это стихи, если эта проза отличная — она пробьется, как-то сама выйдет, выберется. Я полностью с этим согласен, верю в это, десятки раз в этом убеждался. Бывает, попадает в руки текст, абсолютно не знаю этого автора, не знаю, откуда он... В 2003 году мне в руки впервые попал текст поэта Бориса Херсонского, у которого была только одна публикация, причем, на мой взгляд, не самая сильная. Я просто по этому тексту видел, поэт интересный. Потом он уже стал признанный, и публикуется… Все это понятно, и, тем не менее, как происходит, чем заполнен этот промежуток между автором и читателем, это важно и для автора, и для читателя. Он не должен быть стеной между автором и читателем, а он должен быть хоть и извилистым, но путем текста к читателям. Вы можете сказать, а, например, «Мастер и Маргарита», какие тут экономические факторы? Во-первых, я не считаю, что эта ситуация нормальная. Я не считаю, когда рукопись лежит десятки лет в столе, это нормально для литературы. А, во-вторых, хотим мы этого или нет, но движение рукописи, текста от автора к читателю, даже если автор помещает его в Интернете... Как читателю найти автора, своего поэта, как поэту найти, автору своего читателя? Поэтому мы и говорим здесь о фондах, о меценатах, о ком угодно. Но есть еще и собственно литературный фактор — какова эстетика, какова манера? Поскольку я во многом сторонник феноменологии Гуссерля, то до того, как дойти до таких эстетических факторов, нам нужно произвести несколько последовательных редукций. Потому что если мы изначально будем рассматривать литературу как нечто абсолютно внесоциальное, внеполитическое, внеинституциональное, то мы не сможем разгрузить эстетическую оценку от этих факторов, они будут все равно в подсознании сидеть. Хотя бы потому, что мы все учились в советской школе, и всем нам говорили о классовой позиции. И эта традиция оценки текста сидит - по этической, по идейной линии, по ценностной линии, что не так уж сильно различается. Например, движение «Идущие 100 вместе»... Они по ценностным своим ориентирам не приемлют Владимира Сорокина и сделали прозаику дополнительный пиар, устроив сожжение его книг... Что им не нравится в Сорокине? Ценности им не нравятся в Сорокине. Те ценности, которые автор транслирует через свои тексты. Хотя, на мой взгляд, Сорокин никаких ценностей не транслирует, и это как раз его беда. Для него более значим стиль, нежели некие эстетические и ценностные моменты его текстов. В этом, например, мое несовпадение с этим автором, при том что я осознаю, что это человек безусловно талантливый. Вот поэтому я так долго и так нудно говорю об институтах, не потому что я институционалист, нет, наоборот. Но именно потому, что этот момент нужно вытащить и понять, а что же это такое… Александр Сергеевич Пушкин писал: «Ты бог: живи один»… Сам Пушкин был не очень состоятельный человек, жил большей частью литературным трудом. Но для поэтов того времени — а это были по большей части аристократы, достаточно состоятельные люди, которые совершенно не нуждались во всей этой земной прозе, — говорить о социальных моментах не имело большого смысла. Сегодня же… не знаю, может быть, аристократы и тайные Корейко среди поэтов и прозаиков есть. Я не встречал. То есть встречал пару состоятельных авторов, но они были не очень интересны как поэты. Я не ставлю здесь прямую зависимость от состоятельности, но это важно. Опять, почему мы здесь? Почему? Потому что Сергей [то есть Сергей Мазур] смог найти финансирование. Куплен билет из Ташкента в Ригу. Эта та презренная проза, о которой современный литератор на постсоветском пространстве должен думать. Далее. Во всех республиках происходит, я могу сказать, я вижу это, вымывание диаспоры, старение диаспоры. Очень много сложных для литературы травматических процессов. И здесь чтобы состояться, чтобы выжить, чтобы сохраниться, невозможно без какой-то институциализации литературного свойства… Хотя мы тоже можем поспорить, что мы понимаем под литературой. Если под литературой понимать совокупность текстов, то, безусловно, разговор об институтах — внелитературного свойства. Я сам под литературой понимаю больше именно совокупность текстов и поставил бы здесь точку, жирную и красивую. Но ЧТЕНИЯ ГУМАНИТАРНОГО СЕМИНАРА вот вопрос, каких текстов? Текстов написанных? Как они у меня в мониторе, да? Или же текстов прочитанных? Перед кем прочитанных? Перед моей бабушкой? (Она очень любит мое творчество…) Или перед некоей аудиторией? Откуда ее взять? Третье — или текстов опубликованных? Где и как? Запущенных в Интернет? Почему бы и нет. Он не требует больших усилий. Опятьтаки куда? Здесь можно в «стихиру» (http:// www.stihi.ru/) отправить, это так же, как запечатать бутылку и плыви. Либо ты отправляешь в журнал или редактируемый сайт. Это другое. И еще: что для многих поэтов является единицей литературного высказывания? Стихотворение, как правило. И по нему я обычно сужу. Мне достаточно даже половины иногда, даже первой строчки достаточно. «Ах, как прекрасно загорались свечи…», все, я уже дальше не читаю, мне уже все ясно, там обязательно рифма будет — «вечер» и так далее. Но для многих авторов единицей высказывания является цикл. Он не реализуется как поэт, он не может реализоваться в одном стихотворении. Его масштаб — это цикл, почему бы и нет? Кстати, тот же Борис Херсонский — классический пример поэта эпического... Поэт-эпик, его распирает, он должен писать еще. А для многих поэтов, например, единица высказывания — поэтический сборник. Каждое стихотворение — оно как бы может и не очень сильно интересно. Но когда ты прочитаешь всю книгу... Вот, например последняя книга, точнее, она первая книга А. Василевского, главного редактора журнала «Новый мир», название не очень удачное, называется «Все равно», так вот до этого я встречаю стихи Андрея Витальевича, не очень нравились, в периодике. А я прочел книгу и могу сказать, что это интересно именно как книга. И вот здесь мы понимаем, что говорить о литературе только как о совокупности текстов мы не можем, потому что — что это за тексты, где эти тексты, как они сформированы? Это важно. Как они прочитаны, как они отправлены читателям? Поэтому я и собственно говорю в своих тезисах может быть, больше, чем это нужно, о литературных институтах, о группах, объединениях, об изданиях. Еще имена… На Украине сейчас самая интересная русская литература. Там есть авторы, я бы назвал и Александра Кабанова (Киев), и Бориса Херсонского (Одесса), покойная Наталья Хаткина, на мой взгляд, очень интересный поэт, которая недавно скончалась, супруги Дьяченко, прозаики, и так далее. Выступление Е. Абдуллаева на Чтениях гуманитарного семинара 101 Стихи, прочитанные Евгением Абдуллаевым на гуманитарных Чтениях БОРИС ХЕРСОНСКИЙ (УКРАИНА) В его жизни все складывалось совершенно великолепно: его желания угадывались, просьбы выполнялись, каждому его достижению радовались все, ожидая еще больших свершений. О его необычайных способностях говорили в городе, особенно удачные высказывания просили повторить. Воистину прекрасная жизнь. Жаль, что длилась она не более пяти лет. У нас сохраняется фотоснимок маленького серьезного мальчика в коротких штанишках и матроске. На обороте печатными буквами написано: «Боба! Кац!» НАТАЛЬЯ ХАТКИНА (УКРАИНА) *** Надо посуду вымыть, а тянет разбить. Это отчаянье, Господи, а не лень. Как это тяжко, Господи, век любить, каждое утро, Господи, каждый день. Был сквозь окно замерзшее виден рай. Тусклым моченым яблоком манила зим Как я тогда просила: «Господи, дай!» - На, - отвечал, - только будешь нести сама. АЙГЕРИМ ТАЖИ (КАЗАХСТАН) *** Раскрыли женщины внутреннее оперенье удивленному миру. Все замерли в восхищении и прикрыли веки от счастья. Слепой птицелов привычно расставил силки и, опустошая будущее, до конца жизни плел веер для своей некрасивой дочери. ДАЛЬМИРА ТИЛЕПБЕРГЕНОВА (КЫРГЫЗСТАН) *** Пора спать, — Сказал он И пальцами придушил огонь Свечи Птичья головка пламени встрепенулась, Словно моля о пощаде, И Погасла. Что я делаю в чужом доме? ШАМШАД АБДУЛЛАЕВ (УЗБЕКИСТАН) Внизу Затем заметней расчёсы глин у чагатайских ворот — какое там прошлое, эпический голод? Всего лишь воля мест, электризующая днем хвалёный мрак последнего июля, пускающая корни в чередовании частностей на переднем плане: столб, сарай, муха, летящая в черный фокус долгой жары, будто гонец только что донес письмо и сразу скачет назад, к своим, потный и маленький, через долину, в которой мы заперты с пятидесятых годов, но тут ещё тупик, пока ветер странствует с книжными клочьями и тасует рок далеких романов: просто пыльная страна — холодок безоконного дома, выбеленного до поворота в горное поле, где ломти змеиных гнёзд валяются, как выкидыш, в лучах лета. ЧТЕНИЯ ГУМАНИТАРНОГО СЕМИНАРА 102 ВАДИМ МУРАТХАНОВ (УЗБЕКИСТАН) *** Мне легче быть с тобой – недавней, придуманной на жизнь вперед, на жизнь короткую, когда в ней светло и тень твоя берет мое лицо в ладью ладоней, покуда кровь твоя и плоть гремит посудой в чуждом доме, тревог не в силах побороть, и видно ей в закрестье рамы, как тень из отступивших сфер идет с цветочными дарами навстречу сквозь пустынный сквер. АЛИНА ТАЛЫБОВА (АЗЕРБАЙДЖАН) Ветер ...Он наповал валил дома, Оправданий не дослушав. И плясали дерева, Словно шарики воздушные В детском кулачке Земли... И неслись по небу урны, Светофоры, корабли... Он срывал кольцо с Сатурна Как неплотное кашне. И цеплялись мы за стены В страхе как бы душу не Выдуло совсем из тела... АЛЕКСАНДР КАБАНОВ (УКРАИНА) *** Крыша этого дома — пуленепробиваемая солома, а над ней — голубая глина и розовая земля, ты вбегаешь на кухню, услышав раскаты грома, и тебя встречают люди из горного хрусталя. Дребезжат, касаясь друг друга, прозрачные лица, каждой гранью сияют отполированные тела, старшую женщину зовут Бедная Линза, потому, что всё преувеличивает и сжигает дотла. Достаешь из своих запасов бутылку “Токая”, и когда они широко открывают рты – водишь пальцем по их губам, извлекая звуки нечеловеческой чистоты. ИННА КУЛИШОВА (ГРУЗИЯ) Из монастырских песен Выходит женщина-сестра, бросает из ведра на землю воду, ей с утра послушник два бидона принес. Аминь. И не стара, не молода, она мудрена. И бьет-ласкает пол и проч. женщина-дочь, ей солнце вслед глядит и прочь уходит, глянув в два бидона. Любовь ей в ступе не толочь, внутри горит икона. А вдалеке война шумна, и плачет мужняя жена, сотворена, шлет Богу два поклона. А третий выбросит война на поле небосклона. Святую воду певчий пьет, и в алтаре монах поет, и слышит Бог движенье нот, и женщина в платке суконном, в луч обращенная, идет на тихий свет с амвона. Л. Чернов — Советское эхо: критическое рассуждение о работе И. Злотникова и А. 103 FEEDBACK Леонид Чернов Советское эхо: критическое рассуждение о работе И. Злотникова и А. Левинтова «Содержание и типология схем в СМД-методологии (введение в тему)» После прочтения небольшой, ёмкой и содержательной работы «Содержание и типология схем…» И. Злотникова и А. Левинтова в первую очередь возникает вопрос об аудитории, на которую ориентирована данная работа. Так или иначе, всякий автор подразумевает, а зачастую — знает, кто будет его читать, кто будет обсуждать его идеи и тезисы его работ. Такого рода интуитивное подразумевание, надеюсь, присутствовало и у авторов данной работы. Хочется, чтобы тебя понимали, читали, обсуждали, хочется хоть на немного, пусть на чуть-чуть, расшевелить обленившееся читательское воображение. Под этим углом зрения адресата я и предлагаю понять содержание статьи. Итак, первое, что отмечается в этой потенциальной читательской аудитории — так это её желание думать, мыслить. Цитирую самый проникновенный, на мой взгляд, отрывок рассматриваемой статьи: «В ситуации нынешнего кризисного, а порой и катастрофического мира к решению частных метафизических и онтологических задач обращается все большее количество людей. Осмысленность такой внутренней работы осознается всё шире и глубже. Онтология и метафизика индивидуальной жизни превращается в обязательное условие осмысленности собственных дней, лет и десятилетий. Люди вынуждены оценивать себя с точки зрения собственной онтологии мира и метафизики собственной жизни. Одновременно они всё больше опираются на автопоэзис себя и своей среды обитания, на вслушивание в своё «Я» поверх и сквозь «шёпот чужих мнений». В данном отрывке мы видим, что авторы стоят на позициях «осмысленности» человеком оснований собственной жизни, на позициях «оценивания себя», вслушивания в себя, иными словами — на той точке зрения, что человек должен думать сам, а не быть бараном в «шёпоте» и крике современной толпы, СМИ, рекламы и проч. Если редуцировать содержание этих призывов к простому философскому тезису, то перед нами окажется традиционное античное — «Человек, познай самого себя». Нет необходимости соглашаться с таким тезисом или опровергать его, ибо, с одной стороны, с классиками спорить — дело неблагодарное, а с другой — думать и познавать себя современному человеку действительно нужно, дабы оставаться человеком в первую очередь. Тем более, что данный призыв на протяжении всей истории философии мы слышим от каждого без исключения мыслителя, от Сократа, Плотина, Августина, Декарта до Ортеги-и-Гассета, Сартра и Хайдеггера. И предполагается, что содержание данной работы каким-то образом поможет читателю в этом познании. Однако здесь возникает некоторое условие, без которого это самопознание является затруднительным. Спрашивается, а какой такой человек должен и может познавать самого себя тем способом и образом, который предлагают авторы статьи? Обычный простой человек? Инженер, учитель, врач, художник, поэт. Кто? Умеющий читать и прочитавший несколько философских книг для того, чтобы усвоить — что такое метафизика и онтология. Или тот, кто прочитал всю подшивку журнала «Вопросы методологии» и для кого СМД-методология является чем-то давно знакомым и привычным. Здесь и возникает первый вопрос, касающийся читательской аудитории. Если аудитория читателей данной работы — люди, занимавшиеся и занимающиеся СМД-методологией, люди, участвовавшие и организовывавшие ОДИ в советскую и постсоветскую эпоху, тогда 104 почти все замечания к этой работе оказываются лишними и неуместными. Тогда многое в тексте становится понятным и ясным. Тогда позволительно «онтологию» и «метафизику» — эти довольно строгие философские понятия, употреблять через запятую в сугубо метафорическом значении. Тогда позволительно и запросто разводить «жизнь» и «деятельность», тогда позволительно говорить о схемах в философии, как будто они там действительно есть, тогда можно говорить и писать о формальных схемах без конкретного предмета схемы. Тогда можно интересно, правомерно и корректно углублять то, что было создано в советскую эпоху как «небольшая», «маленькая» языковая альтернатива официальному марксизму, официальной идеологии, советскому научному идеологизированному языку, языку советской бюрократии и официозу комсомольских собраний. В этом случае такая аудитория авторов поймёт. Поймёт и простит им и «исихастию», и «схему Бога» и «универсумально-духовное» и многое другое. Тем более, что даже не принадлежа к данной аудитории, я оцениваю ту смелость, с которой авторы статьи вносят дополнения именно в типологию методологических схем. Ведь как известно из истории философии и науковедения, именно новые типологии в науке подвергаются жесточайшей и беспощадной критике в первую очередь. В качестве примера можно привести критику Полом Фейерабендом идеи Томаса Куна о научных революциях / парадигмах. Но если аудитория данной статьи — читатели, не знакомые с СМД-методологией, ни разу не участвовавшие в ОДИ или даже не слышавшие про это яркое и интересное позднесоветское явление, тогда язык этой работы покажется им по меньшей мере странным и чрезвычайно запутанным. А содержание, выраженное этим языком — крайне туманным и неясным. А то, что авторы рассчитывают не только на аудиторию искушённых методологов, но и на широкую интеллектуальную, думающую аудиторию в принципе, доказывается цитированным здесь призывом «познать себя», и, собственно, тем нововведением, а именно — двумя типами новых схем, которые включают в себя феномены повседневной жизни человека. Такие, как: детство, власть, человечность, смысл жизни. Конкретные схемы, которые даны в конце работы И. Злотникова и А. Левинтова, являются лучшим доказательством того, что их работа рассчитана на тех, кто вообще думает FEEDBACK о смысле жизни, без привязки к методологическому прошлому советской философии. Кто думает о времени своей жизни, о собственной идентификации, иными словами — на тех самых инженеров, поэтов, учителей, врачей, о которых говорилось выше. Второй же вопрос о читательской аудитории данной работы ставится следующим образом: как доказать читателям, что новые типы схем, которые предлагают авторы, действительно необходимы и нужны в новых социальных условиях. А именно: схемы «мыслежизнедеятельностные» и «жизнедеятельностные». И вот этот вопрос, на мой взгляд упирается в неразрешимый парадокс. Для того, чтобы убедить неискушённого в методологии (читай — советской СМД-методологии) читателя в значимости и актуальности нового методологического содержания, необходимо этого читателя убедить в том, что СМД-методология есть в действительности интеллектуальное, рефлексивное, мыслительное занятие. Занятие философское и полезное для понимания читателем того, кто он такой. То есть проще — заинтересовать читателя в самих основах СМД — методологии. Авторы, очевидно, такой задачи специально не ставят. Они, по всей видимости, предполагают, что в процессе изложения этого материала (материала статьи) сама методология, в том виде, в каком они её представляют, скажет за себя, т.е. будет проявлять себя как мышление и как интеллектуальная деятельность. И таким образом будут убиты сразу два зайца: корректное введение новой типологии и убеждение в том, что методология вообще это хорошо, полезно и интеллектуально. Вот тут-то и начинают возникать основные проблемы, приводящие к парадоксу непонимания. И они неизбежны и, я бы сказал — естественны. Ведь для введения и обоснования новых схем необходимо пользоваться разработанным и понятным языком. Напоминаю, понятным для всех, для того, кто в принципе желает понять. Но как понять такие эзотерические термины-метафоры, как: «этажерка», «СМД-освоение», «трельяж», «схема велосипеда», «ага-понимание». Само название статьи содержит в себе аббревиатуру (СМД–методология), за расшифровкой которой необходимо специально заглядывать в словарь. Благосклонный читатель понимает, допускает и читает в статье прямым текстом, что авторы работают в границах и по правилам определённой школы, но как понять читателю, на- Л. Чернов — Советское эхо: критическое рассуждение о работе И. Злотникова и А. Левинтова пример, такую вещь — в чем отличие деятельности от жизни? Разве деятельность не есть жизнь, а жизнь противостоит деятельности? Если в словосочетании «мысле-деятельность» ещё есть отголоски аристотелевского и декартовского дуализма между формой и материей, между мыслящей и протяжённой субстанциями, то в самом словосочетании «мысле-жизнедеятельность» сами значения слов запутываются в плотный клубок. Например, у Декарта было так — если «Я» мыслю, значит существую. Является ли это декартовское существование жизнью с точки зрения авторов статьи или же только деятельностью? Или, к примеру, Ницше полагал, что человеку нужно ориентироваться на жизнь, её полноту и цельность. Но тогда возникает вопрос, можем ли мы жизнь, с точки зрения Ницше, назвать деятельностью? Может, жизнь в понимании Ницше — не деятельна? Хотя именно жизнь деятельна у Ницше, ибо эту жизнь он связывал с властью и силой. Но почему Ницше не разводил эти термины, а предпочитал их соединять? Задавая подобного рода вопросы благосклонный и интеллектуальный читатель заодно вспомнит, что ни у Ницше, ни у Декарта, ни у Аристотеля он никаких схем и в помине не видел. Но зачем же тогда авторы статьи пишут, что СМД–методология «вернула» в философию схемы? Ведь вернуть можно только то, что было в наличии, а потом сделалось утраченным. А оказывается, что в наличии философии и в наличии мыслительной деятельности схем никогда не было. Платоновский Сократ так тот вообще был против того, чтобы записывать сказанное. Приведу ещё один конкретный пример, доказывающий, на мой взгляд, крайнюю степень запутанности и нечёткости языка и содержания данной работы. Не ясно, почему такие феномены как «транспорт» и «образование» обсуждаются и анализируются в рамках мысле-жизне-деятельностных схем, а такие как «детство» и «жильё» в рамках схем уже только жизне-деятельностных? Ведь очевидно, что жильё связано с транспортом и в некотором смысле сегодня транспорт представляет собой специфическую форму дома, жилья. А то, что «детство» и «образование» взаимопроникают друг в друга, не могут и не должны исследоваться по отдельности — очевидно в ещё большей степени и понятно на уровне здравого смысла. Разве человечность, власть, детство, жильё — не должны осмысливаться? Если да, тогда они должны быть включены в схемы мысле-жизнедеятельстные, а между тем — эти понятия, 105 по мнению авторов, должны обсуждаться в границах сугубо жизне-деятельностных схем. Как будто для того, чтобы понять власть, не нужно думать, т.е. «включать» мысль. Задавая себе эти и подобного рода вопросы, читатель не только не поймёт и не оценит оригинальности и новизны двух новых предложенных схем, но и сам статус СМД — методологии сделается для него очень неопределённым и крайне двусмысленным. В лучшем случае получится так: читатель скажет себе — я не понял содержание этой работы, наверное, она слишком сложна для моего восприятия, наверное, я чего-то не знаю и не понимаю. Рискую предположить, что таких читателей будет большинство. И тогда мы оказываемся либо перед верными читателями-методологами старой советской и постсоветской закалки, либо перед самими собой. Т.е. перед теми кто писал данную работу, ориентируясь, как мы пытались доказать выше — сугубо на самих себя. Сам пишу, сам читаю, сам обсуждаю… Я вновь спрашиваю и сам же отвечаю на вопрос — почему в данной работе так много очевидных противоречий, простых и явных неувязок со здравым смыслом? Ответ, мне думается, таков. Потому, что так называемая СМД — методология и тот вариант её развития, который предлагают здесь авторы статьи — сегодня, в постсоветских условиях, есть деятельность сугубо индивидуальная, ситуативная. Это деятельность подобная той, которую совершают один на один в тиши кабинета врач и пациент, психотерапевт и его подопечный. Это деятельность подобная той, которую совершают в классе ученики или на семинаре его участники. У этого семинара есть определённая тема, у этого семинара есть ведущий и на этом семинаре на доске рисуется не одна и не две схемы, а столько, сколько преподаватель и учитель посчитают нужными нарисовать. И при описании этих схем можно употреблять такие слова, как онтология, метафизика, рефлексия, медитация, дискурс, методология и много других слов из разных областей и сфер знания. И это будет допустимо и корректно потому, что у семинара, у урока, у встречи пациента и врача есть конкретная цель, задача и поставленная проблема, которую нужно решать. Решение этой проблемы будет оправдывать собой и смешение терминов, и некорректность употребления незнакомых слов и много другое. Почти всё. Лишь бы пациент перестал бояться темноты, заикаться, пить, курить, моргать и т.д. Лишь бы группа менеджеров или домохозяек после семинара перестали ругаться с начальниками, мужьями, 106 детьми, начали размышлять о своей жизни и становиться просто благожелательнее и добрее друг к другу. Повторяю, ради этих благородных задач допустимо смешивать и разводить метафизическое и онтологическое, «универсумальное» и духовное, рефлексивное и мистическое. Вот только рисунки на доске или на листочках, оставшиеся после такого рода деятельности, нужно прятать в семейный альбом или прикреплять в отчётность по заработной плате. Потому что всякий раз для решения конкретной задачи появится новый рисунок, новая схема и новая таблица. Иначе и не может получиться, ведь для того, чтобы универсализировать схемы, давать их типологию и рассуждать об их универсальности — нужно в первую очередь обозначить предмет, о котором размышляет исследователь. А без предмета, конкретного аспекта, объекта анализа (человека боящегося, пьющего, курящего, злого, доброго, глупого, умного) методологическая схема пуста, не строга, она будет всеобщей и поэтому она должна будет допускать в себя неточности и неясности как обязательное условие. Ситуативность и нормативность здесь несовместимы, поскольку методология в том виде, в котором она представлена здесь — сугубо функциональна, она служит не истине, не закону, не идее, а ситуации. А под ситуацию позволительно рисовать любую картинку, любой чертёж. FEEDBACK Но даже и это не беда и не тупик для читателя данной работы, для читателя думающего и достаточно внимательного. Тупик в том и тогда, когда неточность и нестрогость называют мышлением, когда в явном и скрытом виде пытаются сказать читателю о том, что рисование схем, картинок и иллюстраций есть думание, размышление, рефлексия, интеллектуальная жизнь, медитация. Выход из такого тупика прост: либо я решаю конкретные задачи (свои, моего коллектива, семьи, города), и тогда я рисую подручные рабочие схемы, таблицы и рисунки. Либо я действительно задумываюсь над тем, что такое мышление и кто «Я» в действительности такой. Но тогда я начинаю думать, размышлять, и в первую очередь над тем, как жизнь, деятельность связаны с мышлением. Как это делали Декарт и Кант. И уж вот тут-то мне придётся начать с того, чтобы развести «мысль и деятельность», «жизнь и деятельность», «мысль и жизнь», т.е. начать с того, что для авторов данной работы не является ни проблемой, ни вопросом. А там, где этих вопросов нет, т.е. там, «в голове» у того читателя, который на веру принимает сами словосочетания «мыследеятельность», «мыслежизнедеятельность» и т.д., там рискует не появиться никакого мышления и рефлексии, о которых так искренно пишут в данной работе её уважаемые авторы. Н. Шром — 11-12 выпуск информационно-аналитического сборника «Берега» 107 Критико-библиографический раздел Анатолия Ракитянского Наталья Шром 11-12 выпуск информационно-аналитического сборника «Берега» Информационно-аналитический сборник «Берега» вот уже несколько лет издается информационно-культурным центром «Русская эмиграция», который был создан в 1998 году по инициативе Законодательного собрания Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств, а также по личной инициативе писателя Даниила Гранина. От иных изданий, посвященных изучению русской эмиграции, «Берега» отличает информационность и прагматичность. При формировании разделов и отборе материала составители руководствуются стремлением представить такого рода материалы, которые могут быть использованы специалистами для последующих исследований, и делают акцент на информационные жанры. 11-12 выпуск «Берегов» посвящен феномену русского зарубежья в странах Балтии. Главная тема сборника — история русской эмиграции в Латвии и Эстонии. Все публикации отличает чрезвычайная актуальность проблематики. Здесь представлены малоизвестные «балтийские эпизоды» биографии поэтов и прозаиков (комментарий Л. Спроге письма Виктора Третьякова к Вяч. Иванову в Рим 1937 г.; статья С. Ковальчук об Игоре Чиннове), исследование латвийского усадебного быта (статья Н. Тамарович, посвященная «усадебным» очеркам С. Р. Минцлова), описание художественной жизни Риги 1920-х — 1930-х гг. на примере биографий художников Н. П. Богданова-Бельского, С. А. Виноградова, К. С. Высотского (очерк Н. Лапидус). Публикуемые на страницах журнала общие обзоры изучения русской диаспоры в Латвии и Эстонии (статьи А. Ракитянского и С. Исакова и др.) сопровождаются многочисленными ссылками на важные относящиеся к теме публикации, что свидетельствует об их глубине и обстоятельности фактологии. К числу обзор- ных публикаций относится и статья А. Массова, где автор представляет материал библиотеки Квинслендского университета (Австралия), а именно: коллекцию различных документов по истории русской иммиграции в Австралии, которые были собраны и научно обработаны двумя австралийскими учеными — Томасом Пулом и Эриком Фридом. Материалы, подобные «Бумагам Пула и Фрида», отсутствуют в российских библиотеках либо представлены отдельными экземплярами. В рубрику входит также историографический обзор культурнообразовательной деятельности эмигрантов в Китае в конце XIX — первой половине XX вв. (автор О. Косинова), результатом которой стало создание крупного культурно-образовательного пространства, позволившего успешно развиваться различным отраслям науки и искусства. Материал известного эстонского искусствоведа Е. Кальюнди о петербургско-эстонских архитектурных связях XVIII — XX вв. подготовлен к публикации историком архитектуры С. Левошко (Санкт-Петербург). Статья является введением в перспективное, важное для обеих сторон проблемное поле петербургско-эстонских архитектурных контактов и взаимовлияний, более масштабное рассмотрение которого в настоящее время осложнено в силу недостаточного количества выявленных в этой области фактов. Архивный блок представлен статьей А. В. Амфитеатрова (1862 – 1938) из варшавской газеты «За Свободу» (1923 г.). Публикуемый текст был практически недоступен российским ученым. Он был обнаружен в материалах фонда А. В. Пешехонова в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки и подготовлен к изданию П. Базановым и И. Шомраковой. Статья посвящена проблемам книжного дела русской 108 Критико-библиографический раздел Анатолия Ракитянского эмиграции и содержит информацию «из первых рук» не только в виде основного текста статьи, но и примечаний к ней А.В. Амфитеатрова. Героями рубрики “Personalia” выступают участник французского Сопротивления и биограф матери Марии И. А. Кривошеин (1899 — 1987) — ему посвящен очерк А. Шустова, а также сестры-художницы Александра и Дария Олсуфьевы, которые внесли значительный вклад в изобразительное искусство Италии. Очерк об их судьбе в эмиграции (автор М. Талалай) сопровождается фотографиями и репродукциями работ. Отдел рецензий открывает обзор И. Л. Полотовской, посвященный юбилейному тому избранных публикаций Л. А. Мнухина «Ито- ги и истоки», приуроченному к его 70-летию. Рецензент подчеркивает необычайную информативность опубликованных материалов, которые не только характеризуют всю палитру творческих интересов Л. А. Мнухина, но и знакомят со многими проблемами изучения Русского Зарубежья, русской эмиграции. Наличие в рубрике двух рецензий на сборник «Художественная культура русского зарубежья: 1917-1939 гг. (авторы Т. Джурова и Д. Северюхин) объясняется большой значимостью издания, посвященного малоизученному искусству эмиграции. Научный сборник охватывает широкий круг лиц и явлений художественной культуры, в том числе и совсем малоисследованные, например, церковно-певческая культура или православное зодчество за рубежом. Рубрика «Электронные ресурсы» содержит диагностику информационной ценности российских электронных ресурсов последних лет. В рубрике «Библиография» представлен перечень авторефератов и диссертаций по русскому зарубежью за 2007 г. (составлен Е. Панковой), их количество является лучшим доказательством высокой научной значимости проблемы русского зарубежья. Хроникальный раздел содержит материалы о международной конференции в Университете Мессины в феврале 2009 г. (автор Донателла Сивьеро), о втором международном кинофестивале «Русское зарубежье» (Москва, 2008), о московской конференции в БФРЗ по мемуарам первой волны эмиграции в ноябре 2008 г. (автор Н. Ликвинцева), а также материал о 2-м Форуме «Русский язык вне России» (автор Е. Симановская), который продолжает тему преподавания русского языка как иностранного. Рецензируемый сборник, как и все предыдущие издания «Берегов», вносит существенный вклад в изучение обширной проблематики русского зарубежья. Авторский коллектив 109 Авторский коллектив Евгений Абдуллаев – русский поэт, прозаик, критик, кандидат философских наук Борис Аврамец – музыковед, Dr. art, профессор Рижской Академии педагогики и управления высшим образованием Вадим Бакусев – свободный исследователь, автор книги «Лестница в бездну», переводчик философской, психологической и художественной литературы. Александр Бикбов – социолог, ассоциированный сотрудник Центра Мориса Хальбвакса (Париж), зам. директора Центра современной философии и социальных наук Философского фак. МГУ Борис Бим-Бад – доктор педагогических наук, профессор, академик Российской академии наук Сергей Мазур – преподаватель истории Рижской средней школы им. Оствальда Борис Равдин – латвийский историк, литературовед Анатолий Ракитянский – библиофил, член правления Латвийского общества русской культуры Алексей Романов – философ, докторант РГГУ, редактор Альманаха «Русский мир и Латвия» Марута Рубезе – редактор программы “Классика” на Радио-4 Юрий Сидяков – доктор филологии, Латвийский университет Феликс Талберг – рижский историк-краевед Леонид Чернов – доцент, кандидат философских наук Екатеринбургского государственного университета. Наталья Шром – доктор филологии, доцент Латвийского университета 110 Общество Shh в Доме Русского Зарубежья Общество SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS в Доме Русского Зарубежья 4 февраля 2010 г. в Доме Русского Зарубежья состоялась презентация XXI выпуска Альманаха, посвященного русской интеллигенции