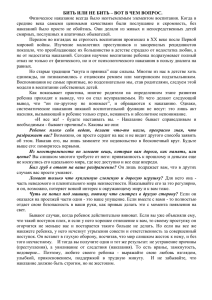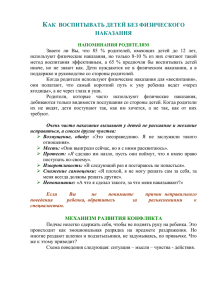ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет» на
advertisement
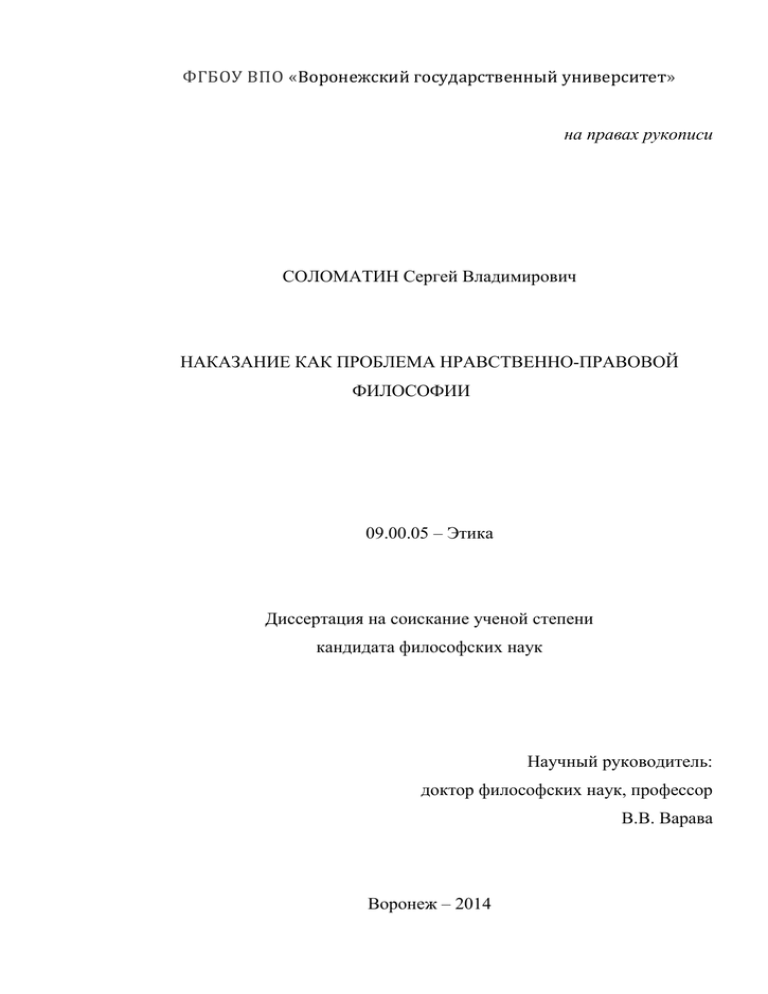
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет» на правах рукописи СОЛОМАТИН Сергей Владимирович НАКАЗАНИЕ КАК ПРОБЛЕМА НРАВСТВЕННО-ПРАВОВОЙ ФИЛОСОФИИ 09.00.05 – Этика Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук Научный руководитель: доктор философских наук, профессор В.В. Варава Воронеж – 2014 ОГЛАВЛЕНИЕ Введение …………………………………………………………………….3 Глава I. Наказание как экспликация вины и возмездия ………………..…….15 1.1. Феномен вины в социокультурном измерении …………………………..15 1.1.1. Культурно-историческое и психологическое понятие вины ………….16 1.1.2. Религиозные и юридически-правовые параметры вины …….………...24 1.2. Феномен вины в нравственном измерении ……………………………….38 1.2.1. Вина и оправдание ………………………………………………………..38 1.2.2. Метафизическая вина как этическая категория ………………………..46 Выводы по главе I…………………………………………….…………………59 Глава II. Нравственные противоречия наказания………………………..……62 2.1. Проблема «злого» начала человеческой природы ……………………….62 2.2. Нравственная асимметрия преступления и наказания …………………..81 Выводы по главе II…………………………………………………………..…105 Глава III. Проблемы и перспективы современной пенитенциарной системы ………………………………………………………………………………..….109 3.1. Пенитенциарная система и моральные ценности общества ……...........110 3.2. Перспективы гуманизации пенитенциарной системы ………………….128 Выводы по главе III…………………………………………………………….145 Заключение ……………………………………………………………………..149 Библиография …………………………………………………………..............155 2 Введение Актуальность темы исследования. Правовая мысль со времен Платона, сказавшего в «Законах», что «никто никогда не должен оставаться безнаказанным за какой бы то ни было поступок»[109; 340], не сомневалась в необходимости и неизбежности наказания за совершенное и доказанное преступление. При этом, проблемное поле, связанное с феноменом наказания, выходит за пределы правовой сферы. Традиционно эта проблема привлекает внимание и философии, которая занимается связанными не только с неизбежностью преступления, вопросами, но и с оправданностью наказания. Иными словами, философию интересует этика и метафизика преступления и наказания. Нужно сказать, что проблема преступления и наказания, к сожалению, «вечная» проблема [108]. Исследователи отмечают: «С тех пор, как существует цивилизация, истинная трагедия человеческого существования заключается в необходимости жить среди повседневно происходящих преступлений, видеть их отталкивающую суть, понимать весь их ужас и, вместе с тем, не иметь достаточных духовных сил, чтобы решительно и навсегда покончить с ними» [7; 7-8]. Философия фиксирует неустранимость этого трагического феномена человеческого бытия, чья трагичность равна трагичности самой смерти. В то же время, нравственная природа человека такова, что он не мирится с таким положением вещей, находясь в постоянном поиске решения, по крайней мере, улучшения ситуации в криминальной сфере. Поэтому эта тема актуальна всегда: «…никогда не теряет своей актуальности проблема преступления и наказания. Человечество упорно ищет пути нравственного исправления каждого преступника, а следовательно, и общества в целом» [116; 3]. И здесь решающее значение приобретает нравственное измерение проблемы наказания, поскольку всегда обнаруживается противостояние двух 3 путей: путь жесткого и часто жестокого наказания и путь воспитания и убеждения. За этими путями стоят разные этические и антропологические мировоззренческие представления. Напряжения и конфликт между ними неизбежен, и часто, только суровое наказание может хоть как-то оправдать и искупить бесчеловечные преступления. Однако, общечеловеческий нравственный опыт показывает, что гуманистический путь, то есть путь духовного, нравственного искупления и преображения человека является в конечном счете и наиболее эффективным. Но он требует больших затрат в плане напряженной духовной работы. Конечно, легче наказать, чем попытаться исправить. Да и сами исправители должны быть на соответствующей моральной высоте, что бывает крайне редко. Все это в значительной степени проблематизирует проблему наказания, которую необходимо рассматривать преимущественно в этическом ключе. Почему именно в этическом? Потому что, как говорит современный исследователь А. П. Скрипник: «Нравственность является неотъемлемой стороной человеческого бытия. Именно в ней выражена сущность человека» [134; 99]. Это не единичное мнение. Многие исследователи отмечают, что наказание проблематично в нравственном смысле и поэтому требует обоснования и оправдания, поскольку здесь речь идет о взаимодействии моральных субъектов в аспекте совершения одних над другими насильственных действий [152; 19]. Проблема еще и в том, что само наказание часто становится злом, становясь преступлением. Лев Толстой считал, что всякое наказание преступно; современные авторы также считают, что наказание есть зло. В. Ф. Хохряков в книге «Парадоксы тюрьмы» пишет: «наказание в виде лишения свободы само по себе зло» [162; 4]. И это далеко не частные представления, но достаточно цельная сформировавшаяся традиция. Такая позиция возбуждает целый ряд серьезных философских проблем, которые на современном этапе развития гражданского общества в России 4 также требуют пристального внимания и самостоятельного исследования. Можно говорить о пенитенциарном догматизме в современной системе исполнения наказаний, в которой делается акцент на наказание, а не на исправлении личности, совершившего правонарушение. Что, естественно, не улучшает криминогенную ситуацию в обществе. Это обусловлено тем, что сама пенитенциарная система, являясь частью государственно- общественного организма, перенимает все его пороки и отрицательные характеристики. Нравственные деформации пенитенциарной системы, в результате чего наказание не достигает своих воспитательных целей, будучи, во-первых, неадекватным и несоразмерным преступлению, и, во-вторых, в силу бесчеловечных нравов, царящих в уголовно-исправительных учреждениях, само становится поводом для преступления. В этом контексте существенной частью исследования является аналитика нравственного состояния современного общества, которое, по мнению многих видных ученых и общественных деятелей, находится в состоянии глубокого кризиса. Приведем некоторые авторитетные суждения. Профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», известный философ В. Н. Порус говорит: «Без преувеличения можно сказать, что мы живем в больном обществе… Это растущая социальная и культурная дезинтеграция, огромное имущественное неравенство, которому трудно найти аналоги в отечественной и мировой истории, инвалидная экономика, перекошенная в сторону торговли природными ресурсами, неслыханные масштабы воровства и лихоимства – а на этом фоне беспрецедентный рост криминала, парадоксально связанного с «полицейским беспределом», демографический спад, невиданные масштабы детского сиротства и одиночества стариков, техногенные и антропогенные катастрофы перестают быть сенсациями, входят в обыденность» [114; 218]. Подобная ситуация во многом обусловлена состоянием политического климата, сложившегося в стране в последнее время, который не способствует социальной мобильности, необходимой для гражданского общества и 5 развитию его демократических институтов. Заместитель директора Института философии Российской академии наук С. А. Никольский пишет: «И хотя со времени крушения СССР минуло более двадцати лет, однако авторитаризм, недоразвитие института собственности, игнорирование или манипулирование правом сохраняются до нынешнего дня» [97; 206]. Неправовое государство с больным обществом и кризисной культурой не может не оказывать самого негативного валяния и на судебную систему в целом, и на пенитенциарные институты, в частности. Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, заслуженный юрист Российской Федерации С. А. Пашин говорит, что в отечественной истории за редким исключением «суд был и есть всего лишь послушный инструмент в руках государства, обслуживающий его силовые структуры, а то и вовсе выступающий механизмом реализации воли одного лица». И как следствие: «Существующие в России технологии уголовного преследования по-прежнему носят неоинквизиционный характер» [107; 306]. Эти неутешительные выводы ведущих современных специалистов в области философии и права показывают, насколько сложны сегодня условия существования пенитенциарной системы. В этом контексте актуализируется вопрос о гражданском контроле над пенитенциарной системой, о необходимости которого в свое время говорил еще Гегель. В «Философии права» немецкий философ писал: «Обеспечение государства и тех, кто находится под его управлением, от злоупотреблений властью ведомствами и их чиновниками заключается, с одной стороны, непосредственно в их иерархии и ответственности, с другой – в правах общин, корпораций, посредством чего привнесению субъективного произвола в доверенную чиновникам власть ставится для себя препятствие, и недостаточный в отдельных случаях контроль сверху дополняется контролем снизу» [24; 334335]. Все это приводит к главному выводу о необходимости фундаментальных реформ в этой сфере, которые должны опираться на 6 этический опыт и нравственную рефлексию мировой и отечественной философской мысли. Степень научной разработанности проблемы. В существующей литературе затрагиваются, как правило, правовые, религиозные, социальнокультурные параметры института наказания (А. Г. Безверхов, Е. В. Благов, О. А. Бундаева, В. И. Зубкова, Н. А. Иванова, Н. Кристи, К. В. Михайлов, М. Н. Становский, О. В. Старков, П. Е. Суслонов, А. Ф. Фомивко, Г. Ф. Хохряков и др.). Особое место занимают исследования, связанные с пенитенциарной проблематикой в различных аспектах (С. М. Зубарев, А. И. Зубков, Г. Ю. Иконникова, А. Ф. Галузин, В. М. Поздняков, И. В. Разумова, И. В. Упоров, А. Н. Олейник, М. Г. Детков, А. Г. Сломчинский и др.). Исследовательскую литературу, в которой рассматриваются нравственные аспекты наказания, можно разделить на две группы. Первая – это авторы из юридической, уголовно-правовой, криминологической сферы, которые затрагивают этические проблемы наказания (Ф. Лист, Н. Кристи, Г. Ф. Хохряков, И. И. Карпец, Г. В. Назаренко и др.) Вторую группу образую авторы, принадлежащие собственно к этикофилософскому дискурсу, в центре внимания которого нравственные проблемы преступления и наказания. Здесь выделяются работы классиковписателей и философов (Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, Ф. Ницше), а также работы современных авторов (А. П. Скрипник, В. А. Бачинин, А. А. Гусейнов, Р. Г. Апресян, О. П. Зубец, А. К. Судаков и др.). Важную группу составляют авторы, которые исследуют психологические аспекты феномена наказания. Их исследования, как правило, приводят к совмещению этических и психологических позиций (К. Леонгард, Ю. М. Антонян, Р. Мей, Х. В. Райнфрид). Особое место занимает книга Швейцарского психотерапевта Х. В. Райнфрида «Убийцы, грабители, воры… Психотерапия в системе исполнения наказаний», в которой определяющей является этическая ориентация исследователя. Здесь мы находим синтез 7 этики и психотерапевтической практики, направленной на ресоциолизацию преступника, на перемену криминальных ценностных установок личности. Эта книга способствует реальной гуманизации существующей пенитенциарной системы. В существующей литературе нужно особо выделить следующие работы, наиболее точно соответствующие заявленной нами исследовательской тематике: монография В. А. Бачинина «Достоевский: метафизика преступления», в которой рассматриваются такие важные понятия как метафизическая психологема «вины всех за всех»» и философия и психология наказания; монография И. И. Карпец «Уголовное право и этика», в которой автор ставит вопрос о нравственной оправданности наказания; книга Г. Ф. Хохрякова «Парадоксы тюрьмы», в которой поставлен ряд сложнейших моральных проблем, связанных с уголовно-процессуальной системой; монография Н. С. Прокуровой «Не сотвори зла. К проблеме преступления и наказания в русской художественной литературе и публицистике», где на богатом историко-литературном материале обстоятельно рассматриваются многие нравственные коллизии, которые волновали отечественных писателей и публицистов XIX века; монография А. П. Скрипника «Моральное зло в истории этики и культуры», в которой рассматривается вопрос о том, является ли зло свойством человеческой природы; книга французского философа В. Янкелевича «Прощение», в которой дается уникальная этико-философская реконструкция феномена прощения; сборник статей «Государство. Общество. Управление» (под ред. С. Никольского и М. Ходорковского), в котором известные сегодня авторы (ученые и общественные деятели) выступили по острым и актуальным проблемам человека, государства и гражданского общества в современной России, что способствует пониманию нравственного состояния современного общества и государства, неотъемлемым элементом которого является пенитенциарная система. 8 Однако вопросы нравственной противоречивости наказания, антиномичности его содержания возникают не часто. Этим и обусловлен наш исследовательский интерес. Исходя из вышесказанного, мы определили объект исследования: этические теории и концепции наказания Соответственно, предмет исследования: феномен наказания. Цель исследования: обоснование необходимости рассматривать наказание, прежде всего как проблему нравственной философии, и соответственно, раскрыть нравственную противоречивость наказания. Задачи исследования: - проблематизировать феномен наказания в контексте нравственной философии; - рассмотреть феномен наказания как экспликацию вины; - показать неоднозначность религиозно-философских, психологических, социокультурных и уголовно-правовых трактовок понятия вины; - проанализировать проблему «злого начала» человека; - раскрыть нравственную и правовую неадекватность наказания преступлению через анализ нравственной асимметрии; - показать этические измерения оправдания; - дать этический анализ современной пенитенциарной системы через нравственный анализ современного общества; - обосновать возможность нравственного изменения преступника. Гипотеза исследования основана на предположении о том, что нравственная асимметрия преступления и наказания, выявленная в ходе этико-философского анализа, оказывает негативное влияние и на существующую практику применения наказаний, и на пенитенциарную систему в целом. Раскрытие нравственных противоречий наказания может способствовать выработке адекватной методологии в работе с лицами, совершившими правонарушения. 9 Теоретико-методологические междисциплинарной используемых и принципов основы философской обусловлен исследования. методологии спецификой Выбор исследования, исследовательского предмета. В диссертационном исследовании мы типологизировали исследовательскую литературу и выделил следующие группы: юридическая (судебно-уголовная, криминологическая, правовая), психологическая, этикофилософская. Соответственно, выработали основные дифференцирующие признаки этой литераторы, не позволяющие смешивать различные дискурсы (прежде всего, юридический и этический). Этико-философский, диалектический, сравнительно-исторический, системно-структурный, культурно-антропологический, психоаналитический методы позволили подойти к этическому пониманию феномена наказания, раскрыть его нравственную противоречивость. В нашей работе мы применяли метод компаративного анализа, позволившего сравнивать зарубежные и отечественные пенитенциарные системы. Научная новизна диссертационного исследования: - в работе поставлен вопрос о нравственной оправданности наказания в контексте проблематизиции таких понятий как «вина» и «злое начало» человеческой природы; - показана социокультурном, многозначность трактовок психологическом, феномена юридическом, вины в этическом и метафизическом контекстах; - дан сравнительный анализ отечественных теорий преступления и наказания и западноевропейских; - выявлен феномен нравственной асимметрии преступления и наказания; - обоснована возможность гуманитаризации пенитенциарной системы, исходя из нравственных оснований человека. Основные положения, выносимые на защиту: 10 1. Нравственные противоречия наказания возникают вследствие того, что наказание (во всех смыслах – и в правовом, и религиозном и в моральном) никогда полностью не достигает своей цели. Во-первых, никакое наказание не может быть адекватным совершенному преступлению и поэтому несправедливость наказания есть наиболее частотный феномен в правоприменительной практике; во-вторых, в наказании всегда нарушается принцип этического равенства судьи и наказуемого, в результате чего подрывается презумпция нравственной невиновности осужденного. 2. Нравственная противоречивость наказания заключается в том, что оно, будучи компенсировать мерой, ущерб, призванной нанесенный восстановить справедливость, преступлением, часто в и силу превышения адекватности и соразмерности преступлению, само становится злом и преступлением. Установка или на детерминизм среды, или на детерминизм «злого начала» человеческой природы приводит к искажениям не только в существующих концепциях относительно исправимости (неисправимости) преступников, но также негативно отражаются на практике пенитенциарной системы. Ни среда, ни природа строго не детерминируют человека, который всегда поддается нравственному воздействию, и соответственно, исправлению. Об этом свидетельствует не только опыт русских писателей (Ф. М. Достоевский, П. Ф. Якубович), но и психотерапевтическая практика в тюремных заведениях (Х. В. Райнфрид). 3. В неадекватности преступления и наказания, в несправедливости наказания, в неискоренимости преступности проявляются наиболее «темные» и непостижимые стороны человеческой природы. Нравственное исследование этой природы многими поколениями мыслителей показало ее неодномерность, находящуюся вне пространства каких-либо рациональных координат. Недооценка этико-философских результатов будет всегда приводить к искажениям и грубым нарушениям в правовой сфере, особенно в области назначения и применения наказаний. В этом проявляется не только беспомощность правовой сферы, но и какая-то трагедийность человеческого 11 рода, обреченного на то, что бы вновь и вновь сталкиваться с той областью человеческого, в которой сказываются его наиболее «темные» и загадочные свойства. 4. Не существует прямой зависимости между научно-техническим, экономическим прогрессом общества и его нравственным прогрессом. Традиционная недооценка глубины, неоднозначности и многомерности понятия «вины», а также «злого» начала человеческой природы приводят к тому, что уголовная сфера превращается в карательно-репрессивный орган, осуществляющий лишь «расправу» над преступником, и нисколько не способствующий тому, что может быть названо исправление преступника и вообще гуманизацией общественных нравов и гуманизацией пенитенциарной системы. 5. Неискоренимость преступности в человеческом сообществе свидетельствует о том, что осуществляемые меры исправления преступника и предупреждение совершения новых преступлений всегда оказываются неэффективными. И в разные периоды того или иного общества волна преступности вновь и вновь захватывает жизнь, отбрасывая все теоретические и практические наработки в юридической и моральной сферах. Нынешний этап построения гражданского общества в России требует реформы пенитенциарной системы, в которой важнейшими элементами должны быть просвещение и контроль. Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, что выявленные нравственные противоречия наказания позволяют более объективно смотреть на природу человека, в которой всегда есть пласт иррационального и немотивированного. Это обогащает существующую этическую теорию, которая занимается вообще противоречиями нравственного сознания человека. Положения и выводы диссертационного исследования дополняют сферу научного познания в области этики, психологии, пенологии, криминологии, судебной психиатрии, позволяют 12 расширить основу для дальнейших теоретических и практических разработок проблемы. Результаты исследования направлены на гуманизацию существующей пенитенциарной системы. Результаты исследования могут быть использованы в преподавании курсов «Этика», «Философская антропология», в ряде дисциплин юридического правового характера. Личный вклад автора состоит в выявлении нравственных противоречий наказания (нравственная асимметрия преступления и наказания), в разработке новых концептуальных основ гуманизации пенитенциарной системы. В диссертации дана авторская трактовка ряда этико-правовых понятий (вина, преступление, наказание, прощение), проанализирован большой массив современной пенологической, юридической литературы. Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации нашли отражение в публикациях автора и его докладах на научных конференциях: в работе городского «Этико-философского семинара им. Андрея Платонова» (Воронеж, 2010-2013); регулярных конференциях в ВГУ «Культурология: пересечение научных сфер» (Воронеж, 2010-2013), на научных сессиях факультета философии психологии ВГУ (2010-2013), «Веневитиновских чтениях» (Воронеж, 2010, 2012), XII Рождественских чтениях на тему «Православное образование в культурной жизни региона» (Елец, 2011). По теме диссертации опубликовано 9 научных работ (в том числе 3 статьи в журналах из списка ВАК) общим объемом 2,99 п.л. Диссертация была обсуждена на кафедре культурологии факультета философии и психологии Воронежского государственного университета. Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Исследование соответствует следующим пунктам паспорта специальности 09.00.05 – «Этика» – 5 (Генеалогия отдельных этических понятий), 15 (Мораль и общество). 13 Структура работы определяется целью, задачами, а также спецификой этического дискурса. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих в себя шесть параграфов, заключения и списка литературы. 14 ГЛАВА 1 НАКАЗАНИЕ КАК ЭКСПЛИКАЦИЯ ВИНЫ И ВОЗМЕЗДИЯ 1.1 Феномен вины в социокультурном измерении Проблема наказания является предметом междисциплинарного исследования. В самом общем плане можно принять следующую дефиницию наказания, сформулированную в диссертационных исследованиях. Наказание – это негативная санкция, «…восстанавливающая нарушенную ранее целостность межличностных связей», и представляющую собой, тем самым, «ценностно окрашенную реакцию на нарушение норм»[17; 3]. Можно также привести понимание наказания с точки зрения его социального назначения, которое проявляется в следующих целях: «восстановление социальной справедливости, исправление виновного и предупреждение новых проявлений негативного девиантного поведения – как со стороны виновного, так и общества в целом» [152; 10]. Из этих определений следует нормативная и регулятивная сущность наказания, которая является наиболее стабильной и инвариантной по отношению к различным историческим эпохам и культурам. Связь вины и наказания представляется неоспоримой. За свою вину, которая доказана, преступник должен быть осужден и наказан. Установление вины человека всегда является основанием для понесения им наказания. Такова и моральная, и правовая логика, совпадающая с представлениями обыденного сознания, и религиозная. В. В. Розанов, анализируя «Легенду о Великом инквизиторе» Достоевского, коснулся темы первородного греха, следы которого отпечатаны на душе каждого рождающегося. Отсюда – метафизика преступления, которая раскладывается в такую последовательность: «А неся в себе преступление, она [душа] несет в себе и вину его, и неизбежность возмездия» [125; 103]. Таким образом, выстраивается триада: преступление – вина – возмездие. 15 Однако, здесь всегда возникает проблема большой сложности – проблема выбора наказания: «Какой путь более «продуктивен»: тюрьма, каторга, дыба, гильотина или слово Божие – убеждение, воспитание с помощью доброты, приобщение к осмысленному труду, повышение культурного уровня путем знакомства с шедеврами мирового искусства, книгой, театром?» [116; 3]. Такая постановка вопроса требует серьезной этико-философской аналитики того концептуального пространства, которое структурирует центральное понятие нравственной нашего перспективе. структурирующем исследования Ближайшим концептуальное – и понятие наказания важнейшим пространство наказания, в понятием, является понятие «вина». 1.1.1 Культурно-историческое и психологическое понятие вины По своему содержанию и происхождению понятие вины является древним и многомерным понятием. Словарь В. И. Даля фиксирует два основных значения этого слова: 1. Начало, причина, источник, повод, предлог; 2. Провинность, проступок, преступление, прегрешение, грех, всякий недозволенный, предосудительный поступок [35; 501]. Первое определение является ценностно-нейтральным и выражает общую идею причины чего-либо. Второе значение явно аксиологически окрашено, причем в нем наблюдается синкретизм религиозных (грех), правовых (преступление), моральных (провинность, проступок) значений. Это очень показательно, поскольку словарь зафиксировал эволюцию развития понятия, которая отразилась на полисемантичности этого термина. Историко-культурная реконструкция этого понятия указывает на господство кровной мести в архаическую эпоху человеческого бытия. «Возникая из кровной мести, возмездие базируется на мировой справедливости, божеской каре или безусловно моральном долге»[17; 9]. Тем 16 самым, обнаруживается непосредственная связь между виной и возмездием: виновные должен понести заслуженное и справедливое возмездие, чтобы установилась «мировая гармония» в том или ином ее идеологическом понимании. Наличие института кровной мести фактически исключало понятие вины как нравственно-правовой категории, предполагающее свободу и ответственность за совершенные поступки. Полная детерминация поведения внешними факторами, как правило, магического характера, определяла и детерминацию в плане наказания, которое распространялось и на лиц, которых принято сегодня называть невменяемыми. Вина была связана с нарушением того или иного табу. Нарушивший становился виновным, который терпел определенное наказание: «Одним из сильных стимулов, удерживающих первобытного человека от нарушения запретов, был, несомненно, страх перед воображаемыми последствиями запрещенных действий. …В пределе это могло быть убийство виновного или изгнание его из общины» [133; 80]. Наиболее известная психологическая трактовка чувства вины изложена З. Фрейдом. Он считает, что это чувство вообще играет решающую роль в развитии цивилизации. В работе «Недовольство культурой» он стремится «представить чувство вины как важнейшую проблему развития культуры, показать, что платой за культурный прогресс является убыток счастья вследствие роста вины» [156; 124-125]. Каков же механизм образования чувства вины у Фрейда? Он пишет, что «человеческое чувство вины происходит из Эдипова комплекса и было приобретено вместе с убийством отца объединившимися против него сыновьями»[156; 122]. Но это амбивалентное чувство, поскольку сыновья не только ненавидели отца, но и любили. Поэтому убийство вызывает не только чувство освобождения, но и порождает раскаяние. Так возникает совесть. 17 Тем самым, чувство вины связывается со «Сверх-Я и совестью как функцией «Сверх-Я». Из этого Фрейд выводит связь вины со страхом: «чувство вины есть топическая разновидность страха – в своих позднейших фазах развития оно полностью совпадает со страхом перед «Сверх-Я»» [156; 125]. Здесь страх перед критической инстанцией и потребность в наказании. Таким образом «Я» становится мазохистским под садистическим влиянием «Сверх-Я». Интерпретируя теорию Фрейда, Г. Маркузе усиливает акцент на чувстве вины: «Не должно ли было предательство и отрицание ими собственного поступка усилить чувство вины? Не в том ли их вина, что они восстановили подавляющего отца и увековечили господство, поставив его над собою?» [85; 73]. Психоаналитическая теория, несмотря на ее привлекательность, не может конечно же быть абсолютизирована. Она подвергается постоянной критике, в том числе и со стороны философии. Например, М. К. Мамардашвили, что корни человеческого бытия в философии, которые «уходят в тот способ, каким человек случается и существует в мире в качестве человека, а не просто в качестве естественного – биологического и психического существа» [82; 33]. А вот более мнение русского философа В. Ф. Эрна: «Философское сомнение не может быть понимаемо как чистый аффект. Но в то же время оно не есть чисто умственное явление. Оно есть нечто такое, что не укладывается в обычные схемы психологического именования и требует специального анализа» [166; 55]. Тем самым, психологические трактовки могут зафиксировать всего лишь одну грань (пускай важную) исследуемого феномена. Так, современный исследователь Ю. М. Антонян считает, что «чувство вины не следует выводить главным образом из эдиповых ситуаций», поскольку, как полагает исследователь», «эдипов комплекс чудовищно преувеличен З. Фрейдом» [1; 231]. Чувство вины, согласно автору, у конкретного индивида может быть вызвано угрызениями совести в связи с 18 нарушением некоторых правил и норм. Далее Ю. М. Антонян тревожность с чувством вины: чем непонятнее причина, вызвавшая появление чувство вины, тем выше тревожность. Это в свою очередь порождает следующую закономерность: «…чем тяжелее переживание вины, чем больше они затрагивают наиболее значимые представления индивида о самом себе и снижают его самооценку, что всегда тяжело, тем вероятнее насилие»[1; 232]. Имеется в виду насилие по отношение к тому, кто демонстрирует человеку, испытывающему чувство вины, что он плох. Тогда у «виновного» возникает желание наказать того, кто указал ему на его вину. Таков механизм насилия, по крайней мере, одна из возможных причин насилия. Чувство вины, полагает Ю. М. Антонян, может вести к бессознательному стремлению быть наказанным и совершению субъектом таких действий, которое влекут за собой наказание. Он отмечает интересную закономерность: у убийц не обнаружено субъективного чувства самонаказании, в то время как у правопослушных респондентов наоборот: с возрастанием интенсивности переживаний чувства вины у них снижается потребность в усилении частоты наказания со стороны родителей. Это связано с тем, что в этом случае в структуру чувство вины включается чувство самонаказания и самоосуждения. Здесь намечается определенное сближение этического и психологического дискурсов. Однако, полного сближения между ними все же нет. Вот рассуждения на эту тему, на тему сближения этики и психологии Ю. А. Шрейдера: ««А есть ли такое взаимоотношение? Ведь в принципе они противоречат друг другу. Это парадоксально, по это факт. Психология построена на том, что человек действует, думает, чувствует, развивается по некоему Закону, на основе которого можно извне направлять, детерминировать путь человека. Тестирование, кстати, один из способов такого управления. Этика же исходит из противоположной установки – свободы воли: только тогда и становится возможным сам этический поступок. Поступок возникает ни почему, как свободный акт воли. Этика 19 основывается на том, что я делаю так, как хочу – потому, что мне так хочется. А психология изучает именно то, что же мне хочется. Это не отрицание психологии, это различение ее с этикой. Психология показывает, как происходит этическое поведение: какие механизмы приводят к ощущению трудности поступка, что в человеке сопротивляется ему, какие механизмы приводят к отказу от поступка. А этика по своей сути антипсихологична. Как ее не волнует. Ее интересует содержание поступка, а не психологический фон. Именно поэтому в жизни этическое призвано контролировать психологическое. Так и должно быть, а не наоборот. Это самое главное» [118; 25]. В этом контексте, важной для нашей темы исследования вины и невинности является трактовка этого чувства у американского психолога экзистенциального направления Р. Мэя. В своей книге «Сила о невинность» представлено толкование таких понятий как сила, агрессия, насилие и невиновность. Мей считает, вопреки распространенному мнению, в том числе и в ученом мире, что нет прочной связи между силой и насилием, и между невинностью и добром. Острие его критики направлено против понятия «невинности», в котором он усматривает не добродетель, а бессилие, за которым стоит бегство от ответственности. И как раз это, а не сила, часто превращается в разрушительное насилие. Мей выделяет два тина невинности. Прежде всего, он дает семантический анализ главного концепта. Семантика слова «innocence» (невинность) дословно означает «отсутствие вины» (латинское in (не) и nocens (вина)). В этической плоскости оно означает «отсутствие вреда или злых намерений». Исходя из этого, первое значения слова «невинность» имеет позитивный характер: «это свойство фантазии, невинность поэта или художника. Это сохраняется у взрослого детская ясность восприятия. Все вокруг обладает свежестью, чистотой, новизной и красочностью. Из этой невинности проистекает восторг и благоговение. Она ведет к духовности – это невинность Св. Франциска, выразившаяся в его Проповеди к птицам. 20 Возможно, именно это имел ввиду Иисус, когда сказал: «Если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Это детское отношение к миру, сохраняющееся в зрелом возрасте без ущерба для реалистического восприятия зла», или говоря словами Артура Миллера, нашей «сопричастности злу». Это подлинная невинность» [88; 54]. Другой тип невинности – псевдоневинность. Она характеризуется тем, что «паразитирует на наивности и представляет собой законсервированное детство, своего рода фиксацию на прошлом. Это скорее инфантилизм, нежели детскость». Самый главный порок такой псевдоневинности – это уход от ответственности, здесь бессилие, слабость и беспомощность возведены в добродетель. И тогда она становится злом. Мей пишет: «Невинность в качестве защиты от ответственности является препятствием для роста. Она избавляет нас от нового осознания, от сопричастности к страданию человечества, равно как и к его счастью. Псевдоневинная личность закрыта и от того, и от другого» [88; 74]. Здесь показан психологический механизм трансформации чувства вины – необходимого элемента в нравственном мире человека в невинность, то есть в псевдоневинность, которая уже является деструктивным элементом для нравственности. Р. Мей считает, что мы должны принять вину и ответственность как собственные реалии. Принять вину значит принять и ответственность. Это и есть подлинный нравственный поступок. Особое место в вопросе о морально-психологических механизмах происхождения «вины» принадлежит Ф. Ницше. В своей работе «Генеалогия морали» он посвящает целый раздел рассмотрению вопроса о вине и нечистой совести. Коснемся основных моментов этой работы. Прежде чем рассматривать идеи Ницше, хотелось бы привести мнение известного этика Р. Г. Апресяна на этому вопросу. В статье, посвященной реконструкции понятия «рессентимент» у Ф. Ницше, автор указывает на универсальный характер этого негативного морального феномена, каким его представлял немецкий философ: «Ресентимент оказывается универсальной 21 характеристикой морали; более того, ресентимент оказывается универсальной характеристикой культуры и сознания как самосознания. И мораль, и сознание вообще, и культура вообще в той мере, в какой они опосредствованы рефлексией, а иначе как опосредствованными рефлексией они не могут существовать в известных нам формах цивилизации, являются проявлением ресентимента, а иными словами, рабства» [2; 34-35]. Итак, обращаемся к Ницше. У немецкого мыслителя находим следующее высказывание, проливающее свет на многие интересующие нас феномены: «Задача выдрессировать животное, смеющее обещать, заключает в себе, как мы уже поняли, в качестве условия и подготовки ближайшую задачу сделать человека до известной степени необходимым, однообразным, равным среди равных, регулярным и, следовательно, исчислимым» [98; 440]. Это очень важный контекст ницшевского понимания морали как механизма упрощения и примитивизации человека. Саму вину (Schuld) философ считает основным моральным понятием и связывает его происхождения от материального понятия «долги» (Schulden). «На протяжении длительнейшего периода человеческой истории наказывали отнюдь не оттого, что призывали зачинщика к ответственности за его злодеяние, стало быть, не в силу допущения, что наказанию подлежит лишь виновный, – скорее, все обстояло аналогично тому, как теперь еще родители наказывают своих детей, гневаясь на понесенный ущерб и срывая злобу на вредителе, – но гнев этот удерживался в рамках и ограничивался идеей, что всякий ущерб имеет в чем-то свой эквивалент и действительно может быть возмещен, хотя бы даже путем боли, причиненной вредителю» [98; 444]. Таков психологический момент, в который примешивается недоброкачественное моральное чувство. Кульминация этого чувства в том, что «… заимодавцу предоставляется в порядке обратной выплаты и компенсации некоторого рода удовольствие – удовольствие от права безнаказанно проявлять свою власть над бессильным, сладострастие "de faire le mal pour le plaisir de le faire" (делать зло из удовольствия его делать), 22 наслаждение в насилии: наслаждение, ценимое тем выше, чем ниже и невзрачнее место, занимаемое заимодавцем в обществе, и с легкостью смогшее бы показаться ему лакомым куском, даже предвкушением более высокого положения» [98; 445]. Отсюда следует суть наказания: «Посредством «наказания», налагаемого на должника, заимодавец причащается к праву господ: в конце концов и он приходит к окрыляющему чувству дозволенности глумления и надругательства над каким-либо существом, как «подчиненным», – или по крайней мере, в случае если дисциплинарная власть, приведение приговора в действие перешло уже к «начальству», – лицезрения, как глумятся над должником и как его истязают. Компенсация, таким образом, состоит в ордере и праве на жестокость» [98; 127]. Таким образом, в сфере долгового права, согласно Ницше, таится рассадник мира моральных понятий «вина», «совесть», «долг»; именно здесь впервые «сцепились жутким образом и, пожалуй, намертво крючки идей «вина» и «страдание»». Источник справедливости Ницше обнаруживает на почве» ressentiment» – одного из главных понятий морали философии Ницше, которое означает месть и злобу одновременно: «…именно из духа самого ressentiment произрос этот новый нюанс научной справедливости (в пользу ненависти, зависти, недоброжелательства, подозрительности, rancune, мести)» [98; 452]. С виной связано наказание, которое в этом контексте меняет свой смысл. Ницше говорит: «Наказанию вменяют в заслугу то, что оно пробуждает в виновном чувство вины, в нем ищут доподлинный instrumentum той душевной совестью», «угрызениями реакции, совести». Но которая именуется «нечистой тем самым грешат против действительности и психологии даже по меркам сегодняшнего дня; молчу уж о всем историческом и доисторическом прошлом человека! Настоящие угрызения совести – нечто в высшей степени редкое как раз среди преступников и каторжников; тюрьмы, исправительные дома не инкубаторы 23 для благоприятного разведения этого вида гложущего червя – в этом сходятся все добросовестные наблюдатели, которые во многих случаях крайне неохотно и вопреки собственным желаниям решаются на подобное суждение. По большому счету наказание закаляет и охлаждает; оно концентрирует; оно обостряет чувство отчуждения; оно усиливает сопротивляемость». В конечном счете: «Подумав же о предшествовавших человеческой истории тысячелетиях, можно сказать без колебаний, что развитие чувства вины сильнее всего было заторможено именно наказанием, – по крайней мере в случае тех жертв, на которых распространялась карательная власть» [98; 458-459]. Этот нетривиальный взгляд немецкого философа во многом меняет привычные и устоявшиеся представления о базовых морально-правовых понятиях и заставляет более тщательно и объективно искать подлинные основания человеческого бытия. 1.1.2 Религиозные и юридически-правовые параметры вины Уголовно-правосудный аспект вины представляет собой наиболее важный и действенный в системе государственно-правовых категорий. Как отмечается в предисловии к сборнику статей «Вина и позор в контексте становления современных европейских государств (XVI-XX вв.)»: «…со времен Средневековья концепция виновности и перераспределения вины признавались исключительно важными для процесса отправления уголовного правосудия практически повсеместно в Европе» [18; 7]. Об этом говорят и современные специалисты по уголовному праву: «Одно из центральных мест в уголовном праве занимает проблема вины. Значимость вины определяется тем, что виновность является одним из признаков преступления, субъективным основанием уголовной ответственности, а также имеет определяющее значение для квалификации 24 преступлений, ответственность за которые дифференцируется в зависимости от формы вины. Без установления формы, содержания и степени вины невозможно правильное назначение наказания, в частности, назначения пенитенциарного учреждения при отбывании наказания в виде лишения свободы» [95; 3]. Прежде чем рассмотреть основные концепции вины в юридической плоскости необходимо рассмотреть исторический аспект, в котором обнаруживаются религиозные истоки правосознания. Религия традиционно поддерживает в человеке высокий уровень переживаний чувства вины. «В культурах почти всех народов мира имеется представление о высшем нравственном законе неизбежного воздаяния человеку за все, что он совершил» [7; 399]. Обратимся к некоторым лингвистическим данным. Э. Бенвенист, обнаружив связь между терминами права (jus) и религии (sacramentum), делает вывод о «религиозных корнях права» [11; 311]. Религиозно-правовой «Законах» сказано, преступления, что синкретизм «после касающиеся обнаруживается преступлений у против ниспровержения Платона. богов В идут существующего государственного строя» [109; 341]. Это определенная двойственность философии Платона, который, с одной стороны, именно своей философией отрицает религию, а с другой, призывает к почитанию религиозных обычаев, существующих в государстве. В христианстве наиболее сильно установлена связь вины и греха (виновности и греховности) человека [36]. Это отождествление стало уже аксиоматическим. По словам исследователя В. В. Савчука: «… первородный грех и тотальное чувство признания вины есть краеугольный камень христианской догматики» [127; 107]. Согласно библейской трактовке, все люди, будучи потомками родоначальника человеческого рода Адама, наследуют первородный грех [85; 66]. Об этом много говорится в Евангелии, в том числе и Апостолом 25 Павлом: «Не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. … Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих» (Рим. 7, 15, 19, 22-23). Вина прародителей заключается в том, что они добровольно последовали греховному зову и ослушались Бога. За это они несут наказание в истории в виде смерти, болезней и страданий. Апостол Павел говорит по этому поводу: «тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне; и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». (Рим. 8, 20-23). Особенность христианской религии в том, что в ней происходит снятие вины первородного греха через покаяние. Нормы христианской нравственности отменяют жестокость и несправедливость языческого мира, в котором господствовал принцип «око за око и зуб за зуб» и открывают более высокое понимание человеческой духовности, изложенное в Нагорной проповеди и других библейских текстах. Нравственная реформа повлияла и на правосознание, которое стало боле гуманным и цивилизованным. «В том и состоит величие христианской нравственности, что она внесла во все цивилизованные европейские законодательства заботу не только о благопристойных людях, но и о преступниках. Поэтому наказание виновных всегда должно иметь в виду не только безопасность общества, но преступившего закон» [101; 158]. 26 и возможность исправления Однако, эти идеальные нормативы далеко не всегда осуществлялись на практике. Реальность часто была совершенно иной, отличной от идеальных принципов христианства. Например, уголовное судопроизводство Средневековья характеризовалось сочетанием правовых и религиозных (скорее псевдо-религиозных) жестокости, несправедливости принципов, и даже что приводило «беззакония» к особой существующего законодательства. Ю. М. Юмашев отмечает: «Каноническое право также было проникнуто скорее духом ветхозаветной мести за оскорбление божеского величия, нежели стремлением утвердить христианские добродетели. Всюду царили пытки и судебный произвол. …А полное доказательство вины обвиняемого складывалось из арифметически из половинных, четвертных и даже восьмеричных доказательств. К вызову свидетелей в суд прибегали редко по причине экономии. Им также грозила пытка, если судья усматривал противоречия в их показаниях. Уголовная система европейских стран в XVIII веке зижделась на принципе устрашения и мщения» [167; 9]. Однако, никоем образом нельзя умалять роль христианского гуманизма и его влиянии на правовую мысль. Хорошо известно, что проблема преступления и наказания в русской философии и литературе решалась в соответствии с религиозными воззрениями писателей и философов. Глубокий и обстоятельный анализ воззрений русских писателей на эту проблему с религиозной точки зрения дан в монографии Н. С. Прокуровой «Не сотвори зла. К проблеме преступления и наказания в русской художественной литературе «Противоправное деяние и публицистике». рассматривалось авторами Автор пишет: как история грехопадения человека, нарушившего прежде всего Божью правду, правду Христа, а наказание мыслилось прежде всего как Божье возмездие за содеянное зло, как суровый суд собственной совести. Причем преступлением считался уже сам греховный помысел, направленный на истребление ближнего своего» [116; 332]. 27 В таком же духе говорит и Г. Мейер, исключительно религиозно толковавший творчество Достоевского. Он считает, что «…не за злое деяние, а за злое умышление карает нас Бог». Однако, здесь происходит отделение и даже противопоставление человека и его преступления, поскольку, как отмечает Мейер, ссылаясь на Баратынского и Иннокентия Анненского: «Не сам человек, а по его вине вошедшая в него злая потусторонняя сила вершит преступление» [89; 20]. Однако, здесь есть некоторое противоречие. Вина человека не в совершенном деянии, а исключительно в злом умысле, позволившим злым силам совершить преступлении. Но в таком случае, происходит расщепление целостности субъекта и вина возлагается исключительно на внешние потусторонние силы. В XIX веке в юриспруденции под непосредственным влиянием философии были сформулированы основные концепции преступления и наказания, которые концентрировались вокруг вменяемости (невменяемости), имеющего непосредственную связь с проблемами вины (невиновности) человека, совершившего проступок. Основное разделение и противостояние проходило по линии детерминисты и индетерминисты [116; 28]. Если первые, стоявшие на принципах невменения, видели причину преступности в обществе, в несовершенстве социального устройства, то вторые возводили в абсолют свободную волю человека и возлагали на него полную ответственность, не зависимо от каких бы то ни было внешних причин. Здесь на первый план выходит не порочное общество, а порочная (злая) воля человека, которая является главной причиной совершения преступления [95]. Критический разбор детерминистских и антидетерминистских позиций дан в работе английского писателя и мыслителя Артура Кестлера «Размышления о виселице». Он показывает абсурдность выводов для уголовного наказания, следующих или из признания абсолютной предопределенности или из признания абсолютной свободной воли. Острие 28 его критики направлено против смертной казни, (о чем мы скажем далее), однако, его аргументы ставят под сомнение многие догматические концепции уголовного права, особенно в части оправданности наказания. «Дилемма между свободой и предопределением – основа поведения человека. Закон уклоняется от трудностей, вызванных этой дилеммой, предоставляя трибуналу право выбора в любом из его решений» [63; 122]. Отклонение от метафизических размышлений, которые естественно не дадут никакого однозначного ответа, заставляет суд принимать однозначное, но приблизительное или (что чаще) совершенно ошибочное решение. Детерминистская аргументация вообще сводит на нет возможность принятия какого-то оправданного логически и морально действия: «С детерминистской точки зрения мстить человеческому существу – столь же бессмысленно, как и мстить машине. … Если, руководствуясь жаждой мести, мы наказываем преступника, нам нужно также наказать и его отца-алкоголика, его слишком снисходительную мать, которая сделала из него то, что он есть, и — почему бы и нет? – его бабушек и дедушек, и так далее, по всей цепочке причинности, вплоть до змея, совратившего нашу праматерь. Ведь все, и в том числе – преподаватели, родственники, хозяева и общество в целом стали соучастниками преступника, помогая ему или побуждая его сделать то, что он сделал, задолго до того, как он решился действовать. Неодобрение, возмездие, месть – этим словам нет места в словаре детерминиста. Он может порицать только весь мир и управляющие им природные законы» [63; 124125]. Контраргументы, то есть аргументы индетерминизма выглядят также изящно и безупречно, и мы их вынуждены привести полностью. Кестлер пишет: «Если, напротив, мы принимаем гипотезу человеческой свободы со всеми необходимыми религиозными последствиями, месть оказывается проступком не против логики, а против разума. Если убийца – не просто испорченный робот, а исполнитель таинственного предначертания, мы оказываемся в области, недостижимой для человеческого правосудия. Если 29 полагать, будто человек – всего лишь хорошее или дурное вместилище воли, чьи истоки возносятся над порядком естественной причинности, то никто не имеет права разбивать сосуд под предлогом дурного качества вина. Если убийство детей или же их смерть от эпидемической болезни вытекает из высшей воли, то убийца не может подвергнуться мести, – точно так же как и вирус полиомиелита, поскольку и тот и другой – завершение пути неисповедимого» [63; 125]. Как практический вывод – недоверие к юриспруденции: «Поскольку границы между «ответственностью» и «безответственностью» текучи, проблематичны и размыты метафизическими соображениями, было бы весьма неосторожно доверять в проведении этих границ юридическим дефинициям» [63; 132]. Разрешение противоречия между детерминизмом и индетерминизмом, которые фактически устраняют понятия вины, и, соответственно, ответственности, делают всякое уголовное наказание бессмысленным, находится в нравственной сфере. Нравственность находится по ту сторону детерминизма и индетерминизма, поскольку не позволяет во внешних обстоятельствах видеть конечную инстанцию и причину поступка, а свободной воле не позволяет превратиться в произвол, ставя ей разумную границу. О том, что нравственное начало (нравственная зрелость) играет существенную роль в определении вменяемости весьма четко и определенно говорит выдающийся немецкий ученый-криминалист, основатель Международного союза уголовного права Франц фон Лист. Он пишет в работе «Задачи уголовной политики следующее»: «…то, что определяет наше действование есть не разумение, не внутренняя способность сознавать, что данное деяние принадлежит к числу уголовно наказуемых, не различение, наконец, хорошего и дурного, а те ясность, твердость и сила, с помощью которых всеобщие представления о праве, религии и нравственности влияют на все наши поступки. Так называемая нравственная 30 свобода как основание вменяемости, по началам господствующей доктрины, вытекает из господства регулятивных максим. Силу и значение имеет не наше «знаю», а наше «могу», не содержание представлений, а их этикоискреннее оттенение. Это – все такие положения, правильность которых не может быть оспариваема ни с какой точки зрения [74; 70]. Здесь мы видим, что нравственная свобода полагается основанием вменяемости. Это существенный шаг в сторону этических основоположений, в область духовных и нравственных первопринципов, которые определяют все, сами же всегда оказываются неопределимы ничем. Это «столп и основания» человеческого бытия. И то, что специалист по уголовному праву говорит об этом, свидетельствует в пользу существования нравственной свободы, значимость которой трудно переоценить. Существенный шаг в сторону этизации криминологии и вообще уголовного права можно найти в работах видного норвежского ученогокриминолога Н. Кристи, которая однозначно связывает наказание с причинением боли. Наказание есть причинение зла и, соответственно, это есть лишение благ» [70; 127]. Это мысли звучит во всех его трудах. Собственная криминологическая позиция Н. Кристи имеет однозначно моральную основу, связанную с выбором в пользу создания жестких ограничений использования намеренного причинения боли в качестве средства социального контроля. Его нравственный идеал, связанный с минимизацией боли, возможно, выглядит утопично, но утопичность – одна из главных характеристик морали. Эта мысли ученого выглядит так: «Если боль должна причиняться, то не в целях манипуляции, а в таких социальных формах, к которым обращаются люди, когда они переживают глубокую скорбь. Это могло бы создать положение, при котором наказание за преступление исчезнет. Когда это произойдет, основные черты государства также исчезнут. Будучи только идеалом, такое положение стоит того, чтобы его осознать и иметь ввиду как царство доброты и человечности – цель, которая недостижима, но к которой надо стремиться» [70; 20]. 31 Сама же криминология, считает Н. Кристи, имеет важное значение, поскольку криминологические данные представляют собой основные показатели социальных условий. И в это ее однозначная этическая функция: «Криминология располагает большими возможностями сказать обществу, каково оно есть в действительности, и тем самым, на это общество повлиять» [70; 148]. Ученые-юристы советского периода стремились связать право и этику, отыскать нравственную основу уголовного права. И. И. Карпец полагает, что из нравственных начал рождается все, что так или иначе оказывает влияние на поведение человека и его и его воспитание, в том числе уголовное право. В наказании действует «принцип воздействия на лиц, совершающих преступления, основанный на сочетании убеждении и принуждении»[70; 4]. Именно это и есть нравственная основа права, и поэтому карательная деятельность государства не может быть изъята из-под нравственного контроля, и соответственно, этические начала должны занимать важнейшее, если не первое место в науке уголовного права. Понятно, это во многом идеальные и теоретические, во многом декларативные принципы, расходившиеся с реальной практикой. Однако, здесь важна сама интенция. Кроме этого, в данной работе раскрыты действительно важные моменты, делающие неразрывной этику и право. Антиподы этических ценностей могут стать мотивом преступного поведения. Так, например, безнравственное потребительство, пассивность, эгоизм, лицемерие – все эти негативные моральные свойства являются потенциальными основами преступления [70; 9]. В целом автор исповедует гуманистический смысл наказания, понимая утопичность проектов по искоренению преступности средствами одного лишь наказания. Вот, что он говорит по этому поводу: «История борьбы с преступностью показывает со всей определенностью, что с помощью одних наказаний преодолеть преступность невозможно, но как одно из средств борьбы, тогда, когда оно не является мерой мучительной, причиняющей 32 излишние физические и моральные страдания человеческой личности, не приводит к деградации личности, наказание необходимо в качестве средства защиты общества, интересов других людей, как своеобразное, в экстремальных для человека условиях осуществляемое средство исправления и перевоспитания» [62; 186]. В этом контексте необходимо сказать о криминологической теории Ч. Ломброзо, полагавшего, что существует особый антропологически и биологически детерминированный преступный тип. Здесь вопрос о вине фактически снимается: преступник виноват уже по факту своего рождения. Поэтому бессмысленно говорить о таких вещах как совесть, свободная воля и раскаяние применительно к тому типу, который определен как преступный тип. Выводы Ломброзо радикальны и однозначны. Он полагает, что существующая правовая система находится в состоянии тотального заблуждения, поскольку отсутствует преподавание науки о преступниках, в результате чего «…юристы и значительная часть тюремных чиновников смотрят на преступников как на вполне нормальных людей, которых постигло несчастье, как на призывных, которым вместо хорошего жребия выпал жребий попасть в тюрьму» [76; 219]. Существует достаточно серьезная критика теории Ломброзо. Примечательны воззрения Ф. Листа. Признавая многие заслуги Ломброзо, немецкий ученый отрицал у него главное – антропологическую предрасположенность к преступлению. Он писал: ««Homo delinquens» – прирожденный преступник не существует. Иными словами, преступник не представляет собой антропологического типа»[74; 16]. Это значит, говорит Ф. Лист, придется отказаться от антропологических типов преступников вообще, и от понятия «прирожденного преступного человека». Здесь можно привести свидетельства современных психотерапевтов, работающих с заключенными, относительно того, что даже у убийц, несмотря на значительные трудности, удавалось вызвать чувство вины. «И 33 только после длительного курса терапии у некоторых убийц возникает чувство вины, имеющей зачастую общий характер. Они начинают воспринимать убийство как нечто омерзительное, не отрицая самого преступления как такового. Часто из этого развивается чувство вины, из которого они выводят затем идею искупления. Они готовы к пассивному характеру расплаты и понимают, что должны подвергнуться преследованиям и ограничениям. Они принимают на себя наказание как герои, всегда понимая, что их расплата не принесет никакой пользы ни их жертве, ни ее родственникам» [122]. Таким образом, если все же «у некоторых убийц возникает чувство вины», то это говорит о том, что детерминистская установка на врожденную преступность не является истинной. Посредством психотерапевтических практик, совмещенных с этическими принципами, все-таки удается изменить ценностные установки, даже у закоренелых преступников. Но об этом мы подробнее поговорим в третьей главе. Не принимая основных позитивистских выводов Ломброзо, которые имеют к тому же шовинистический и расистский оттенок, нужно отметить, что у него имеется много ценных наблюдений и о пенитенциарной системе, много различных интересных фактов. Есть и значимые социальноэкономические наблюдения, например о том, что не только бедность является источником преступности (что весьма распространено), но и благосостояние. Он пишет, ссылаясь в этом вопросе на Спенсера, говорит о том, что богатство злоупотребление делает спиртными возможным напитками, половые создавая излишества этим почву и для преступлений» [122; 40]. Кроме этого, Ломброзо пишет, что благосостояние ведет часто к преступлениям против чужой собственности, мотивами которых являются тщеславие, желание превзойти других, блистать в обществе и т. д. Вывод его в этом вопросе таков: «…искусственные бесконечные потребности богатых людей создают и многочисленные виды особых преступлений. Достаточно 34 припомнить хотя бы все разнообразие видов преступности, встречающихся на почве Венеры и Бахуса, чтобы согласиться, что благосостояние, когда оно достигает значительной степени, служит часто не тормозом, а, напротив, двигателем преступлений» [76; 94-96]. Это важные наблюдения, говорящие о том, что преступления не имеют четко выраженного классового характера: разным социальным сословиям присуща преступность, преступления, конечно, могут видоизменяться в зависимости от экономической респектабельности, но важно то, что богатое сословие не имеет привилегий в этом вопросе, и не имеет презумпции моральной невиновности. Кроме того, это важно применительно к современному обществу потребления, в котором искусственные потребности разрослись до такой степени, что порождают совершенно извращенные и специфические преступления. Ломброзо в какой-то степени это предвидел. Представляют интерес современные концепции вины, которые рассматриваются правоведами в широком междисциплинарном контексте. Обратимся к монографии И. А. Петина «Осознанное и неосознанное в учении о преступлении». В ней на основании новейших достижений психологических и естественных наук рассматривается основная идея уголовного законодательства – свобода воли и поведения человека, поскольку именно на ней и построена концепция действующего уголовного права и его институты. Автор показывает, что вместе с древней категорией «случайности», порожденной в архаическую эпоху дикости и невежества, их влияние приводило к тому, что поведение человека в целом и субъекта преступления в частности представлялось неуправляемым в принципе, неким «черным ящиком». Как результат его поведение провозглашалось «свободным» от жизненных ситуаций и внутренних состояний. Это значительно препятствовало проникновению в сферу уголовного права последующих научных достижений, в том числе реальному признанию неосознанного в психике человека и влиянию на его поведение. 35 В результате сформировался примат нормативного подхода в уголовноправовой сфере в ущерб психологическому, что приводит к чрезмерному формализму в правоприменительной практике, создает почву для судейского усмотрения, скрывает первопричины и условия преступного поведения и является препятствием для достижения целей наказания и задач всего уголовного законодательства. Признание влияния неосознанного на поведение человека, которое в науке открыто уже не отрицается, позволяет качественно перестроить, уголовное законодательство, считает автор, и сделать его эффективным средством для гармоничного развития человека и общества, к чему в свое время призывали Ч. Беккариа, Ф. Лист, А. Амон и др. И. А. Петин характеризует современное состояние теории уголовного права как кризисное, обусловленное тем, что, с одной стороны, сегодня достаточно высок уровень развития наук о поведении человека, а с другой, остается непреодолимая современных достижений закрытость по уголовно-правовой причине догматических сферы тенденций для и предубеждений. В центре внимание автора – вина, отношение к которой составляет базис всей существующей проблематики, то есть кризис теории уголовного права. Прежде всего автор определяет вину как основополагающий институт уголовного права. Наличную ситуацию он характеризует так: «Несмотря на существование в уголовном законодательстве принципа вины, такого понятия в законодательстве не существует. Данное понятие вины продолжает оставаться сугубо нормативной конструкцией, не имеющей ничего общего с психологическим понятием, хотя возлагаемые на нее функции к этому обязывают. В теории под виной традиционно понимается психическое отношение субъекта в форме умысла или неосторожности к совершаемому преступному деянию… но под психическим отношением понимается в целом осознанное поведение. Вместе с тем еще с XIX в. В теории известно, что в психику лица, его сознание составляет не только осознанное начало, но и неосознанное (бессознательное психическое). Достаточно известные явления 36 гипноза уже в конце XIX – начале XX в. должны были бы избавить от иллюзии осознанности психической составляющей поведения индивида. Однако этому препятствует основополагающая идея всего уголовного законодательства, которая была заложена во время создания классической школы уголовного права, а именно, гипотеза о свободе воли и поведения человека» [108; 3]. Неучет неосознанного начала в поведении индивида, считает автор, приводит к разрушению системности уголовного законодательства, превращение его в неработоспособную конструкцию, а поведении субъекта делает неуправляемым. В этом смысле определение роли осознанного и неосознанного в поведении человека является определяющей. Можно согласиться с И. А. Петиным относительно существующего недоучитывания неосознанного. Вот определение вины из диссертационного исследования по специальности «гражданское право». Вина определяется как «сознательно-волевое отношение субъекта к своему противоправному поведению и его последствиям, в котором проявляется негативное или безразличное отношение к законным интересам иных субъектов гражданского права. Под степенью вины в ответственности за причинение вреда предлагается понимать внешнее выражение сознательно-волевых процессов, протекающих в психике правонарушителя…» [153; 7]. Определяющим моментов в понимании вины является акцент на «сознательно-волевом» отношении или процессе. При этом автор диссертационного исследования отмечает, что «в настоящее время одним из самых спорных условий гражданско-правовой ответственности является вина. …неопределенность в понимании вины неизбежно вызывает сложности в правоприменительной практике» [153; 3-4]. Такое положение веще не случайно. Как отмечают специалисты: «Содержание подавляющего большинства уголовно-правовых терминов не получило однозначной трактовки ни в теории уголовного права, ни в практике их применения» [143; 9]. 37 Таким образом, можно сказать, что категория вины является основополагающей, как для религиозной, так и правовой сферы. Изначальное отождествление этих понятий (религиозно-правовой синкретизм) постепенно приводит к их дифференциации. Принцип вменения, освобожденный от религиозных коннотаций, становится определяющим в уголовном праве. При этом, в истории правой мысли видно, как происходит движение либо в сторону этики, либо психологии. В правовой мысли можно выделить два направления: одно стремится обосновать вину ссылкой на осознанные процессы и отношения, происходящие в психике индивида, другое склоняется к тому, чтобы принимать во внимание неосознанное в поведении человека. Рассмотрим этическое и метафизическое понимание категории вины, которое достигает своей полноты в нравственной философии. 1.2 Феномен вины в нравственном измерении 1.2.1 Вина и оправдание Рассмотрение понятия «вины» в правовом и религиозном контекстах показало, что это понятие выходит за пределы отмеченных и сфер и является во многом проблемным понятием, чья проблемность фиксируется, опознается и решается в этико-философской сфере. Как отмечают специалисты по уголовному праву: «Проблема вины выходит за рамки уголовного права и права вообще. Принцип виновной ответственности является правовым, но и нравственным. Это означает, что категория вины, вообще, и в уголовном праве, в частности, насыщена определенным философско-этическим содержанием» [95; 3]. Автор отмечает недостаточную разработанность учения о вине не только в уголовно-правовой доктрине, но и в уголовно-процессуальном, гражданском праве и криминологии. В результате своих исследований он 38 приходит к собственной дефиниции вины, которая выглядит следующим образом: «Вина как нормативная категория совмещает в себе сумму условий, необходимых для привлечения лица к юридической ответственности. При нормативном подходе вина есть там, где субъект вменяем, действует либо бездействует сознательно-противоправно без принуждения и неизвинительно с точки зрения уголовного законодательства» [95; 84]. Из этого определения видно, что, несмотря на то, что исследователь указывал на нравственный характер вины, его определение находится всецело в правовой сфере, поскольку он считает, что проблема вины есть проблема нравственно-правовой оценки антиобщественного поведения, которое осуществляется нормативными средствами. Высшим принципом здесь является нормативность, которая призвана сохранять общественную безопасность и пресекать антиобщественное поведение. Все это верно, но лишь с правовой точки зрения. В любом случае здесь вина, которая сводится к антиобщественному поведению, рассматривается формально, безотносительно к «внутреннему» состоянию виновному. Конечно «внутреннее» здесь тоже учитывается, но оно исчерпывается категорией «вменяемость», которая говорит о том, что человек действует «сознательно-противоправно без принуждения и неизвинительно». И это уже является достаточным основанием для уголовной ответственности и соответственно, уголовного наказания. Но проблема ведь в том, почему вменяемый субъект сознательно совершил преступление? Для уголовного права главное доказать, что он совершил его преступного сознательно поведения в состоянии вменяемости, когда выбор осуществляется свободно в смысле самодертминации. А где корни мотива, которые побудили сознательного и вменяемого человека совершить сознательное правонарушение? Что, в конечном счете, детерминировало преступление? 39 его свободную волю совершить Эти вопросы, увы, остается без ответа в правовой сфере, что дает нам полное право рассматривать феномен вины не только в этической, но и в метафизической перспективе. Эта перспектива выводит нас на путь, связывающий понятие «вины» и понятие «оправдания». Желание оправдания является неким показателем наличия вины; отсутствие этого желания, соответственно, говорит о том, что вины. Чтобы раскрыть эту взаимосвязь необходимо рассмотреть вопрос об этическом смысле оправдания. В обыденном языке очень много простых, ясных, частоупотребляемых понятий, смысл которых далек от очевидности, и соответственно, от адекватного понимания. Одним из таких до конца непроясненных слов является слово «оправдание». Его особенность в том, что это не термин, употребляемый в гуманитарных дисциплинах, это слово обыденной речи, самой обыденной, однако без которого не может обойтись никакая высокая мысль, будь то мысль научная, религиозная, философская или художественная. При всей ясности и очевидности слова «оправдание» в нем выявляются семантические сочленения очень высокого уровня, которые затрудняют адекватное понимание и употребление этого понятия. Здесь явно прослеживаются такие значения как «правда», «справедливость», «вина», «наказание», «ответственность», «смысл жизни», «цель жизни», которые свидетельствуют о высоком метафизическом статусе этого слова. Эти значения говорят о том, что слово оправдание имеет юридические (правовые), религиозные, этико-философские значения. Все это требует самостоятельного разбора; нас в данном случае интересуют этические смыслы оправдания, проявленные преимущественно в контексте классической русской философии. Важен нравственный, в котором возникает необходимости в оправдании. Л. В. Максимов пишет: «Сама необходимость в оправдании возникает в отношении поступка, в котором присутствует (на самом деле или по видимости) элемент «зла», т.е. чего-то непозволительного, осуждаемого, и 40 в котором вместе с тем имеется «добрая» составляющая, полностью или частично компенсирующая допущенное зло; либо – в другом варианте – этот поступок хотя и является морально недопустимым, но в силу не зависящих от субъекта обстоятельств он был вынужден его совершить» [84; 86]. Очевидно, что потребность в оправдании возникает того, когда человек чувствует свою вину. Совесть безошибочно подсказывает ему, виновен он или нет. И здесь возникает своеобразный этический парадокс. С одной стороны, видна высокая интенсивность употребления этого слова, с другой стороны, нужно признать, что человек стремится совсем избавиться от необходимости оправдания. Происходит подмена этого слова. Так, подмена в языке происходит тогда, когда исконно-нравственный смысл слова оправдания подменяется правовым, юридическим значением, и, тем самым, человек, как бы приобретает презумпцию нравственной невиновности через невиновность правовую. Поскольку в правовом отношении человек оказывается виновным не так часто, как в нравственном. В жизни подмена, ведущая к устранению уже не слова, а ценности оправдания, проявляется в том, что человек сбрасывает с себя «бремя вины» и ответственности за происходящее зло, убеждая себя и других в том, что он не является непосредственным виновником зла, зла как такового. За лично совершенное зло он еще готов понести наказание, а вот за «абстрактное» зло мира он не несет никакой ответственности. Обратимся к построениям русских философов для прояснения сущность данного парадокса. В контексте отечественной нравственной философии сформировалась целостная парадигма, в которой этическая рефлексия над смыслом и оправданием жизни занимает центральное место [38]. Здесь важно упомянуть нравственные искания Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого, которые, каждый на свой лад естественно, решали вопрос о том, как оправдать жизнь при наличии в ней радикального зла. Оправданность смысла всеобщего существования становится проблемой в «философии общего дела» Н. Ф. Федорова. Полновесные размышления над вопросами 41 смысла жизни и ее высшей цели, а значит, оправданности звучат в трудах С. Л. Франка, Е. Н. Трубецкого, В. В. Розанова, Н. А. Бердяева и других. Вершиной в этом контексте является фундаментальная работа В. С. Соловьева, которая содержит искомое понятие в своем названии: «Оправдание добра». Как следует из этических построений русской философии, сущность оправдания в том, что, являясь нравственной величиной, оно составляет в человеке фундаментальное основание его бытия, вне которого нельзя говорить о подлинном и достойном уровне существования человека. Кстати, и лингвистические данные русского языка показывают, что слово «правда», с которым семантически прежде всего связано оправдание, образованно от *рrаvъ, от которого так же образовано слово «праведный» или «праведник» (в значении святой), и родственно слову «правый». Высокий уровень нравственной рефлексии над оправданием смысловых основ существования находим в «Оправдании добра» В. С. Соловьева. Философ говорит: «Наша жизнь получает нравственный смысл и достоинство, когда между нею и совершенным Добром установляется совершенствующаяся связь. По самому понятию совершенного Добра всякая жизнь и всякое бытие с ним связаны и в этой связи имеют свой смысл» [139; 543]. Здесь оправдание связано с такими категориями как нравственный смысл и достоинство, выступая как этическое ядро в нравственной иерархии ценностей. Еще раз отметим, что необходимость в оправдании возникает в том случае, если у человека возникает чувство вины. Стремление снять с себя вину, то есть оправдаться, и есть сильнейший этико-психологический мотив поступков человека. Вина, как мы разобрали ранее, является правовой и психологической категорией. Но особую проблемность она приобретает в том случае, если попадает в систему этических координат, в которой действует сообразный «этический закон», открытый Достоевским, выражающийся в известных словах о том, что «все за всех виноваты». Это не 42 огульное обвинение всех в безнравственности, но призыв к ответственности, которую человек стремиться с себя снять. Но этот аспект мы рассмотрим позже. Особая значимость оправдания как ценности и понятия заключается в том, что оно связывает воедино две принципиально важные идеи для человека. Во-первых, оправдать что-то значит найти его смысл; это имеет отношения и к словам, и к поступкам. Мы всегда оправдываем сказанное и сделанное тем, что вкладываем в это определенный смысл. С. Л. Франк пишет: «Вся мировая жизнь в целом и наша собственная краткая жизнь – не как случайный отрывок, а как нечто, несмотря на свою краткость и отрывочность, слитое в единство со всей мировой жизнью, – это двуединство моего «я» и мира должно сознаваться как вневременное и всеобъемлющее целое, и об этом целом мы спрашиваем: имеет ли оно «смысл» и в чем его смысл?» [155; 509]. Человек не терпит, не приемлет бессмысленности, по крайней мере, для себя самого. Поэтому в собственных глазах все слова, действия и поступки человека должны иметь смысл, то есть быть оправданы перед его умом. Но большая значимость оправдания связана с оправданием перед совестью. Здесь и значимость, и проблемность одновременно. В этом смысле оправдание предстает в своем наиболее глубоком, нравственном измерении, которое просвечивает сквозь само слово, в котором видны такие нравственные понятия как «правда» и «справедливость». И если перед своим умом человек еще как-то может оправдаться, совершая разумные, рациональные, здравые поступки, то перед совестью сложнее всего. Именно совесть говорит человеку о том, что бы ни делал человек, он всегда делает что-то не то. Не то с нравственной точки зрения. Человек никогда не может достичь соответствия сущего и должного. И болящая, страдающая совесть, которая всегда взыскует правды и истины, будет напоминать ему об этом. Поэтому нравственно человек никогда не может и не должен найти оправдание не только своим действиям и поступкам, но даже своему 43 существованию, истинную ценность и смысл которого он не знает, ибо не может знать. Это должно быть, по крайней мере, предметом постоянной нравственной рефлексии. Чистая совесть – «изобретение дьявола», сказал великий гуманист А. Швейцер, попав в самую глубь нравственного сознания, которое говорит о том, что как только человек заглушает свою совесть, то есть оправдался перед собой, то он погибает духовно. В традициях русской нравственной философии это чувствуется наиболее сильно. Стыд, а значит вечная неоправдываемость человека, невозможность оправдаться является его глубинной бытийной характеристикой, благодаря которой, он возможно, до сих пор еще и существует, ибо только стыд сохраняет совесть, которая всегда честно и нелицеприятно укажет человеку на его самое изощренное лукавство. Чувство стыда амбивалентно по своему характеру. Оно может способствовать погашению нравственной рефлексии над тем, что стыдно, или, по крайней мере, подталкивать к ложному оправданию; и, в то же время, ничто кроме стыда не заставит человека искать пути исправления своих моральных несовершенств. Итак, оправдание связано с такими важными нравственными понятиями как смысл, совесть, стыд, образующими основу нравственного сознания как такового. Но кроме этого, есть еще одно важно измерение, без которого этическая парадигма оправдания будет не полной. Речь идет о страдании как нравственной категории. Целостную картину, связывающую проблему оправданности жизни с наличием страданий, показывает в своей работе «Смысл жизни» Е. Н. Трубецкой. Он пишет: «…вопрос о смысле есть вопрос о том, может ли полнота неумирающей, совершенной, вечной жизни родиться из крайнего, предельного страдания»? [146; 268]. Необходимо отметить, что тема страдания и сострадания является одной из главных в нравственных исканиях Ф. М. Достоевского. Как пишет западный исследователь русской философии Т. Шпидлик: «Достоевский был «помешан» на проблеме страдания невинных и чувстве вины, т. е. на 44 сострадании ко всем» [165; 122]. Страдание пронизывает все уровни нравственной рефлексии, образуя тем самым, особую этическую картину мироздания. Н. А. Бердяев, во многом строивший свою философию на нравственных идеях Достоевского, развивая и дополняя их, как бы дает целостное завершение философии страданий, говоря, что единственный путь «раскрыт перед человеком, путь просветления и возрождения жизни, – принятие страдания как креста» [12; 181]. Это далеко не единичные мнения. В таком же духи высказывались многие русские философы, среди которых С. Н. Булгаков, И. А. Ильин, Л. П. Карсавин, Б. П. Вышеславцев, С. Л. Франк, Н. О. Лосский и др. Здесь страдания конечно не самоценность и не самоцель, но «этический прецедент», поняв и пережив который возможно встать на путь нравственного совершенства. Тем самым, можно говорить о целостной традиции в истолковании основополагающих нравственных явлений. Таким образом, оправдание как этическая категория раскрывает важные, парадоксальные свойства человека, осознав которые человек может продвинуться в своем этическом развитии. Важно показать, что в системе нравственных категорий категория «оправдание» занимает главное место, связывая такие моральные чувства как вина и ответственность, с одной стороны, стыд и совесть, с другой. Именно этический анализ позволяет понять, почему оправдание одновременно и самое употребительное и в тоже время одно из «неудобных» понятий. И здесь мы должны говорить о псевдооправдании, которое оказывается близким к тому, как Р. Мей говорит о псевдоневинности. Эти вещи оказываются тесно связанными. Псевдоневинность возникает в ситуации псевдооправдания, а именно, когда человек, чувствуя свою слабость и бессилие, не может принять ответственное решение. Такое псевдооправдание как и псевдоневинность «…играет роль шор и склонна удерживать нас от роста, новых осознаний и от сопереживания как страданиям человечеств, так и его радостям» [88; 252-253]. 45 Итак, мы видим, что понятия вина и оправдания являются основными этическими категориями, образующими ядро нравственного сознания личности. Эти категории также работают и в правовом контексте (в случае непризнания человека виновным ему выносят оправдательный приговор). Однако в этике мы видим, как работает механизм псевдооправдания, возникающий в ситуации, когда человек действительно виновен. Попытка психологически объяснить этот механизм не даст полной картины, и только в этической плоскости, в которой раскрывается палитра всех значений оправдания (правда, справедливость, смысл жизни, стыд), мы можем получить более-менее достоверную картину относительно истинных мотивов того или иного преступного деяния. 1.2.2 Метафизическая вина как этическая категория Философский анализ правовых категорий раскрывает их метафизический характер. «Метафизический» в этическом смысле не значит «потусторонний» и «запредельный», но означат неодномерный, глубоко антиномичный и трагический характер. Рассмотрим категорию «вины», поскольку это дна из главных категорий религии, морали, права и нравственной философии. Реконструкция исторических истоков понятия «вины» приводит нас к античной мифологии и философии. Современный исследователь А. Г. Гаджикурбанов, анализируя античный миф об Эдипе, отмечает, что здесь прочерчена на будущее судьба морали как таковой. Этот сюжет разворачивается главным образом вокруг вины и невиновности, которые в полной мере описывают ситуацию Эдипа. Здесь возникают следующие вопросы, свидетельствующие о рождении морального сознания: Виновен он или нет? За что он терпит такое наказание? Поступок Эдипа исследователь трактует следующим образом: «Протест Эдипа против генетического проклятия, довлеющего над ним (его метафизическая вина), а фактически его 46 попытка «бегства от судьбы», несомненно выражают первый опыт индивидуального морального сознания, восстающего против аморализма космических сил – ведь этическая нейтральность объективного закона в данном случае оборачивается злом в моральном смысле Эдип не хочет покоряться безнравственной судьбе и совершает свои безумные попытки уйти от нее» [20; 154]. Ситуацию Эдипа, его действия, его протест и «безумные попытки» нельзя понять без устройства античной космологии, в которой физический и нравственный миропорядок соединены в центральном для античности понятии – понятии логоса. Известный специалист по античной философии и культуре А. Ф. Лосев, характеризуя философов периоды рассвета ранней классики (Гераклит, Фалес, Парменид, Анаксагор, Эмпедокл, Демокрит), отмечает, что они «диалектически совмещали скульптурную закономерность мира с безвестной, глухой, беспорядочно действующей судьбой и роком. Вековечный хаос эти люди умели совмещать с космосом и расценивали этот хаос, перешедший в космос, как наивысшую красоту» [79; 125]. Если обратиться, например, к фрагментам Гераклита, то действительно, у него можно увидеть эти идеи о совершенстве космоса, который управляется божественным логосом, отклонение от которого есть вина людей, которые терпят за это заслуженное наказание. У Гераклита читаем: «Так что следовать надо глаголу совместному – ибо совместный всеобщ. Но глагол сей хотя и всеобщ, люди живут словно у них личное есть разумение». Сам космос мыслится так: «Космос сей, тот же для всех и для вся, ни из богов никто, ни из людей не сотворил, но присно он был, и есть он, и будет, огнь присноживый мерно вспыхивающий и мерно потухающий» [26; 156. 162]. Еще одним важным свидетельством древнегреческого философского понимания вины, ответственности, возмездия является фрагмент Анаксимандра, который выглядит так: «А из чего возникают все вещи, в то же самое они и разрешаются согласно необходимости. Ибо они за свою 47 нечестивость несут наказание и получают возмездие друг от друга в установленное время» (или еще один вариант перевода: «А из них [начал] вещам рожденье, в те же самые и гибель совершается по родовой задолженности, ибо они выплачивают друг другу правозаконное возмещение неправды [= ущерба] в назначенный срок времени» [154; 127]. Совершенно очевидно, что этот фрагмент имеет, по словам А. А. Гусейнова, «ярко выраженную этическую окраску», которую исследователь характеризует так: «за эти свойства вещи подвергаются наказанию, которое является возмездием и состоит в том, что они с неотвратимостью низвергаются обратно туда, откуда они появились»[33; 29]. Действительно, нечестивость – наказание – возмездие – таков этический ряд, обнаруживаемый у Анаксимандра. Но какое собственно говоря может быть этический смысл у космогонического процесса? За что вещи терпят вину? Ведь вина – это антропологическая категория, имеющая смысл только лишь по отношению к вменяемым субъектам, то есть к людям. Здесь видно, как древнегреческий философ экстраполирует этический смыслы на космогоническую сферу, делая нравственные законы универсальными, распространяющимися и на нечеловеческий мир. Весьма примечательны те трактовки этого фрагмента, которые обнаруживаются в истории философской мысли. Приведем их по тексту А. А. Гусейнова: «Предлагавшиеся в истории философии ответы на него можно свести к следующим: а) нечестивость отдельных вещей состоит в факте их индивидуального существования, в самом их обособлении, отделении от первоосновы (В. Нестле, Ф. Ницше, С. Н. Трубецкой и др.); б) вещи несут «наказание» за радость бытия (Ф. Шлейермахер); в) апейрон и космос взаимно «несправедливы» друг к другу (Ю. Нойгойзер); г) «несправедливость» совершается при возникновении вещей и усугубляется в процессе их бытия (О. Диттрих); д) «нечестивость» вещей в индивидуальном обособлении как от апейрона, так и от других вещей (А. О. Маковельский); е) 48 причина «наказания» вещей в человеческой несправедливости (Т. Циглер); ж) отдельные вещи приходят в столкновение, а затем и гибнут («наказываются») постольку, поскольку они неполно воплощают в себе общее (А. Ф. Лосев); з) вещи несут «наказание» не просто за индивидуальное существование, а за то, что они не ограничиваются раз отведенной им сферой, нарушают собственную меру, а тем самым и меру других вещей (Ф. Корнфорд, Б. Рассел)» [33; 29-30]. В этих трактовках видно, что вещи терпят наказание от первоначала перед которыми они оказываются виновными. Их вина в том, что они обособились от своего истока и стали бытийствовать в качестве единичных субстанцией. Это и есть нечестивость. А. А. Гусейнов предлагает трактовку, которая нам кажется более точно соответствует этическому смыслу фрагмента Анаксимандра. Он считает, что справедливость совпадает с алейроном, этой субстанциональной и генетической первоосновой мира. «Вина» отдельных вещей при этом заключается не в том, что они обособились, а в том, что в ходе этого обособления они отступили от изначальной справедливости. Вещи неполно, частично воплощают в себе общую сущность, они отступают от заданной им меры, выходят за границы отведенных им сфер бытия. «Нечестивость» отдельных вещей состоит, следовательно, в отклонении их от своей основы, в их «гордыне», в неправильном «распоряжении» своим бытием. И далее: «вещи не могут «смириться» с конечностью своего бытия и пытаются опрокинуть наложенные на них ограничения, придать своему существованию абсолютность за счет других вещей, и в этом состоит их «несправедливость»» [33; 30-31]. Таким образом, в греческой философии мы видим зачаток того, что позже будет названо метафизической виной, в которой этический компонент будет иметь определяющее значение. Русский философ Вяч. Иванов, выявляя основания трагической вины греков, отмечает, что «корень вины лежит в самом появлении на свет; это 49 уже мысль той эпохи, когда Анаксимандр провозгласил, что индивидуумы гибнут, платя возмездие за вину своего возникновения. Так гибнут у Софокла Антигона, «противорожденная», не имевшая права родиться дочерью своего брата – Эдипа» [52; 185]. И вот Эдип разрывает эту статуарно-скульптурную гармонию прекрасного античного космоса. Это приводит к появлению морали как таковой, которая означает разрыв с метафизической виной или судьбой. А. Г. Гаджикурбанов, разделяя вину метафизическую и вину моральную, пишет: «Метафизическая вина – детище изначально свойственной человеку «природы» (генетической и физической детерминант его индивидуальности и объективных «условий человеческого существования»), над которой субъект моральной воли не властен. В нее входит и все то, что охватывается понятием «судьба». Судьбой задается не только физический склад человека, но и линия его жизни» [20; 154]. Такая бессубъектная метафизическая вина, в которой человек (в данном случае герой – царь Эдип) оказывался как бы без «вины виноватым», противоречит нравственному чувству человека. И человек, выступая против такой безликой судьбы, которая приговаривает его к страшной участи, совершает моральный героизм; он не смиряется рабски и покорно с существующим положением вещей, но стремится внести в мир справедливость, по крайней мере, не смириться с несправедливостью. Такое несмирение с внешним, объективным, природным мироустройством можно встретить у Достоевского в речи его «подпольного человека». Приведем известные слова: Господи боже, да какое мне дело до законов природы и арифметики, когда мне почему-нибудь эти законы и дважды два четыре не нравятся? Разумеется, я не пробью такой стены лбом, если и в самом деле сил не буде пробить, но я и не примирюсь с ней потому только, что у меня каменная стена и у меня сил не хватило» [39; 460]. «Подпольный человек» – это пример «невиновного» в моральном, но виновного в метафизическом смысле человека. Это логика Эдипа, который 50 не признает за собой моральной вины, а за вину метафизическую (факт его бытия), он не хочет нести никакой ответственности. И имеет на это полное право; такой человек чувствует лишь моральную вину, то есть вину за конкретно совершенный им поступок, который повлек за собой зло. В таком поступке он может раскаяться и принять за него ответственность, испытав чувство, еще раз подчеркнем – моральной, но не метафизической вины. И здесь «подпольный человек» разрушает христианский детерминизм вины. При этом у Достоевского есть еще одно, не менее значимое метафизическое понимание вины, на которое указывает Вяч. Иванов. Оно совмещает в себе и всеобщность человеческой вины и заставляет одновременно почувствовать личную ответственность за это. Во-первых, Вяч. Иванов отмечает, что «идея вины и возмездия, эта центральная идея трагедии, есть и центральная идея Достоевского». Философ отмечает, что «вина и возмездие» есть понятия нравственной философии, которые сначала исследуются Достоевским этически, а затем и метафизически [52; 187]. Какие же выводы делает Достоевский из такого рассмотрения данный понятий? Здесь, прежде всего, важен тот нравственный посыл любви, в свете которого раскрывается мысль старца Зосимы о всеобщей виновности. В романе «Братья Карамазовы» старец говорит слова об иноке, которые есть идеальный образец для каждого человека вообще: «Когда же познает, что не только он хуже всех мирских, но и перед всеми людьми за всех и за вся виноват, за все грехи людские, мировые и единоличные, то тогда лишь цель нашего единения достигается. Ибо знайте, милые, что каждый единый из нас виновен за всех и за вся на земле несомненно, не только по общей мировой вине, а единолично каждый за всех людей и за всякого человека на сей земле. Сие сознание есть венец пути иноческого, да и всякого на земле человека» [40; 183]. Как понимать эти слова? С одной стороны здесь утверждается идея о всеобщей виновности, но в то же время и персональной («единолично каждый за всех людей»). Это означает 51 более глубокий уровень проникновения в личную виновность человека, в те нравственные слои его личности, куда не доходило сознание Эдипа, ослепленное несправедливостью Рока. Вяч. Иванов так трактует идеи Достоевского: «То, что в глазах древних являлось неисповедимым предопределением судьбы, Достоевский возводит к сверхчувствительному поединку между Богом и духом зла из-за обладания человеческой душой, к поединку, решаемому всякий раз самою душой» [52; 186]. Это значит, говорит Иванов, что Достоевский не поддался рационалистическому обольщению, что добру можно научить, наподобие Сократа и последовавшего за ним Толстого, а пошел совершенно иным, духовным и метафизическим путем, путем нравственного преображения через постижения всеобщей виновности. Вяч. Иванов говорит, что «у Достоевского за виною и возмездием следует спасение преступника через нравственное и духовное перерождение». В этом отличие Достоевского от Толстого, у которого вина ведет к гибели. Здесь исток того великого всепрощения, которое есть подлинный и высший гуманизм, единственный в своем роде гуманизм. Современный автор И. И. Гарин указывает на то, что Достоевский обнажает самые слепые, злые, хаотические основы человека: «Но именно в этом пункте беспощадное обличение человека как-то само собой переходит в своеобразное оправдание человека… Достоевский не отворачивается с брезгливостью или презрением ни от одного человеческого существа, как бы дико, зло и слепо оно ни было. Напротив, подобно матери, силой материнской любви чуящей живую душу даже и преступного, опустившегося своего ребенка, Достоевский, против приговора всего света, становится на сторону человеческой души во всей, столь же ярко им же изображенной ее неприглядности. Перед лицом морализирующего общественного мнения Достоевский – призванный адвокат своих падших, злых, слепых, буйствующих и бунтующих героев» [22; 399-400]. 52 Современный исследователь Б. И. Липский развивает тему метафизической вины человека. Он говорит о том, что существуют два фундаментальных метафизических принципа: причинности и виновности, которые совершенно по-разному трактуют характер человеческих поступков: «Метафизика причины предпочитает рассматривать их как последовательные звенья некого универсального ряда. Свобода понимается здесь как неукоснительное следование этому ряду, всякое отклонение от которого трактуется как безусловное зло. Метафизика вины предпочитает рассматривать человеческие поступки как самостоятельные акты реализации свободы, за каждый из которых человек несет полную ответственность». Такое понимание вины, в котором всеобщность (поскольку это метафизическое чувство) не отменяет личную ответственность, что перекликается с идеи Достоевского о «всеобщей виновности всех». Именно здесь и открыта дорога к подлинному человеческому достоинству: «Чувство «метафизической» вины позволяет человеку ощущать свою значимость, придавать смысл и значение своим словам и поступкам. Без этого фундаментального чувства смысл самой человеческой жизни оказывается под сомнением. Поэтому люди (зачастую неосознанно) стремятся к тому, чтобы знать мир как организованный таким образом, чтобы судьба человека в нем определялась не внешней причиной, а, прежде всего, им самим. Можно сказать, что моральное и правовое понимание вины производно от более глубокого метафизического понимания. Мораль и право лишь оформляют и закрепляют эту метафизическую веру в то, что события, происходящие в мире существенным образом зависят от человека, а его судьба определяется, в конечном итоге, его собственными деяниями» [73; 96]. Можно сказать, что если для античного человека метафизическая вина означала действие неморального фатума («судьбы»), преодолеть который и значило стать полноценным моральным субъектом, то для нравственных представлений Достоевского, метафизическое понимание вины означает более глубокое ее постижение, в котором субъект чувствует свою 53 ответственность за происходящее, а не действие внешней случайной и враждебной судьбы. Такое понимание предполагает внутреннее перерождение человека, осознание им своих духовным возможностей. Борясь с теорией «среды», которая, по мысли Достоевского, снимала всяческую ответственность с человека и возлагала все на внешние обстоятельства, он высказывает очень глубокую мысль о всеобщей виновности. В «Дневнике писателя» он пишет: «…ведь если уж мы считаем, что сами иной раз хуже преступника, то тем самым признаемся и в том, что наполовину и виноваты в его преступлении. Если он преступил закон, который земля ему написала, то сами мы виноваты в том, что он стоит теперь перед нами» [42; 30]. Это очень глубокая идея, предполагающая высокую степень развития нравственного сознания. Современный этик В. П. Фетисов таким образом трактует эту мысль писателя: «Можно и осуждать злодея, но, прежде чем судить кого-то, нужно понять свою причастность и свою ответственность за все происходящее в мире. Именно эта «отстраненность» от зла, неумение понять, как тысячами нитей большинство «порядочных» людей, сами того не подозревая, соучаствуют в том зле, которое они так резко осуждают, является, по мнению Достоевского, основной причиной сохранения зла. В этом случае, даже если накажешь преступника, оставшаяся причина породит нового. Если же мы примем меры по устранению нашего потакания злу, преступника чаще всего можно простить и отпустить – зло не повторится. … И через полтора века после Достоевского, как и за полтора тысячелетия до него, большинство «порядочных» людей так же повинны в «соучастии» в осуждаемом ими зле» [148; 45, 46]. Трактуя метафизическую психологему Достоевского «вины всех за всех», В. А. Бачинин пишет: «Ее смысл в том, что, будь мы сами лучше, то данный преступник не стоял бы сейчас перед судьями. В том, что он встал на роковой путь, обернувшийся для него бедой, есть и наша вина». Здесь происходит важная трансформация понятий: вина становится бедой. И 54 поэтому здесь надо уже говорить «… не только о лично вине преступника, но и о его беде, то есть о том, что ему не подвластно, пребывает вне его и, вместе с тем, неумолимо подталкивает к пропасти» [7; 265]. Это значительным образом меняет нашу нравственную оптику: «Если за свою вину преступник должен быть осужден и наказан, то за беду, случившуюся с ним, ворвавшуюся в его жизнь и искалечившую ее, он достоин сострадания. Отсюда, по мнению Достоевского, в народе, интуитивно чувствующем эту разницу, существует давняя привычка считать преступление несчастьем, а преступников – несчастными» [7; 265-266]. В нравственной проблематике, связанной с виной, один из наиболее трудных и тяжелых моментов человеческого бытия – это страдания детей. Эта проблема, которая чрезвычайно сильно волновала и мучила Достоевского всю его жизнь. Вот как В. В. Розанов, трактуя Легенду о великом инквизиторе Достоевского, касается этой сложной темы: «… страдания детей, столь несовместные, по-видимому, с действием высшей справедливости, могут быть несколько поняты при более строгом взгляде на первородный грех, природу души человеческой и акт рождения. Выше уже сказали мы, что в душе человеческой сверх того, что в ней выражено ясно и отчетливо, заключен еще целый мир содержания, не выраженный, не проявленный». «Душа рождающегося», согласно Розанову, не совсем свободна от пороков предшествующих поколений, поскольку она «Она несет в себе общее искажение, которое было присуще душе родившего, а иногда и некоторое особое, глубокое зло, некоторое преступление, которое в ней было частью, терявшеюся между другими, а теперь осталось одно и восстановило около себя целое. А неся в себе преступление, она несет и вину его, и неизбежность возмездия. Таким образом, беспорочность детей и, следовательно, невиновность их есть явление только кажущееся: в них уже скрыта порочность отцов их и с нею – их виновность; она только не проявляется, не выказывается в каких-нибудь разрушительных актах, т. е. не 55 ведет за собою новой вины: но старая вина, насколько она не получила возмездия, в них уже есть. Это возмездие они и получают в своем страдании. Проступок, совершенный отцом, может быть настолько тяжел, что и не может быть возмещен на нем, ни даже посредством его смерти: он растлил, положим, ребенка, развратил существо чистое, которое к нему доверчиво приблизилось. Может ли за это преступление ответить он существом своим? Нет, и преступление его остается скрытым, ненаказанным. Но вот проходят поколения, и возмездие является – в страдании, которое, по-видимому, непонятно и нарушает законы правды. В действительности же оно восполняет ее» [125; 102, 103]. Розанов вслед за Достоевским говорит об «очищающем значении страданий». Это наиболее трудный момент всей нравственной философии, особенно для современного человека общества потребления, уже привыкшего к гедонистическому образу жизни. Современные теории вины и ответственности радикально отличаются от тех, которые были обозначены в русской религиозной философии. Американский исследователь Э. Олденквист говорит, что «…доктрина первородного греха противоречива, аморальна и являет собой не что иное, как стратегию рекрутирования новых верующих» [104; 89]. Основное противоречие концепции первородного греха в том, что человека а религиозной доктрине наказывают не за то, за что он может быть лично ответственным. В работе А. А. Гусейнова «Закон и поступок» рассматривается философия поступка в моральной философии Аристотеля, Канта и М. М. Бахтина. Автор говорит о полной ответственности личности как о ее нравственном ответственности долге: за «Личность поступок. не Но только только она несет одна всю и полноту несет эту ответственность. … Совершая поступки, творя их, человек создает, творит самого себя. Он совершает, творит поступок навечно. Он не может отменить раз совершенный поступок, отказаться от него точно так же, как отец не 56 может отменить, отказаться от ребенка, ибо, отказавшись от него, он оказывается привязан к нему более глубоко и трагично, чем до того, как он отказался» [30; 23]. При этом, раскрывая философскую сложность и глубину поступка, А. А. Гусейнов говорит о том, что поступок в принципе непредсказуем. Однако это не умаляет нравственной ответственности за совершенные действия. Автор дает то понимание соединение непредсказуемости поступка и ответственности человека, которое в какой-то мере примиряет мораль и право: «Соединение специальной ответственности с нравственной ответственностью или, что одно и то же, соединение закона и поступка на базе поступка, включение закона в контекст поступка, обоснование закономерного (абсолютного) поступка как условия поступания – такова, на мой сегодняшний взгляд, подлинная и, быть может, центральная проблема современной этики и современного человека» [30; 25]. Для полноты современного понимания вины и ответственности можно указать на идея польско-немецкого философа Р. Ингардена. Он говорит, что «Нести ответственность – действительное положение, которое до известной степени автоматически накладывается на того, кто совершает определенного рода поступок. Мы становимся ответственными за поступок, раз его предприняли совершили, но и продолжаем оставаться ответственными за него, хотим того или нет. ответственность отягощает виновника. На чем «тяжесть» основана и почему она сама посредством этого следует из совершенного поступка, предстоит еще выяснить. Существенным является то, что на самом деле виновник, а никто иной, может «избавиться» от своего бремени с помощью нового – соответственным образом совершенного – поступка [56; 72]. Ключевая ценность, придающая поступку истинную нравственную ценность, это свобода. Ингарден пишет: «Личность, которая несет ответственность за свой поступок, должна …быть свободной в своих 57 поступках. … это не означает ничего иного, как то, что ее собственный поступок создает ей соответствующий способ поведения» [56; 115]. Концепция всеобщей виновности, предполагающей раскаяние, и концепция личной ответственности, предполагающей свободу, таков этический синтез, возникающий при нравственном рассмотрении понятия вины в метафизической проекции. Итак, мы можем подвести некоторые итоги, выразив их в следующих тезисах: 1. Существуют глубочайшие отличия нравственной вины как этической категории от юридического понимания этого феномена; 2. Начала моральности связаны с нравственным бунтом против метафизической вины (царь Эдип, «подпольный человек»); 3. Развитие идеи всеобщей виновности означают более высокую развитость нравственного сознания. 4. Невозможность «полной» вины в силу всеобщности вины и ее неопределенности, а, следовательно, возможность покаяния как нравственного и духовного перерождения преступника у Достоевского. 5. Современные концепции, связывающие вину и ответственность поступка. Эти идеи, могут способствовать более глубокому пониманию тех драматических внутренних коллизий душевной жизни человека, когда он оказывается виновным в совершении преступления. При обшей оценке поступков и проступков человека необходимо в полной мере учитывать этические аргументы, особенно те, которые содержатся в нравственной философии Ф. М. Достоевского. 58 Выводы по главе I Понятие вины является междисциплинарным, находящимся в центре религии, права и нравственности. Чувство вины играет важную роль в психологической идентификации личности. Кроме того, чувство вины, согласно З. Фрейду, играет огромную роль в развитии цивилизации. Крайне важна и интересна интерпретация вины, предпринятая Ф. Ницше, в результате которой происходит трансформация привычных представлений об этом чувстве. Связав чувство вины со специфическим моральным чувством «ressentiment», Ницше раскрыл более глубокие основания человеческого бытия. Экзистенциальная трактовка вины у Р. Мэйя, связывающая вину с ответственностью и раскрывающая сущность псевдовиновности, крайне важна для нравственной аналитики моральных свойств личности. По мере отдаления от психологии, права и религии усиливается неопределимость понятии вины. Но существует не только этическая и метафизическая неопределенность понятия вины, но и правовая. Авторы отмечают недостаточную разработанность учения о вине не только в уголовно-правовой доктрине, но и в уголовно-процессуальном, гражданском праве и криминологии. В различных теориях делается акцент на разные аспекты вины, что делает само понятие проблематичным. При этом правовые дефиниции остаются в рамках строгих уголовно-процессуальных ограничений, что проводит существенную границу между областями права и морали. Сущностью правового понимания вины можно считать следующее: вина – это нормативная категория, совмещающая в себе минимум условий, необходимых для привлечения лица к юридической ответственности в ситуации его вменяемости, то есть сознательно-волевого отношения к совершаемым противоправным действиям; Сущность религиозного понимания вины заключается в отождествлении понятий вины и греха, которое предполагает духовный акт 59 искупления (раскаяния), в результате чего происходит снятие вины. Вина здесь безлична и универсальна, передается через факт рождения из поколения в поколения («из рода в род»). На высших уровнях религиозного происходит ее отдаление от этического понимания вины; Сущность психологического подхода к вине наиболее отчетливо представлена в психоанализе, где она трактуется как чувство, возникшее в результате подавления совестью («Сверх-Я») – репрессирующей по отношению к личности. Чувство вины в этой трактовке является решительным фактором в прогрессе цивилизации; Сущность нравственного подхода в толковании вины заключается в том, что здесь следует разделять «вину метафизическую» и «вину моральную». Для античного человека метафизическая вина означала действие внеморального фатума («судьбы»), преодолеть который и значило стать полноценным моральным субъектом. Это определенный предел, достигнутый этической мыслью античности. Более глубокую и развернутую трактовку, в которой метафизическое переходит в этическое (и обратно), обнаруживается в системе нравственных представлений Достоевского, в которой метафизическое понимание вины означает более глубокое ее постижение, в котором субъект чувствует свою ответственность за происходящее и не списывает все на действие внешней случайной и враждебной судьбы. Здесь важно видеть, как в нравственной плоскости вина становится бедой. Такое понимание предполагает внутреннее перерождение человека, осознание им своих духовным возможностей, что приводит к подлинному раскаянию в содеянных преступных деяниях. Важным результатом этического анализа явилось обнаружение глубокой связи понятий вины и оправдания. В оправдании заключена совокупность истинных мотивов человека, что делает его нравственной величиной, составляющей в человеке фундаментальное основание его бытия, вне которого нельзя говорить о подлинном бытии человека. Нравственная аналитика оправдания помогает установить подлинный мотивы человека, 60 определить действительную меру его вины. Это крайне важно в судебноуголовной практике, особенно при вынесении справедливого наказания. При этом необходимо сказать, что ни правовое, ни религиозное, ни психологическое понимание вины не дает ответа на вопрос «почему вменяемый, то есть сознательный субъект совершает преступление?» Уголовное право озабочено доказательствами того, что преступление совершенно сознательно. Что касается причин, то они, как правило, не выходят за пределы социально-психологической интерпретации мотивов поведения. Но этико-метафизическое рассмотрение вопроса показывает, что преступление имеет более глубокие, неосознаваемые мотивы, которые, однако, не снимают с человека личной ответственности. Личная ответственность за совершенные поступки, остается в центре внимания современных философов (А. А. Гусейнов, Р. Ингарден). Это возбуждает вопрос о свободе воли и «злом начале» человеческой природы, которые мы рассмотрим в следующей главе, в контексте нравственных противоречий преступления и наказания. 61 Глава II. НРАВСТВЕННЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ НАКАЗАНИЯ Вопрос о нравственных противоречиях наказаниях проистекает из нескольких оснований. С одной стороны, неопределенность понятия вины, невозможность «полной» вины, «всеобщая виновность» – все это делает наказание достаточно условным и относительным явлением, имеющим свою собственную карательно-репрессивную логику, как правило, не имеющую ничего общего с личностью виновного, совершившего преступление. В этом проявляется неадекватность и асимметричность преступления и наказания. Кроме проблемности с виной, нравственные противоречия наказания проистекают из целей наказания, достижение которых оказывается также весьма проблематичным. Как отмечают правоведы, наказание должно быть справедливым, поскольку: «Только такое наказание способно достичь цели исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений» [14; 3]. Однако, это, можно сказать, недостижимый этико-юридический идеал, в полной мере невыполнимое требование. Рассмотрим наиболее важные, с нашей точки зрения, факторы, препятствующие достижению адекватного, то есть справедливого наказания, осуществляемого в уголовно-правовой плоскости, прежде всего. 2.1. Проблема «злого» начала человеческой природы Связь зла и преступления представляется совершенно очевидно и однозначной. Преступление в качестве наиболее радикальной и опасной формы зла, – пишет В. А. Бачинин, – несет в себе угрозу насильственного разрушения хрупких творений жизни, цивилизации и культуры. Отрицая, уничтожая, сокрушая, оно преждевременно приоткрывает для них бездну несуществования и этим напоминает все ту же смерть. Характерно, что оно 62 порождает по отношению к себе приблизительно ту же эмоциональную реакцию, что и смерть, т.е. страх» [7]. Итак, преступление – это «наиболее радикальная и опасная форма зла». Проблема в том, чтобы наказание в свою очередь не стало таким же злом, как и преступления. Вот поэтому проблема «злого начала» человеческой природы представляется весьма важной и существенной в теме преступления и наказания. Насколько «злое» начал является определяющем в человеческом поведении? Детерминировано ли преступное деяние действием этого «злого» начала, парализующим свободную волю личности? Можно ли вообще говорить о наличие такого начала в человеческой природе? Не преувеличиваем ли мы меру зла, имеющегося в человеке, когда речь идет об уголовных преступлениях? Без всестороннего анализа проблемы зла невозможно говорить об искомой справедливости наказания, об адекватности наказания, совершенному преступлению. Слова В. С. Соловьева, сказанные им в «Третьей речи» о Достоевском, кажутся нам ключевыми для раскрытия вопроса о «злом» начале человеческой природы. Философ пишет о Достоевском, что он «…слишком хорошо знал все глубины человеческого падения, он знал, что злоба и безумие составляют основу нашей извращенной природы и что если принимать это извращение за норму, то нельзя прийти ни к чему, кроме насилия и хаоса» [168; 251]. Важным моментом в этих словах является акцент на «злое» как «основе извращенной природы». Нельзя сказать, что это мизантропическое преувеличение, поскольку именно в этой области Достоевский – главный «эксперт», по крайней мере, один из главных. Доказательством тому – вся его тяжелая личная жизнь, которая как бы специально сводила его с этими злыми проявлениями человеческой природы. Соловьев далее говорит такие важные слова, усиливая первоначальную интенцию: «Пока темная основа нашей природы, злая в своем исключительном эгоизме и безумная в своем стремлении осуществить этот эгоизм, все отнести к себе и все определить 63 собою, – пока эта темная основа у нас налицо – не обращена и этот первородный грех не сокрушен, до тех пор невозможно для нас никакое настоящее дело и вопрос что делать не имеет разумного смысла» [135; 151]. Все это говорит о таких характеристиках зла как вездесущность и неустранимость. Причем, авторы XIX и XX века здесь оказываются согласны в главном. Вот, что говорит по тому поводу В. А. Бачинин: «Без сомнения, зло имеет свои особые, недоступные для рассудочного понимания предпосылки и основания. Совершенно очевидно, что не человек принес зло в мир и не человеку суждено избавить мир от зла. Видя, что мера зла в жизни чрезвычайно велика, что мир временами утопает во зле, как в трясине, что, убывая в одних местах, оно неизбежно прибывает в других, люди издавна привыкли воспринимать его как метафизическую константу. Если волны зла перестают бушевать в некий, отдельно взятый момент, то можно быть совершенно уверенным, что непременно рано или поздно нагрянут времена, когда зло неизбежно наверстает упущенное» [7; 10]. В истории философии мы обнаруживаем целостную традицию рефлексии над этой проблемой. По сути дела Платон в «Законах» уже говорит в некотором роде о «злом» начале человека, когда он говорит о категории людей, называемых «неисцелимыми». Это особый случай, который заставляет судью приговаривать к смерти такого неисцелимого. В чем же заключается его «неисцелимость»? Судья «знает, какое воспитание получил этот человек, как он был взращен с детства, а между тем он не удержался от величайшего зла» [109; 339]. Что заставило такого человека совершить это, вопреки здравому смыслу и возможно хорошему воспитанию? Вообще, дело здесь не в воспитании: оно может быть любым, и хорошее воспитание не является препятствием для совершения дурного поступка. В другом месте Платон наряду с «дурным воспитанием» говорит и о «дурной природе духа»[109; 437], что по сути дела свидетельствует в пользу какой-то демонической врожденности злого начала в человеке. 64 «Злое» начало в человеке замечали многие, отмечая его неразрешимость. Вот что говорит А. Кестлер: «Всем религиям, всем метафизическим системам приходится сталкиваться с проблемой зла, то есть с тем, что зло включено в вечный миропорядок. На этот вопрос не было дано удовлетворительного ответа; вероятно, никогда и не будет. Закон предполагает, что человек свободен и ответствен за свои поступки; он оставляет на долю теологов вопрос о том, почему Бог дал человеку свободу, позволяющую человеку выбирать зло, и теологам здесь нечего сказать» [63; 125]. Особое место проблема зла, которую часто связывают со смертью, занимает в отечественной философской традиции [34, 23, 111, 57, 126, 61, 94, 120, 58, 129, 44]. Кроме уже упоминаемых Ф. М. Достоевского и В. С. Соловьева, здесь следует назвать еще Н. Ф. Федорова, Л. Н. Толстого, В. В. Розанова, Н. А. Бердяева, Л. П. Карсавина и многих других. Можно привести слова Л. М. Лопатина, который говорит о зле как о «вполне реальной силе и в природе, и в человечестве». В работе «Теоретические основы сознательной нравственной жизни» он пишет: «Мы еще более убедимся в этом, если объективно вдумаемся в то, что жизненный опыт представляет нам каждый день: власть стихийных случайностей, бесплодные мучения живых существ, их бессмысленная гибель, – вот что постоянно окружает нас. Картина делается еще мрачнее, когда наша мысль остановится на тех общих условиях, в которых живут и действуют люди; история с этической точки зрения есть одна из самых безотрадных наук» [77; 105]. Не только религиозные философы, но и гуманистически настроенные мыслители не игнорируют проблемность морального начала человека. Так, Ч. Беккариа, объясняя происхождение наказаний, так или иначе склоняется к признаю негативных (деструктивных) моральных свойств человека. Он пишет: «Потребовалось воздействовать на чувства, чтобы воспрепятствовать эгоистическим поползновениям души каждого отдельного индивида ввергнуть законы общества в пучину первобытного хаоса. Это воздействие 65 на чувства служит наказанием нарушителям законов. Я говорю «воздействовать на чувства», ибо, как показал опыт, массы не в состоянии ни усвоить твердые правила поведения, ни противостоять всеобщему закону разложения, проявление которого наблюдается и в мире физических явлений, и в сфере морали» [9; 36-37]. То, что Беккариа называет «всеобщим законом разложения» и есть по сути «злое» начало человеческой природы, о котором говорят русские философы, в том числе В. С. Соловьев, Л. М. Лопатин и др. К тому же «эгоистические поползновения души», отмеченные им, также являются проявлением этих негативных моральных свойств личности (и об этом также много говорят русские философы – Н. Ф. Федоров, Ф. М. Достоевский, Н. А. Бердяев и др.). Наличие зла в человеке, провоцирующее его на преступление, вопрос из разряда вечных [128, 80, 65, 6, 159, 157, 123, 55, 161]. Но главная проблема в том, что «злое» начало человеческой природы, пожалуй, более всего проявляется не только в преступлениях, но и в наказаниях. Анализ творчества Ф. М. Достоевского приводит современных исследователей к таким выводам: «Точность наблюдений писателя подтверждена временем: патология жестокости в человеческой природе существует» [116; 336]. Психология палача, которую буквально обнажает Достоевский в своем творчестве, наглядно демонстрирует наличие деструктивности в человеческой природе, которая проявляется наиболее неприглядно, когда человеку предоставляется возможность безграничной власти над другим человеком. Наказание же другого – это и есть проявление безграничной власти. И выводы здесь, увы, не утешительны. Это связано также с проблемой вседозволенности, которая, повинуясь логике деструкции, приводит к самым ужасным преступлениям [48]. Обратимся к Достоевскому, к его «Запискам из Мертвого дома». Писатель много места уделяет этому вопросу и его размышления являются ценным материалом по нравственной философии, которая затрагивает 66 проблему этой патологии. Именно как нравственная патология и может быть рассмотрена психология палача. Достоевский пишет: «Я не знаю, как теперь, но в недавнюю старину были джентльмены, которым возможность высечь свою жертву доставляла нечто, напоминающее маркиз де Сада и Бренвилье. Я думаю, что в этом ощущении есть нечто такое, отчего у этих джентльменов замирает сердце, сладко и больно вместе. Есть люди как тигры, жаждущие лизнуть крови. Кто испытал раз эту власть, это безграничное господство над телом, кровью и духом такого же, как сам, человека, так же созданного, брата по закону Христову; кто испытал власть и полную возможность унизить самым высочайшим унижением другое существо, носящее на себе образ божий, тот уже поневоле как-то делается не властен в своих ощущениях. Тиранство есть привычка; оно одарено развитием, оно развивается, наконец, в болезнь. Я стою на том, что самый лучший человек может огрубеть и отупеть от привычки до степени зверя. Кровь и власть пьянят: развиваются загрубелость, разврат; уму и чувству становятся доступны и, наконец, сладки самые ненормальные явления. Человек и гражданин гибнут в тиране навсегда, а возврат к человеческому достоинству, к раскаянию, к возрождению становится для него уже почти невозможен». Это проецируется и в социальную плоскость, в которой происходит деформация нравственных ценностей: «К тому же пример, возможность такого своеволия действуют и на все общество заразительно: такая власть соблазнительна. Общество, равнодушно смотрящее на такое явление, уже само заражено в своем основании. Одним словом, право телесного наказания, данное одному над другим, есть одна из язв общества, есть одно из самых сильных средств для уничтожения в нем всякого зародыша, всякой попытки гражданственности и полное основание к непременному и неотразимому его разложению». «Потребность самовластия» находит свое проявление во всяком человеке: «Даже всякий фабрикант, всякий антрепренер непременно должен ощущать какое-то раздражительное удовольствие в том, что его работник 67 зависит иногда весь, со всем семейством своим, единственно от него». Достоевский не безосновно делает выводы универсального характера о природе человека, выделяя два типа палачей: «Свойства палача в зародыше находятся почти в каждом современном человеке. Но не равно развиваются звериные свойства человека. Если же в ком-нибудь они пересиливают в своем развитии все другие его свойства, то такой человек, конечно, становится ужасным и безобразным. Палачи бывают двух родов: одни бывают добровольные, другие — подневольные, обязанные. Добровольный палач, конечно, во всех отношениях подневольного, которым, однако, так гнушается народ, гнушается до ужаса, до гадливости, до безотчетного, чуть не мистического страха. Откуда же этот почти суеверный страх к одному палачу и такое равнодушие, чуть не одобрение к другому? Бывают примеры до крайности странные: я знавал людей даже добрых, даже честных, даже уважаемых в обществе, и между тем они, например, не могли хладнокровно перенести, если наказуемый не кричит под розгами, не молит и не просит о пощаде. Наказуемые должны непременно кричать и молить о пощаде. Так принято; это считается и приличным и необходимым, и когда однажды жертва не хотела кричать, то исполнитель, которого я знал и который в других отношениях мог считаться человеком, пожалуй, и добрым, даже лично обиделся при этом случае». Достоевский дает различные толкования этому явлению: «Странное дело, сколько мне ни случалось видеть палачей, все они были люди развитые, с толком, с умом и с необыкновенным самолюбием, даже с гордостью. Развилась ли в них эта гордость в отпор всеобщему к ним презрению; усиливалась ли она сознанием страха, внушаемого ими их жертве, и чувством господства над нею, – не знаю. Может быть, даже самая парадность и театральность той обстановки, с которою они являются перед публикой на эшафоте, способствуют развитию в них некоторого высокомерия» [41; 386389]. 68 Такая исчерпывающая картина человеческой патологии, нарисованная Достоевским, явно имеет не только художественные цели. Перед нами полноценная нравственная философия, имеющая к тому же авторитетные параллели. Здесь нужно вспомнить об аналитике понятия «вины», произведенного Ф. Ницше, о которой мы говорили в первой главе, об открытом им негативном моральном чувстве «наслаждения в насилии», которое есть «удовольствие от права безнаказанно проявлять свою власть над бессильным» [98; 445]. Сходство в воззрениях двух великих мыслителей заставляет со всей ответственностью отнестись к проблеме наказания, к его адекватности, нравственной оправданности и возможной гуманизации. Хотя не все исследователи склонные отождествлять Достоевского и Ницше. Например, Ю. Н. Давыдов миросозерцаний» обнаруживает этих мыслителей. абсолютную Он пишет: противоположность «Для Достоевского преступление – это болезнь, а раскаяние – выздоровление или по меньшей мере путь к нему. Для Ницше все наоборот: преступление – это «норма», это «здоровье», раскаяние же – это болезнь, и болезнь не только душевная, но и физиологическая, свидетельствующая о глубоко зашедшем «физическом» вырождении человека» [34; 112]. Думается, что здесь имеет место недооценка тех моральных открытий, которые совершил Ницше, особенно открытое им негативное нравственное чувство ressentiment, с помощью которого можно доподлинно прояснить темные мотивы преступных желаний, а значит, найти действительный путь к их исправлению. Для Достоевского определяющей была нравственная идея суда совести, которую он хотел распространить повсеместно, включая и судебные инстанции. Исследуя отношения Достоевского к русскому суду, исследователь Т. С. Карлова отмечает: «Достоевский мечтал о снятии противоречия между моралью и правом. В этом плане его воображение рисовало ему такие переходные формы суда, в которых не было бы строгого 69 разделения власти обвинительной и защитительной, суд работал бы, руководствуясь правдой… Достоевский хотел, чтобы и в официальном суде исполнялась миссия пробуждения совести» [60; 138,140]. Это очень точные и верные слова, подтверждаемые всем творчеством писателя. Это значит, что, несмотря на наличие темного начала в человеческой природе, Достоевский все же верил в торжество правды и добра. Такой моралецентризм является вообще характеристикой отечественной ментальности и находит свое проявление совершенно у различных людей. Здесь хотелось бы привести мнение П. Ф. Якубовича, человека, прошедшего через каторгу XIX века, но который в отличие от Достоевского исследует не психологию и метафизику преступления и видит в преступлении не нравственный изъян, а социально-правовой: «Следует прежде всего твердо помнить, что не безнравственность вообще, не порочность или жестокость приводят людей в тюрьму и каторгу, а лишь определенные и вполне доказанные нарушения существующих в стране законов» [168; 394]. По отношению к преступникам как существам изначально нравственным у П. Ф. Якубовича сострадательное отношение. В послесловии к своей книге он пишет, что ему удалось показать, как «обитатели и этого ужасного мира, эти искалеченные, темные, порой безумные люди, подобно всем нам, способны не только ненавидеть, но и страстно и глубоко любить, падать, но и подниматься, жаждать света и правды и не меньше нас страдать от всего, что является преградой на пути к человеческому счастью» [168; 339]. П. Ф. Якубович выступает против, как он говорит, сомнительной гипотезы о «прирожденном преступнике», что дает основания и возможность влиять на преступника в нравственном плане, не считая его отверженным, закоренелым и вычеркнутым из жизни. Это этически оптимистический взгляд: «В моих очерках есть немало фактов, показывающих, что русскому арестанту вовсе не чужды и нежное любящее сердце и способность 70 сочувствовать чужому страданию, способность, доходящая до самоотречения» [168; 402]. Эти слова полностью опровергают всяческие гипотезы о неискоренимом «злом» начале человека, и основанных на этом представлений о врожденном преступном характере. Представляет интерес психологическая трактовка «злого начала» личности. Известный немецкий психолог К. Леонгард в своей книге «Акцентуированные личности» выявляет это начало, которое он обнаруживает у таких персонажей мировой литературы как Ричард III, Яго («Отелло»), Эдмунд («Король Лир»), Вурм («Коварство и любовь»), Дюруа («Милый друг») и т. д. Он пишет: «У всех этих лиц нет сочувствия к окружающим, к близким, они причиняют им жестокие мучения, нисколько не стыдясь своих поступков. К тем, кто стоит им поперек дороги, они относятся враждебно, с ненавистью; ненависть вносит активную ноту в присущую им злобность… в любой их черте мы находим прямую противоположность доброте» [72; 330-331]. Естественно, автор трактует «злое начало» психологически: «Доброе или злое начало проявляется в человеке там, где оно «накладывается» на определенную ситуацию». Кроме того, известный психолог считает, что истеричность является катализатором «злого начала». Он пишет: «При наличии истерической структуры личности злобные проявления человека требуют особого подхода. В таких случаях сложно определить, отсутствует ли у данного лица этическое начало полностью, или, может быть, оно имеется, но вытеснено истерическими тенденциями, что усугубило эгоистические проявления» [72; 335-336]. При этом, как психолог К. Леонгард считает, что этическое начало выполняет лишь регулятивную функцию и не вступает в конфликт с эгоистическими стремлениями, в которых он не усматривает ничего аморального. «Нет оснований утверждать, – пишет он, – что эгоистические устремления носят патологический характер: просто их осуществлению ничто не препятствует. Любому человеку хотелось бы добиться почета и 71 материальных благ, но у большинства людей достаточно развито этическое начало, чтобы не позволить себе идти к цели «по трупам». Но существуют лица, у которых тщеславие и жадность выходят за пределы нормы» [72; 335]. Ответом на этот вопрос и является теория акцентуированных личностей, то есть людей со своеобразным заострением свойств личностей. Он дает свою типологию личности, в которой выделяет особый тип «возбудимых личностей», в котором имеет место эпилептоидная психопатия. В этом случае, отмечает ученый, можно говорить о патологической власти влечений. У таких личностей моральные устои не играют какой-то существенной роли. «Уголовные преступления эпилептоидных психопатовмужчин чаще всего связаны с грубыми актами насилия» [72; 141], – заключает Леонгард. Однако, он объясняет это тем, что акты насилия у таких людей вызваны не бездушием, а аффективным напряжением (стрессом). «Преступное действие может быть вызвано только глубоким аффективным напряжением, предельно сильным раздражением» [72; 151]. Поэтому характеризовать такую личность, даже совершившую грубое насилие, как бессердечную, бездушную и жестокую неверно. Леонард приводит примеры преступников (даже убийц), которые не теряли человеческого облика и которым были присущи нормальные эмоции. В качестве литературно иллюстрации он приводит драму Еврипида «Геракл», в которой Геракл в припадке безумия убивает жену и детей. Затем он погружается в сон, после пробуждения которого совершенно забывает о содеянном. И когда он узнает о случившемся, то его охватывает ужас. Этот «припадок безумия» Геракла Леонард склонен трактовать как «эпилептическое сумеречное состояние сознания». Убийства, как отмечает психолог, особенно на почве ревности чаще всего бываю, когда имеет место «параноический аффект». Это конечно не оправдание преступника, но попытка объективно (в данном случае психологически) посмотреть на причину и более глубоко на природу преступлений. Все это очень важно учитывать, когда определяется 72 мера наказания за содеянное преступление, вот почему крайне важна и психологическая экспертиза. В конечном счете, Леонгард, обобщая данные убийств, совершенных «примитивными личностями эпилептоидного типа», приходит к заключению, что у них «отсутствует («выпадает») тот участок развития психики, в ведении которого находятся этические общественные нормы. Эта филогенетическая новая сфера человеческой психики, на уровне которой благоразумие обретает господство над инстинктами и неконтролируемыми побуждениями, у таких личностей вообще не развита» [72; 154-155]. Из этих слов видно, что этическое трактуется как психологическое («филогенетическая новая сфера человеческой психики»). Нисколько не умаляя такого подхода, раскрывающего многие непроясненные моменты в структуре преступного деяния, все же оставляет без ответа вопрос об истоках «злой воли» человека, отдавая его на откуп биологическим концепциям, полагающими появление нравственности как закономерный этап в общем эволюционном процессе. Видный американский ученый Л. Берковиц считает, что в человеке нет природной предрасположенность к злу. Он говорит о том, что конечно «трудно или даже невозможно целиком исключить агрессию из нашей жизни. Вовсе не потому, что человеческие существа от природы злы или обладают врожденным желанием убивать и уничтожать. Есть ясные и неоспоримые доказательства того, агрессивного инстинкта, предполагаемого Зигмундом Фрейдом, Конрадом Лоренцом и другими теоретиками, в действительности не существует» [13; 497]. «Агрессивный инстинкт», о котором говорит Берковиц, есть психологическая транскрипция этического концепта «злой природы» или «злого начала» человеческой природы. Здесь мы намерены обраться к трактовке добра и зла, которая изложена в книге известного американского психолога Р. Мэя. С нашей точки зрения, это одна из наиболее серьезных и обоснованных трактовок, совмещающая 73 психологический и этико-философский анализ, имеющих, к тому же самое непосредственное отношение к нашей теме, поскольку касается вопросов агрессии и насилия в человеческом поведении. Мы уже частично разбирали идеи Р. Мэя в прошлых разделах по поводу невинности. Сейчас рассмотрим концепцию зла, которая оказывается в непосредственной связи с подлинной невинностью, которая только и может осознать реальное положение дел, не убегать от действительности и взять на себя ответственность, проявив подлинную силу. Прежде всего, Мей развенчивает некоторые иллюзии относительно нравственной природы человека, воплотившиеся в так называемой «этике роста». Он пишет: «Иллюзия того, что мы становимся «лучше», «прогрессируем», делая по шагу вперед каждый день, – это доктрина, контрабандой заимствованная из техники и ставшая догмой в этике, где она не соответствует действительности». Что действительно в технике, то совершенно неприемлемо в этике, в которой отсутствует прогресс: «Современный человек не превосходит в этическом отношении Сократа и древних греков, и хотя мы строим здания по-другому, они не более красивы, чем Парфенон» [88; 312]. Основная идея относительно добра и зла выражена в таких словах Мэя: «… история человечества представляет собой бесконечное взаимодействие добра и зла, и что в глубинах человеческой души, как и в человеческой истории, нет такой вещи как чистое зло или чистое добро» [88; 241]. Для иллюстрации своих идей он прибегает к экзистенциальной трактовке мифа об Эдипе. Кто такой Эдип? «Эдип – это человек, который осмелился осознать тот факт, что человек… спит со своей матерью и убивает своего отца, этот человек, который видит себя в истинном свете, который понимает, что внутри него есть и добро, и зло, и осознает «Сфинкса внутри себя»». Это означает появление трагедии, которая вечно решает вопрос о человеческой вине и ответственности. И Эдип ее решает единственно верным для человеческого достоинством способом – он возвращает Сфинкса внутрь 74 своей души и тем самым, побеждает его. Мей говорит: «Выбор ясен: мы должны приносить человеческие жертвы Сфинксу, живущему за городскими воротами, или же мы должны принять вину и ответственность как наши внутренние реалии. Тот, кто не может принять свою вину и ответственность, будет вынужден проецировать свою вину на Сфинкса за пределами города» [88; 255-256]. И далее: «Принять их в себе означает признать, что добро и зло обитает в одном и том же человеке, и что возможности творить зло возрастают пропорционально увеличению нашей способности к добру. Добро, которое мы ищем – это более тонкая чувствительность, обостренное понимание, повышенное сознание и добра, и зла» [88; 261-262]. Понять, осознать, что у человека не только доброе, но и злое – значит встать на путь подлинной этики, потому что признать в себе злое начало не просто. Но обратное – это уход в инфантилизм и, соответственно, от ответственности. Мэй пишет: «Огромным благом для человека является понимание того, что у него, как и у всех других людей, есть и негативная сторона, что демоническое начало вносит вклад в потенциал и добра, и зла, и что он не может не отречься от него, ни жить без него» [88; 319]. Понять это «злое» «демоническое» начало не означает рабски смириться с ним; наоборот, именно в этом и заложен механизм его преодоления. «Злое» начало есть, но это не фатально, это необходимая нравственная диалектика добра и зла, которая и является определяющей для человека. В конечном счете, Мэй утверждает, что жизнь состоит в достижении добра не в стороне от зла, а вопреки ему. Такова этика намерения, о которой говорит Мей, определяя ее как способность человека к ответственности «за эффект, производимый его действиями». Таким образом, нравственная жизнь, согласно Мэю, является «диалектическим взаимодействием добра и зла». Это приводит к очень важному для нас пересмотру понятий агрессия и насилия. Мей разделяет деструктивную и конструктивную агрессию, детально разбирая различные 75 контексты проявления этого феномена. Конструктивная агрессия обладает позитивной стороной и неотделима не только от творчества, но и любви. Позитивная сторона насилия может проявляться и в том, что оно направлено на реальное зло социального угнетения. Это серьезные аргументы против весьма популярной этики ненасилия, которая со времен Л. Н. Толстого, известного своей идеей непротивления злу силою, претендует на то, чтобы занимать лидирующие позиции в этической мысли. Здесь следует остановиться на этой проблеме несколько подробнее. Так, противоположная точка зрения по вопросу этики ненасилия, озвученная А. А. Гусейновым, также выглядит достаточно убедительно. Он пишет: «На мой взгляд, человечество в настоящее время достигло такого уровня эмоционального и интеллектуального развития, так расширило свои технологические возможности и исторические горизонты, когда оно в качестве нравственного закона и сознательно культивируемой программы духовного роста способно сформулировать то, что всегда с той или иной степенью адекватности входило в реально практикуемую людьми мораль – безусловный отказ от насилия, которое изначально и всегда противоположно морали. …Ненасилие есть отказ от насилия, импульсы к которому постоянно порождаются природным и социальным существованием человека. Оно поэтому каждый раз выступает как конкретный в своей единственности поступок. И оно же всегда является требованием всеобщего законодательства, имеет морально абсолютный смысл» [31; 34]. Несколько иную точку зрения на природу ненасилия высказывает другой известный современный этик Р. Г. Апресян: «…не противиться злу – безнравственно. За нанесенный ущерб, тем более сознательно нанесенный, за проступок и преступление виновный должен ответить в соответствии с принятыми в данном сообществе в данное время нормам. Злу (в обозначенном чуть выше разнообразии его конкретных проявлений) следует сопротивляться. Иначе его не остановить. Сопротивляться – это значит 76 предпринимать активные усилия – моральные, социальные, политикоправовые, силовые, – направленные на создание условий, делающих невозможными чьи-то опасные действия» [3; 80]. При этом, отмечает Р. Г. Апресян, сопротивление злу может быть многообразным: «Сопротивление может принимать формы устыжения и усовестливания того, чьи действия неоправданно нарушают чужие интересы и права, а может быть, и молитвенно-духовного обращения к Властям и Силам (именно в эзотерическом смысле этих слов), чтобы они остановили поступающего неправильно (если кому-то это по силам), но также и пресекающего окрика, объявления тревоги, чинения всяческих организационных и физических препятствий, силового ограничения и подавления» [3; 80]. «Устыжение и усовестливание того, чьи действия неоправданно нарушают чужие интересы и права» – эта форма представляется в большей мере соответствует нравственному пониманию борьбы с преступностями действиями. Современные авторы, продолжая традиции XIX-XX вв., не перестают размышлять о «злом» начале человеческой природы. Представляет интерес размышления В. А. Бачинина, которые имеют непосредственное отношение к нашей теме. Анализируя творчество Достоевского, особенно тему подполья, автор предлагает понятие «ночная душа», которое емко и глубоко схватывает самую суть преступной души. Наличие этого феномена в человеке, по сути, отменяет «презумпцию невинности. «Ночная невиновности», душа» прежде безусловно, всего отличается нравственной от идеи об антропологической порочности (врожденности) у людей преступного типа, о чем говорил Ч. Ламброзо. У последнего люди делятся на патологических преступников и остальных, не преступников. У Достоевского «подполье» есть у всякого человека без исключения; поэтому человек чреват совершением преступления. 77 В. А. Бачинин так характеризует «ночную душу»: «Ночная душа не видит препятствий на пути ни к одному из возможных преступлений, вплоть до отцеубийства и антропофагии» [7; 125]. Это совершенно иррациональная сила, для которой ничего не значат веления разума и доводы рассудка. Ночная душа совершенно чужда гармонии, порядку и законам, она вся во власти «мрачной агрессивности». Она, прорвавшись наружи из темных глубин, творит зло и хаос. Исследователь находит параллель с древнегреческой трагедией, в которой «ночная душа» представляет собой «орудие Рока», воплощением чего выступает царь Эдип. Деструктивный характер «ночной души проявляется, согласно В. А. Бачинину, в следующих четырех факторах: хронофагия (разрыв связей между прошлым, настоящим и будущем); разрушение нормативных границ (принцип «все дозволено»); разрушение аксиологического пространства, в результате чего легализуется недолжное, запретное, преступное; разрушение иерархического пространства смыслов, в результате чего человек лишается способности понимать, что с ним происходит. Таково действие «ночной души», которое раскрывает «метафизическую механику» преступления, против которой оказываются бессильными все разумные и добрые начала. Это начало проявляется наиболее сильно во время войны, само наличие которой говорит о нравственной поврежденности человеческой природы. Об этом говорят современные философы-этики: «…причина войн лежит не только в политических или социальных факторах, а, в первую очередь, в глубокой испорченности человеческой натуры, в эгоистических стремлениях людей, в потере нравственного измерения нашей жизни» [132; 217]. Однако, абсолютизировать это злое начало на следует. Как говорит А. П. Скрипник: «Положительные нравственные чувства – стремление к добру и любовь – более сложны, чем обида и стыд. … То, что человек испытывает потребность в добрых поступках по отношению к нему, не составляет 78 проблемы. Не вызывает сомнения, что эта потребность является первичной и исходной в его нравственном устройстве» [134; 105]. Это нужно принимать в расчет. Также заслуживает внимания в контексте нашего исследования книга А. П. Скрипника «Моральное зло в истории этики и культуры», в которой рассматривается вопрос о сущности и происхождении зла. Свойственно ли зло природе человека – вопрос, находящийся в центре внимания автора. На богатейшем этнографическом, мифологическом, историко-культурном и историко-философсоком материале автор приходит к диалектическому пониманию добра и зла, отрицающее представления о врожденном характере зла в человеческой природе. Он пишет: «Ходячее представление о том, что по своей биологической конституции одни люди больше предрасположены к моральному, а другие – к аморальному образу действий, ошибочно» [133; 292]. При этом исследователь указывает на то, что диалектику добра и зла нельзя смешивать с имморалистическим оправданием зла. Сам феномен морального зла автор определяет так: «Моральное зло корениться в человеческой субъективности, оно неразрывно связано с индивидуальной виной, свободой и ответственностью. Это такое употребление специфических личностных способностей (прежде всего, сознания и воли), которое направлено на разрушение человека и очеловеченного мира. В феномене морального зла происходит самоуничтожение человеческого в человеке, дегуманизация людей» 133; 11]. Зло, являясь диалектическим компонентом, выражает глубину и неодномерность человеческой природы. Автор не приемлет идею К. Лоренца о спонтанно развивающейся внутривидовой агрессии, полагая, что влечение к убийству не является врожденным. Агрессивные действия, ведущие к убийству, считает А. П. Скрипник, первоначально носили чисто инструментальный, ситуативный и вынужденный характер. Далее следует интересное размышление, отрицающее идею о «злом начало» человеческой природы, которая 79 встречается у выдающихся европейских мыслителей: «Враждебное отношение человека к человеку было не исходным, а произвольным от конкретных условий жизни. Убийство ради убийства, то, что Шопенгауэр называл «злобой» («Bosheit»), а Фромм – «злобной агрессией» («bosartige Aggression»), в первобытном человеческом стаде было возможно только как исключение, вызванное патологической дезинтеграцией психики» [133; 21, 22]. «Патологическая дезинтеграция психики», согласно автору, и является истиной причиной преступлений. Но это не врожденное зло, а то, что произошло под влиянием либо крайне неблагоприятных социальных условий, либо в результате психической травмы, которую получил человек. А значит, эта дезинтеграция может быть исправлена и личность может вернуться к некоей целостности. Крайняя форма выражения «патологической дезинтеграции психики», – это «мизантропическая деформация», которая проявляет себя в широком диапазоне крайне тяжелых преступных деяний. А. П. Скрипник описывает их следующим образом в порядке возрастания тяжести преступлений. Во-первых, это немотивированные преступления: «По всей видимости, с мизантропической деформацией связаны так называемые «безмотивные преступления». Изучение личности этих преступников показывает, что тот «безмотивный» поступок, который, как взрыв, проявляется вовне, является обычно результатом длительного внутреннего созревания антиобщественной направленности личности. …Тайна немотивированной жестокости, озлобленности и вандализма кроется, таким образом, что люди подобного склада сами создают обстоятельства, которые отвечали бы их извращенному нраву». Во-вторых, «постепенное усиление мизантропических настроений может привести в конечном итоге к полной дегуманизации личности. Теряя совесть, субъект алчно самооутверждается за счет других людей, попирает их законные интересы и человеческое достоинство: отнимает у них, например, 80 жилплощадь, чтобы облагодетельствовать своих родственников и любовниц; безжалостно расправляется с противниками или просто неугодными лицами, втаптывая в грязь доброе имя; наслаждается чужим горем и унижением». И, наконец, самая извращенная форма. «Мизантропическая деформация нравственного сознания в своих предельных формах представляет возможность кровавую охоту на людей, в которой охотничий азарт соединяется с оргией сексуального насилия и людоедства. Это последний рубеж аморализма, до которого способен дойти человек» [133; 310, 311]. Конечно, подчас бывает трудно провести грань между нравственной и психологической патологией, и сказать, где кончается психология и начинается этика и наоборот. Но очевидно, что между ними существует глубокая взаимосвязь: психологическая патология определяется нравственной порочностью личности, которая в свою очередь формируется под неблагоприятным влиянием психологических патологических обстоятельств. В этом плане структура нравственного сознания такова, что его «добрая» и «злая» составляющая находятся в состоянии фундаментальной асимметрии. Это не позволяет говорить ни о злой, ни о доброй природа человека окончательно, в ставших терминах. Человек существо открытое, его моральный мир находится в динамичном состоянии, он открыт всеми влияниям, как негативным, так и позитивным. И от его свободного, то есть нравственного выбора, в конечном счете, и зависит его нравственное самоопределение [86]. Такое понимание этической открытости человека в значительной степени проблематизирует наказание, неразрешимые нравственные противоречия. 81 в котором обнаруживаются 2.2 Нравственная асимметрия преступления и наказания Несмотря на обильную правовую литературу по наказанию, современные правоведы отмечают, что «…проблема содержания целей наказания продолжает оставаться одним из дискуссионных вопросов как в истории, так и в современной теории права» [51; 55]. Правоведы также отмечают ряд противоречий, которые свидетельствуют о нравственной асимметрии преступления и наказания. Е. В. Благов говорит, что наказание, назначенное лицу, совершившему преступление, должно быть справедливым, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. «В то же время, – отмечает исследователь, – уголовный закон не стал еще непреодолимой преградой для назначения несправедливого наказания»[14; 3]. Поскольку, как отмечает Г. В. Назаренко, «категория вины в уголовном праве используется для обоснования уголовной ответственности и справедливых пределов наказания», то «невиновное вменение не только противоречит смыслу уголовной ответственности, как ответственности виновной, но и ведет к подрыву всей системы уголовного права, которое в случае применения принципа объективной ответственности следует принципу несправедливости и по сути своей становится уголовной неправдой» [95; 67] Исследователи отмечают и такое противоречие: «На сегодняшний день уголовное наказание представляет собой компромисс между моральными представлениями о принуждении как зле и между необходимостью принуждения как основного инструмента власти. Проблематичность наказания заключается в постоянной необходимости согласовывать эти две одинаково важные позиции. Проблемы могут быть окончательно решены либо в случае переосмысления моральных ценностей, либо в случае отказа власти от правового принуждения. Пока этого не произошло, уголовное 82 наказание будет оставаться актуальной и проблематичной темой для этических исследований» [15; 14]. Несправедливое наказание, таким образом, и является «ахиллесовой пятой» не только уголовного закона, но и вообще всей моральной сферы, призванной гармонизировать этические и правовые аспекты. Понятие справедливости имеет широкий диапазон значений. Современные этики трактуют его следующим образом: «Предметное содержание морали в его предельно обобщенном выражении составляет то, что принято именовать «справедливостью» – в ее распределительном (разумеется, не только грубо-экономическом) варианте. «Справедливым» в этом смысле является определенный «баланс» взаимозависимых интересов внутри того или иного человеческого сообщества. Моральная интенция направлена на установление (или восстановление) «справедливого» баланса, устранение «несправедливости»» [83; 71-72]. Вот этот «баланс» интересов как раз и нарушается в случае, когда наказание оказывается несоразмерным содеянному преступлению. Необходимо отметить, что несправедливость наказания является уже неким итогом, результатом того, что цели наказания, которые оправдывают его бытие, всегда оказываются не достигнутыми. Это видно с нравственной точки зрения. Так, в качестве причин, оправдывающих наказание, исследователи выделяют следующие: - удовлетворение потребности общества в возмездии (требование общественной справедливости, акт морального отмщения, посредством которого общество причиняет преступнику страдания, соизмеримые с теми, которые повлекло его злодеяние); - превенция (сдерживание путем устрашения, обуздание девиантного поведения при помощи наказаний); - реабилитация (исправление индивида с негативным девиантным поведением); - социальная защита (предотвращение новых преступлений) [152; 19-20]. 83 Необходимо отметить, что идея справедливости положена Платоном в основание наказания. Стоит привести рассуждения философа на эту тему, поскольку они в значительной мере определили дальнейшее развитие правосознания в европейской культуре. Девятая книга «Законов» посвящена учению о преступлениях и наказаниях. Платон говорит: «Всякого совершившего больший или малый несправедливый поступок закон наставит и принудит либо никогда более не отважится на повторение подобных поступков по доброй воле, либо совершать это в значительно меньшей степени. Делом или словом, удовольствием или страданием, почетом или бесчестьем, пенями или дарами – словом, вообще каким бы то ни было образом заставить человека возненавидеть несправедливость и полюбить или по крайне мере не питать ненависти к природе справедливости – это и есть задача наилучших законов» [109; 349-350]. Возненавидеть несправедливость – вот цель законов, в которое происходит взаимопроникновение этических и правовых элементов. При этом Платон категорично заявляет: «…по закону ни одно наказание не имеет в виду причинить зло». Однако, здесь есть противоречие именно нравственного характера. Наказание должно быть не только справедливым, оно должно исправлять, совершившего проступок. В этом убежден Платон. Это уже этико-педагогический аспект наказания: «…наказание производит одно из двух действий: оно делает наказываемого либо лучшим, либо менее испорченным» [109; 339]. При этом Платон далее говорит: «Но если будет обнаружено, что подобный поступок совершен каким-нибудь гражданином, который нанес великое, несказанное оскорбление богам, своим родителям или государству, то судье придется считать его неисцелимым» [109; 339]. «Неисцелимый» не попадает под категорию нравственного воздействия наказания, а именно перевоспитания, создания лучшего человека. И поэтому такой непродуктивный и безнравственный выход – смерть, которая, по сути дела ничего не решает. Это акт бессилия, крушения теории нравственного 84 воспитания. Причем смерть, считает Платон, есть еще «наименьшее из зол». Философ считает, что преступивший закон должен быть наказан муками. «Если кто осмелится применить насилие и оскорбить отца, мать или их родителей, не убоявшись ни гнева высших богов, ни возмездия, ожидающего, как считается, человека в Аиде… нужны крайние меры». Не смерти, а муки заслуживают такие люди, считает Платон: «В этих случаях наказание, еще при жизни постигающее подобных людей за такие поступки, ничем не должно уступать по мере сил наказанию в Аиде» [109; 372]. Если все можно разрешить смертью, то зачем утруждать себя воспитанием? Да и как определить, кто неисцелим? И неужели страшные муки, пускай даже за страшное преступление с точки зрения морали древнегреческого общества, могут иметь нравственное значение? Это те противоречия нравственного характера, которые содержит теория преступлений и наказаний Платона. При этом Платон одним из первых в европейской культуре заговорил о соразмерности наказания преступлению: «…законы должны, имея ввиду такие вещи, прицеливаться, как хороший стрелок, чтобы определить размер наказания за каждый проступок в отдельности и присудить преступника к тому, чего он заслуживает» [109; 437]. Нравственная асимметрия преступления и наказания выявляется наиболее отчетливо на фоне гуманного понимания наказания. Здесь есть определенная закономерность: чем гуманнее понимания наказания, тем несправедливее являются наказания, отступающие от этой нормы. Парадигму гуманности наказания задал итальянский гуманист XVIII века Ч. Беккариа. По словам Ю. М. Юмашева «…книга Ч. Беккариа явилась гласом общественной совести и заложила фундамент правосознания нового времени». Более того, исследователь говорит о всемирном и современном значении идей итальянского гуманиста: «… вся проблематика прав человека в XX веке и особенно в его второй половине, а также практика воплощения их в жизнь – все это зримые свидетельства того, что гуманные идеи Беккариа 85 приобретают планетарное звучание. Они реализуются не только в национальных кодексах и конституциях, но и в международных конвенциях, участниками которых являются государства различных культур» [167; 10, 23]. Исследователь отмечает, что, исходя из принципов гуманизации природы человека вообще и отдельной личности в частности, он увидел «в наказании не инструмент мести и устрашения, а средство исправления преступника с целью удержать его и других от совершения новых преступлений». Это следует из следующего понимания наказания, данного самим Ч. Беккариа. При этом мыслитель делает очень важную поправку, указывая на то, что его «весьма полезная теорема» в действительности мало согласуется с действующим обычаем, которое является «признанным законодателем народов». Определение самого Ч. Беккариа таково: «…чтобы ни одно наказание не было проявлением насилия одного или многих над отдельным гражданином, оно должно быть по своей сути гласным, незамедлительным, неотвратимым, минимальным из всех возможных при данных обстоятельствах, соразмерным преступлению и предусмотренным в законах» [9; 188]. Таково идеальное, даже идеалистическое понимание наказание, которое, возможно, в полной мере и не осуществимо на практике. Но как идеал, это гуманная норма должна существовать, задавая меру должного для существующей практики. Важнейшим положением в определении Беккариа является указание на то, наказание не должно быть проявлением насилия. Это, пожалуй, самое слабое и уязвимое место в правоприменительной практике. На основании анализа воззрений Ф. М. Достоевского, произведенного в прошлом параграфе, правомерно сделать вывод, что наказующий, как правило, сам становится насильником. Это говорит о том, что исполнение наказание, как и само наказание, не является нейтральным моральным фактором; оно самым глубочайшим образом затрагивает внутренний нравственный мир человека, оказывая на него при этом крайне негативное влияние. Наказание 86 развращает, озлобляет, раскрывая в человеке не только жестокость, но и низость и подлость. Здесь проявляются наиболее садистские и человеконенавистнические наклонности. Исследовав многие идеи Ф. М. Достоевского, Н. С. Прокудина делает такой вывод: «Природная наблюдательность автора [Достоевского] помогает ему глубоко проникнуть не только в психологию формирования преступного мышления, но и в психологию формирования палаческих наклонностей, а затем сделать вывод о том, что именно безраздельное господство «над телом, кровью и духом» себе подобных развивает в человеке садистские наклонности, которые вначале переходят в привычку и вскоре становятся потребностью. Замечено, что солдаты, дослужившиеся до офицерского чина и получившие возможность расправы, отличаются особенною жестокостью» [116; 36]. Н. С. Прокудина обстоятельно проанализировала тему преступления и наказания в очерках второй половины XIX века (М. Е. Салтыков-Щедрин, Ф. М. Достоевский, А. П. Чехов, П. Ф. Якубович, Н. М. Ядринцев, В. Г. Короленко, П. Хотымский, В. М. Дорошевич и др.). Картины зверств и мучений над арестантами, о которых говорят русские писатели и публицисты, поражает сознание. В итоге исследователь говорит: «Авторы в своих произведениях прослеживают, как меняется характер преступления и его мотивы и как практически остается неизменным бессмысленное и жестокое наказание, граничащее со зверством, как развращает это наказание не только преступника, но и тех, кто осуществляет его» [116; 106]. Такова общая ситуация, характерная, пожалуй, для всех пенитенциарных заведений, в которых всегда имеет крайне отрицательное влияние заключенных на надзирателей. Влиянием среды можно отчасти объяснить факт жестокости самих исполнителей наказания: находясь долгое время с преступниками, работники пенитенциарных заведений усваивают нормы и ценности, господствующие в этой среде. Привнести же гуманные 87 ценности из внешнего мира они не способны, поскольку сами усваивают ценности преступного мира. Хотелось бы в этой связи указать на то, что экспериментальные данные современных западных психотерапевтов, работающих с заключенными, подтверждают идею о том, что ценностные границы всех пребывающих в тюремном заведении (и сужденных, и работников) стираются. «Отношение к ценностям в представителей тюрьме формируется заключенных. чаще Постоянная всего в зависимости от близость надзирателей и заключенных несет с собой тесный обмен представлениями о ценностях, причем ценности надзирателей, если они вообще имелись, в этом окружении подвергаются деформации, происходит их адаптация в нежелательном направлении. Таким образом, служащие могут легче жить и работать в тюрьме, поскольку им не приходится постоянно ощущать себя в противоречии со своими взглядами. Одновременно с этим они все больше утрачивают контакты с другими членами нормального общества и попадают во все большую зависимость от связей с заключенными» [1; 34-35]. Иными словами, такова роковая закономерность: тюремные нравы развращают всех, кто там находится. И это, к сожалению, универсально. Это значительным образом проблематизирует вопрос об адекватном и справедливом наказании, поскольку само пребывание в пенитенциарном заведении нравственно деформирует всех там находящихся. Таким образом, нравственная асимметрия преступления и наказания проявляется уже на этом уровне, на уровне несоизмеримости наказания преступлению, которое уже само становится преступлением. Это парадокс, замечаемый, прежде всего и более всего, с нравственной точки зрения. Здесь уместно привести такие слова В. С. Соловьева, подтверждающие эту мысль: «Человек, который на своем нравственном недуге, на своей злобе и безумии основывает свое право действовать и переделывать мир по-своему, – такой человек, каковы бы ни были его внешняя судьба и дела, – по самому 88 существу своему есть убийца; он неизбежно будет насиловать и губить других, и сам неизбежно погибнет от насилия» [139; 251]. Тем самым, здесь происходит нарушение принципа Беккариа, согласно которому «суровость наказания должна зависеть от тяжести преступления». Оказывается, его невозможно выполнить в силу нравственной порочности тех, кто наказывает. «Злое» начало не позволяет не только назначить адекватную меру наказания, но и главное ее осуществить. Наказание всегда превышает меру свершенного, что приводит к еще большему ожесточению преступника и самого наказывающего делает преступником, поскольку он, проявляя жестокость по отношению к осужденному, совершает и нравственное, и, по сути, уголовное преступление. Нужно отметить, что Беккариа одним из первых обратил внимание на несоразмерность между преступлением и наказанием, возведя в аксиому, открытую им закономерность. Но пишет: «Если наслаждение и страдание – движущая сила наделенных чувствами живых существ, если в качестве стимулов, побуждающих людей к самым возвышенным поступкам, невидимый законодатель использовал награду и наказание, то очевидно, что установление неверного соотношения между ними порождает малозаметное, но широко распространенное противоречие, вследствие которого преступления порождаются самими наказаниями» [9; 53]. Относительно превышения меры наказания Беккариа строг и категоричен; здесь он называет вещи своими именами: «Любое наказание, не продиктованное крайней необходимостью, является, по словам великого Монтескье, актом насилия. Данное утверждение может быть выражено в более общей форме следующим образом: всякое проявление власти человека над человеком, которое не вызвано крайней необходимостью, – тирания. Таким образом, право верховной власти наказывать за преступления основано на необходимости защищать вверенное ей общественное благо от узурпации его частными лицами» [9; 38]. 89 Беккариа говорит и о такой актуальной проблеме, как ошибки при установлении наказаний. Они происходят, по мнению мыслителя, потому что за истинный критерий преступления принимается намерение, тогда как в действительности, таковым является вред, причиняемый обществу. Намерение является слишком шаткой и неосновательной категорией, оно слишком смутно и релятивно, то есть зависит от многих сиюминутных впечатлений и обстоятельств. К тому же в реальности, как отмечает он, «Иногда люди из лучших побуждений наносят обществу непоправимый ущерб. Иногда же, руководствуясь самыми низменными намерениями, приносят ему большую пользу» [9; 54]. В конечном итоге, цель наказаний формулируется итальянским гуманистом так: «…целью наказания является не истязание и доставление мучений человеку и не стремление признать не совершившимся преступление, которое уже совершено. … Цель наказания, следовательно, заключается не в чем ином, как в предупреждении новых деяний преступника, наносящих вред его согражданам, и в удержании других от подобных действий. Поэтому следует применять такие наказания и такие способы их использования, которые, будучи адекватны совершенному преступлению, производили бы наиболее сильное и наиболее длительное впечатление на души людей и не причиняли бы преступнику значительных физических страданий» [9; 70]. Конечно, в целом идеалистические воззрения Беккариа не стоит абсолютизировать, хотя бы потому, что его нравственные представления исходят из утилитарно-гедонистической точки зрения, которая содержит в себе много противоречий и изъянов. Эта точка зрения высказана их уже во введении к его книге: «… никогда еще законы не были результатом объективного исследования человеческой природы, что позволило бы сконцентрировать с их помощью усилия большинства людей для достижения единой цели и рассматривать эту цель исключительно как наивысшее счастье для максимально большего числа людей» [9; 34]. 90 Кроме неоправданной жестокости преступлений, есть еще одна важная проблема, раскрывающая нравственную противоречивость института наказания, которая также была под пристальным вниманием Достоевского. По его собственные словами, его всегда занимала одна и та же мысль, которую он так и не мог для себя разрешить – это мысль о неискоренимом неравенстве наказаний за одни и те же преступления. Обратимся снова к «Запискам из Мертвого дома. Писатель говорит: «…помню, более всего занимала меня одна мысль, которая потом неотвязчиво преследовала меня во все время моей жизни в остроге, – мысль отчасти неразрешимая, неразрешимая для меня и теперь: это о неравенстве наказания за одни и те же преступления. Правда, и преступление нельзя сравнять одно с другим, даже приблизительно. Например: и тот и другой убили человека; взвешены все обстоятельства обоих дел; и по тому и по другому делу выходит почти одно наказание. А между тем, посмотрите, какая разница в преступлениях. … Один убил по бродяжеству, осаждаемый целым полком сыщиков, защищая свою свободу, жизнь, нередко умирая от голодной смерти; а другой режет маленьких детей из удовольствия резать, чувствовать на своих руках их теплую кровь, насладиться их страхом, их последним голубиным трепетом под самым ножом. И что же? И тот и другой поступают в ту же каторгу». Далее писатель ставит, пожалуй, самый трудный вопрос – вопрос о «последствиях наказания», которые оказываются совершенно несоизмеримыми: «…Правда, есть вариация в сроках присуждаемых наказаний. Но вариаций этих сравнительно немного; а вариаций в одном и том же роде преступлений – бесчисленное множество. Что характер, то и вариация. Но положим, что примирить, сгладить эту разницу невозможно, что это своего рода неразрешимая задача – квадратура круга, положим так. Но если б даже это неравенство и не существовало, – посмотрите на другую разницу, на разницу в самых последствиях наказания... Вот человек, который в каторге чахнет, тает как свечка; и вот другой, который до поступления в 91 каторгу и не знал даже, что есть на свете такая развеселая жизнь, такой приятный клуб разудалых товарищей. Да, приходят в острог и такие. Вот, например, человек образованный, с развитой совестью, с сознанием, сердцем. Одна боль собственного его сердца, прежде всяких наказаний, убьет его своими муками. Он сам себя осудит за свое преступление беспощаднее, безжалостнее самого грозного закона. А вот рядом с ним другой, который даже и не подумает ни разу о совершенном им убийстве, во всю каторгу. Он даже считает себя правым. А бывают и такие, которые нарочно делают преступления, чтоб только попасть в каторгу и тем избавиться от несравненно более каторжной жизни на воле. Там он жил в последней степени унижения, никогда не наедался досыта и работал на своего антрепренера с утра до ночи; а в каторге работа легче, чем дома, хлеба вдоволь, и такого, какого он еще и не видывал; по праздникам говядина, есть подаяние, есть возможность заработать копейку. А общество? Народ продувной, ловкий, всезнающий; и вот он смотрит на своих товарищей с почтительным изумлением; он еще никогда не видал таких; он считает их самым высшим обществом, которое только может быть в свете» [41; 249250]. Такая, глубоко философская и одновременно остросоциальная постановка вопроса, оказала значительное влияние на развитие философской, общественной мысли, которая способствовала гуманизации судебноуголовной сферы. Одно из наиболее серьезных препятствий на пути вынесения адекватного приговора и исполнения справедливого наказания заключается в том, что не всегда до конца ясны истинные намерения и мотивы человека, совершившего преступления. По свидетельству психотерапевтов часто: «… суд не может выявить истинных мотивов преступлений и в результате говорит о цинизме и бесчувственности подсудимого» [122; 308]. Неумение понять метафизические истоки преступления, как правило, приводит к тому, что выносится вердикт о психопатологии, либо о 92 невменяемости преступника. Но у преступления есть своя «ночная душа», о которой мы говорили в прошлом разделе, которая не поддается никакому рациональному истолкованию. В. А. Бачинин, которому принадлежит авторство данного понятия, говорит о его совершенной иррациональности: «То, о чем переживает и о чем мыслит ночная душа, зачастую неизъяснимо и почти не передаваемо на рассудочном языке рациональных понятий… Ни психологи, ни социологи, ни «лекари-социалисты» не знают путей, двигаясь по которым можно было бы приподнять завесу, за которой таится ночная душа. …изъяснения ночной души, в которых она «заголяется и обнажается», вполне могут быть охарактеризованы как цинизм» [7; 126, 127-128; 168; 397]. Против детерминизма преступления, которое обнаруживает полную моральную несостоятельность наказания, выступал Ф. Лист. Он говорит, «Если и в самом деле, каждое преступление обусловлено органически, если оно есть плод учиненных родителями грехов, конечный результат распространенного ими вырождения, то, спрашивается, какой смысл имеет по отношению к этим несчастным наказание?» [74; 18]. Немецкий ученый предлагает смотреть на преступление как на общественное явление, на исследование социальных условий преступлений. Это не совсем равнозначно тому, что называется «теорией среды», поскольку Лист признает некоторое значение и биологических, и антропологических, индивидуальных особенностей автора преступления. При этом, он все же считает, что именно общественные условия оказывают в большинстве случаев несравненно более важное влияние. В схожей тональности трактует преступление П. Ф. Якубович, автор книги «В мире отверженных», в которой достоверно воспроизведена картина русской каторги XIX века. Во многом этот труд носит документальный характер, поскольку в нем обобщены богатые эмпирические данные. Прежде всего автор выступает против теории психиатра П. Ковалевского, утверждающего в духе Ч. Ломброзо, существование прирожденных преступников, составляющих главный контингент каторги. П. Ф. Якубович, 93 как человек прошедший через тяготы и лишения русской каторги, решительно опровергает его: «… никогда я не утверждал и не соглашусь утверждать, что современная русская каторга, хотя в главных своих частях и представляющая нравственные подонки народного моря, есть ни что иное, как отбросы, сделанные самой природой. По моему глубокому убеждению, не столько природа создает преступников, сколько сами современные общества, условия наших социальных правовых, экономических, религиозных и кастовых отношений, а также (и это огромной важности фактор!) несовершенное состояние наших нравственных понятий» [168; 379]. То есть не нравственная порочность, а несовершенство нравственных понятий. Это, конечно же, совершенно разные вещи. Вопрос о смертной казни, волновавший и волнующий людей сегодня не меньше, чем в предшествующие эпохи, находится в эпицентре нравственной философии. Не занимаясь в данной работе специально проблемой смертной казни, все же в контексте заявленной проблематики необходимо указать на то, что здесь нравственная противоречивость достигает своей кульминации [91]. Распространенное воззрение, согласно которому смертная казнь является высшей несправедливостью, основания. Главное, что имеет здесь проявляется достаточно абсолютная серьезные асимметрия преступления и наказания. А. Кестлер заключает: «В том, что касается других правонарушений и преступлений, применение закона отличается гибкостью; смертная же казнь в силу самой своей природы исключает любую возможность отмерить наказание пропорционально ответственности» [63; 135] . Особенно важными являются размышления А. Камю на эту тему. Видный философ, говоря о смертной казни, выходит на очень высокий уровень проблематизиции наказания. Он пишет: «Закон по определению не должен следовать тем же правилам, что и природа. Если убийство заложено в природе человека, то закон создан не для того, чтобы подражать природе или воспроизводить ее. Он создан, чтобы ее исправлять» [63; 161]. 94 Это очень глубокая мысль, в которой раскрывается негуманный характер судебной системы, которая уподобляется слепой природной жестокости, вместо того, что бы способствовать тому, чего лишена природа – нравственному исправлению. На основании философских размышлений А. Камю утверждает, что истинная ответственность правонарушителя не может быть точно определена. Это достаточно серьезное заявление, но Камю далек от легковесной апологии безответственности. Он рассуждает следующим образом: «Мы приходим в мир под тяжестью бесконечной необходимости. В таком случае следовало бы сделать вывод о существовании всеобщей безответственности. Было бы логично никогда не принимать решений ни о наказаниях, ни о поощрениях, но тогда сразу существование любого общества стало бы невозможным. Наоборот, инстинкт самосохранения обществ, а значит и людей, требует, чтобы существовала личная ответственность. Это надо принять, не мечтая об абсолютной снисходительности, которая привела бы к гибели любого общества. Но это же суждение должно привести нас к заключению о том, что никогда не бывает ни полной ответственности, ни, следовательно, абсолютно адекватных наказаний и поощрений. Никто не может быть полностью вознагражден – даже Нобелевскими премиями. Но никто не должен нести также и абсолютного наказания, если его считают виновным, и, тем более, если есть вероятность, что он не виноват» [63; 173]. Современные авторы также достаточно много уделяют времени анализу нравственного оправдания наказания. Нравственная противоречивость наказания достаточно глубоко раскрыта в монографии И. И. Карпец. Примечательно то, что эта работа была написана в советский период. Мы можем отметить ее высокие теоретические достоинства. Во-первых, автор стремиться нравственно оправдать наказание, используя при этом гуманистическую аргументацию, схожую с той, которую употреблял Ч. Беккариа. 95 Прежде всего, примечательно такое понимание наказания: «…наказание – средство специфическое, как специфичны, своеобразны и люди, к которым оно применяется: они социально запущены, в значительной степени нравственно испорчены, причем еще до того, как к ним было применено наказание» [62; 187]. То есть у обвиняемого есть правовая презумпция невиновности, но нет нравственной презумпции. Нравственное оправдание наказание обозначено у автора в следующем положении: «… несмотря на свой принудительный характер, наказание в советском уголовном праве не преследует цели причинения человеку излишних страданий и унижения человеческого достоинства, а это значит, что оно, несмотря на принудительный характер, нравственно оправданно, направлено не против человека, а на то, чтобы сделать человека лучше, не связано с мучительством, унижением человека, хотя и влечет для него различные ограничения и определенные моральные страдания, а это значит, что оно нравственно оправданно, имеет в качестве конечных целей исправление и перевоспитание человека, а это нравственные задачи. Именно в этих целях наказания и заложены его нравственные основы» [62; 189]. При этом, ученый говорит о том, что «…нравственного исправления при применения наказания может и не наступить. …Наказание может способствовать переосмыслению человеком нравственных принципов, но может и не способствовать этому» [62; 194]. Таково глубочайшее нравственное противоречие наказания, его нравственная антиномичность: наказание способствует нравственному исправлению, и в то же время, может и не способствовать. Это ставит вопрос о целесообразности наказания вообще, и в частности, о видоизменении наказания, поскольку его «моральная эффективность» далеко не однозначна. То есть претензия на нравственную переделку человека посредством наказания оказывается несостоятельным, оно может иметь лишь сдерживающий и устрашающий эффект. Возникает вопрос: насколько сдерживание и устрашение имеют в свою очередь нравственное оправдание? 96 Не кончается ли здесь нравственный эффект, который усматривался вначале, когда наказание мыслилось в этико-педагогическом ключе как исправления и улучшение человека? В этом контексте особую значимость представляют воззрения ученогоюриста Г. Ф. Хохрякова, среди работ которого особый интерес представляет монография «Парадоксы тюрьмы». Несмотря на то, что книга вышла в 1991 году, многие ее темы и вопросы являются сегодня крайне актуальными. Особенность работ Г. Ф. Хохрякова в том, что в них на большом социологическом материале анализируются проблемы воздействия пенитенциарных учреждений на правовое сознание и правовую психологию осужденных, также возможности их исправления и перевоспитания посредством изоляции от общества. Ученый рассматривает действие на сознание и поведение осужденных особой правовой субкультуры, которая сформировалась и существует в местах лишениях свободы и во многом не совпадает с правовой культурой общества и государства. В монографии «Парадоксы тюрьмы» автор ставит такие важные для нашей темы вопросы: что такое тюрьма – фабрика преступности или исправительное учреждение; что целесообразнее и моральнее – карать или миловать; может ли суровое наказание сдержать рост преступности; почему мир заключенных так жесток? Автор с первых страниц заявляет свою принципиальную позицию. Он считает, что «…наказание в виде лишения свободы само по себе зло. Пусть вынужденное, но зло. Общество пока не придумало ничего другого, что могло бы заменить этот вид наказания. Но оно должно осознать его ущербность» [162; 6]. Эту широко распространенную точку зрения на наказание как на благо автор называет «современным юридическим мифом». Что даст изменение точки зрения, то есть если закон прямо скажет о наказании лишением свободой как о зле? Во-первых, говорит ученый, это заставит думать людей о мере зла; и, во-вторых, что самое важное, «признание наказания злом, пусть и вынужденным, неизбежным, но злом, от 97 которого человечество неспособно избавиться в силу своего собственного несовершенства, превращают тюремного сидельца из абсолютного злодея в раскаливающегося грешника, в страдальца. В этом случае милосердие и сострадание и сострадание станут спутниками законности в обращении с заключенными. Усердие в применении дополнительных мер наказания будет осуждаться. Кто же добровольно захочет выглядеть в глазах окружающих злодеем?» [162; 169]. Это этико-теоретический аспект проблемы, крайней важный, особенно при принятии судебных решений. Кроме этого, автор ставит еще одну важнейшую проблему, которая непосредственно имеет отношения к теме данного раздела. Он пишет: «У наказания лишения свободы есть еще одно отрицательное последствие, которое выпадает из поля зрения. Среда мест лишения свободы заражает не только заключенных, но и тех, кто с ними работает. Неволя развращает тех и других. Нередко работники исправительно-трудовых учреждений тоже ожесточаются, а то и просто теряют человеческий облик. Печально, но факт: психические состояния у заключенных и представителей администрации во многом совпадают» [162; 7]. В итоге вывод автора таков: «…тюрьмы являются фабриками преступности и надо изо всех сил искать им замену» [162; 215]. Автор тщательно рассматривает психическое, нравственное и духовное состояние заключенных, их трудности и проблемы, порой невыносимые условия существования. Автор убежден, что у заключенных деформируется, а затем и разрушается психика (особенно у женщин), поскольку они лишены возможности поддерживать нормальную жизнедеятельность. Необходимо приспособление к крайне экстремальным условиям существования, а это оказывается невозможно для большинства осужденных. Тем самым наказание не выполняет своей изначальной функции: оно не исправляет человека, но калечит его. Противоречивость наказания лишением свободы Г. Ф. Хохряков усматривает еще и в следующих факторах: «…наказание имеет главной 98 задачей приспособление человека к жизни на свободе. Но его отделили от общества. Его хотят научить активному и социально полезному поведению. Но содержат преступников в условиях строгой регламентации поведения, что не может не вызвать пассивность. У преступника хотят заменить вредные привычки полезными. Но содержат его среди себе подобных, как бы умышленно заражая вредным влиянием» [162; 128]. Все это, увы, приводит не к исправлению преступника, а, как правило, к совершенно обратным результатом. Нравственная противоречивость наказания указывает на то, что наказание неэффективно не только с моральной и педагогической точек зрения, но и с социально-экономической. Более всего у автора вызывает сомнение, что одна из главных целей наказания – перевоспитание осужденных – достигается вообще. «Сомнения усиливаются, когда речь заходит о перевоспитании посредством изоляции от общества» [162; 194]. Для воспитания и тем более перевоспитания ключевую роль играет среда. Вот почему ученый говорит о несостоятельности задачи по перевоспитанию в местах лишения свободы. Кроме этого, наказание чаще всего воспринимается как кара, справедливое воздаяние. Поэтому суровость наказания на шкале общественного мнения остается приоритетной. Это значит, что исключается возможность иных, более гуманных средств перевоспитания преступника. Норвежский ученый Н. Кристи, который также считает, что наказание есть зло, поскольку оно связано с причинением боли, тоже раскрывает нравственную противоречивость наказания уже самим одним этим фактом. Его теория боли такова, что, отмечая некоторую позитивную ценность, изложенную в известных воззрениях о нравственно-преображающем и одухотворяющем воздействии боли и страдания на человека, ученый все же считает, что «…боль останавливает или тормозит духовный рост человека, делает его злым»[70; 22]. Поэтому его позиция однозначна – это борьба за уменьшение боли. 99 Но его воззрения содержат и более серьезную аргументацию. «Назначение наказания в соответствии с правовыми установлениями, – пишет он, – означает причинение боли и предназначено именно для этого. Эта деятельность часто не согласуется с такими признанными ценностями, как доброта и способность прощать. Для устранения этого несоответствия иногда делаются попытки скрыть основное содержание наказания» [70; 19]. Итак, доброта и способность прощать – главные нравственные добродетели – вступают в явное противоречие с теми целями наказания, которые, как правило, ему вменяются, и которые как будто имеют нравственное значение улучшения и исправление человека. Кроме этих добродетелей Н. Кристи указывает и на справедливость. Он пишет: «Стороны должны не раз подумать, справедливо ли причинение боли. Подумать не о том, насколько это обязательно, а о том, насколько это справедливо. Много шансов за то, что чем больше они будут думать, тем меньше они будут считать это справедливым» [70; 107]. «Способность прощать», о которой говорит Н. Кристи, может появиться лишь тогда, когда и те, кто осуждает и наказывает, также будут этически чутки и восприимчивы к своему собственному нравственному несовершенству. Иначе, когда они будут осознавать в себе наличие не только доброго, но и злого начала. Об этом говорит Р. Мей: «Тот факт, что добро и зло находятся в каждом из нас, лишает всех нас права на моральное высокомерие. Никто не вправе настаивать на своем моральном превосходстве. И это ощущение ограничения дает начало возможности прощения» [88; 292]. Вот это «моральное высокомерие» и есть наиболее серьезное этическое препятствия на пути осуществления справедливого наказания. Именно оно и препятствует достижению, сострадания и милосердия, обнажая и усиливая злое начало. Поэтому не злое начало виновато как таковое, но отсутствие осознания его в себе, то есть отсутствие нравственной рефлексии над собой. 100 Соответственно, прощение, о котором говорит Мэй, отсутствует как развитая этическая категория в практике назначения и применения наказаний. Пожалуй, наиболее основательная проработка темы прощения в истории европейской нравственной философии содержится в книге французского философа «Прощение». Этот фундаментальный труд, сочетающий феноменологический, этико-философский, культурно-исторический метод, представляет собой уникальное исследование, посвященное проблеме прощения. Философ с первых строк показывает неодномерную неоднозначность исследуемого феномена: «…прощение в строгом смысле слова представляет собой, по существу, пограничный случай, к которому можно отнести и угрызения совести, и жертвенность, и порывы к благотворительности». И поэтому. Прощение трудноуловимое и трудноопределимое явление: «… благодать прощения и бескорыстной любви нам дается на миг и «как мимолетное виденье», то есть как нечто, что мы в один и тот же миг находим и снова теряем» [169; 142, 144]. При этом философ далек от идеализации прощения, которое может стать автоматическим, сведя на нет, тем самым, духовный смысл самого акта. Прощение – это не «волшебная палочка», по мановению которой происходит чудо. Янкелевич говорит: «… далеко до того, чтобы прощение безотказно и во всех случаях, словно после нажатия на спусковой механизм, вызывало бы обращение в новую веру помилованного, искупленного… и чудом исцеленного преступника. Это было бы слишком хорошо! Ибо если бы дела обстояли так, прощение превратилось бы в правовое учреждение, обязательное и универсальное, и в этом случае отказ прощать преступление сам бы стал преступлением; правосудие по всей строгости закона в этом случае стало бы подобным преступлению, заключающемуся в неоказании помощи душе, оказавшейся в опасности». Всесторонне и обстоятельно проблема прощения рассмотрена в работе канадского философа Т. Гувье, в которой автор твердо выражает свою позицию, суть которой в том, что никто никогда не является абсолютно не 101 подлежащим прощению. Он говорит: «Настаивая, что кто-то является непреодолимо злым и совершенно неспособным к моральному исправлению, мы зайдем слишком далеко. … Суть же дела в том, что люди могут меняться. И многие действительно меняются, даже виновные в ужасающих злодеяниях меняются» [29; 101]. Это свидетельство открытости нравственной природы человека, которая, в случае лишения его возможности быть прощенным, подвергается совершенно неоправданному моральному угнетению. Это также составляет нравственную асимметрию преступления и наказания. В контексте данного рассмотрения нравственной асимметрии преступления и наказания хотелось бы привести размышления Ф. Ницше о наказании, которые во многом меняют традиционные представление об этом феномене. В работе «К генеалогии морали» Ницше показывает, что понятие «наказание» представляет отнюдь не один смысл, но целый синтез различных смыслов, делающих это понятие совершенно неопределимым, то есть ускользающим от дефиниции. Ницше представляет интереснейший набор смыслов наказания. Для точности мы должны будем привести это рассуждение почти полностью, выделив наиболее важные моменты: «Наказание как обезвреживание, как предотвращение дальнейшего урона. Наказание как возмещение в какойлибо форме убытка потерпевшему (даже в виде компенсации через аффект). Наказание как средство изоляции того, что нарушает равновесие, во избежание распространяющегося беспокойства. Наказание как устрашение со стороны тех, кто назначает наказание и приводит его в исполнение. Наказание как своего рода компенсация нажив, услаждавших дотоле преступника (например, когда он используется в качестве раба на рудниках). Наказание как браковка выродившегося элемента (при случае целой ветви, как это предписывает китайское право: стало быть, как средство сохранения чистоты расы или поддержания социального типа). Наказание как праздник, именно, как акт насилия и надругательства над поверженным наконец врагом. Наказание как вколачивание памяти: тому, кто подвергается 102 наказанию – это называется «исправлением», – либо свидетелям казни. Наказание как уплата своего рода гонорара, оговоренного со стороны власти, которая оберегает злодея от излишеств мести. Наказание как компромисс с естественным состоянием мести, покуда последняя отстаивается еще могущественными родовыми кланами и притязает на привилегии. Наказание как объявление войны и военная мера против врага мира, закона, порядка, начальства, с которым борются как с опасным для общины существом, как с нарушителем предпосланного общиною договора, как с неким смутьяном, изменником и клятвопреступником, борются всеми средствами, сродными как раз войне» [98; 458]. Такую невообразимую палитру смыслов наказания, с которой мы сталкиваемся у Ницше, вряд ли можно у кого-то обнаружить. Можно не со всем соглашаться, не все принимать, но не учитывать ницшевскую концепцию наказания нельзя. Совершено очевидно, что философская концепция Ницше дискредитирует (в самом хорошем смысле) существующую уголовную систему наказаний, поскольку его глубинная психология раскрывает моральную низость и нечестивость тех (рессентимент), кто стоит на страже морали и права. Итак, на основание проанализированного материала можно выделить наиболее общие ситуации, в которых проявляется нравственная асимметрия преступления и наказания. Проявляется она в следующих противоречиях: между стремлением к справедливости и абсолютной несправедливостью наказания; между невозможностью прощения и невозможностью непрощения преступника; между намерением к исправлению преступника и фактической неисправимостью его посредством наказания; между стремлением к предотвращению новых преступлений и невозможностью снизить преступность посредством наказания; 103 между желанием исправлять общественные нравы и реальным их ужесточением при ужесточении наказаний. Можно найти и большее количество ситуаций и положений, но главное в том, что все противоречия концентрируются вокруг главного: несправедливости наказания. Несправедливость во всех отношениях: к осужденному, к потерпевшему, к обществу в целом. Это не значит, что можно отменять наказания. Необходимо более тщательно с учетом этикопсихологических разысканий исследовать случаи преступных деяний с общей установкой на гуманизацию. В целом, можно сказать, что существует все же определенный прогресс в плане гуманизации наказаний. Американский исследователь П. Фридланд показывает, как завершилась «долгая эра зрелищного правосудия», которая длилась более пяти веков. К XVIII веку обнаружился кризис в теории и практики наказания. Исследователь отмечает, что хотя устрашение и оставалось главной теоретической целью наказания, оно все больше переставало быть зрелищным. Под влиянием гуманистически настроенных реформаторов системы уголовного правосудия стало очевидно, что «вместо превенции преступления жестокие телесные наказания могут в действительности привести к противоположенному результату, возбуждая вкус к насилию» [158; 133]. 104 Выводы по II главе Справедливость наказания является искомым, но в полной мере, недостижимым этико-юридическим идеалом, в стремлении к которому вообще возможно правосудие. Недостижимость этого идеала обусловлена нравственными противоречиями, возникающими между преступлением и наказанием (нравственной асимметрией). Не впадая в детерминистскую теорию о «врожденно зле», необходимо принимать во внимание то, что В. С. Соловьев называл «злобой и безумием», составляющими «основу нашей извращенной природы». Но в этом заложен путь нравственного преодолению этой «злобы», поскольку человеческая природа открыта, и способа к свободному самоопределению как к добру, так и к злу. Неразрешимость проблемы зла, ставшего метафизическим основанием преступления, явилось предметом изысканий огромного количества мыслителей. Уже Платон говорит о категории людей, которых судьи признают «неисцелимыми», и которых они вынуждены подвергать смертной казни. Неисцелимыми они становятся, потому что в них «дурная природа духа», появившаяся вследствие каких-то демонических начал. В русской философской традиции зло и смертность вступают в онтологические причинно-следственные связи, что маркирует эту традицию в терминах «метафизики смерти». Гуманистически настроены Ч. Беккариа признает эгоистические и деструктивные элементы в человеческой душе, требующие обуздания посредством правовых ограничений. Психологическая трактовка «злого начала» личности (К. Леонгард) происходит в терминах «эпилептическое сумеречное состояние сознания», «эпилептоидная психопатия», которая проявляется у акцентуированных личностей, чем и объясняется повышенная склонность к насилию. При этом заметна тенденция к этическому истолкованию психологических состояний – 105 «этическое» трактуется как «психологическое» в термина «филогенетически новой сферы человеческой психики». Современные авторы дают глубокие интерпретации «злого начала»: «ночная душа» (В. А. Бачинин), «мизантропическая деформация нравственного сознания» (А. П. Скрипник). При этом, главная проблема заключается в том, что «злое» начало может проявляться даже в большей степени не только в преступлениях, но и в наказаниях, имеющих цель исправление преступника. И это основное нравственное противоречие наказания, поскольку его цели оказываются невыполнимыми. Наказание превращается в жестокий акт мести и расправы, в котором находят выход наиболее извращенные проявления нравственной природы человека («патология жестокости»). Свидетельства Достоевского, зафиксированные в его «Записках из Мертвого дома», а также философская аналитика Ницше дают основания для таких выводов. «Психология палача», открытая этими мыслителями заставляет серьезно пересмотреть традиционные воззрения на наказание как на справедливое воздания преступнику за причиненный им вред человеку и обществу, в котором нет место мести, а есть намерение исправить провинившегося. Наказание как устрашение теряет свою нравственную силу и перестает работать именно в качестве этой цели. При этом важным является тот факт, что русский писатели (пример П. Ф. Якубовича), пройдя через каторгу, сохранили веру в нравственные начала человека, в светлые стороны его души, и соответственно, никогда не отказывали человеку в исправлении. Идея о «врожденном преступнике» не находит в контексте отечественной культуры большое количество сторонников. Здесь преобладает иная этическая концепция, согласно которой человек всегда имеет возможность исправления и искупления своей вины на основании искреннего раскаяния. Эти выводы русских мыслителей находят свое подтверждение в «этике намерения» американского психолога экзистенциальной ориентации Р. Мэя, 106 который рассматривает нравственную жизнь как «диалектическое взаимодействие добра и зла», в результате чего появляется возможность преодолевать зло, выбрав ответственную позицию, то есть, честно признав в себе наличие злого начала и выразив стремление его преодолеть. В проекции на уголовно правовую сферу, можно выделить ряд серьезных нравственных противоречий между преступлением наказанием, среди которых несправедливое наказание является одним из наиболее частых показателей этого противоречия, которое не может быть решено исключительно в рамках права и требует этико-философской аналитики. С неразрешимым противоречием наказания, фактически с его немощью в плане сотворения чего-то позитивного (перевоспитания) мы уже встречаемся в «Законах» Платона, где обнаруживается этико-педагогическое бессилие перед «неисцелимым» человеком, «исцелить» которого оказывается возможно лишь с помощью смертной казни. Несмотря на это, именно Платон одним из первых в европейской культуре заговорил о соразмерности наказания преступлению, задав парадигму дальнейшего развития этой темы вплоть до идей о гуманности наказания, которые высказал Ч. Беккариа. На фоне гуманистических идей Ч. Беккариа нравственные противоречия преступления и наказания становятся зримыми и очевидными. Наиболее важным положением итальянского гуманиста является указание на то, что на наказание не должно быть проявлением насилия. Именно это положение и нарушается больше всего в существующей уголовной практике. Проблематизация вопроса об адекватном и справедливом наказании обусловлена самой спецификой пенитенциарного учреждения, поскольку само пребывание в этом заведении нравственно деформирует всех там находящихся (и осужденных, и надзирателей). Наблюдения Достоевского находят свое подтверждение в экспериментальных данных современных западных психотерапевтов, занимающихся психологической реабилитацией, находящихся в тюремном заключении (Х. Ф. Райнфрид). 107 Основной вывод здесь таков: «злое» начало не позволяет не только назначить адекватную меру наказания, но, что самое важное, осуществить его. Наказание всегда превышает меру свершенного, что приводит к еще большему ожесточению преступника и самого наказывающего делает преступником, поскольку он, проявляя жестокость по отношению к осужденному, совершает и нравственное, и, уже уголовное преступление. Тюрьма выступает в роли «фабрики преступности» (Г. Ф. Хохряков), а не исправительного учреждения. Смертная казнь обнаруживает высшее нравственное противоречие, на которое указал А. Камю. Оно заключается в том, что человеческий закон, призванный исправить вненравственную интенцию природы, проявляющуюся в склонности к убийству, вместо этого впадает в безнравственность, применяя смертную казнь, уподобляясь, тем самым, слепой природе. Нравственные противоречия наказания, раскрытые также на основании концепции А. Кристи (наказание – зло, поскольку оно связано с причинением боли), взывают к такой неоднозначной, этически сложной, но неизбежной проблеме как прощение, вообще способность прощать (Т. Гувье, Р. Мэй, В. Янкелевич). Без развития этого нравственного свойства вообще нельзя говорить о гуманизации пенитенциарной системы. 108 Глава III ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ О несовершенстве пенитенциарной системы в цивилизованном обществе очень точно еще сказал в свое время Ч. Ломброзо. Он отметил, что на увеличение преступлений влияет «скученность тюрьмах, в которых, по словам самих заключенных, величайшая испорченность окружается ореолом славы, а добродетель считается стыдом. Цивилизация, способствующая умножению крупных теремных центров, дает тем самым особенное напряжение преступности, особенно когда она связывает с ней благотворительные и филантропические учреждения (школы, патронаты). Современная система наказания ни в коем случае не может влиять на исправление закоренелого преступника. Наши исправительные заведения, возникающие благодаря истинногуманным чувствам человеколюбия, оказываются на самом деле вследствие одного только скопления в них испорченных и негодных индивидов совершенно другое действие, обратное той цели, для которой они созданы» [76; 48]. Здесь раскрыты те противоречия пенитенциарной системы, которые представляют острую дискуссию вплоть до нынешнего времени. В этом контексте представляется необходимым рассмотреть моральное состояние современного общества, частью которого является пенитенциарная система. Кризис современных моральных ценностей не может не отражаться на состоянии пенитенциарной системы, в том числе и на противоречии: «… между официально обозначенной государственной ориентированностью на гуманизацию пенитенциарной практики и общественным мнением, склоняющимся к ее ужесточению» [15; 3]. Не только эта, но и множество других проблем в современной уголовно-исполнительной практике самым непосредственным образом связаны с кризисным состоянием нашего 109 общества и его основополагающих институтов, в том числе и института власти. 3.1 Пенитенциарная система и моральные ценности общества Преступление и наказание, вина и ответственность, искупление и раскаяние – эти и другие традиционные морально-правовые понятия становятся особенно значимыми в кризисные моменты социального бытия. О том, что современный кризис носит глубокий, масштабный и долговременный характер говорят многие ученые. Хотелось бы привести несколько показательных мнений известных ученых и философов. Ю. М. Осипов: «Главным отличительным признаком современности является кризис, он же КРИЗИС, однако вовсе не только и не столько отягченный деньгами, финансами, капиталом и гонкой за виртуальными доходами кризис – экономический кризис, сколько кризис хозяйственный, если под хозяйством понимать производственные, все жизнеотправления творческие, человека, потребительские, включая культурные, цивилизационные, геополитические аспекты человеческого бытия» [105; 278]. В. Н. Порус: «…вряд ли кто-то оспорит, что при все неопределенности перспектив происходящее может быть названо масштабным кризисом всех общественных институтов и сфер общественной жизни. …в обществе нет согласия о том, что называть успешным выходом из кризиса»[113; 217]. В. М. Межуев: Учитывая достаточно массовый характер существующего в обществе недовольства, можно говорить о наличии в стране серьезного кризиса» [87; 431]. В этом контексте на передний план выдвигаются вопросы нравственного характера, так как очевидно, что главная причина существующего кризиса коренится в нравственной сфере. По мнению современного этика А. В. Разина сегодня человек – это «существо, живущее в мире относительных 110 ценностей и испытывающий наслаждение от достижения несовершенных (промежуточных) целей» [150; 36]. Необходимо отметить, что правовые аспекты не существуют без нравственных; это аксиома моральной философии и этической теории. Попытки разорвать их, или поставить, например, право выше морали, никогда не приводят ни к чему позитивному. Как отмечает современный исследователь О. Ф. Смазнова: «Тема правосознания – одна из постоянных в истории социальной философии, этики и философии культуры» [137; 7]. Это совершенно справедливо, достаточно обратиться к такому авторитетному отечественному философу-правоведу как П. И. Новгородцев. Этот философ выражает в определенной мере квинтэссенцию русской философской мысли на вопрос о соотношения права и морали: «…правовое государство не есть венец истории, не есть последний идеал нравственной жизни; это не более, как подчиненное средство, входящее как частный элемент в более общий состав нравственных сил. Отсюда недалек и следующий вывод, что право по отношению к полноте нравственных требований есть слишком недостаточное и грубое средство, неспособное воплотить чистоту моральных начал» [99; 339]. На фоне современных гигантских изменений в социокультурной сфере происходит неслыханное столкновение традиционных моральных ценностей культуры с новыми аксиологическими доминантами информационного общества. К тому же это происходит в условиях тяжелейшего духовнонравственного кризиса, который переживает постсоветская Россия. А. С. Запесоцкий на VI Российском философском конгрессе, состоявшемся в Нижнем Новгороде в июне 2012 года, охарактеризовал нынешнюю ситуацию в терминах «катастрофического кризиса социальной инфраструктуры». Вот его более развернутая оценка сложившейся ситуации оценка: «Мы потеряли культуру, взращивающую в гражданах гуманизм, творческие начала, систему ценностей, испытанную тысячелетиями развития мировой цивилизации. Новая Россия хорошо умеет потреблять, но все меньше способна 111 производить и, тем более, – творить. Формируется культура неоварварства, дикости, всесилия денег. Следует заключить, что созданная в 1990-е гг. в нашей стране ультралиберальная версия капитализма в корне противоречит интересам Российского государства и общества – как неконкурентоспособная в контексте процессов мирового экономического и социально–культурного развития, в условиях глобализации. Перед Россией вновь встает задача выхода из очередного тупика – на магистральные пути общественного развития» [46; 32]. В этом контексте складывающейся крайне аксиологической необходима критическая аналитика парадигмы современной культуры, которая во многом является результатом столкновения традиционных ценностей и ценностей трансформирующегося социума. Современная картина мира с присущими ей ценностными установками радикальным образом отличается от картины мира традиционной морали. По словам современного авторитетного этика А. А. Гусейнова: «В настоящее время не то, что отсутствует общезначимое понятие морали, но по сути дела ставится под сомнение сама его возможность (как, впрочем, и нужность)» [32; 4]. Но современность бросает вызов не только традиционным моральным институтам культуры, она бросает вызов самой рациональности, рационалистическому мировоззрению, которое, по словам В. Н. Поруса, переживает сейчас трудные времена: «парадоксы современной цивилизации, связывающей как свои жизненные надежды, так и опасения с прогрессом науки и техники, противоречивость целей и ценностей этой цивилизации, обнаружение противоразумности исходов той деятельности, которая, казалось бы, вполне контролируется разумом, оскудение духовного бытия на фоне гигантского роста информации, наконец, реальность бесславной катастрофы, которую ощутило еще недавно мнившее себя бессмертным и всемогущим человечество» [113; 7-8]. Итак, «оскудение духовного бытия на фоне гигантского роста информации», о котором говорит один из известнейших специалистов в 112 области философии науки, философии техники, говорит о том, что информационное общество не является беспроблемной и позитивной реальностью, о которой говорят его апологеты, но раскрывает новый уровень моральных тупиков и противоречий, которых не знали предшествующие эпохи. Таким, образом глобальная информатизация современной жизни является одной из доминирующих тенденций современности. Другой, не менее значительной тенденцией является нарастание кризисных процессов во всех областях жизни, что на языке теоретиков культуры давно получило название «кризиса культуры». Как отмечает известный специалист в этой области Г. М. Тавризян: «Тема общего кризиса западной культуры – одна из главенствующих и наиболее устойчивых в философско-исторической литературе нашего столетия» [145; 3]. Крупный немецкий философ XX века К. Ясперс непосредственно увязывает развитие техники с духовным кризисом культуры. Это касается и общемировых процессов и процессов, происходящих в современном российском обществе. Ясперс пишет: «Может ли случиться, что техника, оторвавшись от смысла человеческой жизни, превратиться в средство неистового безумия людей или что весь земной шар со всеми людьми станет единой гигантской фабрикой, муравейником, который все поглотил и теперь, производя и уничтожая, остается в этом вечном круговороте пустым циклом сменяющих друг друга, лишенных всякого содержания событий» [171; 140]. Техническое мышление, полагает Ясперс, распространяется на все сферы человеческой деятельности, и человек превращается в часть машины. Машинизация становится тотальным явлением, захватывающим все бытие: «Следствия этой машинизации проистекают из абсолютного превосходства механической предначертанности, исчисляемости и надежности. Все, связанное с душевными переживаниями и верой, допускается лишь при условии, что оно полезно для цели, поставленной перед машиной. Человек сам становится одним из видов сырья, подлежащего целенаправленной 113 обработке. Поэтому тот, кто раньше был субстанцией целого и его смыслом, – человек теперь становится средством» [171; 138]. Ситуация машинизации приводит к уничтожению традиции, что и составляет сущность главного этического конфликта ценностей информационного общества, которое вступает с ценностями традиционной культуры. Ясперс пишет: «Поэтому традиция в той мере, в какой в ней коренятся абсолютные требования, уничтожается, а люди в своей массе уподобляются песчинкам и, будучи лишены корней, могут быть именно поэтому использованы наилучшим образом. Ощущение жизненности служит обычно рубежом между пребыванием на службе и частной жизнью. Однако эта частная жизнь сама становится пустой, механизируется, и досуг, удовольствие превращается в разновидность работы» [171; 138]. Тем самым, философ сопрягает технику и кризис, что образует тем самым пространство для этического дискурса. Информатизация является одним их наиболее сильных проявлений технического развития, поэтому в современных условиях правомерно говорить о кризисе, возникшем с развитием информационных технологий. Таким образом, две ведущие тенденции современности – глобальное развитие информационных технологий и углубление кризиса культуры – оказываются глубоко взаимосвязанными. Действительно, феномен информационного общества появляется в контексте той духовной ситуации, которую называют кризисом культуры. Эти явления взаимоопределяют и взаимодополняет друг друга; нельзя сказать точно, что причина, а что следствие: развитие информационных технологий породило кризисные явления в духовной сфере или оскудение культуротворческого потенциала привело к развитию духовно ущербного, только лишь информационного пространства жизни? Главное то, что эти явления взаимосвязаны, они порождены одной логикой развития западной цивилизации, о кризисе которой говорили многие влиятельные философы, в том числе О. Шпенглер, Э. Гуссерль, Х. Ортега-и114 Гассет, Й. Хейзинга, К. Ясперс, М. Хайдеггер, Г. Марсель, М. Хоркхаймер, Т. Адорно, Л. Мэмфорд, Г. Маркузе, Ю. Хабермас и др. В качестве неизменного фактора, постоянно присутствующего во всех размышлениях на тему кризиса, является западноевропейская техника. Развитие техники выступает связующим звеном между развитием информатики и нарастанием кризиса. При этом следует отметить, что далеко не все исследователи придерживаются пессимистических воззрений на развитие технологий. Вот, например, современное мнение: «Сегодня человечество находится в точке бифуркации. Мы подошли к осознанию того, что должны стать частью природы, жить за счет принципиально новых ресурсов и технологий, созданных по образцу живой природы. А это возможно только с использованием самых совершенных технологических достижений. Именно они позволят создать гармоничную ноосферу, в которой три ее составляющие – биосфера, техносфера и сложнейшая система общественных связей – будут не конфликтовать, а дополнять друг друга, теснейшим образом взаимодействовать, т.е. будут конвергентны» [64; 11]. Однако, нельзя приуменьшать негативные последствия развития информационных технологий. Российская ситуация еще усугубляется и тем, что здесь существенную роль играют негативные энергии распада большого смысла, которыми характеризуется постсоветское состояние культуры. Неравномерность происходящих процессов не позволят пока что говорить о какой-либо сформировавшейся социокультурной модели современности, которая могла бы учесть всю сложность и противоречивость становящейся действительности. Ученые-гуманитарии склонны искать причин социокультурной нестабильности России в период трансформации в особых, трагических обстоятельствах ее исторической и политической судьбы в XX веке. Весьма типичным выглядит такое мнение: «По драматизму пережитого в XX в. опыта, его поучительности России не знает равных, пережив ряд исторических сдвигов и эпох. Смены государственного строя, утрата 115 огромной территории, потеря многих десятков миллионов людей в войнах, революциях, социальных экспериментах, наконец, распад великой державы… Уникальность политической истории России XX в. состоит в том, что она как бы дважды переживала свой собственный политический опыт: две социальные революции, две мировые войны, два парламентаризма, две многопартийности. Подобные рецидивы болезненны даже для обычного человека – в масштабах страны они просто катастрофичны, создавая ощущение замкнутого круга, отсутствия исторической перспективы» [66; 438-439]. Неоднозначность социокультурных преобразований, как в плане ожидаемых результатов, так и в плане критической оценки со стороны российского научного сообщества, заставляют более глубоко посмотреть на ценностные основания происходящих перемен. Взгляд со стороны, в данном случае со стороны западных исследователей, анализирующих состояние России в условиях трансформации, помогает объективно оценить серьезность происходящего. Американский исследователь-политолог Марш Кристофер таким образом характеризует наличное состояние российской социально-политической культуры: «Институциональные структуры попрежнему имеют ограниченные возможности оказывать влияние на избирательную политику, развитий политических партий происходит медленно, а гражданская апатия, судя по всему, шире распространена в народе, чем гражданская активность» [71; 146]. Аксиологический вектор любых преобразований, в конечном счете, оказывается самым главным, так как именно в нем содержатся вопросы смыслового, телеологического, а не только инструментально-прагматичского характера. То, что сегодняшнее научное (преимущественно гуманитарное) сообщества вступило в фазу глубинной аксиологической рефлексии социокультурных оснований трансформационных процессов, очевидно. Об этом свидетельствуют многочисленные статьи, монографии, диссертации, конференции. 116 В качестве яркой иллюстрации можно привести Всероссийскую научнопрактическую конференцию «Россия XXI века: пути и перспективы развития», организованной в рамках научной программы Фонда модернизации и развития «Общество». В своем вступительном слове Ю. Н. Солонин дал философский анализ трансформационных процессов в России за последнее столетие, в котором выделил три программы выбора ее исторического пути. Первую он связал с именем Столыпина, в реформаторской деятельности которого произошел заметный сдвиг от консервативных установок к либеральным действиям. Вторую программу автор связал с социалистическим проектом. Обе этих программы, в конечном счете, подверглись деструктивным воздействиям, которые вызрели внутри самой системы. Тем самым, они проявили свою несостоятельность в плане создание долгосрочных и устойчивых моделей социокультурного развития российского общества. Этим и были обусловлены либеральный реформы 90х годов XX столетия. Соответственно появляется, третий, либеральный проект, имеющий самое непосредственное отношение к современной действительности. Ю. Н. Солонин довольно критично охарактеризовал последствия либеральных реформ, впрочем не проигнорировав позитивных достижений. Он говорит: «достижения в области политики, идеологические, свобода, демократия, – это несомненные достижения этого периода. Крушение тоталитарного режима – это результат деятельности этого режима. Создание новых условий для реализации личности, я думаю, можно было бы достичь с меньшими потерями, с меньшими разрушительными эффектами, которые были произведены, если бы сохраняли в какой-то мере рациональность, ответственность, осмотрительность, осторожность. И сейчас мы переживаем драматический период борьбы за восстановление престижа России в международном плане и в воссоздании собственных усилий. Потому что народ просто потерял волю к жизни, происходит депопуляция» [140; 13]. 117 Обратимся к некоторым данным относительно состояния ценностей в сознании современного россиянина. Центр изучения социокультурных изменений Института философии РАН каждые четыре года, начиная с 1990 г., проводит мониторинг «Наши ценности и интересы». Анализ ценностей трансформирующегося общества дает представление о внутреннем состоянии, показывает картину перехода от одной системы ценностей к другой [43; 153]. Результаты последних лет показали, что ни одна из базовых ценностей, среди которых традиционные, общечеловеческие, либеральные, не исчезла. Однако изменился иерархический порядок в системе ценностей. Так, в группе терминальных ценностей (традиция, семья, порядок, благополучие, работа, жизнь, свобода) наибольший рост поддержки приходится на традиционные ценности (традиция, семья). Либеральные ценности (жизнь, свобода) находит не самую высокую поддержку. В группе инструментальных ценностей (жертвенность, своевольность, общительность, нравственность, властность, независимость, инициативность) картина обратная: традиционные ценности (жертвенность, своевольность) оказались ниже либеральных ценностей (независимость, инициативность). Из этих, преимущественно социологических данных можно делать различные философские выводы. Однако, эти показатели коррелируют с основной идеей Ю. Н. Солонина о потери у населения воли к жизни. Различные авторы дают сегодня схожую оценку сложившейся ситуации в ценностных приоритетах современной России. Л. В. Баева таким образом характеризует ценностную динамику в изменяющейся России в последний период. Этот анализ достаточно репрезентативен, поэтому приведем его основные выводы полностью: «Человек постнеклассической эпохи отпущен на свободу в социально-политическом и моральном плане, но чрезвычайно зависим в экономической и информационной сферах. Им движет, прежде всего, стремления к чувственным удовольствиям, потреблению прибыли, которые никогда не могут быть насыщены. Ключевыми состояниями нашей жизни становятся бег, бифуркация, альтернативность путей дальнейшего 118 движения, неопределенность будущего, форсированные инновации, многофакторность, плюрализм. «Потом сознания» оказался ценнее логически построенных систем, субъект отвернулся от объекта, а затем потерял и себя самого. Мир не познается, а скорее «взламывается» изнутри и используется. Человек меняет свою сущность: сегодня но «человек использующий, потребляющий, развлекающийся». Эпоха свободы обернулась, прежде всего, свободой от идеологии и морали, и сегодня важно понять, что эти понятия не имеют имманентной связанности. Сущность морали не во внешней регуляции поведения, а в самоконтроле и саморазвитии. Поэтому, стремясь от тотальности к свободе, важно не оторваться от высших ценностей, а найти их самому, утвердиться в себе как в человеке не в силу вынужденной коммуникации, идейной обработки, зомбирования, а в результате собственного роста – от первичных витальных потребностей к социальнозначимым и духовно-нравственным. И если раньше духовному росту мешали внешние причины в виде идеологических парадигм, принятых в обществе стереотипов поведения, то на современного человека оказывают подобное влияние иные факторы: реклама эгоцентрического образа жизни, возведенное в культ наслаждение, виртуальная зависимость, потеря связи с традицией» [5; 41-42]. Это достаточно жесткий и определенный диагноз аксиологического состояния современной культуры, который порождает необходимость поиска новых социокультурных доминант, которые могли бы держать в равновесии, с одной стороны, инструментальные и терминальные, с другой, традиционные и либеральные ценности. Многообразие философскому интеллектуальных монизму, в практик, пространстве пришедших современной на смену отечественной культуры порождает неопределенность. Обилие «дискурсов» часто приводит к потере смысла, да и сам поиск смысла, как одно из первичных заданий философии, предается забвению. Создавшаяся ситуация не способствует ни 119 философскому, ни нравственному оздоровлению общества. В обществе растет волна бессмыслицы, агрессивности и насилия. Этически продуктивные идеи оказываются на периферии общественного сознания; их гуманистический потенциал не востребован. Критерии совести не работают; в силе лишь прагматическая аргументация. Причем современный прагматизм выстраивает свою аргументацию как раз на вненравственных ценностях, полагая нравственность чем-то ретроградным и рудиментарным. Проблемы дегуманизации культуры, антропологического кризиса, о которых так много говорили западноевропейские мыслители XX века, сегодня затронули Россию в полной мере. Не только кризис правосознания имеет место ныне, но в большей мере нравственный кризис. Духовные первоосновы бытия настолько поражены сегодня, что мы живем в мире, по образному выражению А. А. Королькова, «растекшихся в неопределенность ценностей жизни и культуры» [68; 180]. В. О. Ключевский говорил, что жалко то поколение, у которого нет никаких идеалов. Сейчас мы подошли к этому состоянию идейного и нравственного вакуума. Всегда идеалы обществу задавало нравственное понимание смысла жизни. Современная культура дает готовые рецепты, сформированные смысложизненные конструкты (экзистенциальные паттерны), которые не предполагают духовных и нравственных усилий личности в деле обретения и своей идентичности, и своего бытийного удела. В этом контексте остро стоит проблема образования, которое также поражено системным кризисом. Взаимосвязь образования, воспитания и философии представляется аксиоматичной и самоочевидной, не нуждающейся ни в каких обоснованиях и иллюстрациях. Так было всегда в истории отечественной философии образования, которая органично впитала в себя высшие и лучшие проявления европейской и мировой педагогики. Об этом пишут современные авторитетные исследователи философских оснований образования (А. П. 120 Валицкая, А. А. Корольков, Е. П. Белозерцев, А. А. Грякалов, В. А. Возчиков и др.). Образовать – значит воспитать, а воспитать – значит образовать: долгое время эти понятия звучали в унисон. И это не случайно, поскольку фундаментальная «антропологическая завязка» человека коренится в этих близкородственных понятиях. Такой высокий статус образование имеет потому, что в нем, согласно Е. П. Белозерцеву, соединяются цели воспитания и обучения: «передать систему знаний и овладеть этими знаниями для того, чтобы учащийся развивался по пути гражданского, нравственного и профессионального совершенствования, а учащийся развивался духовнонравственно и овладевал основными знаниями и основами профессии» [10; 475] . Это подтверждает мысль о том, что сущность воспитания заключается в раскрытии ценностей этического средствами образования. Однако, в современной ситуации эта связь далеко не очевидна, и обосновывать идею о том, что образование – это еще и воспитание сегодня приходится уже всем: и учащим и учащимся. Ценностные установки современной системы образования направлены, прежде всего, на повышения уровня профессионализма, поскольку именно это требуется современному человеку, обитающему не просто в информационной, но в гипертехнологизированной среде. Это, безусловно, актуально и оправданно. Современный человек, не приобщенный к миру техники, будет выглядеть нелепо. Но проблема в том, что повышение уровня профессионализма осуществляется в ущерб всем остальным компонентам личности и, прежде всего, духовно-нравственному. А человек, лишенный духовности и нравственности, это уже вообще не человек. Нужно сказать, что рассуждения о духовно-нравственном воспитании современного молодого человека в последнее уже наверно десятилетие приобрели форму риторики. К сожалению, нет реального понимания того, что же такое это, уже ставшее скучным и навязчивым, выражение «духовнонравственное» воспитание, развитие и т. д. Воспитательный процесс в 121 современном вузе сводится к набору типовых мероприятий, типа конкурсов, фестивалей, и проч., которые имеют смысл только лишь как организация досугового пространства молодого человека и совершенно не способствуют становлению личностных свойств. Это потому, что существующие представления о духовности и нравственности носят, как правило, ограниченный характер, соответствующий уровню нефилософичности педагогов. Эти понятия сегодня приобретают уже форму идеологических клише, в которых совершенно утрачено истинное понимание их значения. Стоит ли удивляться растущему сегодня уровню девиантного поведения, которое охватывает все более молодое поколение? Образование в классическом понимании способствует не только становлению профессионала, гражданина, культурной и образованной личности и т. д. Все это необходимо, но, увы, недостаточно. Главная задача образования заключается в том, чтобы натолкнуть человека на путь обретения себя самого, иначе, направить человека на путь самопознания, в результате чего он обретает свою человеческую сущность. Если обретет, то будет достойным и полноценным профессионалом, гражданином; если не обретет, то ни профессионализм, ни что иное уже не помогут. Человек должен (именно должен) обрети, прежде всего, «человеческое в человеке» (Ф. М. Достоевский). Пожалуй, нет у человека другой, более важной задачи, чем стать человеком. Сегодня это может звучать уже старомодно, но суть такова, что без этого, бессмысленно говорить о чем бы то ни было. Человек за все известное время своего пребывания не изменился в своих главных антропологических измерениях. Безусловно, меняется социальная, культурная, техническая, политическая среда обитания человека, но сам человек в своих основополагающих бытийных измерениях остается одни и тем же. И поэтому задача образования остается сегодня той же самой, какой она была за всю историю существования человека. 122 В этом смысле важнейшей задачей именно образования является развенчивание иллюзии о том, что сегодня человек живет в каких-то невообразимо фантастических условиях, вызванных изменением его технического уровня. Но это именно иллюзия, если не сказать грубая ошибка, мешающая человеку выполнить свою главную миссию, невыполнение которой оборачивается крахом всей его, в том числе и профессиональной деятельности. Необходимо осознать, что нравственность, в конечном счете, способствует повышению профессионализма, а не наоборот. Существующая сегодня профессиональная этика должна получить истинно философский смысл, согласно которому профессиональная этика – это этика благоговейного отношения к своей профессии как нравственному долгу. Только так можно говорить о реальном профессионализме, который всегда есть служение своей профессии, а не только лишь средство материального обеспечения. Проблема в том, что сегодня именно социальна среда мешает формированию человека как человека, а значит, препятствует его профессиональному росту. Парадоксально, но именно сегодняшний социум, включающий и культуру, является враждебным образованию, поскольку культивирует антигуманные идеи в качестве главных ценностей. Антигуманные – это не только идеи, направление против физического бытия человека, но и против духовного. А это в нынешних условиях – культ легкого, беспроблемного, бессмысленного существования, который нравственно опустошает человека. Очевидно, что формирование подлинных ценностей – колоссальная задача, которая не под силу одному лишь образованию. Но образование может стать первоначальным, важным и существенным компонентом в самопостижении человека. Это возможно лишь в том случае, если в образовании будет присутствовать полноценная этическая или философская (поскольку этика и философия тождественны в плане помощи человеку в самопознании) составляющая. Важно понять, что этика, или точнее, 123 философская этика, это не дидактика, не нравоучение, это живое смысловое начало, сконцентрированное на постижение человека. Только высшие ценности бытия, хранимые философией, могут реально способствовать формированию полноценной личности. В этом контексте необходимо сказать о философии, подчеркнув ее воспитательный характер. В чем сила философии, в чем ее абсолютная значимость для образования и воспитания? Конечно, философия в представлении обывателя – это абстрактно-спекулятивное занятие, отвлеченное теоретизирование, слабо связанное с практическими нуждами человека. Но, несмотря на свою кажущуюся абстрактность и оторванность от реальной жизни, именно философия, постигая фундаментальные основы мироздания, дает человеку истинные жизненные ориентиры, обретя которые человек становится способным к полноценной практической деятельности. Что можно предложить и сделать в данной, конкретной ситуации, чтобы не впадать в риторику и утопию? Претендовать на многое в ситуации массового «духовного запустения» (в том числе и преподавательского состава, и чиновников от образования) не приходится. Общая ситуация в обществе, в котором исключительное значение имеет ставка на прагматические ценности, разговор о высших философских принципах практически обречен. Наверное, реально в нынешней ситуации все же способствовать более интенсивному насыщению образования философией. Не иными гуманитарными дисциплинами, а именно философией как целостному интегративному знанию, которое является определяющим для человека и от которого зависит все остальное. Нельзя конечно претендовать на повышение уровня философской культуры в обществе, но повышать этот уровень в системе образования можно и нужно. Философия – это вершина культуры; только в философии имеет место формулировка «вечных», абсолютных ценностей на универсальном языке, свободном как от легковесной суеты времени, так и от косной власти ретроградной традиции. Отсутствие философской выучки в образовании 124 приводит к тому, что имеет место одна из двух крайностей: гипертрофия традиции и гипертрофия инновации. В первом случае образование отрывается от современности, превращается в архив отживших и отброшенных жизнью представлений, тормозящих ее поступательное движение, во втором случае образование превращается исключительно в подгонку человека к временным запросам культуры. Только философия может задать верный ориентир в вопросе о соотношении традиций и новаций в образовании, поскольку философия отражает наиболее существенные интенции человеческого духа, которые помогают понять сущность человека, а значит, способствуют постижению и сохранению человеческого в человеке. В заключение параграфа нам бы хотелось обратить внимание на сборник статей «Государство. Общество. Управление», который собрал видных ученых и общественных деятелей, предельно точно и честно раскрывших глубокие изъяны современного Российского общества, не готового ни к либерализации, и к созданию национального государства. В сборнике приняли участие такие известные философы как С. А. Никольский, В. Н. Порус, Э. Ю. Соловьев, А. П. Огурцов, С. С. Неретина, А. А. Кара- Мурза, Р. Г. Апресян, В. М. Межуев и др. Примечательно то, что книгу открывает статья М. Б. Ходорковского, заключенного, бывшего главы НК «ЮКОС», в которой он рассуждает о свободе в контексте современных политических реалий. С. А. Никольский задается вопросом: в какой мере современная республиканская Россия отвечает сформулированным еще Кантом параметрам республиканского порядка? «Отвечает ли этим стандартам наше селективное законотворчество, сервильная по отношению к власть имущим практика провоприменения, работа исполнительных органов власти, в которых столь часто обнаруживается немыслимая с точки философских проектов «антигражданская направленность?» [97; 208]. 125 зрения А. А. Кара-Мурза, отвечая на этот вопрос, обращается к отечественному философскому наследию, к трудам П. Б. Струве и Г. П. Федотова. Парадоксальность ситуации в том, что в случае с Россией наглядно проявил себя принцип, что «история не учит». Автор пишет: «Складывается ощущение, что, несмотря на казалось бы накопленный исторический опыт (в том числе ошибок, ложных, а зачастую и попятных движений), современная Россия в политическом, культурном и нравственных отношениях очень слабо подготовлена к решающему сдвигу в либеральной цивилизации, который позволил бы ей обрести достойное место в ряду развитых демократических государств» [59; 147]. Авторы обращаются к разным аспектам современного государственнообщественного состоянии России. В статье В. А. Рыжкова «Законодательная власть в России» рассматривается вопрос о кризисе легитимности власти; анализу антикапиталистической ментальности, мешающая продвинуться по пути демократических преобразований, посвящена статья А. И. Алешина «Антикапиталистическая ментальность и взаимоотношения власти и общества в России»; в статье «Кто такие «рассерженные горожане» Д. О. Дробницкий размышляет о взаимоотношениях государства и гражданского общества в контексте протестных выступлений 2011-2012 годов. Случившееся в это время автор трактует в терминах «меритократический антифеодальный бунт». Вопросы, связанные с судебной системой, обстоятельно рассматриваются в статье С. А. Пашина. Автор считает, что государственный механизм не позволил судебной власти в России стать носителем независимой судебной власти, сделав судей «разновидностью чиновничества». Его вывод таков: «К сожалению, в России позапрошлого, прошлого и нынешнего века мы видим один и тот же чрезмерно огосударствленный суд. Ему постоянно навязываются чуждые ему функции, лишающие его собственной сущности: то репрессивного органа, то инструмента решения управленческих задач, то ширмы для сокрытия 126 управленческих просчетов государства. Конечно, государство могло бы творить все это и собственными руками, но по соображениям престижа оно нуждается в легитимизации такого рода акций, для чего и прибегает к суду» [107; 311]. В схожих терминах о судебной системе говорит и С. А. Никольский: «Даже в сравнении с 90-ми годами XX века, когда имели место небезуспешные попытки утвердить судебно-правовую систему с подобающей ей независимостью и функциями, в последнее десятилетие это движение также повернуто вспять. Вольно или под давлением, но суд роль стража законов и независимого арбитра в разрешении споров не исполняет. От процесса к процессу все более явным делается факт его превращения в механический инструмент материализации властной воли, санкционирования определенных властью репрессий, в том числе – направленных против проявлений гражданственности» [97; 210]. Таким образом, можно сделать следующие выводы. В современном российском социуме остро стоит проблема сохранения традиционных моральных ценностей, которые испытывают двойной гнет: со стороны глобальных процессов информационной цивилизации и со стороны «деидеологизации», которой отмечена российская действительность постсоветского периода. Налицо смысловой вакуум, который нельзя заполнить никакими суррогатными ценностями. Нравственные пороки общества не могут не распространяться на пенитенциарную систему, которая является его частью. Возможности гуманизации пенитенциарной системы безусловно связаны с гуманизацией общества в целом. В этом контексте возрастает роль философии, нравственной философии, прежде всего, которая может и должна раскрыть свое практическое значение в выявлении и осмыслении глубинных процессов, происходящих в душе современного человека и в современном обществе. К тому же, в современном российском обществе, в котором усилилась политическая активность граждан, 127 вообще возросли гражданские инициативы по созданию полноценного правового государства, вопросы нравственного плана приобретают особую актуальность и важность. Перспектива нравственной философии в современной России связана, прежде всего с тем, чтобы пробудить жажду поиска смысла своего бытия, и на его основании выстроить подлинную и достойную жизнь. При этом, как отмечает А. А. Корольков в книге «Драма русского просвещения», «в традиции русской философии было самое пристальное внимание к душе человека. Одна из существенных причин падения престижа философии в нашем обществе – равнодушие к человеку» [68; 26]. В этом, нам представляется, и заключена одна из главных проблем современной пенитенциарной системы, в который все негативные общественные процессы усиливаются во сто крат. 3.2. Перспективы реформирования современной системы наказаний [53; 136; 54; 102; 121; 96; 49] Многие исследователи отмечают необходимость совершенствования существующих институтов уголовного права. «Исследование методологических, теоретических и практических проблем вины, анализ современного состояния проблемы вины показывает, что институт вины принадлежит к числу основных институтов уголовного права, нуждающихся в дальнейшем совершенствовании. Неполнота и несовершенство уголовного законодательства, его несогласованность с доктриной уголовного права дают основания для неоднозначной трактовки понятия вины, виновной ответственности, умысла, неосторожности и других уголовно-правовых норм, применение которых требует решение вопроса о виновности лиц, совершивших преступление, порождают многочисленные ошибки в судебной практике» [96; 22]. Эти слова были сказаны еще в 1966 г., но сегодня нельзя сказать, что ситуация значительным образом улучшилась. А вот относительно недавние 128 наблюдения: «Глубокие социальные перемены в российском обществе обострили криминогенную обстановку в стране: растет число правонарушений, сохраняется высокий удельный вес ранее судимых, возрастает рецидивная преступность» [136; 3]; «События последнего десятилетия подтвердили важность нравственности в структуре личности российского общества. По уровню преступности, коррупции, аморального поведения людей Россия в последние годы лидирует в мире» [54; 3]. Подобные высказывания, увы, далеко не единственные. Когда мы говорим о несовершенстве пенитенциарной системы, необходимо помнить о том, что речь не идет лишь о несовершенствах только лишь отечественной системы. Г. Ф. Хохряков говорит, приводя в пример слова министра юстиции США Р. Кларка, что «ни в одной цивилизованной стране нет удовлетворенности работой пенитенциарных учреждений» [162; 169]. А выдающийся немецкий ученый-криминалист Ф. Лист в начале прошлого века в своей работе «Преступление как социально-патологическое явление» писал следующее: «Тюрьма должна, в свою очередь, получить совершенно другую организацию; теперь она на государственный счет не исправляет, но ухудшает. Вышедшие из тюрем должны быть отданы под надзор особым попечителям или патронатам; нынешняя система сдачи под надзор полиции затрудняет только человеку возможность зарабатывать себе кусок хлеба и толкает его снова на путь преступления» [74; 103]. А вот свидетельство русского писателя П. Ф. Якубовича, взгляды которого на личность преступника мы уже рассматривали. По каторжан XIX века он пишет: «…да ведь эти несчастные люди в каторжной тюрьме сидят! Ведь они лишены не только всех благ и радостей свободной жизни, но даже права на человеческое достоинство! Их унижают на каждом шагу, как скотов, их заставляют делать подневольную и часто совершенно бессмысленную работу… В стенах тюрьмы они то же, что пауки, запертые в банку… Что же другое остается им, как не быть мрачными, не пожирать друг друга, не заниматься сплетнями, пересудами, не погрязать во всякого рода 129 пошлости и подлости? Поставьте в подобное положение не только преступников (в большинстве совершенно некультурных людей), но даже ученых профессоров – и надо будет еще посмотреть, останутся ли они на высоте своего ученого величия…» [168; 401-402]. Действительно, в контексте современных социально-правовых и духовно-нравственных реалий особенно актуально обращение к наследию русских писателей XIX века, в творчестве которых проблема преступления и наказания всегда была в центре их внимания. Н. С. Прокурова отмечает, что «…проблема преступления и наказания решалась русскими писателями не только как религиозно-нравственная, но и как проблема огромной социальной значимости. Поднятая писателями XIX века, она особенно актуально зазвучала в наши дни, в условиях криминализации массового сознания, которая связана с понижением уровня духовности общества, а также с экономической нестабильностью в государстве. Многое в произведениях русских писателей XIX века имеет прямую связь с нашей действительностью. … Российские тюрьмы переполнены преступниками, основной возраст которых колеблется от пятнадцати до тридцати лет. Можно ли сегодня говорить о действенности современной системы наказания в нашем государстве? Что изменилось в ней за целое столетие? В состоянии ли она осуществлять сегодня духовное возрождение людей, преступивших закон?» [116; 334-335]. Здесь необходимо привести свидетельства автора этих непростых, мучительных вопросов, которые она дает в своей книге в качестве иллюстрации несовершенства современной пенитенциарной системы. Вот фрагмент письма заключенного с о. Сахалин, написанного в Общество по защите прав заключенных в 1996 году: «При водворении в штрафной изолятор над нами издеваются, оскорбляют, бьют дубинками и ногами, ставят на «растяжку» (это когда стоишь лицом к стене, руками на стену, а ноги расширяют пинками до тех пор, пока не упадешь). Когда упадешь, тебя бьют за то, что упал. И все это делается ради удовольствия контролеров, а не 130 по необходимости. Само руководство колонии занимается этими избиениями… Содержание в ШИЗО вообще нечеловеческое. Холод собачий, на стенах где лед, где сырость. Окна затянуты полиэтиленовой пленкой, и попробуй утеплить окно, повесить простыню или заткнуть ватой – изобьют как собаку. Существует камера, где настоящий морозильник и туда сажают тех, кто «показал зубы»… как непонятно администрации, что они своими действиями только озлобляют осужденных». Далее автор приводит слова руководителя Группы защиты прав заключенных И. С. Котовой, которая процитировала вышестоящие строки. Теперь она рассказывает об условиях содержания в других пенитенциарных заведениях России: «Осужденные бояться в свободное время присесть на койку. За это нарушение они будут посажены в ШИЗО, где перед тем как войти в камеру, обязательно хоть несколько раз получат дубинкой. А если при докладе начальнику колонии забыл назвать свой срок или еще чтонибудь, то уже побьют не несколько раз, а по настоящему изобьют, прямо при начальнике, нанося при этом и моральные оскорбления. Санчасть не лечит, нет лекарств, дают одни и те же таблетки от всех болезней. За 1994 год было много смертных случаев даже от простуды и других болезней» [116; 335-337]. Можно сказать, что это кризисные 90-е, однако, современное состояние вряд ли можно назвать принципиально улучшившимся. Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, заслуженный юрист Российской Федерации С. А. Пашин пишет, что «Допросы под пытками, вырывание признаний насилием продолжают процветать и доныне» [107; 308]. Интересно объяснение этого явления: «Применение пыток воспринимается истязателями не только как средство реализации некоторыми «правоохранителями» их садистических наклонностей, но и как государственная необходимость, как форма «добра с кулаками»» [107; 310]. 131 Все эти обильные нелицеприятные свидетельства, увы, отражают реальное несовершенство существующей пенитенциарной системы, требующей значительного реформирования и модернизации в сторону гуманизации. Надеяться на быструю гуманизацию конечно не приходится, но работать в этом направлении крайне необходимо. Для практических действий нужна идейная, теоретическая основа. Вот почему необходим философский анализ важнейших понятий правовой сферы, и прежде всего, понятий вины и наказания. Здесь еще раз можно вспомнить Беккариа, сказавшего, что «наказание должно в максимальной соответствовать природе преступления»[9; 99]. Гуманность его принципов проявляется в следующих идеях, которые, очевидно, не потеряли своей актуальности и по сегодняшний день: «Не в жестокости, а в неизбежности наказания заключается один из наиболее эффективных способов предупредить преступления», «По мере ужесточения наказаний еще более черствели души людей, подобные жидкостям, всегда принимающим форму сосуда, который они наполняют» [9; 117]. Исходя из этого, итальянский гуманист делает акцент на педагогическом, а не собственно пенитенциарном моменте: «самое верное, но и самое трудное средство предупреждения преступлений заключается в усовершенствовании воспитания» [9; 184]. Очень серьезная философская аргументация А. Камю против смертной казни содержит глубокие этико-педагогический мысли, которые являются философским основаниям гуманизации пенитенциарной системы. Он говорит: «Принять решение о том, что человек должен быть подвергнут высшей мере наказания, означает, что этот человек больше не имеет никакой возможности искупить свою вину» [63; 184]. Смысл истинного гуманизма в том, что он видит в человеке прежде всего человека, а значит существо духовное и нравственное. В духе Достоевского Камю говорит об искуплении вины: «…право жить, совпадающее с возможностью искупления вины, является естественным правом каждого человека, даже самого плохого. 132 Последний из преступников и самый честный из судей оказываются здесь рядом, наравне, причастные общей для них немощи. Без этого права духовная жизнь абсолютно невозможна. В особенности же никому из нас не позволено отчаиваться ни в одном человеке; только смерть, превращая жизнь в судьбу, дает возможность вынести окончательный приговор» [63; 185]. Важно прислушиваться к философским аргументам: «Философский дискурс и вырабатываемые в нем концепции способны определенным образом повлиять на реальную практику наказаний» [152; 21]. Важно отметить факт виновности самого общества, в котором оказалось возможным совершение того или иного преступного деяния. Это обстоятельство необходимо принимать в расчет для того что бы как-то выправить существующую асимметрию преступления и наказания. Мы достаточно подробно говорили в прошлом разделе о монографии Г. Ф. Хохрякова, о его основных идеях, что наказание есть зло, а тюрьмы есть «фабрики преступности». В этом разделе нужно отметить еще одну принципиально важную мысль, касающуюся работников пенитенциарной системы. Он считает, что «…нужно убедить практических работников исправительно-трудовых учреждений… в том, что многое из происходящего в среде заключенных надо воспринимать не в качестве проявления отрицательных свойств личности, а прежде всего в качестве проявления закономерностей, объективно присущих жизнедеятельности в условиях изоляции от общества такой взгляд конструктивен, так как заставляет держать в голове вопрос: что из происходящего надо устранить, чтобы человеческая природа проявлялась не в уродливых формах и что из происходящего в среде заключенных можно и нужно приспособить для лучшего достижения реальных, а не выдуманных целей наказания» [162; 217]. Для этого просвещение потребуется, работников с одной стороны, правоохранительных 133 широкомасштабное органов, а с другой, убеждение в том, что наказание есть не благо (существующий современный «юридический миф») в терминологии автора, а зло. Большой гуманностью проникнуты взгляды норвежского ученого Н. Кристи, призывавшего к сокращению бессмысленных страданий на земле, и пытавшегося реформировать правовую систему таким образом, что бы в борьбе с преступностью решающую роль играли не головные наказания, а социальная профилактика. Анализируя состояние западного потребительского общества, которое по сути представляет собой общество клиентов, ученый задается вопросом: «Почему нам не купить наказание, если мы покупаем здоровье и счастье?» [70; 108]. Это в значительной мере девальвация наказания, ставящая вопрос о его нравственной целесообразности еще более жестко. В качестве перспектив на будущее ученый выделяет пять обстоятельств, которые, с его точки зрения, могли бы привести к более ограниченному использованию такого наказания, как тюремное заключение. Приведем их в той последовательности, которые есть у автора. 1. В обществе, в котором происходит расширения сферы досуга, тюремное заключение будет проставляться все большим злом, его цена будет увеличиваться, а следовательно, к нему будут реже прибегать. 2. В материально благополучном обществе будут все чаще прибегать к лишению материальных благ в качестве наказания (это штрафы и конфискация). 3. В век развития техники более дешевым, простым и гуманным заменителем тюрьмы станет электронный контроль. 4. Государство всеобщего благоденствия сможет в будущем, не прибегая к использованию тюрем, оказывать более эффективную помощь тем, кто создает трудности. 5. Изучение результатов пребывания в тюрьмах должно показать, что пребывания в них не имеет никакого другого эффекта, кроме карательного [70; 140]. 134 Представляют интерес данные известного американского психолога Л. Берковица, крупнейшего специалиста по человеческой агрессии. Он уделил много внимания изучению влияния ситуации на агрессивное поведение, прибегая при этом не только к лабораторным экспериментам, но и к полевым интервью с людьми, совершившими насильственные преступления в США и Англии. Также он занимался вопросом об ослаблении агрессий, в том числе и у людей, совершивших правонарушения. Он спрашивает прямо: можно ли научить таких людей сдерживать свои склонности к применению насилия другими методами, помимо угрозы наказания? Обобщив значительное количество экспериментальных данных, Берковиц склоняется скорее к оптимистической точке зрения по поводу достижения психологической реабилитации заключенных. Он понимает сложность ситуации в этой сфере и прямо говорит, что в течении многих лет большинство руководителей исправительной системы, а также ученые, занимающиеся социальными проблемами, были уверены в том, что общество не может перевоспитать основную часть преступников, оказавшихся в заключении. По их мнению, было наивно рассчитывать на то, что исправительные учреждения смогут перевоспитать правонарушителей в законопослушных граждан». Однако он пишет: «Хотя с традиционной точки зрения эти программы представляются неэффективными, все же несколько последних исследований, посвященных анализу влияния этих методов на несовершеннолетних преступников, принесли обнадеживающие результаты» [9; 430]. Ученый считает, что людей с повышенной агрессивностью и склонных к насилию можно научить управлять своими эмоциями и вообще контролировать свое поведение. Для этого нужно быть открытым к собеседнику, рассказывать ему о своих чувствах и переживаниях, особенно о негативных состояниях. Это помогает контролировать слова и поступки. В этом суть, предлагаемых им методов. 135 Эти наблюдения дают основания надеяться на реальную гуманизацию пенитенциарной системы. Когда мы говорим о гуманизации пенитенциарной системы ни в коем случае нельзя впадать в утопизм и эйфорию. Всегда надо трезво смотреть на вещи, видеть суровую правду. В. А. Бачинии пишет: «Обнаружить онтологическую, метафизическую природу преступлений – это значит столкнуться с неутешительной, но непреложной истиной: полное устранение преступности обычными, земными, человеческими средствами невозможно как невозможно устранить, скажем, смерть»[7; 10]. В схожей тональности говорил Франц фон Лист: «В каждом обществе всегда известное число преступлений является неизбежным злом; идея навсегда устранить преступление реформой всего нашего социального строя относится к области утопий. …самой идеальной социальной политике не удастся вовсе устранить из человеческого общества преступления, как самой идеальной гигиене не дано отвратить от человека болезни и смерть» [74; 94, 103]. Все это так. Но этические аргументы также представляются весомыми. Обратимся вновь к идеям Р. Мэя, к его мысли о том, что осознание факта, что добро и зло находятся в каждом из нас, лишает всех нас права на моральное высокомерие. И поэтому никто не вправе настаивать на своем моральном превосходстве. Именно это ощущение ограничения дает начало возможности прощения. Честное признание в себе нравственного несовершенства приводит к способности прощать – важнейшему элементу вообще в человеческих взаимоотношениях, а в уголовно-правовых, особенно. Отсутствие способности прощать уменьшает милосердие и сострадание, и проводит к возрастанию жестокости и несправедливости. Круг замыкается: жестокость порождает жестокость, насилие порождает насилие. Разорвать этот круг можно только этически, через осознание в себе нравственного несовершенства. Это приводит к пониманию, о котором говорит Р. Мей: «Понимание, в отличие от идеальной любви, вполне в человеческих силах – понимание не только наших друзей, но и наших врагов. Понимание же дает начало сочувствию, жалости и милосердию» [88; 317]. 136 Принять на себя вину и ответственность, о чем говорит Мей, должны не только те, кто совершил правонарушение, и заслуживают справедливого наказания, но и те, кто выносит приговор и осуществляют наказание. Чтобы наказание было справедливым, необходимо, что бы наказывающие тоже чувствовали свою вину и ответственность. Большую ценность в контексте нашего исследования представляет книга швейцарского исследователя и психотерапевта Ханса Вернера Райнфрида «Убийцы, грабители, воры… Психотерапия в системе исполнения наказаний», которая содержит уникальное описание конкретных случаев психотерапии (всего 35) в специфических условиях системы исполнения уголовных наказаний. Этот опыт важен для нас, прежде всего потому, что, опираясь на положительные результаты по исправлению преступников, достигнутых в ходе психотерапевтической работы с осужденными (включая и убийц), можно с оптимизмом говорить о реальной гуманизации существующей пенитенциарной системы. Описывая общую ситуацию, Х. В. Райнфрид отмечает, что психологическая мысль уже давно вошла в практику судебной системы. Но если в прежние времена ее интересовало, прежде всего, объяснение преступлений, то теперь начинаю уже задумываться о терапии правонарушителей психологическими методами. При этом, он отмечает, что психотерапия не может не может заменить исполнения наказания. Это дополнение, но очень важное дополнение, поскольку может реально помочь (пускай и ограниченному количеству правонарушителей) в деле их исправления и выбора правильного жизненного пути. Это вообще новый и во многом революционный поход, поскольку традиционно пенитенциарная система не отличается особыми достижениями как раз в той части, в части исправления преступника, которая и составляет главную цель ее бытия. Наказание – да, но исправление под большим вопросом. Это зависит от того, что, как подчеркивает ученый, оступившемуся человеку чрезвычайно сложно помочь стойко изменить свой 137 стиль жизни. Поэтому органы исполнения наказания хватаются, как говорит Райнфрид, за любое средство, которое, как им казалось, обещало успех. Честно признавая сложность поставленной задачи, сам ученый довольно скромен в оценках результатов своей деятельности. Вот, что он сам говорит о своей деятельности: «Очень немногим заключенным на самом деле удается добиться изменения при помощи психотерапии, которое сохраняется и на свободе и дает возможность вести более порядочный и некриминальный образ жизни. Значительно чаще в качестве результата психотерапии мы встречаем преходящее укрепление личности, которое дает заключенному возможность выйти из тюрьмы в лучшем состоянии и начать новую жизнь с надеждой на исправление. Эти эффекты держатся несколько лет; внешний успех терапии заключается в том, что соответственно уменьшаются рецидивы прежнего преступного поведения. На первый взгляд такие результаты кажутся скромными и разочаровывающими» [122; 30]. Однако, здесь важен любой, даже самый незначительный позитивный результат, и совершенно очевидно, что Райнфрид его достигает. Наиболее важной теоретической установкой для всей практической работы является мысль исследователя о «значительном смещении ценностей» у лиц, совершивших правонарушения: «Одни гражданские ценности здесь выступают в качестве карикатуры, а другие – вообще отсутствует» [122; 33, 34]. Несомненный позитивный результат этой работы заключается в том, что исследования показали антропологическую нефатальность личности преступника и его нравственную вменяемость. Ученый пишет: «Те же заключенные, которые действительно коренным образом меняли свой образ жизни, в большинстве своем в детстве хотя бы в какой-то степени имели постоянные эмоциональные связи с окружающими. Во время терапии они могут вернуться к такому опыту и из отношений с терапевтом почерпнуть новый опыт и новые познания» [122; 31]. 138 А поскольку в детстве всякий человек имел хоть какой-то положительный опыт эмоциональных связей с окружающими, то умелая психотерапия, основанная на этической основе, способна принести несомненно положительной результат. В чем, собственно этический компонент данной психотерапевтической технологии? Дело в том, что, как свидетельствует психотерапевт, у заключенных дефицит социальных контактов. Это влияет на формирования весьма значимого образа психотерапевта в глазах осужденных. Этот образ имеет несомненно значимый этический компонент. Психотерапевты могут выступить в качестве родителей и учителей, становясь для заключенных образцом для подражания. Они таким образом компенсируют дефицит понимания значимости общественных норм, и соответственно, способов приемлемого поведения. Он пишет: «Благодаря этому терапия помогает лучше преодолеть исполнение наказания; затем она помогает серьезно отнестись к наказанию и извлечь из него определенную пользу. Это уже можно оценить как успех. Если к тому же клиент во время этой работы приходит к более глубокому пониманию самого себя, которое действительно поможет ему добиться длительных изменений структуры его отношений, то терапию можно считать полностью успешной» [122; 313-314]. Восполнение дефицита социальных контактов является важнейшей нравственной составляющей психотерапии. По мнению одного их авторитетных современных этиков А. П. Скрипника, в этом как раз и заключается сущность нравственности: «Нравственность начинается с того момента, когда один человек признает ценность другого человека, пусть пока только кровного родственника или брачного партнера. Ее формирование протекает одновременно с образованием таких социальных структур как род, семья и территориальная община. Возникают когерентности совершенно нового типа, не имеющие аналогов в животном мире» [134; 103]. «Абсолютное и есть мораль»[25; 103] – утверждает еще один специалист по современной этической теории. 139 Сама этиология преступления связана прежде всего с угнетением нравственного чувства. Как пишет А. П. Скрипник в другой работе, посвященной анализу морального зла, имеет место «мизантропическая деформация», которая характеризуется так: «Искаженная враждебностью психика демонстрирует презрительное отношение к общественному мнению. Притупление голоса совести сопровождается нарочитым совершением поступков, которые субъект ясно осознает как предосудительные» [133; 309]. Рассматривая особенности «криминальной субкультуры», А. П. Скрипник отмечает: «Преступники не являются новым видом живых существ, какими-то «сверхчеловеками» или «нелюдями», хотя некоторые из них могут приближаться к последней категории. Преступное сообщество не может создать оригинальной нравственной или религиозной системы. Оно модифицирует обычную мораль, существенно огрубляя и упрощая ее содержание» [135; 339]. Таким образом, модификация морали является основой преступного мира, своеобразным свойством преступной ментальности. Это не врожденная порочность, но сознательная установка, связанная с добровольным попранием существующих нравственных принципов. Это дефект может быть объяснен социальными обстоятельствами, но также, что бывает чаще, может иметь глубокую психологическую травму. Значит, они нравственно вменяемы и через психотерапевтическую практику могут быть социально адаптированы. Все это подтверждает идею о неразрывности этических и психологических элементов в человеке, дисбаланс между которыми приводит, в конечном психотерапевтическая счете, практика, к правонарушениям. направленная на Поэтому коррекцию деформированных нравственных чувств, является оправданной, и, пожалуй, наиболее эффективной на сегодняшний день 1. Здесь явное сближение позиций этики и психологии. Данная проблема была осмыслена в недавней дискуссии на эту тему: «Этика дает свои рекомендации, не считаясь с психологией (в том-то и состоит ее антипсихологичность, но для психологии вполне уместно исследовать субъект перед лицом этих рекомендаций. Психология не этична, именно потому, что она обязана исходить 140 1 Здесь можно снова вспомнить Ф. М. Достоевского, его наблюдение о том, какое нравственно преображающее действие произвело на арестантов театральное представление, вот как он описывает это состояние в «Записках из мертвого дома»: «Наконец раздается «Солнце на закате», мертвец оживает, и все в радости начинают плясать. Брамин пляшет вместе с мертвецом, и пляшет совершенно особенным образом, по-брамински. Тем и кончается театр, до следующего вечера. Наши все расходятся веселые, довольные, хвалят актеров, благодарят унтер-офицера. Ссор не слышно. Все как-то непривычно довольны, даже как будто счастливы, и засыпают не повсегдашнему, а почти с спокойным духом, – а с чего бы, кажется? А между тем это не мечта моего воображения. Это правда, истина. Только немного позволили этим бедным людям пожить по-своему, повеселиться по-людски, прожить хоть час не по-острожному – и человек нравственно меняется, хотя бы то было на несколько только минут...» [41;356-357]. Это свидетельство гибкости нравственной природы человека, которая поддается также и эстетическому воздействию [112]. Безусловно, важным практическим выводом и результатом деятельности Райнфрида является убеждение в том, что условно-досрочное освобождение может привести к тому, что в дальнейшем осужденный будет избегать любых правонарушений. Это связано с тем, что многим неоднократно осужденным настолько надоедают тюремные заключения и связанные с ними ограничения, что они в действительности прекращают свою преступную деятельность. Важной является профессиональная оценка коллег деятельности Х. В. Райнфрида. Вот мнение переводчика, автора вступительной статьи, доктора психологических наук, руководителя лаборатории психологии детского и из того, что субъекту свойственно нарушать этические рекомендации или, по меньшей мере, желать этого. При таком подходе психология поступка оказалась бы естественным партнером этики, не претендующем на руководство последней. Но тогда психологии следовало бы отказаться от амбиций заниматься нравственным совершенствованием (развитием), но заняться серьезным исследованием объективно существующего нравственного несовершенства человека путем подсматривания и определения. Такая роль может показаться менее возвышенной, чем мечтается издалека, но она гораздо более реалистична и полезна» (Этика и психология. С. 52-53). 141 подросткового возраста Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского МЗ РФ Е. Г. Дозорцевой. Прежде всего, она отмечает, во многих европейских странах тюремная психотерапия стала самостоятельным направлением психотерапевтической практики, и теперь настало время для знакомства с ней в России. Это крайне важно и актуально, поскольку сегодня у нас «особенно остро ощущается необходимость борьбы с преступностью и поиска новых комплексных социальных, педагогических, медицинских форм и способов работы с правонарушителями». Вот почему выход книги Х. В. Райнфрида весьма своевременен. Как специалист Е. Г. Дозорцева дает высокую оценку работе Х. В. Райнфрида, отмечая, что описанные им случаи несомненного успеха, так и заметного улучшения в состоянии и социальной адаптации клиентов обнадеживают. Особую ценность, по мнению переводчика, составляет этическая ориентация книги. Дело в том, что традиционная психотерапия основана на принципах «нейтралитета» терапевта по отношению к пациенту, но в случае с Райнфридом ситуация принципиально иная: «Имея дело с нарушителями закона и общественных моральных норм, автор считает необходимым соблюдение и постоянное утверждение в общении с клиентом собственных этических и ценностных принципов терапевта». Только такая позиция способствует гуманизации: «Поддержка, гуманное отношение к правонарушителю заключается в том, чтобы помочь ему осознать неправомерность и неправильность своего поведения, побудить к изменениям самого себя» [122; 10, 11; 143; 362]. Это очень важная мысль, которую разделяет современный канадский философ Т. Гувье. Его размышления по этому поводу представляются кране важными и содержательными. Он говорит: «Морально оправданно рассматривать преступника как условно не подлежащего прощению, если он не признал своей вины и не выразил морального сожаления по поводу 142 содеянного и не отделил себя от того, что произошло по его вине. Это выражает наше убеждение, что совершенные действия были преступны, наше неприятие их и человека, который с ними идентифицируется. В таких случаях мы часто не прощаем; у такого отказа в прощении есть свой смысл и свое оправдание. В этом выражается наше противостояние злу и наше моральное неприятие преступника. В нашей неспособности восстановить его в качестве члена морального сообщества отражается понимание того, что он не отделился от совершенного им зла. Но совсем другое дело рассматривать преступника, пусть и совершившего чудовищные преступления, как абсолютно не подлежащего прощению, и считать, что никто не должен его прощать, независимо от того, что он чувствует, что говорит и что делает. Такое отношение к человеку морально неоправданно. Какова бы ни была моральная позиция, как моральная она предполагает уважение к человеку, и поэтому с моральной точки зрения не может быть человека, абсолютно не подлежащего прощению» [29; 102]. В конечном счете, его вывод таков: «… я утверждаю, что никому нельзя отказать навсегда в прощении, что бы он ни совершил. Но есть много людей – их тысячи, может быть, миллионы, – которых пока нельзя простить, потому что они совершили ужасные преступления или попустительствовали им и после всего этого не признали свою вину и не предложили жертвам или пострадавшим общинам соответствующей компенсации. Моральная проблема здесь не в том, чтобы прогнать сквозь строй тех, кто совершил зло, и дать им знать, чего они стоят, но в том, чтобы побудить их признать свои злодеяния и искренне встать на путь морального исправления» [29; 104]. В этом и есть суть гуманизации пенитенциарной системы – поверить, что оступившийся человек может встать на путь морального исправления. Возвращаясь к книге Х. В. Райнфрид, нужно отметить небезынтересные сравнения Е. Г. Дозорцевой пенитенциарных систем Запада и России. «В западноевропейских пенитенциарных учреждениях необходимыми составляющими ресоциализации правонарушений являются постоянное 143 социальное сопровождение, индивидуальное планирование пребывания осужденного в учреждении, обучение, профессиональная подготовка по различным специальностям, занятия спортом, постепенное смягчение режима, включая отпуска, в процессе которых осужденный может поддерживать и развивать свои социальные контакты. Заключенные обеспечиваются всем необходимым, в том числе индивидуальными камерами, что делает менее интенсивными и напряженными их отношения между собой, а также в определенной степени сдерживает распространение криминальной субкультуры». По сравнению с западной «Российские пенитенциарные учреждения обладают значительно более скромными материальными ресурсами, в меньшей степени ориентированы на системную индивидуальную работу, сталкиваются с многочисленными специфичными для нашей страны проблемами» [122; 11, 12; 110]. Нужно отметить позитивные изменения в пенитенциарной сфере. С.М. Зубарев отмечает, что «В настоящее время интенсивно происходит становление общественного контроля за деятельностью персонала пенитенциарной системы» [ 49; 328]. В этой монографии всесторонне анализируются теоретико-методологические основы государственного и общественного контроля в контексте проводимой в стране административной реформы, исследуются функционирования системы вопросы правового контроля за регулирования деятельностью и персонала учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, и ее отдельных компонентов, предлагаются пути оптимизации контрольного статуса соответствующих государственных органов и институтов гражданского общества, а также содержатся рекомендации по повышению эффективности контрольного воздействия в пенитенциарной сфере. Представляет интерес ретроспективный анализ организации контроля российского общества за деятельностью персонала пенитенциарной системы, 144 представленный в книге. Автор отмечает, что «Записки из Мертвого дома» Ф. М. Достоевского и «Остров Сахалин» оказали сильное влияние на общество: «… в 60-е годы XIX – начале XX в. российская печать, публикации в ней на тюремные темы становятся одним из действенных средств общественного контроля за деятельностью персонала пенитенциарной системы. Показ реального положения в тюрьмах привлекает внимание общественности к этой проблеме, формирует общественное мнение и под его давлением правительство вынуждено принимать более энергичные меры по изменению как карательной политики в целом, так и улучшению ситуации в пенитенциарных учреждениях в частности» [49; 257]. Какие выводы практического характера можно сделать из рассмотрения всех вышеперечисленных, как правило, негативных аспектов, связанных с наличном положением пенитенциарной системы? Прежде всего, необходимо заниматься просвещением в самом широком смысле. Просвещение должно быть многоаспектым и многоуровневым; оно должно включать как достижения отечественной философской, публицистической традиции, так и позитивные наработки западных специалистов; Во-вторых, необходимо способствовать введению психологической службы в практику судебной системы; В-третьих, способствовать осуществлению реформы пенитенциарной системы в демократическом и гуманистическом направлении; В-четвертых, совершенствование контроля общества за деятельностью пенитенциарной системы. Иными словами, просвещение и контроль – таковы главные практические выводы, которые следуют из теоретического рассмотрения проблем, связанных с преступлением и наказанием. В этом смысле остроактуальные современные публикации также могут оказать свое положительное значение. Надо оптимистически смотреть на дело гуманизации пенитенциарной системы с верой в светлые начала 145 русского человека в духе П. Ф. Якубовича: «…преступная душа все-таки не душа народа русского! Всеми силами слова я протестую против такого отождествления» [168; 397]. 146 Выводы по главе III Состояние пенитенциарной системы нельзя рассматривать вне общего контекста нравственного состояния общества, частью которой она является. Кризис современных моральных ценностей не может не отражаться на состоянии пенитенциарной системы. Этот кризис, по мнению современных ученых, носит глубокий, масштабный и долговременный характер (Ю. М. Осипов, А. С. Запесоцкий, В. Н. Порус, В. М. Межуев, Ю. Н. Солонин, А. А. Корольков). Один из показателей современного кризиса заключается в отрыве правовой сферы от нравственной и духовной. Кроме этого, такие факторы как «гигантский рост информации», тотальная технократизация и машинизация всех сфер жизни приводят к столкновению традиционных моральных ценностей с ценностями трансформирующегося социума. Таким образом, сегодня перед Россией в полный рост встали проблемы дегуманизации культуры, антропологического кризиса, о которых так много говорили западноевропейские мыслители XX века (О. Шпенглер, Э. Гуссерль, Х. Ортега-и-Гассет, Й. Хейзинга, К. Ясперс, М. Хайдеггер, Г. Марсель, Т. Адорно, Г. Маркузе, Ю. Хабермас и др.). В этом контексте особую роль играет образовательный и вообще гуманитарный потенциал философии, которую необходимо более интенсивно использовать в современном образовательном процессе. Особое отечественной внимание заслуживают гуманитарной науки, самые в том последние числе достижения сборник статей «Государство. Общество. Управление», который собрал видных ученых и общественных деятелей (С. А. Никольский, В. Н. Порус, Э. Ю. Соловьев, А. П. Огурцов, С. С. Неретина, А. А. Кара-Мурза, Р. Г. Апресян, В. М. Межуев и др.). Здесь достаточно остро и предельно точно раскрыты глубокие изъяны 147 современного Российского общества, не готового ни к либерализации, и к созданию национального государства. Многие исследователи отмечают значительные недостатки, как в правом, так и в нравственном плане в отношении существующей пенитенциарной системы. В наследии многих мыслителей (Ч. Беккариа, А. Камю) содержится важная философская аргументация, которая может и должна стать теоретическим основанием гуманизации существующее пенитенциарной системы. Важно понимать виновности самого общества, в котором оказалось возможным совершение того или иного преступного деяния. Мнения западных специалистов относительно природы агрессивности, нравственной вменяемости, необходимости смягчения наказания дают оптимистические прогнозы по поводу перспектив гуманизации пенитенциарной системы (Н. Кристи, Л. Берковиц, Р. Мей, Х. В. Райнфрид). Здесь особенно важен позитивный опыт тюремной психотерапии Х. В. Райнфрида, который позволяет надеяться на положительные сдвиги в этой сфере. Незаменимыми являются также убеждения Ф. М. Достоевского и других русских писателей и философов, веривших в изначально добро человека, в силу нравственных законов и в возможность подлинного раскаяния и исправления человека. 148 Заключение Итак, подведем итоги нашего исследования. Перед нами стояла задача рассмотреть понятие наказания в контексте нравственной философии. Актуальность темы обусловлена необходимостью гуманизации пенитенциарной системы, которая, являясь органичной частью общества, требует дальнейшего совершенствования. Теоретический анализ некоторых основополагающих этических понятий может способствовать практической реализации важных принципов нравственной философии. Проблема преступления и наказания волновала европейскую философию издревле. Уже в «Законах» Платон посвящает этому вопросу отдельное рассмотрение. В дальнейшем, в ходе развития гуманистической традиции философии проблема преступления и наказания становилась в центр философский рефлексии многих европейских мыслителей (Ч. Беккариа, И. Кант, Г. В. Ф. Гегель, Ф. Ницше и др.). Особое место данная проблематика занимает в традициях отечественной нравственной философии и литературы (Ф. М. Достоевский, П. Ф. Якубович, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов и др.). Современная мысль интенсивно осваивает пенитенциарную тематику в различных дискурсах и контекстах. При этом очевидна недостаточная этическая проработанность основополагающих концептов, связанных с преступлением и наказанием. Один из главных вопросов, которые волнуют философскую и правовую мысль – это вопрос о справедливости наказания. Именно здесь правовая и философская мысль наиболее тесно взаимодействуют в поиске адекватных и приемлемых решений. Однако, справедливое наказание во многом является недостижимым правовым идеалом. Нравственную проблемность и противоречивость наказания создают находящиеся в непосредственной связи с ним такие важные феномены как 149 вина и «злое начало» человеческой природы. Это наиболее проблемные с нравственной точки зрения явления, задающие множество вопросов, которые требуют своего разрешения на каждом этапе существования общества. Исследование социокультурных, психологических, религиозных и метафизических параметров феномена вины приводит нас к мысли о том, что это одно из наиболее неоднозначных и проблемных понятий в истории философской мысли. Существующие трактовки вины значительно отличаются друг от друга; однако общим является факт признания вины одним из главных моральных свойств и нравственных чувств человека, на основании чего З. Фрейд сделал вывод о решающим значении чувства вины для развития цивилизации. Религиозное сознание, связывая вину и грех, также придает чувству вины фундаментальное значение, с которым связано спасение человека (покаяние). Поддержание в себе постоянного ощущения виновности для религиозного сознания является показателем духовного здоровья, поскольку в таком состоянии человек чувствует греховность, а значит, ищет пути к исправлению. Принципиально иную точку зрения занимает концепция вины Ф. Ницше. Связывая моральное чувство вины с материальным понятием «долга», немецкий мыслитель раскрывает совершенно иную реальность нравственной природы человека, в которой не работают традиционное аксиологические параметры. «Вина», «нечистая совесть» восходят к специфическому моральному свойству «ressentiment», открытым Ницше, в котором концентрируются наиболее отрицательные нравственные качества человека (зависть, злоба, мстительность). Заслуживающей внимания является концепция американского психолога экзистенциального направления Р. Мэя, который считает, что человек должен принять вину и ответственность. Принять вину значит принять и ответственность, что означает подлинный нравственный поступок. 150 Метафизическое рассмотрение понятие вины отсылает нас к античной трагедии, и вообще к древнегреческому мировоззрению, в котором важную роль играло понятие «судьбы», которая, по сути, была внеморальным фатумом. В контексте античной культуры происходит разделение вины на метафизическую и моральную. Именно последняя и была связана с субъектом, когда первая означала безличные силы рока, борьба с которым являлась трагедией. Принципиально иная трактовка понятия вины принадлежит Достоевскому. Его формула всеобщей виновности («все за всех виноваты») является высшей точкой развития нравственного сознания, сочетающей и античные и христианские начала на более высоком уровне. На фоне популярных идей Ч. Ломброзо о преступнике как определенном антропологическом типе, имеющим биологическую предрасположенность к преступлениям, весьма контрастно выглядели идеи Ф. М. Достоевского, считавшего, что не вина, а беда случилась с человеком, преступившим норму закона. С одной стороны мысль о всеобщей виновности снимает фактически презумпцию этической невиновности с любого человека, при сохранении правовой, поскольку в этом состоянии любой может стать преступником; а с другой, мысль о несчастье, произошедшим с преступником, практически снимающая с него вину, делают теорию преступления и наказания Достоевского антиномичной, а значит, соответствующей истинной природе философского познания, применимого к человеку. Природа человека, который по мысли Достоевского есть тайна, состоит из множества противоречий, главным их которых является то, что человек оказывается одновременно виновным и невиновным. Рассмотрения вопроса о справедливом наказании закономерно приводит к вопросу о «злом» начале человеческой природы. Этот вопрос не получает однозначного решения ни в философской, ни в психологической плоскости. Так, мнения психологов разделились на этот счет. Они (например, Фрейд, 151 Лоренц) считают, что существует «агрессивный инстинкт», заставляющий людей убивать и уничтожать; другие (Берковиц), полагают, что такого инстинкта не существует, и человек может научиться контролировать свои эмоции и подавлять агрессивные проявления. Значительное смещение ценностей у лиц, совершивших (особенно тяжкие) правонарушения, не является, как показала психотерапевтическая практика Х. В. Райнфрида, фатальной. С большими трудностями, этически ориентированная психотерапия, приносит, пускай и скромные, но стойкие положительные результаты. Это говорит о том, что даже личность закоренелого преступника нравственно вменяема. Поскольку этическое начало является определяющим и самым глубоким у человека, то именно работа с правонарушителем в сфере их нравственных чувств способна принести позитивный эффект. Одна только психология (в данном случае психотерапевтическая практика) бессильна изменить ситуацию, также как и одна только этическая теория, не основанная на психологическом контакте с личностью, окажется лишь пустым морализаторством и дидактикой, только лишь раздражающей и отвращающей всякого, к кому она обращена. Только лишь синтез психотерапевтической практики и этики может принести положительный результат. «Злое начало» человеческой природы проявляется двояко – в преступлениях и в наказаниях. Что касается метафизики преступления, то это огромная тема, которой мы коснулись отчасти в связи с главной темой нашего исследования, с темой нравственного противоречия наказания. Вторая ипостась зла, проявленная в наказании, ставит, по сути, под вопрос нравственную правомерность наказания. На основании текстов Ф. М. Достоевского и Ф. Ницше мы установили, что наказание само становится преступлением в силу особого морально негативного состояния, в которое впадает наказующий. Значительный пласт работы посвящен выявлению нравственных противоречий наказания, которые мы терминологически обозначили как 152 «нравственная асимметрия преступления и наказания». Основные противоречия выглядят так: между стремлением к справедливости и абсолютной несправедливостью наказания; между невозможностью прощения и невозможностью непрощения преступника; между намерением к исправлению преступника и фактической неисправимостью его посредством наказания; между стремлением к предотвращению новых преступлений и невозможностью снизить преступность посредством наказаний; между желанием исправлять общественные нравы и реальным их ужесточением при ужесточении наказаний. Нравственные противоречия наказания, раскрытые на большом материале, включающем исследования как отечественных авторов (Н. С. Прокурова, В. А. Бачинин, И. И. Карпец, Г. Ф. Хохряков и др.), так и западных (А. Камю, А. Кестлер) приводят нас к проблеме прощения. Это сложная, нравственно проблемная категория, необходимость которой обусловлена в ряде исследований (Т. Гувье, А. Кристи Р. Мэй, В. Янкелевич). Без развития этого нравственного свойства вообще нельзя говорить о гуманизации пенитенциарной системы. Чтобы наказание было справедливым, необходимо, что бы свою вину чувствовали не только те, кто совершил правонарушение, но и те, кто осуждает и выносит приговор. Здесь действует универсальный этический принцип, на который указал Р. Мей: принятие вины и ответственности желает человека нравственно вменяемым. Это согласуется с принципом всеобщей виновности, о которой говорил Достоевский. Это способствует развитию таких нравственных свойств как милосердие, сострадание и прощение. Американский психолог XX века и русский писатель XIX говорят об одном и том же, что является основанием для серьезного отношения к 153 этим концепциям, которые могут стать реальным основанием для гуманизации пенитенциарной системы. В несправедливом наказании совершается двойное зло, жестокость порождает жесткость. Что бы разорвать этот порочный круг необходим поиск иных путей наказания, связанных с более глубоким пониманием нравственной глубины человека, достигаемой в этико-философском анализе. Необходима реальная гуманизация пенитенциарной системы. Этому посвящена заключительная глава исследования, в которой состояние современной пенитенциарной системы рассматривается в контексте нравственного состояния общества, частью которой она является. Кризис моральных ценностей современного общества рассмотрен в контексте воззрений современных ученых гуманитариев (Ю. М. Осипов, С. А. Никольский, А. С. Запесоцкий, В. Н. Порус, А. А. Кара-Мурза, В. М. Межуев, Ю. Н. Солонин, А. А. Корольков и др.). Развитие гражданского общества, и, соответственно, ценности демократических институтов, безусловно должно приводить к гуманизации судебно-исправительных заведений. При этом, необходимыо, по крайней мере, выполнение двух задач: это просвещение (и общества, и работников пенитенциарной системы), и усиления гражданского контроля над пенитенциарными учреждениями. Для осуществления этих задач необходимо опираться на достижения в философской мысли, которая всегда напряженно и мучительно размышляла и решала вопросы, связанные с преступлением и наказанием, и чьи наработки всегда оказывали позитивное влияние на правовую мысль, на практические аспекты судебно-уголовной сферы, связанные с практикой провоприменения. Это и было главной целью нашего диссертационного исследования. 154 Библиография 1. Антонян Ю.М. Психология убийства / Ю.М. Антонян. – М. : Юрист, 1997. – 304 с. 2. Апресян Р.Г. Ресентимент и историческая динамика морали / Р.Г. Апресян // Этическая мысль. – Вып 2. – М. : ИФРАН, 2001. – С. 27-40. 3. Апресян Р.Г. «Мне отмщение, Аз воздам». О нормативных контекстах и ассоциациях заповеди «Не противься злому» / Р.Г. Апресян // Этическая мысль. – Вып 2. – М. : ИФРАН, 2001. – С. 62-83. 4. Апресян Р.Г. Этика силы – в противостоянии насилию и агрессии / Р.Г. Апресян // Вопросы философии. – 2010, №. 9. – С. 143-154. 5. Баева Л.В. Ценностная динамика в изменяющейся России / Л.В. Баева // Россия XXI века: пути и перспективы развития. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. – М. : Фонд «Общество», 2007. – С. 2536. 6. Батай Ж. Литература и Зло / Ж. Батай ; Пер. с фр., коммент. Н.В. Бунтман, Е.Г. Домогацкой. – М. : Изд-во Моск.ун-та, 1994. – 165 c. 7. Бачинин В.А. Достоевский: метафизика преступления : Худож. феноменология русского протомодерна / В.А. Бачинин. – СПб. : Изд-во С.Петерб. ун-та, 2001. – 407 с. 8. Безверхов А.Г. Теории наказания в истории философской мысли / А.Г. Безверхов, А.В. Жуков. – Самара : Самар. ун-т, 2001. – 47 с. 9. Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях / Ч. Беккариа. – М. : Междунар. отношения, 2000. – 240 с. 10. Белозерцев Е.П. Образование: историко-культурный феномен / Е.П. Белозерцев. – СПб. : Юридический центр Пресс. – 2004. – 640 с. 11. Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов / Э. Бенвенист ; Пер.с фр.: Н.Н. Казанского и др. – М. : Прогресс, 1995. – 456 с. 12. Бердяев Н.А. Опыт парадоксальной этики / Н.А.Бердяев – М.: АСТ, 2003. – 701 c. 155 13. Берковиц Л. Агрессия: причины, последствия и контроль / Л. Берковиц. – СПб. : прайм-Еврознак, 2001. – 512 с. 14. Благов Е.В. Назначение наказания: (теория и практика) / Е.В. Благов. – Яросл. гос. ун-т. – Ярославль, 2002. – 176 с. 15. Блюхер А.Ф. Этические основания и аргументы в теориях правового наказания: автореферат дис. канд. филол. наук : 09.00.05 / А.Ф. Блюхер. – М., 2009. – 17 с. 16. Братусь Б.С. Аномалии личности / Б. С. Братусь. – М. : Мысль, 1988. – 304 с. 17. Бундаева О.А. Нравственные основания наказания : автореферат дис. канд. филол. наук : 09.00.05 / О.А. Бундаева ; Морд. гос. ун-т им. Н.П. Огарева, Саранск, 2009. – 15 с. 18. Вина и позор в контексте становления современных европейских государств (XVI-XX вв.): Сб. статей / Под ред. М.Г. Муравьевой. – СПб. : Европейский университет в Санкт-Петербурге, 2011. – 296 с. 19. Волков Ю.К. Генеалогия социального зла (историко-типологический уровень комплексного социально-философского исследования) : автореферат дис. д-ра филос. наук : 09.00.11 / Ю.К. Волков ; Нижегор. гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского. – Нижний Новгород, 2007. – 51 с. 20. Гаджикурбанов А.Г. Вина метафизическая и вина моральная / А.Г. Гаджикурбанов // Философия и этика: сборник научных трудов. К 70-летию академика А.А. Гусейнова. М. : Альфа-М, 2009. – С. 147-157. 21. Галузин А.Ф. Пенитенциарная безопасность личности, общества, государства (основы концепции) : монография / А.Ф. Галузин. – Саратов : Самар. юрид. ин-т ФСИН РФ, 2011. – 119 с. 22. Гарин И.И. Что такое этика, культура, религия? / И.И. Гарин. – М. : ТЕРРА-Книжный клуб, 2002. – С. 23. Гачева А.Г. «Нам не дано предугадать, Как слово наше отзовется…» (Достоевский и Тютчев) / А.Г. Гачева. – М. : ИМЛИ РАН, 2004. – 640 с. 156 24. Гегель Г.В.Ф. Философия права / Г.В.Ф. Гегель ; Под ред. П.Н. Федосеева. – М. : Мысль, 1990. – 526 с. 25. Гельфонд М.Л. К вопросу о соотношении морали и религии: истина или абсолют / М.Л. Гельфонд // Этическая мысль. – Вып 13. – М. : ИФРАН, 2013. – С. 90-105. 26. Гераклит Эфесский: все наследие на языках оригинала и в рус. пер. / Гераклит Эфесский. – М. : Ад Маргинем Пресс, 2012. – С. 27. Гомозов Н.М. Государственно-правовые меры борьбы с преступностью несовершеннолетних в России второй половины XIX-начала XX века : автореферат дис. канд. юрид. наук : 12.00.01 / Н.М. Гомозов ; Нижегор. акад. МВД России. – Н. Новгород, 2012. – 29 с. 28. Государство. Общество. Управление: Сборник статей / Под ред. С. Никольского и М. Ходорковского. – М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2013. – 511 с. 29. Гувье Т. Прощение и непростительное / Т. Гувье // Этическая мысль. – Вып 5. – М. : ИФРАН, 2004. – С. 86-109. 30. Гусейнов А.А. Закон и поступок (Аристотель, Кант, М.М.Бахтин) / А.А. Гусейнов // Этическая мысль. – Вып 2. – М. : ИФРАН, 2001. – С. 3-26. 31. Гусейнов А.А. Цели и ценности: как возможен моральный поступок? / А.А. Гусейнов // Этическая мысль. – Вып 3. – М. : ИФРАН, 2001. – С. 3-37. 32. Гусейнов А.А. Понятие морали / А.А. Гусейнов // Этическая мысль. – Вып 4. – М. : ИФРАН, 2003. – С. 3-14. 33. Гусейнов А.А. Краткая история этики / А.А. Гусейнов, Г. Иррлитц. – М. : Мысль, 1987. – 592 с. 34. Давыдов Ю.Н. Этика любви и метафизика своеволия : Проблемы нравственной философии / Ю.Н. Давыдов. – М. : Мол. гвардия. – 1989. – 317 с. 35. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. / В.И. Даль. Под ред. проф. И.А. Бодуэна де Куртенэ. В четырех томах. – Т.I. – М. : Цитадель, 1998. – 994 с. 157 36. Делюмо Жан. Грех и страх : Формирование чувства вины в цивилизации Запада (XIII-XVIII века) / Ж. Делюмо ; Пер. с фр.: И.Б. Иткина и др. под науч. ред. Д.Э. Харитоновича. – Екатеринбург : Изд-во Урал. унта, 2003. – 750 с. 37. Детков М.Г. Тюрьмы, лагеря и колонии России : исторический очерк / М.Г. Детков. – М. : Юрлитинформ, 2009. – 477 с 38. Домусчи С.А. Оправдание как категория нравственной философии : автореферат дис. канд. филос. наук : 09.00.05 / С.А. Домусчи ; Воронеж. гос. ун-т, каф. культурологии. – Тула, 2011. – 23 с. 39. Достоевский Ф.М. Записки из подполья / Ф.М. Достоевский // Собр. соч. в пятнадцати томах. – Т. 4. Л. : Наука, 1991. – С. 40. Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы / Ф.М. Достоевский // Собр. соч. в пятнадцати томах. – Т. 9. Л. : Наука, 1991. – С. 41. Достоевский Ф.М. Записки из мертвого дома / Ф.М. Достоевский // Собрание сочинений : в 15 т.; под ред. Г.М. Фридлендера; сост. Т.И. Орнатская. – Л. : Наука, Ленингр. отд., 1988 – Т. 3. – С. 205-482. 42. Достоевский Ф.М. Дневник писателя / Ф.М. Достоевский // Собрание сочинений: В 9 т. Т.9. В 2 кн. Кн. 1. – М.: Астрель: АСТ, 2007. – 844 с. 43. Дундина М.В. Базовые ценности в условиях социальной трансформации российского общества / М.В. Дундина // Россия XXI века: пути и перспективы развития. Сборник тезисов Всероссийской научнопрактической конференции. – М. : Фонд «Общество», 2007. – С. 65-81. 44. Евлампиев И.И. Идея бессмертия в творчестве А.А. Тарковского / И.И. Евлампиев // «Русский мiр». Альманах. СПб. : Русская культура, 2013. С. 144-168. 45. Евлампиев И.И. «Посюсторонняя» религиозность Ф. Достоевского и Ф. Ницше / И.И. Евлампиев // Вопросы философии. – № 7, 2013. – С. 121-133. 46. Запесоцкий А.С. Философия образования и проблемы современных реформ / А.С. Запесоцкий // Вопросы философии. № 1, 2013. – С. 15-37. 158 47. Зеленко Б.И. О правовой демократии в РФ, власти и социуме / Б.И. Зеленко // Вопросы философии. – 2013, № 10. – С. 13-22. 48. Земляной С.Н. Философские заметки к проблеме несвободы / С.Н. Земляной // Этическая мысль. – Вып 6. – М. : ИФРАН, 2005. – С. 90-140. 49. Зубарев С.М. Теория и практика контроля за деятельностью персонала пенитенциарной системы / С.М. Зубарев. – М. : Юрайт-Издат, 2006. – 330 с. 50. Зубков А.И. Пенитенциарные учреждения в системе Министерства юстиции России : История и современность / А. И.Зубков, Ю.И. Калинин, В.Д. Сысоев. – М. : НОРМА, 1998. – 170 с. 51. Зубкова В.И. Уголовное наказание и его социальная роль: теория и практика / В.И. Зубкова. – М. : Норма, 2002. – 269 с. 52. Иванов Вяч. Достоевский и роман-трагедия / Вяч. Иванов // О Достоевском. Творчество Достоевского в русской мысли. – М. : Книга, 1990. – С. 164-193. 53. Иванова Н.А. Гуманизация исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении осужденных женщин в современных условиях: автореферат дис. канд. юридических наук : 12.00.08 / Н.А. Иванова. – Рязань, 2011. – 17 с. 54. Иконникова Г.Ю. Нравственные ориентации субъектов пенитенциарной системы: автореферат дис. канд. психологических наук: 19.00.01 / Г.Ю. Иконникова. – Санкт-Петербург, 2008. – 15 с. 55. Ильин И.А. О сопротивлении злу силой / И.А. Ильин. – М. : Даръ, 2005. – 461 с. 56. Ингарден Р. Книжечка о человеке / Р. Ингарден. – М. : Изд-во Московского университета, 2010. – 208 с. 57. Исупов К.Г. Русская мысль о смерти / К.Г. Исупов // Ступени. Философский журнал. – СП. : Алга-Фонд, 1993. – № 1(7). 58. Калитин П. Уравнение русской идеи / П. Калитин. – М. : Едиториал УРСС, 2002. – 280 с. 159 59. Кара-Мурза А.А. Россия на пути к либеральной цивилизации // Государство. Общество. Управление: Сборник статей / Под ред. С. Никольского и М. Ходорковского. – М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2013. – С. 147-165. 60. Карлова Т.С. Достоевский и русский суд / Т.С. Карлова. – Казань : Изд. Казанского ун-та, 1975. – 165 с. 61. Карякин Ю.Ф. Встречи со смертью / Ю.Ф. Карякин // Достоевский и канун XXI века. – М. : Советский писатель. – 1989. – 361-370. 62. Карпец И.И. Уголовное право и этика / И.И. Карпец. – М. : Юрид. лит., 1985. – 256 с. 63. Кестлер А. Размышления о смертной казни / А. Кестлер, А. Камю; введение и очерк «Смертная казнь во Франции» Ж. Блок-Мишеля; пер. с фр. А.И. Любжина, П.И. Проничева. – М. : Праксис, 2003. – 269 с. 64. Ковальчук М.В., Нарайкин О.С., Яцишина Е.Б. Конвергенция науки и технологий – новый этап научно-технического развития / М.В. Ковальчук, О.С. Нарайкин, Е.Б. Яцишина // Вопросы философии. – №3, 2013. – С. 2730. 65. Коган Л.Н. Зло / Л.Н. Коган. – Екатеринбург : Изд-во Урал.ун-та, 1992. – 109 с. 66. Кондаков И.В. Введение в историю русской культуры / И.В. Кондаков. – М. : Аспект Пресс, 1997. – 686 с. 67. Корольков А.А. Драма русского просвещения / А.А. Корольков. – СПб. : Алетейя, 2013. – 332 с. 68. Корольков А.А. Русская культура: философия истоков / А.А. Корольков. – Бийск : Бия, 2007. – 224 с. 69. Кренева Ю.А. Должностная халатность как вид девиантного поведения сотрудников пенитенциарной системы : автореферат дис. канд. психологических наук : 19.00.06 / Ю.А. Кренева ; Юж. федер. ун-т, Фак. Психологии. – Ростов н/Д, 2010. – 21 с. 160 70. Кристи Н. Пределы наказания : Пер. с англ. / Н. Кристи ; пер. с англ. и вст. ст. В.М. Когана ; под ред. и вст. ст. А.М. Яковлева. – М. : Прогресс, 1985. – 176 с. 71. Кристофер М. Постсоветская Россия: путь к демократии и гражданскому обществу / М. Кристофер. – Воронеж : ВГУ – МИОН, 2001. – 165 с. 72. Леонгард К. Акцентуированные личности / К. Леонгард. – Ростов н / Д.: «Феникс», 2000. – 544 с. 73. Липский Б.И. Причина и вина в метафизической перспективе / Б.И. Липский // Перспективы метафизики. Классическая и неклассическая метафизика на рубеже веков. СПб. : Санкт-Петербургское отделение Института человека РАН, 1997. – С. 76-85. 74. Лист Ф. Задачи уголовной политики : [пер. с нем.] / Ф. – М. : Инфра-М, 2004. – 103 с. 75. Ллойд Д. Идея права. Репрессивное зло или социальная необходимость? / Д. Ллойд ; пер. с англ.: М.А. Юмашева, Ю.М. Юмашев. – М. : Книгодел, 2007. – 415 с. 76. Ломброзо Ч. Преступный человек : [пер. с итал.] / Чезаре Ломброзо. – М. ; СПб. : Эксмо : Мидгард, 2005. – 876 с. 77. Лопатин Л.М. Теоретические основы сознательной нравственной жизни / Л.М. Лопатин // Аксиомы философии. Избранные статьи. – М. : РОССПЭН, 1996. – С. 84-125. 78. Лоренц К. Агрессия (так называемое «зло») / К. Лоренц ; Пер. с нем. Г.Ф. Швейника. – СПб. : Амфора, 2001. – 347 с. 79. Лосев А.Ф. Античная философия истории / А.Ф. Лосев. – М. : Наука, 1977. – 205 с. 80. Лосский Н.О. Бог и мировое зло / Н.О. Лосский. – М. : Терра, 1999. – 431 с. 161 81. Лунеев В.В. Преступность XX века : Мировые, региональные и российские тенденции: Мировой криминологический анализ / В.В. Лунеев. – М. : Норма, 1997. – 497 с. 82. Мамардашвили М.К. Ведение в философию / М.К. Мамардашвили // Мой опыт нетипичен. – СПб. : Азбука, 2000. – 400 с. 83. Максимов Л.В. К проблеме определения морали / Л.В. Максимов // Этическая мысль. – Вып 3. – М. : ИФРАН, 2001. – С. 61-74. 84. Максимов Л.В. Оправдание как процедура и вердикт морального сознания / Л.В. Максимов // Этическая мысль. – Вып 9. – М. : ИФРАН, 2009. – С. 85-102. 85. Маркузе Г. Эрос и цивилизация / Г. Маркузе. – М. : АСТ, 2003. – 312 с. 86. Матвеев П.Е. Поступок самопожертвования (опыт этического анализа) / П.Е. Матвеев // Этическая мысль. – Вып 13. – М. : ИФРАН, 2013. – С. 199212. 87. Межуев В.М. О возможности демократической оппозиции в современной России // Государство. Общество. Управление: Сборник статей / Под ред. С. Никольского и М. Ходорковского. – М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2013. – С. 431-449. 88. Мей Р. Сила и невинность / Р. Мей. – М. : Смысл, 2001. – 319 с. 89. Мейер Г.А. Свет в ночи (о "Преступлении и наказании" : Опыт медленного чтения / Г.А. Мейер ; Предисл. Н. Тарасова. – Франкфурт на Майне : Посев, 1967. – 515 с. 90. Меньшикова Н.А. Деятельное раскаяние в уголовном праве (проблемы теории и практики) : Специальность 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право : Автореферат диссертации канд. юрид. наук / Н.А. Меньшикова ; Дальневост. юрид. ин-т МВД РФ. Каф. уголов. права и криминологии. – Владивосток, 2002. – 27 с. 91. Милль Дж.Ст. Речь в защиту смертной казни / Дж.Ст.Милль // Этическая мысль. – Вып 9. – М. : ИФРАН, 2009. – С. 183-193. 162 92. Митфорд Д. Тюремный бизнес / Д. Митфорд ; Пер. с англ. Ю.А. Неподаева; Под ред. и со вступ. ст. И.Б. Михайловской. – М. : Прогресс, 1978. – 348 с. 93. Михайлов К.В. Уголовно-правовой институт освобождения от наказания / К. В. Михайлов. – М. : Юрлитинформ, 2008. – 309 с. 94. Москалькова Т.Н. Противодействие злу в русской религиозной философии / Т.Н. Москалькова. – М. : Проспект, 1999. – 122 с. 95. Назаренко Г.В. Вина в уголовном праве: Монография / Г.В. Назаренко. – Орел, 1996. – 96 с. 96. Никитенко И.В. Гуманизация исполнения и отбывания наказания в воспитательной колонии : Организационно-правовой аспект): Специальность 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право: Автореферат диссертации канд. юрид. наук / Никитенко И.В. Дальневост. юрид. ин-т МВД Рос. Федерации. – Иркутск, 2002. – 23 с. 97. Никольский С.А. Современная Россия: этап национального государства / С.А. Никольский // Государство. Общество. Управление: Сборник статей / Под ред. С. Никольского и М. Ходорковского. – М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2013. – С. 195-217. 98. Ницше Ф. К генеалогии морали / Ф. Ницше // Сочинения : В 2 т.; Сост., ред., вступ. ст. и прим. К.А. Свасьяна. – М. : Мысль, 1990. – Т. 2. – С. 407525. 99. Новгородцев П.И. Кризис современного правосознания / П.И. Новгородцев // Сочинения. – М. : Раритет, 1995. – 448 с. 100. Нойманн Э. Глубинная психология и новая этика. – СПб. : Азбука-классика, 2008. – 256 с. 101. О вере и нравственности по учению православной церкви. – М. : Московская патриархия, 1991. – 365 с. 102. Овчинников С.Н. Пенитенциарная система России – институт социальной политики государства : автореферат дис. канд. социол. наук : 163 22.00.04 / С.Н. Овчинников ; Нижегор. гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского. – Н. Новгород, 2006. – 24 с. 103. Олейник А.Н. Тюремная субкультура в России: от повседневной жизни до государственной власти / А. Н. Олейник. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 416 с. 104. Олденквист Э. Моральные чудеса и противоречивость доктрины первородного греха / Э. Олденквист // Этическая мысль. – Вып 13. – М. : ИФРАН, 2013. – С. 76-90. 105. Осипов Ю.М. Кризис бродит по планете… / Ю.М. Осипов // Философия хозяйства. – №6, 2012. – С. 277-290. 106. Остроухов В.В. Насилие сквозь призму веков : историко- философский анализ / В.В. Остроухов. - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2003. – 189 с. 107. Пашин С.А. Отечественный суд и государство / С.А. Пашин // Государство. Общество. Управление: Сборник статей / Под ред. С. Никольского и М. Ходорковского. – М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2013. – С. 285-313. 108. Петин И.А. Осознанное и неосознанное в учении о преступлении / И.А. Петин. – М. : Юрлитинформ, 2010. – 334 с. 109. Платон. Законы / Платон // Сочинения в трех томах. Т. 3. Ч. 2. – М. Мысль, 1972. – С. 83-470. 110. Поздняков В.М. Психология в пенитенциарной практике зарубежных стран в XX столетии : Ист.-сравнит. анализ / В.М. Поздняков. – М., Акад. упр. МВД России, 2000. – 149 с. 111. Полторацкий Н.П. Русская религиозная философия / Н.П. Полторацкий // Вопросы философии. – 1992. – №2. – С. 123-141. 112. Попов Л.М. Добро и зло в этической психологии личности / Л.М. Попов, О.Ю. Голубева, П.Н. Устин. – М. : ИП, 2008. – 238 с. 113. Порус В.Н. Рациональность. Наука. Культура / В.Н. Порус. – М. : Ун-т Рос. акад. образования, 2002. – 351 с. 164 114. Порус В.Н. Имитация рациональности: российская бюрократия в ситуации культурного кризиса / В.Н. Порус // Государство. Общество. Управление: Сборник статей / Под ред. С. Никольского и М. Ходорковского. – М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2013. – С. 217-247. 115. Преступность и реформы в России / А.И. Долгова, В.А. Серебрякова, Е.М. Юцкова и др.; НИИ проблем укрепления законности и правопорядка. – М. : Криминологическая Ассоциация, 1998. – 407 с. 116. Прокурова Н.С. Не сотвори зла. К проблеме преступления и наказания в русской художественной литературе и публицистике / Н.С. Прокурова. – М. : Academia, 2001. – 344 с. 117. Преступление и наказание в пространстве культуры: теория, история, современность // Первая международная научная конференция : сб. ст. Самара : Самар. Юрид. ин-т Минюста России, 2003. – 336 с. 118. Психология и этика: уровни сопряжения // Психология и этика: опыт построения дискуссии. – Самара: БАХРАХ, 1999. –128 с. 119. Пытки и другие грубые нарушения прав человека на территории Московской области (предварительный независимый доклад) / Сост. А. Бабашкин, В. Габисов и др. М., 2004. 120. Пугачев О.С. Этический контекст проблемы бессмертия в русской религиозной философии (конец XIX– начало XX вв.) / О.С. Пугачев. – Пермь : изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 1998. – 166 с. 121. Разумова эффективности И.В. Методологические управления основы производственной повышения деятельностью пенитенциарной системы России : автореферат дис. канд. экон. наук : 08.00.05 / И.В. Разумова ; Рос. экон. акад. им. Г.В. Плеханова. – М., 2005. – 23 с. 122. Райнфрид Х.В. Убийцы, грабители, воры. : Психотерапия в системе исполнения наказания / Ханс Вернер Райнфрид ; Пер. с нем. Е.Г. Дозорцевой, В.М. Ефименко; Под ред. Е.Г. Дозорцевой. – М. : Медицина, 2003. – 318 с. 165 123. Рассел Д.Б. Дьявол : Восприятие зла с древнейших времен до раннего христианства / Д.Б. Рассел ; Науч. ред., вступ. ст. Светлов Р. В.; Пер. с англ. Чулкова О.А. – СПб. : Евразия, 2001. – 407 с. 124. Рогожа М.М. Моральный поступок и моральное действие: критерии оценки / М.М. Рогожа // Этическая мысль. – Вып 10. – М. : ИФРАН, 2010. – с. 39-61. 125. Розанов В.В. Легенда о Великом инквизиторе Ф.М. Достоевского. Опыт критического комментария / В.В. Розанов // Мысли о литературе. – М. : Современник, 1989. – С. 41-148. 126. Сабиров В.Ш. Русская идея спасения (жизнь и смерть в русской философии) / В.Ш. Сабиров. – СПб. : СПбУ, 1995. – 152 с. 127. Савчук В.В. Чистая критика Вальтера Беньямина / В.В. Савчук // Герменевтика и деконструкция. – СПб., 1999. – С. 67-87. 128. Свендсен Л. Философия зла / Л. Свендсен ; пер. с норв. Н. Шинкаренко. – М. : Прогресс-Традиция, 2008. – 350 с. 129. Семенова С.Г. Философ будущего века : Николай Федоров / С.Г. Семенова. – М. : Пашков дом, 2004. – 584 с. 130. Ситникова А.И. Приготовление к преступлению и покушение на преступление / А.И. Ситникова. – М. : Ось-89, 2006. – 159 с. 131. Скарантино Л.М. Насилие и великодушие: эпистемный подход / Л.М. Скарантино // Этическая мысль. – Вып 11. – М. : ИФРАН, 2011. – С. 120-140. 132. Скворцов А.А. Этические проблемы войны в русской религиозной философии ХХ в. / А.А. Скворцов // Этическая мысль. – Вып 2. – М. : ИФРАН, 2001. – С. 216-230. 133. Скрипник А.П. Моральное зло в истории этики и культуры / А.П. Скрипник. – М.: Политиздат, 1992. – 351 с. 134. Скрипник А.П. Бытие, логос и нрав / А.П. Скрипник // Этическая мысль. – Вып. 3. – М. : ИФРАН, 2002. – С. 99- 118. 166 135. Скрипник А.П. Этика / А.П. Скрипник. – М. : Проект, 2004. – 352 с. 136. Сломчинский А.Г. Гуманизация образовательного процесса в пенитенциарной системе : автореферат дис. д-ра пед. наук : 13.00.01 / А.Г. Сломчинский ; Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2009. – 42 с. 137. Смазнова О.Ф. Право и время / О.Ф. Смазнова. – Великий Новгород: НовГУ, 2004. – 254 c. 138. Соловьев В.С. Три речи в память Достоевского / В.С. Соловьев // Философия искусства и литературная критика. – М. : Искусство, 1991. – С. 227-260. 139. Соловьев В.С. Оправдание добра / В.С. Соловьев // Сочинения в 2 т. Т.1. – М.: Мысль, 1988. – С. 47-549. 140. Солонин Ю.Н. Выступление на конференции «Россия XXI века: пути и перспективы развития» / Ю.Н. Солонин // Материалы Всероссийской научно-практической конференции. – М. : Фонд «Общество», 2007. – С. 152. 141. Сорокин П.А. Преступление и кара, подвиг и награда : Соц. этюд об основных формах обществ. поведения и морали / Сорокин П. – СПб. : Изд-во Рус. Христиан. гуманит. ин-та, 1999. – 446 с. 142. Становский М.Н. Назначение наказания / М.Н. Становский. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 1999. – 458 с. 143. Старков О.В. Наказание: уголовно-правовой и криминопенологический анализ / О. В. Старков, С. Ф. Милюков. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2001. – 459 с. 144. Суслонов П.Е. Философия наказания: (опыт исследования в русской мировоззренческой парадигме) : монография / П.Е. Суслонов. – Екатеринбург : Изд-во Урал. юрид. ин-та МВД России, 2006. 85 с. 145. Тавризян Г.М. О. Шпенглер, Й. Хейзинга: две концепции кризиса культуры / Г.М. Тавризян. – М. : Искусство, 1988. – 272 с. 167 146. Трубецкой Е.Н. Смысл жизни / Е.Н. Трубецкой // Смысл жизни: Антология. – М. : Издательская группа «Прогресс Культура», 1994. – С. 243489. 147. Упоров И.В. Пенитенциарная политика России в XVIII-XX вв. : историко-правовой анализ тенденций развития / И.В. Упоров. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. – 608 с. 148. Фетисов В.П. Солнце не заходит. Труды по нравственной философии / В.П. Фетисов. – Воронеж: ВГЛТА, 2011. – 518 с. 149. Философия и этика: сборник научных трудов. К 70-летию академика А.А. Гусейнова. М. : Альфа-М, 2009. – 800 с. 150. Философская этика и ее перспективы в современном мире // Этическая мысль. – Вып. 12. – М. : ИФРАН, 2012. – С. 5-72. 151. Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением / И. Я. Фойницкий. – М. : Городец: Добросвет-2000, 2000. – 462 с. 152. Фомивко А.Ф. Наказание как социальный феномен (философский анализ) : автореферат дис. канд.филос. наук : 09.00.11 / А.Ф. Фомивко ; Моск. гос. технол. ун-т «СТАНКИН». – М., 2006. – 22 с. 153. Фоноберов Л.В. Особенности категории вины в обязательствах вследствие причинения вреда : автореферат дис. канд. юрид. наук : 12.00.03 / Л.В. Фоноберов ; Рос. акад. правосудия. – М., 2010. – 29 с. 154. Фрагменты ранних греческих философов / Акад. наук СССР, Ин- т философии; Отв. ред. И.Д. Рожанский. – М. : Наука, 1989. – Ч. 1. – 1989. – 575 с. 155. Франк С.Л. Смысл жизни / С.Л. Франк // Смысл жизни: Антология. – М.: Издательская группа «Прогресс Культура», 1994. – С. 489584. 156. Фрейд З. Недовольство культурой / Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура : сборник : перевод / З. Фрейд ; вступ. ст. А.М. Руткевича. – М. : Ренессанс, 1992. – С. 65-135. 168 157. Фрер Жан-Клод. Сообщества Зла, или Дьявол вчера и сегодня / Жан-Клод Фрер ; Пер. с фр. Т. Михайловой. – М. : Аграф, 2000. – 267 с. 158. Фридланд П. От покаяния к устрашению: теория и практика высшей меры наказания во Франции раннего Нового времени / П. Фридланд // Вина и позор в контексте становления современных европейских государств (XVI-XX вв.): Сб. статей / Под ред. М.Г. Муравьевой. – СПб. : Европейский университет в Санкт-Петербурге, 2011. – С. 119-135. 159. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности / Э. Фромм ; Науч. ред.: П. С. Гуревич, С. Я. Левит; Пер. Э. М. Телятникова. – М. : АСТЛТД, 1998. – 670 с. 160. Фуко М. Надзирать и наказывать : Рождение тюрьмы / Пер. с фр. В. Наумова под ред. И. Борисовой. – М. : Ad Marginem, 1999. – 478 c. 161. Хаузер М.Д. Мораль и разум : как природа создавала наше универсальное чувство добра и зла / М. Хаузер ; [пер. с англ. Т.М. Марютиной . – М. : Дрофа, 2008. – 639 с. 162. Хохряков Г.Ф. Парадоксы тюрьмы / Г.Ф. Хохряков. – М. : Юрид. лит., 1991. – 224 с. 163. Черныш О.В. Организационно-правовые основы сотрудничества СССР и стран Восточной Европы в борьбе с преступностью: 40-е- 80-е годы XX века (историко-правовое исследование) : автореферат дис. канд. юрид. наук : 12.00.01 / О.В. Черныш ; Акад. права и упр. (ин-т). – М., 2012. – 22 с. 164. Шлыков производственной В.В. деятельности Организационно-правовые исправительных колоний основы в целях исправления и трудовой адаптации осужденных : автореферат дис. канд. юрид. наук : 12.00.11 / В.В. Шлыков ; Акад. права и упр. ФСИН; науч. рук. Н.С. Артемьев. – Саратов, 2007. – 22 с. 165. Шпидлик Т. Русская идея: иное видение человека / Т. Шпидлик. – СПб. : «Издательство Олега Абышко», 2006. – 232 с. 166. Эрн В.Ф. Природа философского сомнения // В.Ф. Эрн / Сочинения. – М. : Правда, 1991. – С. 55-71. 169 167. Юмашев Ю.М. Беккариа и Россия / Ю.М. Юмашев // Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. – М. : Междунар. отношения, 2000. – С. 725. 168. Якубович П.Ф. В мире отверженных : записки бывшего каторжника. Т. 2 / П.Ф. Якубович. – Москва ; Ленинград : Художественная литература, 1964. – 412 с. 169. Янкелевич В. Ирония; Прощение / Владимир Янкелевич ; пер. с фр. и послесл. В.П. Большакова, Б.М. Скуратова. – М. : Республика, 2004. – 334 с. 170. Ярхо В.Н. Вина и ответственность в гомеровском эпосе / В.Н. Ярхо // Вестник Древней истории. –1962. – № 2. 171. Ясперс К. Истоки истории и ее цель / К.Ясперс // Смысл и назначении истории. – М. : Республика, 1994. – С. 28-288. 172. Cavadino, Michael. Penal systems : a comparative approach / Michael Cavadino and James Dignan ; with Don Anspach [et al.]. – London ; Thousand Oaks ; New Delhi : Sage, 2006. – XV, 380 p. 173. Corlett, J. Angelo. Responsibility and punishment / J. Angelo Corlett. – rev. 2nd ed. – Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, 2004. – X, 214 p. 174. Pink T. Free will : a very short introduction. – Oxford University Press, 2004. – X, 132 p. 175. Raskolnikov and Svidrigailov / ed. with an introd. by Harold Bloom. – Philadelphia : Chelsea House, 2004. – XIII, 232 p. 170