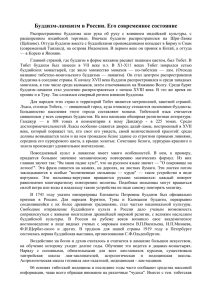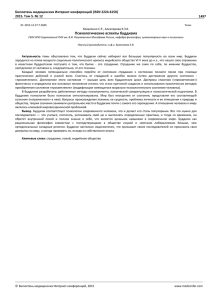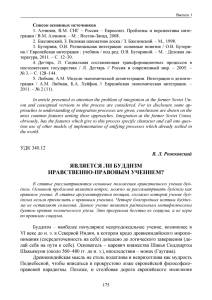Философия - Научная библиотека - Калмыцкий государственный
advertisement
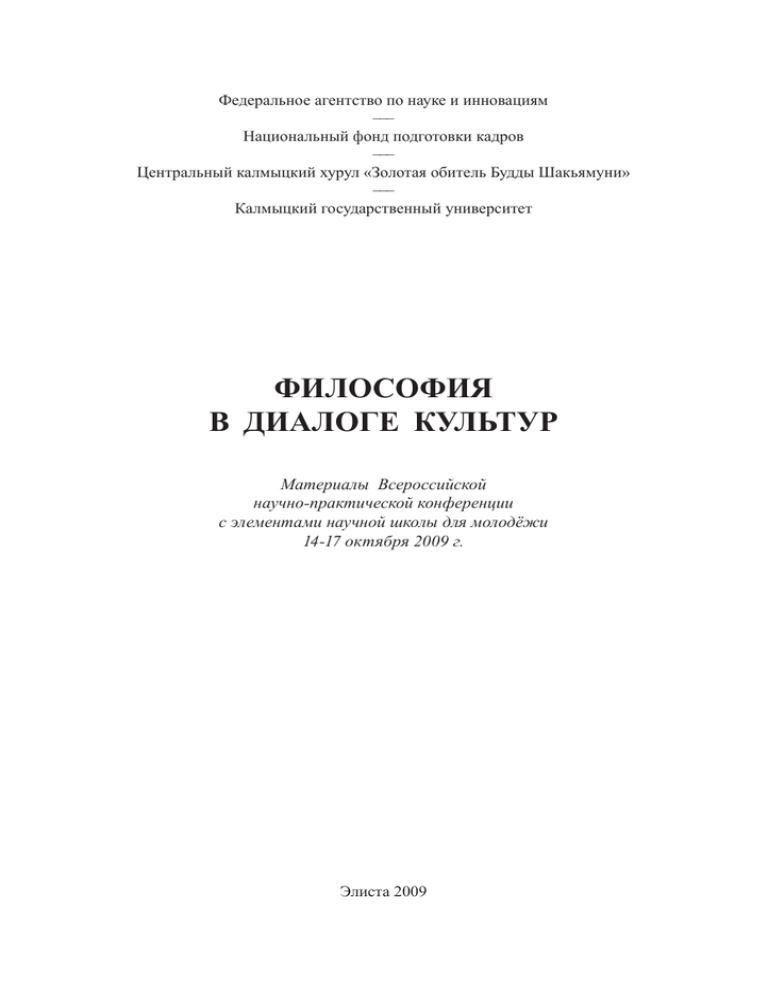
Федеральное агентство по науке и инновациям ––– Национальный фонд подготовки кадров ––– Центральный калмыцкий хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни» ––– Калмыцкий государственный университет ФИЛОСОФИЯ В ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР Материалы Всероссийской научно-практической конференции с элементами научной школы для молодёжи 14-17 октября 2009 г. Элиста 2009 ББК Ю3(2Рос.Калм)я431 Ф 561 Философия в диалоге культур, Всероссийская науч.-практическая Ф561 конф. с элементами научной школы для молодёжи (2009; Элиста). Всероссийская научно-практическая конференция с элементами научной школы для молодёжи «Философия в диалоге культур», 14-17 октября 2009 г. [Текст]: материалы / редкол.: Г.М. Борликов [и др.]. – Элиста: Изд-во КГУ, 2009. – 108 с. – В надзаг.: Федеральное агентство по науке и инновациям, Национальный фонд подготовки кадров, Центральный калмыцкий хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни», КГУ. Конференция проводится с целью установления диалога культур, обмена опытом и знаниями, ознакомления современной научной молодежи с новыми принципами гармоничного взаимодействия современной науки и религии. Результаты конференции могут быть использованы для исследования компаративистской проблемы диалога буддизма с различными философскими традициями, религиозными учениями, для совершенствования общенаучных методологий, углубления междисциплинарных взаимодействий, для диалога философий, религий и науки, а также в процессе преподавания курсов философии, религиоведения, антропологии и психологии для студентов и аспирантов. Редакционная коллегия: Г.М. Борликов, д-р пед. наук, профессор, ректор КГУ (председатель); В.О. Имеев, канд. филол. наук, проректор по научной работе КГУ; А.С. Колесников, д-р филос. наук, профессор СПбГУ; К.А. Наднеева, д-р филос. наук, профессор КГУ; М.П. Биткеев, канд. филос. наук, доцент КГУ; Р.М. Файзиев, канд. биол. наук, начальник инновационно-аналитического отдела КГУ; Г.П. Кальдинова, канд. соц. наук, доцент КГУ Статьи приводятся в авторской редакции. Проект реализуется по гранту № 02.741.11.2117 © Авторы, 2009 г. © Калмыцкий государственный университет, 2009 г. Содержание Колесников А.С. Глобализация, развитие межкультурной компетентности и диалог......................................................................................4 Лысенко В.Г. Ценность Другого в буддизме: проблемы этики и эпистемологии...................................................................................................13 Островская Е.А. Российские буддийские НГО: перспектива консенсуса.......................................................................................18 Дьяков А.В. Буддизм и постструктурализм: видéние нон-модерного мира..............................................................................24 Биткеев М.П. Эссе: размышления о феноменологии и онтологии я и не-я в буддизме в диалоге с гегелевским пониманием сущности.............29 Пендюрина Л.П. Мистический опыт в буддизме: проблема универсальности и различия.............................................................32 Зомонов М.Д. О специализированной культуре буддизма в Российской Федерации: краткий дискурс и рефлексия.................................36 Михалина О.А. Буддизм и образование........................................................39 Четирова Л.Б. Философия буддизма: некоторые моменты сравнения с западной философией.......................................................................................41 Койбагаров А.Ш., Дронова В.М. Кагью в России: буддизм на марше.........44 Безруков И.В. О некоторых аспектах развития буддизма в Японии..........51 Матуляк А. Сознание – осознанность в буддизме......................................54 Захарова Е.В. Психический детерминизм и буддийская практика............59 Бернюкевич Т.В. Азия и буддизм в контексте творческих идей В. Хлебникова.......................................................................................................64 Рабинович Е.И. Сновидения в тибетской житийной литературе...............70 Васильченко В.А. Скептицизм и буддизм в сравнении и диалоге..............75 Нишнианидзе О.Г. Восемь благородных истин буддизма и античный философский праксис.....................................................................86 Домина Ю.В. Мимесис как способ речевого взаимодействия в театре эпохи Возрождения..............................................................................................92 Сараева С.К. Буддизм в диалоге религий (на примере учения Далай-Ламы XIV).................................................................................................97 Васильченко В.А. Греческий силлогизм и его буддийские версии...........100 Нурова Г.В. Традиции и современность в религиозном искусстве калмыков.............................................................................................................104 А.С. Колесников, доктор философских наук, профессор Санкт-Петербургского госуниверситета Глобализация, развитие межкультурной компетентности и диалог Проблемы, которые ставятся на этой конференции, прежде всего, касаются диалога культур и определения новых принципов гармоничного взаимодействия всех составляющих мировоззрения, мировосприятия и мирочувствования. Глобализация. Упрощенно можно выделить две основные стратегии осмысления глобализации. Одна предстает как сего­дняшняя фаза развертывания единого и универсального «проекта модерна» и в глобализации усматривается процветание всех народов, трансформация всего мира. Об этом пишут А. Гидденс, К. Омаэ, Дж.Розенау, М. Кастелс, Н. Манн. В рамках альтернативной версии, персонифицированной, прежде всего, Р. Робертсоном, выдвигается тезис о формировании глобалистского измерения че­ловеческого сознания, позволяющего рассматривать социальные процессы в глобальной системе координат и радикально меняющего образ модерна. Возник­новение модерна на Западе должно рассматриваться не как продукт его внутренней истории, а как результат взаимодействия (военно­-политического, колонизаторского, торгово-технологического, культурно-религиозного и т.п.) Запада с остальным миром. Что сейчас становится особенно ясным, так это тот факт, что глобальный мир необходимо созидать в диалоге цивилизаций как общее пространство многогранной духовности – всегда открытое и вечно совершенствующееся в процессе понимания другого. Однако, например, Россия и Китай обретают свою культурную идентичность в оспаривании европейской субъективности, поэтому способ их культурной идентификации апофатичен, а не катафатичен, поскольку основывается на определенном отрицании европейской субъективности, на универсальных принципах которой основана современная тенденция глобализации мира. Это оппонирование геополитической модели «мирового порядка». Сам геополитический статус России и Китая и их культурная идентичность определяются ее нахождением по ту сторону различия Востока и Запада. С другой стороны, толерантность Востока и Запада друг к другу внутри России как целого указывает лучше всяких абстрактных схем на гармоничный характер российского сознания и духа, устремленных к космическому равновесию крайностей. 4 Китайский философ Чжан Шаохуа полагает, что в нашей современной жизни уже присутствует эмбрион духа глобальной цивилизации. Его образуют философские идеи: а) единства всех вещей; б) единства всего человечества; в) единства Неба и человека. Если утверждается единство всех вещей, то мы должны уважать и заботиться об окружающей среде. Если утверждается единство человеческого рода, то мы должны признать справедливость и солидарность между людьми. Если утверждается единство Неба и человека, то мы должны оберегать небесную (духовную) природу человека. Известный ученый Хадзимэ Накамура (1912-1999 гг.) в своих многочисленных трудах (на японском и европейских языках) и широкой сфере исследования (индийская философия, буддизм, работы по истории, цивилизационной компаративистике, японской и сравнительной мысли), как и области интересов и продемонстрировал беспримерную эрудицию. В 22 томах работ по Индии и буддизму он значительное место уделил компаративному анализу. Так работа «Япония и Индийская Азия. Их культурные связи в прошлом и настоящем» (1961) на богатом источниковедческом материале анализирует тот культурный фон, на котором совершается проникновения в Японию индийского буддизма, через китайский и корейский. Накамура показал глубокое влияние индийского буддизма на японскую культуру начиная с шестого века и различные формы синкретизма дзэн-буддизма с синтоизмом. Его вторая работа «Буддийский рационализм и его практическое значение в компаративистском свете» (1962) посвящена сопоставлению буддийской дхармы и греческого логоса, темы особенно дискутируемой в 50-60-х гг. в журнале «East and West». Работа Х.Накамуры «Образы мышления восточных народов: Индия, Китай, Тибет, Япония» (1964) способствовала развитию сравнительных исследований и боролась против устоявшихся стереотипов. Ее специфика состоит в том, что в ней детально рассматриваются образы мышления этих четырех восточно-азиатских народов. Откликаясь на проходившие в то время в мировой литературе дискуссии, он выступает против неверного противопоставления западных и восточных типов и образов мышления и старается показать, что нет единого восточного (равно как и западного) типа и образа мышления. Он обоснованно отвергает использование старых европоцентристских ярлыков типа «отсталые народы», «азиатская слаборазвитость», давая научные историко-философские характеристики традиционных образов мышления четырех азиатских народов. В этом же плане он объявляет искусственными широко используемые в литературе такие оппозиции, как «спиритуальный», «интровертный», «синтетический» и «субъективный» образ мышления восточных народов и «материалистический», «экстравертный», «аналитический» и «объективный» образ мышления западных народов. 5 «Образы мышления», по его мнению, это суть «логические правила» («законы мышления»), образы мышления индивидов о конкретных, эмпирических вопросах и, наконец, «системы мысли»». Ссылаясь на Гумбольдта и на известного синолога Гранье, Накамура указывает на органическую связь образов мышления с языком, подчеркивая специфику лингвистического и логического выражения мысли тех или иных народов, что демонстрирует влияние на него лингвистического поворота в западной философии 60-х гг. ХХ в. Сейчас можно сказать, что в проблеме соотношения языка и мышления буддистская мысль почти на полтора тысячелетия опередили западных философов, о чем свидетельствуют различные умозаключения-для-себя и умозаключения-для-другого. Он настаивает на рассмотрении образов мышления в контексте культурного феномена как местного (выбранных им четырех стран), так и западного, раскрывая связи между универсально-всеобщими и специфическими аспектами восточно-азиатской мысли, проводя сопоставление с тем или иным феноменом мыслительного или культурного порядка на Западе. Накамура выявляет когнитивные и экзистенциальные основы, показывающие различия в образах мышления («ментальных системах») различных народов Востока и Запада, сопоставляет их «мыслительные системы» вообще, равно как и собственные философские системы восточно-азиатских народов с западными философскими системами. Развитие межкультурной компетентности. Углубление межкультурного опыта активизирует изменения в терминах мышления участников и восприятие, ценности, отношения и мировоззрения, как результат академического изучения и столкновения, отличных социальный и культурный перспектив. Так мы в состоянии понять и охватить различия, и до некоторой степени, объединить разнообразный перспективы в их собственные системы ценности. Особую роль здесь играет образование и целенаправленное изменение взгляда на мир. Межкультурный опыт позволяет приобрести большее знание и понимание различных обществ вообще. Понимание о Другом было приобретено не пассивно через чтение и изучение, но развито через постоянное взаимодействие и влияние различных ценностей и мировоззрения. Согласно поддающейся трансформации теории обучения, перспектива преобразования обращается к изменениям в значении ученика схем, то есть определенные верования, отношения и мышления и восприятие. Становясь критически знающим о биографическом контексте, историческом, культурном – из их верований и чувств о себе и их роли в обществе’, люди могли ‘вызвать изменение в способе, которым они молчаливо структурировали их предположения и ожидания. Так участники диалога культур испытали перспективное преобразование и полученные данные показывают, что другой – 6 активный агент, позволяющий активно входить в тело иной культуры, превысить их собственные мышления и восприятие, объединяя и соединяясь различные перспективы. Так формируется межкультурная компетентность – вместимость сделать ‘более качественное суждение’ о природе межкультурного столкновения и опыте. Межкультурное столкновение и опыт имели сильное воздействие на участников развития и самосознания и культурного понимания. Межкультурное изучение делает вклад в реконструкцию самоидентичности участников через процесс столкновения и взаимодействия с Другим. Культурное пересечение границы и изучение и проживание в различной социокультурной окружающей среде поместили понятие Я и Другой в самом сердце интерпретация участников опыта столкновения. В пределах этого межсубъективного места, участники столкнулись и испытали возможности обогащения (ре) строительство из Я относительно Другого. Межкультурный адаптация – в действительности процесс глубокого межкультурного изучения, приводя поддающийся трансформации опыт изучения. Это было социальным процессом, составленным в межсубъективности и диалоге. Межкультурное изучение является по существу изменением, перемещением места столкновения с людьми, учение через культуры, и прежде всего, о становлении большего знания Я, Другого и межсвязность и взаимозависимость всех. Эти процессы еще имеют отношения с emic-etic различием. Еmic строит мировосприятие через диапазон местных контекстов и затем начинает искать etic уровни объяснения основанного на этом основании. От ранних (но сохраняющихся) расходящихся и сходящихся интеллектуальных стилей идет выход к более свежей ассоцианистской и взаимосвязанной, контекстуальной теории. Сведения включают три аспекта: аналитический, творческий и практичный. Как это сказывается на измерениях черт индивидуальности культуры? Они просты. Сюда входят: предотвращение неуверенности; открытость, чтобы испытать эмоциональную стабильность (долгосрочная-краткосрочная ориентация); добросовестность мужественности; увеличение расположенности; уменьшение дистанции власти; добросовестность, индивидуализм, экстравертность, динамизм. Диалог. Сегодня речь идет не о технологиях производства вещей (как это было в Новое время, в период развития индустриальных технологий), а о креативных технологиях «производства людей», их потребностей, образа жизни, ценностей, претворенных в формах культурно-символических продуктов, на основе, претендующих стать массовыми, технологий. И здесь неоценимую помощь миру может оказать буддизм. 7 Альтернативой рациональной стратегии порядка вы­ступает этическое ориентирование. Нормативная этика не­достаточна и приходится выбирать между различными мо­ральными системами. Понять и объединиться можно только на рынке признания (А. Хоннет), когда срабатывает стратегия по прин­ципу выгодно – невыгодно. Ориентирование – это критическая философская рефлексия к правилам жизненного мира, включающая модусы ориентирования (познание, мировоззрение, самоанализ), которые и выступают медиумами, раскрывающими связь изменяющегося мира и человека. Это заставляет философию менять свою форму. Идет диалог по ту сторону идеологической заинтересованности. Диалогичный тип отношений в культуре – это переходный тип. Происходит трансформация их в креативный тип культур. Эти культуры характеризуются многослойностью, неоднородностью, порождаются многообразием межсубъектных связей, их взаимовлияния друг на друга. Что же требуется современному миру? Можно ответить кратко – ответственное, креативное бытие, соответствующее участному мышлению и ориентированной морали. Деформация идеи человека, деантрополизация его сущности, деприватизация нашей жизни, отход от героизма прометеевского человека, ведет к становлению эры иоаннического человека, движимого стремлением к гармонии, которая невозможна вне целостности. Сейчас все больше обращают внимание на перформатизм (имманентный прагматизм). Практическая философия трактуется здесь не как разработка прикладных теорий или алгоритмов их применения на практике, а как знание особого рода: как практическое знание (а главная характеристика его «воплощенность», или нерефлексивность). Это спонтанное обнаружение действительности, знание, воплощенное в самой действительности. Это по сущности буддистская философия. С другой стороны возрастает необходимость сравнительного изучения различных религий, что приведет к лучшему взаимопониманию и к росту терпимости. Нам очень хотелось бы, чтобы эти ожидания оправдались. В мире многое делается для этого. Так, издательство «Текст» при поддержке Министерства культуры Франции в 2007 году выпустило в свет поучительнейшую книгу «История Бога». В Предисловии историк Рене Ремона – президент Национального фонда общественных наук и члена Французской академии – отмечает: «растущее невежество в вопросах религии», «пагубно сказывается на передаче культурных ценностей от поколения к поколению», – однако уже в следующем абзаце это обидное для верующего низведение метафизики до культуры почти дезавуируется: «Религия – великая движущая сила общества: как бы далеко ни зашла секуляризация в современном мире, религия остается важнейшей составляющей в сознании личности и в судьбе народов… Для этого каждую 8 религию в книге представляют не «нейтральные» ученые с их холодными категориями и безжалостными методиками, а «выдающиеся духовные лица разных конфессий». Так, богов политеистической эры представляет не жрец Зевса или Изиды, но ординарный профессор Пьер Левек. Зато боги Африки представлены самым настоящим жрецом вуду Базилем Клиге, защитившим в Сорбонне диссертацию в 1994 году. О богах доколумбовой Америки рассказывает профессор Тереза Буисс-Кассань. По пантеону богов Азии читателя сопровождают пандит Шастри (индуизм) и преподобный Дагпо Римпоче (буддизм). В мире же единобожия беседу ведут главный раввин армии Израиля Дени Акун, капеллан собора Парижской Богоматери Поль Гиберто и ректор Мусульманского института Большой парижской мечети Далиль Бубакер. Не получили слова, однако, православие и многие другие религии. Такая избирательность непонятна. Есть еще одна сложность – это определение религии, которое влияет и на ее мировоззренческую презентацию. В обыденном представлении религия – это вера в бога или богов, тогда как и самим понятиям религии и бога можно придать очень широкий смысл. Нередко религию определяю как веру в сверхъестественное, хотя в настоящее время религиоведы стараются не прибегать к нему из-за расплывчатости и парадоксальности его смысла. Перечислим несколько определений религии. Религия – связь человека и мира с безусловным началом и средоточием всего существующего (В. Соловьев), это особое чувство зависимости человека от бесконечного (Р. Шлейермахер), символика первобытных мифов о природе (М. Мюллер), вера в невидимые духовные существа (Э. Тейлор), олицетворение и умилоствливание тех природных сил, перед которыми люли беспомощны (Дж. Фрейзер) фантастическое в форме неземных сил внешних обстоятельств, которые господствуют над человеком (Ф. Энгельс), чувство священного (Дж. Хаксли), универсальный невроз навязчивости в форме защиты от чувства внутренней неуверенности и страха (З. Фрейд), ритуальная культивация социально принятых ценностей (Д. Фишер), вера с судьбу (Д. Пратт), стремление отстоять во что бы то ни стало всеобщую ценность какого-либо идеала (Дж. Дьюи), религия есть специфическая духовно-практическая связь между людьми, основанная на священном отношении к наиболее важным ценностям их единения. И это далеко не весь список форму религиозности. По сакрализации объектов религии делят на натуроцентрические – поклонение космосу (буддизм, христианство, ислам) и социоцентрические – сакрализация особо ценных объектов, возникших внутри общества (культ вождя, класса, народа, расы, государства и т.п.). Главное, что надо знать, религии не исчезают, но лишь видоизменяются и совершенствуются под воздействием изменений в содержании социальных потребностей и их идеологического 9 воплощения, а также в результате взаимодействия со множеством других верований. Так, буддизм сакрализовал идею вечного круговорота бытия, мифологически обрисовал механизмы смены циклов жизни и телесного страдания и увидеть путь спасения индивида в ограничении собственных потребностей, в переходе в нирвану. Главное в том, что ни одна из форм духовной культуры, кроме религии, не сакрализует фундаментальные духовные ценности, признаваемыми для единения малой и крупной социальной группы. Это образный механизм целостности таких объектов как Вселенная, жизнь, разум, общество, народ, социальная группа и т.д. Религия накопила множество способов осмысления крупных природных и социальных ценностей и иррациональных эффектов человеческой деятельности Религии и культуры обогащают друг друга, когда каждая добровольно берет у другой то, что ей нравится. Культурные различия вполне приветствуются и заимствуются всеми народами, пока это ощущается как добровольный выбор. Классический утопический либерализм, так возмущавший Константина Леонтьева («Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения»), надеялся прийти к гармонии через уничтожение всех национальных и сословных особенностей. Современный либерализм открыто не замахивается на отдаленные прогнозы а, тем более, на масштабное социальное проектирование но в тайне надеется на создание единой культуры космополитического человека. Но это чревато вмешательством, тогда как наиболее безопасный диалог культур или, по крайней мере, основание к таковому – культурное невмешательство. По возможности не трогай культуру, религию, обычаи – словом, ничего из того, что относится к главным человеческим ценностям. Базовая стратегия: каждая культура должна быть спокойна за фундаментальное, культурообразующее чувство собственной исключительности, должна быть спокойна за свое традиционное наследие, в чем бы оно ни заключалось – в территории, в социальной функции или в образе самой себя, – только в этом случае культуры смогут, не вызывая вражды, обмениваться своими общечеловеческими элементами. В настоящее время стоило бы развивать специальное (но не выделенное организационно) направление в литературе, в популярной истории, в кино и телевидении, которое сосредоточивало бы внимание на светлых эпизодах взаимодействия верующих разных религий, на сотрудничестве их в каком-то общем благородном деле, на противостоянии какому-то общему врагу… Программу такого рода, как пишет писатель Мелихов, мог бы довольно быстро разработать небольшой коллектив, включающий в себя историков, культурологов, а также художников слова и экрана, ощущающих принадлежность разным традициям, но испытывающих желание преодолеть свою 10 особость во имя более многосложной культурной целостности. Интеллектуальные, культурные элиты мусульманской и христианской традиции для начала должны научиться вести диалог в собственном узком кругу, создавая синтетическую систему умиротворяющих образов, и лишь затем обращаться с ними к массовому сознанию. Даже многие интеллектуалы не желают видеть неустранимого трагизма социального бытия, то есть конфликта всех ценностей, включая самые возвышенные и желанные. Эта полунамеренная слепота и заставляет во всех мучительных ситуациях искать какую-то панацею, какой-то ключ, который открывал бы разом все замки. В последнее время одной из таких панацей сделалось слово диалог: предполагается, что все конфликты можно умиротворить, если конфликтующие стороны сумеют каким-то особо мудрым образом вступить в диалог друг с другом. В подтверждение приводятся те или иные экзотические примеры мирного сосуществования наций или конфессий. Отметим несколько типов такого диалога: – вертикально-исторический (культурно-временной) диалог – диалог основных исторических типов культуры (например, античной и западно-средневековой, византийской и российской, Нового времени и современной); – вертикально-диахронный (культурно-диахронный) диалог – межкультурная коммуникация, диалог культур в настоящем пространстве и времени сосуществующих цивилизационных систем; – горизонтально-исторический диалог – диалог, разворачивающийся во времени собственной культурно-исторической традиции как «разговор» со своим прошлым; – горизонтально-пространственный (внутрикультурный или системный) диалог – диалог культур и субкультур, существующих в едином этнокультурном и цивилизационном пространстве и времени. Диалог (полилог) должен строиться совершенно по-разному в зависимости от того, какого рода интересы скрываются за внешне «объективными» аргументами. При конфликте материальных интересов диалог вполне возможно вести в терминах прибылей и убытков, доказывая, что мир выгоднее войны, – а заодно искать условия взаимовыгодного мира. При конфликте мнений, которые относятся к вопросам, не являющимся вопросами жизни и смерти (таковы в большинстве своем научные прения), можно указывать оппоненту на новые факты и слабые места в его логике. Но при конфликте мировоззрений – идеологий, метафизических систем, теорий, картин мира – нужно прежде всего понять, какими интересами они порождены. Сегодняшний мир находится в ситуации, с одной стороны, широких и тесных контактов, взаимосвязей и взаимооткрытости различных культур, а с другой стороны, современных угроз и вызовов (усиления экстремистских 11 настроений, регионально – этнических, национальных и религиозных конфликтов, столкновения западноевропейской, американской цивилизации и арабо-мусульманского мира, проблемы терроризма), и в философской ситуации постмодернизма (признание многополярности мира, многообразия, равнои-само-ценности, уникальности философских культур). Исходя из сказанного, диалог в таком мире приобретает особую актуальность, экзистенциальножизненную значимость, поскольку пытается с точки зрения широкого подхода, на философско-компаративистском уровне проследить и осмыслить истоки и причины современных проблем, конфликтов и найти истинные пути решения исходно-базовых и ключевых для неё вопросов межкультурного взаимодействия, понимания «другого», «иного» через осмысление существа философского сопоставления в их тесной связи с экзистенциальными проблемами человеческого бытия. Сложности состоят еще и в том, что мы запаздываем с идентификацией философских оснований диалога. Так, на Западе теперь говорят уже не о постмодернизме, а трансмодернизме. Постмодернизм – это, так сказать, ультрамодернизм. А теперь, когда он развился, перешел в иное качество, в инобытие, то это уже трансгресс, то есть переступание через границы. Разрабатывается понятия трансверсального разума. Об этом в свое время говорила Вельш, Делез, Маньковская, Эпштейн. Делез показывает, каким именно образом (с помощью «трансверсальной машинерии») многомерные знаковые миры превращаются в открытую, самовоспроизводящуюся систему... Обоснован плюрализм трансверсальных структур и конфигураций рефлексии. Так создается некая новая культурная ситуация «трансмодернизм». Это направление напрямую связано с процессом глобализации – сведению к общему знаменателю всех культур, созданию единой культуры. Трансмодернизм представляет собой синтез традиции и модерна (воспевавшего прогресс) – он отвергает безусловные достоинства прогресса и сводит авангардные-поставангардные параметры к общему уровню. С другой стороны, в поддержку трансверсальной философии конституируется ряд многозначных институций, с которыми работают современные философы. Так, среди них все больше набирает силу такой интересный концепт, как международная культура. Основная задача трансмодернизма – сохранить все культуры и дать им возможность сотрудничать и развиваться в совместном мире. Идея, в общем-то, неплохая. Но есть одно препятствие: нежелание некоторых культур вести диалог. Они построены на «негативизме» – отрицании, разрушении. В то время как идеология культурного плюрализма предполагает, что все культуры ориентированы на сотрудничество и конструктивность. В данном случае важна роль буддистских мыслителей, призывающих к гармонии и сотрудничеству. *** 12 В.Г. Лысенко, доктор философских наук, г.н.с. Института философии РАН, профессор Русской антропологической школы при РГГУ Ценность Другого в буддизме: проблемы этики и эпистемологии Буддизм – первая религия в истории человечества, которая опирается на универсалистскую модель человека. Ни происхождение человека, ни социальный статус, ни род занятий (каста), ни этническая принадлежность и т.п. не влияют на его способность быть адресатом буддийского послания. Однако люди в силу своей кармы и жизненных обстоятельств отличаются друг от друга по способностям и разным человеческим качествам. По сравнению с другими мировыми религиями (христианством и исламом), которые тоже обращены ко всем людям, независимо от расы, народа, рода и племени, в буддизме индивидуальность человека выдвигается на самый первый план. Почему? В сотериологическом учении, которым прежде всего и является буддизм, с самого начала учитывался тот факт, что адресная проповедь, учитывающая характер аудитории и те вопросы, которые ее волнуют, более эффективна, чем проповедь общего характера. А это значит, что буддизм, распространяя своего учение, обращал серьезнейшее стратегическое внимание на феномен другого. Можно сказать, что ценность другого заложена в сам фундамент буддизма. Об этом свидетельствует и традиционная история Будды. Когда в результате «пробуждения» отшельник Гаутама обрел всевидящее око, то он окинул взором все живые существа во всех мирах, погрязшие в сансаре и неведении, и понял, что они вряд ли смогут понять его послание: В том, что с таким трудом постиг я, зачем других наставлять стану? Ведь тому, кто охвачен враждой и страстью, нелегко постичь это учение. Предавшись страсти, тьмою объятые, они не поймут того что тонко, Что глубоко и трудно для постижения, что против течения их мысли. “Маггавагга” из Виная-питаки. (пер. Вертоградовой) Таким образом, Будду охватили сомнения, стоит ли проповедовать учение (Дхарму), если его все равно не поймут. И тут, как мы помним, появился брахманистский бог Брахма и стал уговаривать Будду поведать миру свою 13 Дхарму. После третьего обращения Брахмы Будда, наконец, согласился. Фактически, он стоял перед выбором между двумя ролями: пробужденного для себя, или пратьека Будды – Будды, достигшего собственного освобождения и тем довольствующегося, и будды, который стремится способствовать освобождению других живых существ, или Пробужденного для других. В этом смысле, как мы видим, послание Будды изначально было нацелено на спасение других. Кто эти другие? Вернемся к нашей истории. Будда прибегает к образу лотосов: Подобно тому, как в пруду, заросшем голубыми лотосами, или в пруду, заросшем красными лотосами, или в пруду, заросшем белыми лотосами, одни лотосы, рожденные в воде, выросшие в воде, не поднимаются над водой, другие, рожденные в воде, выросшие в воде, стоят вровень с поверхностью воды, а третьи, рожденные в воде, выросшие в воде, поднявшись над водой, стоят так, что вода их не касается. 12. Также и Благословенный, оглядев мир своим оком просветленного, увидел существа, умственный взор которых лишь чуть запорошен пылью, и существа, чей умственный взор покрыт густым слоем пыли; увидел существа с острой восприимчивостью и с восприимчивостью вялой, существа, имеющие благоприятную форму и имеющие неблагоприятную форму, существа, легко поддающиеся внушению, а также увидел существа, пребывающие в страхе перед иным миром и в страхе перед грехом. (Там же). Будда осознал основное различие между людьми не как различие происхождения (пруды с голубыми, красными и белыми лотосам ничем не отличаются друг от друга, так как наполнены одной и той же водой и все лотосы рождаются и растут в воде), а как индивидуальные различия в восприимчивости к духовному посланию. Именно на эти индивидуальные различия он и ориентировался в своей дальнейшей проповеди. Мы видим из текстов Сутта-питаки (второй части буддийского палийского канона Типитака), что характер и содержание проповеди Будды всегда зависит от ситуации, которая определяется характером аудитории и непосредственных участников разговора. Строго говоря, Будда не произносил чистых проповедей, когда проповедник вещает, а остальные ему покорно внимают, он беседовал или вел диалоги с вполне конкретными людьми имена, происхождение и профессии которых очень часто указаны в тексте. И уже один этот факт свидетельствует о том, что личностные характеристики собеседников были значимы для Будды. Речь идет о важнейшем принципе, который в дальнейшем получил название упая каушалья, искусных средств обращения людей в буддизм. Признание индивидуальности адресата религии в качестве реальности, к которой необходимо приспосабливаться, имело далеко идущие исторические последствия. Благодаря этому буддизм открылся для культурного и религи14 озного влияния принявших его стран и претерпел серьёзную внутреннюю трансформацию, обретя множество разных и порой несовместимых друг с другом форм. Хотя сам термин упая каушалья, как я уже заметила,. и соответствующее его толкование появляются уже после Будды, можно сказать, что идея «искусных средств» принадлежит самому Будде. В одной притче Будда уподобляет себя врачу, который использует зонд и нож, чтобы вытащить из раны отравленную стрелу (М.II 260). В другой притче Будда сравнивает свое учение с плотом, «предназначенным для переправы, а не для того, чтобы за него цепляться…» (М. I 130-142). Будда заботится прежде всего о практическом «спасительном» эффекте проповеди, а не о точной передаче содержания Дхармы и создании непротиворечивой системы взглядов. Поэтому его проповедь неизменно зависит от конкретной ситуации общения – от повода для нее, от заданной темы и от уровня духовного, умственного, эмоционального развития, характера, темперамента и убеждений его слушателей и собеседников. Это не значит, что Будда просто говорил разным людям о разных вещах. Он высказывался о вполне определенном и достаточно ограниченном круге вопросов, но чтобы его понимали в разной аудитории, прибегал к разным формам выражения. В зависимости от аудитории меняется не только содержание, но и язык проповеди. По меткому выражению Т.Рис-Дэвидса: «Говоря о жертвоприношении с жрецом, о единении с Богом с приверженцем общепринятой идеологии, о брахмане, претендующем на высшее место в обществе, с высокомерным брахманом, о мистическом прозрении с тем, кто в него верит, он следовал одному и тому же методу. Готама, насколько это возможно, ставит себя на психологическое место того, кто его вопрошает. Он не подвергает критике ни одного из любезных тому убеждений. Он принимает как отправную точку своего изложения желаемость действия или условия, высоко ценимых его оппонентом – единения с Богом ( как в «Тевиджджа сутте»), или достижения высокого социального ранга ( как в «Амбхатта-сутте»), или видение небесных знаков (как в «Махали-сутте») или теорию души (как в «Поттхапада-сутте»). Он даже использует саму фразеологию собеседника. Затем же, частично вкладывая в эти слова новый и с буддийской точки зрения высший смысл, частично апеллируя к тем этическим понятиям, которые являются общими для него и его собеседника, он постепенно приводит того к своему собственному выводу. …В этом методе есть и учтивость и достоинство. Но чтобы достичь желаемого результата требуется и искусство диалектики и умение легко оперировать этическими категориями. (The Dialogues of the Buddha. Vol.1, Pali Text Society, London 1899). 15 Избегая категорических и общих суждений о мире и о душе (авьякрита), Будда судит избирательно, исходя из строго прагматических критериев – полезности или вредности тех или иных знаний конкретному человеку в конкретной ситуации (характер «болезни» определяет характер «лекарства», или «противоядия»). Дхарма Будды, будучи истиной, открытой чисто интуитивно, в акте прозрения, останется лишь личным опытом её открывателя до тех пор, пока он не сможет объяснить её другим, причем, объяснить так, чтобы его поняли, т.е. прибегая к каким-то общезначимым «правилам игры», прежде всего к законам мышления и аргументации. Это значит, что то, что мы называем философией или логикой буддизма, – предназначено прежде всего для убеждения других. Отсюда, четкое различение в буддизме двух жанров литературы, которые я назвала «литературой для себя» (это прежде всего учебники медитации, матрики (списки дхарм), специальные вопросы и т.п.) и «литература для другого» (для внебуддийской аудитории), хотя существуют тексты «промежуточной ориентации», когда есть некая общая база (например, если речь идет о разных буддийских школах), но она содержит внутренние расхождения разной степени важности. Этому соответствует и буддийское деление между «внутренними дисциплинами знания» (адхьятмавидья) и остальными науками (бахьякашастрас), которые буддисты разделяли с другими школами индийской религиознофилософской мысли. Их обычно три или четыре: 1) хетувидья (логика и эпистемология, 2) грамматика (вьякарана), 3) медицина (чикитса) и 4) искусства и ремесла (шильпа). Меня здесь интересует, прежде всего, хетувидья. О том, что их трактаты направлены прежде всего для просвещения и убеждения других, не-буддистов, свидетельствуют крупнейшие буддийские логики и эпистемологии Дигнага и Дхармакирти. Так, Дигнага говорит о том, что его «Прамана-самуччая» имеет своей целью установление инструментов достоверного познания (прамана-сиддхи), что разъясняется в комментариях (Вритти), как «опровержение достоверности праман других», то есть оппонентов (парапрамана-пратишедха), и «выявление достоинств собственных праман» (свапраманагунодбхавана). Дхармакирти в начале первой главы «Прамана-винишчая» пишет: «Это наставление предпринято ради непросвещенных», а в конце мы читаем: «Касательно этого предмета (инструментов познания), некоторые заблуждаются сами (вимудха) и вводят в заблуждение людей». Прамана-вада или хету-видья неизменно характеризуются в буддийских текстах как вьявахарика – относящиеся к эмпирическому уровню реальности, условные, в отличие от высшей реальности (парамартхика). Интересно, что в этой первой главе Дхармакирти лишь один раз мельком упоминает знание, соответствующее высшей истине. 16 Карика 28: Познание, которое, подобно страху и т.п., благодаря силе медитации являет себя отчетливо (спаштам), не противоречит реальности (ависамвади) и свободно от мысленного конструирования (акальпака), есть инструмент достоверного познания (т.е. восприятие). Дхармакирти делит знание (праджня) на возникающее из размышления (чинтамайи) и возникающее из медитации (бхаванамайи). Именно, последнее является абсолютно истинным, первое – лишь условно. Действительно, можно рассуждать так, если единственным достоверным инструментом познания для буддистов является медитативное созерцание (бхавана) и именно через него и достигается высшая реальность, то зачем вообще заниматься философией и логикой? Некоторые буддологи разделяют точку зрения Ф.И. Щербатского, который считает, что буддийская логика не имеет прямого отношения к буддизму как религии. Если мы будем говорить о достижении нирваны, то, конечно, праманы могут нам помочь лишь на предварительных подступах к этой цели. Однако вспомним, что в махаяне роль и ценность другого по сравнению с тхеравадой неизменно возросла. Бодхисаттва вообще занимается лишь спасением других, а не собственной нирваной. Среди этих «других», как считают буддийские авторы, есть и ученые мужи, которые ищут истину, но в этих поисках попадают под влияние ложных концепций. Именно для них и пишут свои сочинения буддийские логики и эпистемологии. Означает ли это, что буддийские мыслители рассчитывают наставить сих мужей на путь истинный лишь силой логики, опровергающей ложные взгляды? Разумеется, нет, поздние авторы отмечают, что опровержение ложных взглядов важно для того, чтобы убрать препятствия к постижению буддийских доктрин, йога и медитация тоже необходимы, но, как мы увидим, для своеобразной «экспериментальной» верификации истин, установленных интеллектуально. Читаем в автокомментарии к 28 карике «Прамана-винишчаи» Дхармакирти: Также и йогины, познав предмет в результате устного наставления, и установив логичность (этого знания), предаются медитативному созерцанию, и когда оно достигает своей кульминации (нишпатти), то, что предстает со всей возможной ясностью и отчетливостью, например страх (у того человека, который сильно испуган), и будет непосредственным восприятием, лишенным примысливания (кальпана) и незаблуждающимся, инструментом достоверного познания, подобно переживанию благородных истин (Буддой), описанному нами в «Праманаварттике of valid cognition, like the direct experience of the noble truth [by the Buddha] described by us in the Pramā avārttika1. Буддийский принцип упая каушалья означает, что буддийское послание должно быть ситуативным, индивидуализированным. Каждый приходит к истине доступным ему путем: крестьянин – вращением барабана и поклонением 17 Буддам и Бодхисаттвам, монах – медитациями, ученый муж – рассуждением. Содержание буддийского послания определяется его адресатом, тем «другим», кому оно направлено. 1 See PV 2.147 – 280. Примечание *** Е.А. Островская, доктор социологических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Российские буддийские НГО: перспектива консенсуса Настоящее выступление посвящено трем аспектам функционирования буддизма в российском гражданском обществе: формированию нового социального феномена вероисповедной идентичности «российский буддист», выявлению противоречий и трудностей возрождения буддизма как одной из традиционных религий народов нашей страны и анализу перспектив консенсуса в среде буддийских НГО. Российская буддийская община как современный феномен вероисповедной идентичности начала формироваться в 1990-е гг., когда в повестку дня был эксплицитно включен вопрос о построении правового государства и общества в России. Именно в этот период был взят курс на возрождение традиционных религий и этнических верований народов России, разрешена миссионерская практика (в том числе и с зарубежным участием), введено правовое обеспечение деятельности религиозных объединений. Введенная политикоправовая парадигма функционирования религий в российском государстве и предопределила собой возникновение нового социального феномена вероисповедной идентичности − современной буддийской общины РФ. К настоящему моменту буддийская община РФ характеризуется следующими особенностями. • Во-первых, совпадением исторических границ канонических территорий (Бурятия, Калмыкия, Тува) с административно-территориальными границами соответствующих национальных автономий. • Во-вторых, продвижением буддизма на неканонические территории евразийского пространства страны, в частности, в российские мегаполисы. В Москве и Санкт-Петербурге развивают свою активность различные буддий18 ские религиозные объединения и группы: объединения и группы последователей традиции школы гелугпа, общины школы дзен Кван Ум, Дхарма-центры последователей школы Карма-кагью, Дзогчен-общины, буддийские центры Друзья Тибета, общины традиции Тхеравада, буддийские центры Римэ. • В-третьих, мультикультуральным и полиэтническим составом. Наряду с членами этносов, исторически исповедовавших буддизм, в состав современной буддийской общины РФ входят конвертиты (новообращенные буддисты) славянского, тюркского, угро-финского, еврейского происхождения. • В-четвертых, разнообразием социокультурных форм буддийского вероисповедания: наряду с традиционным для канонических территорий тибетским буддизмом в РФ укоренились вновь привнесенные буддийские традиции (японская, китайская, ланкийская, южнокорейская, вьетнамская и др.). • В-пятых, гетерогенностью организационных форм. В рамках современной буддийской общины РФ сосуществуют традиционные формы религиозных объединений (локальные общины на канонических территориях), религиозные объединения буддистов-конвертитов и религиозные группы, не подлежащие юридической регистрации. Вновь созданная демократическая политико-правовая парадигма функционирования религий в российском обществе способствовала оформлению нового социального феномена вероисповедной идентичности − «российский буддист». Добровольная вероисповедная самоидентификация гражданина в качестве буддиста служит одновременно необходимым и достаточным основанием для его практического причисления к современной буддийской общине России. Эта большая социальная группа развивает свою религиозную активность в третьем секторе общества − в независимых гражданских организациях (далее − НГО), неправительственных и некоммерческих. В терминах научного дискурса о гражданском обществе современная буддийская община России должна квалифицироваться как ассоциация на основе единства мировоззренческих ценностей. Вклад современной буддийской общины РФ в строительство гражданского общества состоит в открытом прокламировании религиозных ценностей и их социальном воспроизведении на базе добровольных неправительственных и некоммерческих гражданских организаций (НГО) и религиозных групп. Следует отметить, что фундаментальные буддийские ценностные доминанты − отвержение любых форм насилия, религиозная, этнокультурная, расовая, социальная, гендерная толерантность, миротворчество, неприятие любых форм деспотизма, стремление к согласованию религиозной и научной картины мира, признание за человеком права на свободу выбора − вполне сочетаются с ценностями гражданского общества. 19 Открытое прокламирование буддийских ценностей осуществляется российскими буддийскими НГО по трем направлениям: его адресатами выступают общество, государство и международное сообщество. Так, факт открытой самоидентификации индивида в качестве буддиста свидетельствует о характерном для современной буддийской общины РФ стремлении внедрить в жизнь закон о свободе совести и о религиозных объединениях как гражданскую позицию. Подчеркну, что российские буддисты и прежде, в советский период, пытались активно участвовать в демократизации духовной жизни, опираясь на закон о свободе совести, присутствовавший в конституции. Так, в конце 1960 − начале 1970-х гг. открыто заявила о себе община буддийского учителя Дандарона (1914-1974), в состав которой входили наряду с бурятами русские, белорусы, эстонцы, евреи, латыши и литовцы. Однако, несмотря на номинальное правовое обеспечение свободы совести, политические установки советского государства исключали открытое позиционирование буддийской идентичности со стороны граждан, не являющихся по своему этническому происхождению бурятами, калмыками или тувинцами. Община Дандарона была в 1972 г. разгромлена − против ее основателя было сфабриковано уголовное дело, а члены подверглись репрессивным общественным воздействиям с применением карательной психиатрии1. Российскому правовому государству адресуется сообщение о социальной бесконфликтности и толерантности буддийских религиозных ценностей, но вместе с тем и о готовности контролировать деятельность государственных структур в различных областях внутренней и внешней активности (духовная жизнь, экономика, образование, экологическая политика, реформирование вооруженных сил, коррекция позиции государства в сфере внешней политики). Международное сообщество ставится в известность о степени либерализации и демократизации религиозной жизни российского общества, о солидарности с базовыми ценностями доктрины гражданского общества, о готовности легитимно отстаивать права человека в РФ и за ее пределами. Социальное воспроизведение буддийских ценностей осуществляется в деятельности некоммерческих, неправительственных НГО и религиозных групп, функционирующих в третьем секторе российского гражданского общества и на международном уровне. Рассмотрим некоторые примеры. Так, Буддийская Традиционная Сангха России (БТСР) во главе с Пандито Хамбо-ламой Д.Б.Аюшеевым входит в состав Президентского Совета по вопросам религиозных организаций. Эта организация декларирует ценности этнокультурной толерантности, веротерпимости, стремление к расширению межрелигиозного диалога и сотрудничества. Д.Б. Аюшеев является также вице-президентом «Азиатской буддийской конференции за мир» и представляет российских буддистов в Межрелигиозном Совете России. Одним из важ20 нейших аспектов деятельности БТСР выступает практическое воплощение миротворческой позиции буддизма и поддержание открытого внутрироссийского и международного диалога религий по вопросам мира, прав человека, свободы совести и вероисповедания. Яркой иллюстрацией экологического направления деятельности буддийских НГО являются бурятские и калмыцкие объединения: религиозный центр «Ахалар», Объединение буддистов Калмыкии, Дхарма-центр Калмыкии. Возникшие в российских мегаполисах ячейки общества «Друзья Тибета» занимаются пропагандой религиозно-просветительской и миротворческой миссии Далай-ламы XIV в пространстве глобального мира, устраивают акции в поддержку тибетского этнического меньшинства в КНР и активно заявляют себя правозащитниками. Дхарма-центры последователей школы тибетского буддизма карма-кагьюпа объединяют молодежь в борьбе против наркотиков и любых форм насилия, включая международный терроризм. Отдельно следует отметить вклад женского буддийского движения. В 1990-х гг. бурятские буддистки-мирянки обратились к опыту своих монгольских сестер по вероисповеданию, которые приняли активное участие в деле создания женских монастырей. Кроме женских буддийских монастырей (дацанов) и монашеских общин, получили развитие различные гендерно ориентированные дхарма-центры и общины2, в которых культивируется равноправие полов в социорелигиозном аспекте. Бурятские монахини организовывали курсы по буддийской философии для всех желающих, а также способствовали приездам монгольских женщин-лам для участия в совместных ритуальных службах (хуралах). Усилиями бурятских монахинь и мирянок созданы НГО, неукоснительно проводящие в жизнь одну из центральных ценностных доминант буддизма − постулат равенства духовных возможностей женщин и мужчин. Кроме того, бурятские монахини и мирянки наладили тесное сотрудничество с международной организацией «Сакьядхита», нацеленной на практический аспект гендерного равноправия в национальных буддийских общинах − на создание равных возможностей для получения религиозного образования, для продвижения по вертикали социорелигиозных статусов, а также на укрепление положения женщины в социально-политической, хозяйственноэкономической, профессиональной и брачно-семейной сферах. Кроме того, женские буддийские НГО Бурятии занимают отчетливую миротворческую позицию как внутри страны, так и за ее пределами. Символическим выражением этой позиции явилось строительство ступы «Мир», возведенной на берегу озера Байкал благодаря активности насельниц бурятского женского дацана. Ступа была возведена как ответ на акты вандализма в Афганистане и терроризма в США. 21 Однако взятый в 1990-е гг. курс на религиозное возрождение оказался весьма проблематичным применительно к российскому буддизму. Общественность Бурятии, Калмыкии, Тувы с большим энтузиазмом включилась в этот процесс, полгая, что в гражданском обществе должна возродиться традиция, существовавшая до социализма. Но неучтенным оказался ряд немаловажных обстоятельств. Во-первых, Бурятия, Калмыкия, Тува вошли в состав Российской империи как инородческие территории, население которых исповедовало наряду с буддизмом автохтонные религиозные верования (анимистические культы). Функционирование буддийских социорелигиозных институтов регламентировалось имперским политико-правовым укладом. Носители буддизма рассматривались самодержавной политической властью как подданные империи − инородцы буддийского вероисповедания. Русская Православная Церковь квалифицировала это инородческое население в качестве миссионерского поля, хотя насильственная христианизация не практиковалась3. Во-вторых, воспроизведение буддийской модели общества4 осуществлялось в Российской империи в соответствии с традицией, воспринятой из Тибета: монастыри и духовенство материально обеспечивались за счет хозяйственноэкономической деятельности буддистов-мирян, территориально связанных с каждым из религиозных центров. Социально-экономические преобразования, осуществленные в советский период, исключали такой тип связи «мира» и духовенства. Большинство монастырей прекратили свое существование, а немногие функционирующие поддерживались добровольными пожертвованиями, не обусловленными типами хозяйственной деятельности. В-третьих, несмотря на то, что на канонических буддийских территориях России доминировала школа тибетского буддизма гелугпа, главой которой являлся Далай-лама (теократический правитель Тибета), имперская администрация поощряла господство местных буддийских иерархов, что являлось частью профилактики сепаратизма. Так, в каждом из регионов был местный глава школы гелугпа, а также существовали и другие школы тибетского буддизма5. Такой подход сохранился и в советское время, что выражалось, в частности, в создании Центрального Духовного Управления Буддистов (ЦДУБ). Попытки возродить систему буддийских социорелигиозных институтов (монашество, миряне, религиозное образование, реципрокальные отношения между «миром» и духовенством) по образцу, существовавшему в Российской империи, были заведомо обречены на неудачу в перспективе строительства гражданского общества и правового государства. Дело в том, что буддийская идентичность в Российской империи выступала разновидностью религиозной идентичности инородческих подданных, а не граждан. Для инородцев единственным каналом вертикальной социальной мобильности и влияния на деятельность государственных структур являлось принятие православия, официальной имперской религии. Политико-правовой уклад Российской 22 империи гарантировал инородцам-буддистам возможность воспроизведения религиозной модели общества в пределах их этнических территорий, где религиозную власть отправляли местные иерархи. В противовес этому в гражданском обществе и правовом государстве традиционные социорелигиозные отношения не детерминированы законом, поскольку вероисповедная идентичность является личным делом гражданина, осуществляющего свободный выбор в сфере духовной жизни. Соответственно государство не предоставляет политико-правовых гарантий воспроизведения той или иной религиозной модели общества, оно лишь гарантирует право граждан на создание добровольных религиозных организаций. В оправе гражданского общества буддизм предстал одной из религий, исповедуемых гражданами РФ по свободному волеизъявлению, и требовалось найти тот образец, в соответствии с которым буддийские социорелигиозные институты могли обрести второе дыхание. До сих пор не решена задача поиска постоянных легитимных в гражданском обществе источников финансирования монастырей и религиозных образовательных центров. Не определились и способы пополнения численности монашества и активизации миссионерско-проповеднической деятельности. И все же главная проблема состоит, на мой взгляд, в недостатке демократизации, чтобы принять иноэтническую конвертацию в буддизм как закономерное для мировой религии явление. Рефлексия об этих проблемах, надеюсь, будет развита на круглых столах в процессе настоящей конференции. Примечания Подробнее о жизненном пути, учении и общине Б.Дандарона см.: Монтлевич В.М. Дандарон Б.Д. Избранные статьи. Черная тетрадь. Материалы к биографии. История Кукунора, Сумпа Кенпо. СПб.: 2006. 2 См.: Бальжитова О.М. Положение женщины в буддизме Индии, Монголии и Бурятии. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук. Чита, 2007. На правах рукописи. 3 См.: Ермакова Т.В. Буддийский мир глазами российских исследователей XIX − первой трети XX века. СПБ.:1998, С. 66-68. 4 О буддийской модели общества, ее формировании и формах институционализации в Тибете см: Е.А.Островская-мл. Религиозная модель общества. Социологические аспекты институционализации традиционных религиозных идеологий. СПб., 2005. 5 См., например: Бакаева Э.П. Буддизм в Калмыкии. Элиста: 1994, С. 15; Жуковская Н.Л. Возрождение буддизма в Бурятии: Проблемы и перспективы. М.: 1997, С.6. 1 *** 23 А.В. Дьяков, доктор философских наук, профессор Курского госуниверситета Буддизм и постструктурализм: видéние нон-модерного мира Поскольку мне выпала честь обращаться к аудитории, заведомо знающей тонкости буддистской философии куда лучше меня, я буду осторожен в своих суждениях. Философская компаративистика, к жанру которой относится то, что я намерен сказать, вообще требует крайней осторожности, чтобы не превратиться в область натяжек и произвольных сравнений. Так что речь я поведу лишь о том, что мне хорошо знакомо – о той области, исследованием которой я занимаюсь и где я меньше всего рискую попасть впросак. Эта область – французский постструктурализм, который пережил свой расцвет в 60-70-е годы ушедшего века, но который до сих пор не был вытеснен новым мощным интеллектуальным движением. Вместе с тем, постструктурализм едва ли можно назвать философией сегодняшнего дня – он стал отражением другой эпохи с совсем иными социально-политическими и культурными реалиями. В конце концов, он был выражением постмодерна как глобальной программы западной культуры, пришедшей на смену проекту модерна. Так что начать придётся издалека. Но ведь и уйти мы хотим дальше дня сегодняшнего, попытавшись приподнять завесу будущего и не увидеть, но, скорее провидеть то, что может ожидать нас в неком виртуальном (а оно с необходимостью виртуально, т.е. вероятностно) завтра. Другими словами, увидеть нон-модерный мир, очертания которого пока ещё весьма расплывчаты. Так что, если моя речь и будет носить несколько фантастический характер, то виной тому жанр футурологии, который только и позволяет вообразить картины будущего. Европейский проект модерна/современности был связан с идеологией Просвещения. Вопрос о современности в этом проекте представляет собой вопрошание об истории без прибегания к телеологизму. Как писал в статье о Канте М. Фуко, история проблематизируется в той точке, где время не равняется на своё прошлое, но выпытывает своё прошлое у настоящего. «Не вынуждена ли любая современность видеть и истолковывать прошлое всякий раз из своего горизонта?» – риторически вопрошал М. Хайдеггер1. С вопроса о современности начинается сама современность, это «порог нашей современности»2, о котором Фуко говорит в «Словах и вещах». Этот проект тотальной рациональности означает решение не доверяться ничему, кроме собственного разума. Вместе с тем, это значит исследовать границы собственной свободы и 24 обрести власть над собой. Рациональное инвестирование человечества есть тот порог, с которого начинается антропология, но также тоталитаризм во всех его проявлениях. Однако в XX в., после ужасов мировых войн и опыта геноцида, западное человечество почувствовало настоятельную потребность освободиться от рациональности и её главного детища – антропологии. Примо Леви выразил это стремление в концентрированной формуле: «стыдно быть человеком». Разумеется, Леви тоже не ускользнул от горизонта своей современности. Но горизонт-то как раз и был таков, что позволял выносить суждения, касающиеся разом и социально-исторической реальности, и антропологического проекта гуманитарных наук. Постмодерн представлял собой ниспровержение и преодоление модернистского проекта. Однако такое преодоление приводит ко всё новым постпост-пост… модернам. Конструктивное же содержание постмодернистской теоретической мысли, именуемой постструктурализмом, сводится к идее нон-модерна. Позволю себе процитировать Брюно Латур, у которого я нашёл выражение «нон-модерн»: «Мы не вступаем в новую эру, мы больше не продолжаем панического бегства пост-пост-постмодернистов; мы не цепляемся больше за авангард авангарда; мы больше не пытаемся быть ещё хитрее, ещё критичнее, положить начало ещё одному этапу эры подозрения. Нет, напротив, мы замечаем, что так никогда и не начали вступать в эру Нового времени. Это ретроспективное отношение, которое разворачивает, вместо того чтобы демаскировать, которое приращивает, вместо того чтобы разоблачать, сортирует, вместо того чтобы негодовать, я характеризую выражением “nonmoderne”, ненововременность (или “amoderne” – анововременность)»3. Обращение к до-модерности не сулит успеха: западный пре-модерн уже несёт в себе все зачатки модерна – христианство с его этическим дуализмом и миссионерским универсализмом, присущую даже мистицизму рациональность и тотальный контроль. Так что, не будь на свете модерна, западному человечеству пришлось бы выдумать его. В силу этого наученные эпистемологическим опытом мыслители обращаются к идее нон-модерна. В силу изложенных соображений нон-модерн не может быть очередным рациональным или иррациональным проектом, но должен обнаружиться как реальность за пределами реальности нововременного европейского мира. Западных мыслителей издавна привлекала эта реальность Другого. Но Другой Другому рознь. Искомый нон-модерн не обнаруживается во всей своей чистоте ни в иудаистическом, ни в исламском мире, генетически родственных тому, из утробы которого появился западный модерн. Не обнаруживается он и в многочисленных образах «естественного» человека – также изобрете25 ния западной рациональности. Поэтому наиболее пристально взыскующий нон-модерности мир начинает всматриваться в буддийскую цивилизацию. В буддизме Запад находит новую онтологию, не повенчанную с метафизикой и рационализмом, новые для себя гносеологические подходы и процедуры, совершенно не сходную с укрепившейся на Западе после Декарта теорию субъекта, ни с чем не сравнимую эстетику и убедительную этику ненасилия. Речь о спорадическом обращении философов-постструктуралистов к буддийской философии и культуре по необходимости носит экземплярный характер. Но экземпляры таковы, что позволяют утверждать неслучайный характер постструктуралистской тяги к буддизму и, поскольку все, что говорили эти люди, совершенно серьезно, делать далекоидущие выводы. Я коснусь лишь самых известных имен и самых известных концептов, так что, боюсь, это может показаться трюизмами. Однако тем самым мне удастся избежать гипостазирования частностей. Мишель Фуко, обучавшийся медитации в Киото, говорил, что, в то время как христианство стремится к очищению души, которое позволяет приблизиться к истине, в буддизме просветление обнаруживает истину человека, а истина его в том, что «Я» – всего лишь иллюзия4. Раскрытие этой тайны совпало с его заявлением о «смерти субъекта». Но, если смерть западного субъекта носила эпистемологический характер, в буддизме он обнаружил смерть онтологическую. Конечно, Фуко был склонен обнаруживать в буддизме техники «заботы о себе», сходные с применяемыми в западной культуре, однако учение о пустотности субъекта позволяла ускользнуть от техник контроля и подавления. Ролан Барт нашёл в буддизме то прерывание дискурса, к которому всегда стремился в своих текстах, – прерывание, в котором происходит мгновенное обращение к миру «как он есть», непочтительности к общепринятым дискурсам и её оправдание. Как заметил М. Мориарти, «литературный эквивалент буддийского аскета – структуралист, стремящийся редуцировать сложность литературного ландшафта к формулам малым и твёрдым, подобно бобу»5. Обращение к буддизму стало для Барта движением от критики к таковости, от сартровской ответственности к пребыванию tel quel. А его ученица Юлия Кристева отмечает, что современное уничтожение субъекта, при котором место знака занимает столкновение ничтожащих друг друга означающих, совпадает с негативностью шуньявады. Жиль Делёз находит в буддизме сходную со своей собственной философию поверхности, утверждая, что первыми излучаемые случайным элементом события обнаружили стоики, а чуть позже – дзен-буддисты. Мир для него – чистая игра различий, мыслимых как поверхностные эффекты, тогда как любая глубина пустотна. Было бы явным преувеличением считать Делёза буддистом, 26 однако можно заметить явное созвучие его представления о поверхностном скольжении смысла с концептом дхарм в ранних школах буддизма. Делёз, как и буддисты мадхьямики, отказывается от метафизики глубины ради анализа поверхностных смыслов сансары. Более того, в этом поверхностном скольжении, в этом номадизме Делёз обнаруживает радикальное средство от тоталитаризма оседлости и укоренённости. Жак Лакан сравнивал свой психоанализ с буддийскими психотехниками, позволяющими осуществить раскрытие субъекта и не грозящими ему отчуждением. В центре субъекта он обнаруживал пустоту – ту пустоту, которую увидел в природе вещей Будда. А его ученик и сотрудник Делёза Феликс Гваттари утверждал, что буддизм делает возможными и порождает гибкие модели субъективации. Наконец, Жан Бодрийяр обнаруживает в западной культуре второй половины XX в. существенные признаки культуры буддистской. Его концепт симулякра можно назвать структурным субститутом учения мадхьямики о пустоте. А его великолепные тексты можно счесть иллюстрациями к учению о коллективных кармических проекциях, описанных Васубандху. Но что нам это даёт? Конечно, черты сходства налицо. Конечно, можно (и нужно) констатировать небывалую актуальность буддизма для западной культуры, чего она, западная культура, и не пытается отрицать. Однако не стоит впадать в преувеличение и, с одной стороны, заявлять, что последняя мощная интеллектуальная волна на Западе, т.е. постструктурализм, была сознательно буддийской, а с другой – утверждать, что нас ожидает буддийский нон-модерн в качестве универсального проекта пост-глобального мира. Скорее, стоит наметить общие черты того нон-модерна, который западные интеллектуалы имплицитно прозревают из дня вчерашнего и приход которого готовили постструктуралисты. Перед нами предстанет не-утопическая, а вернее, а-топическая утопия. Картина нон-модерного мира – это бессубстанциональный хаос, все события которого носят виртуальный характер, игра пустых видимостей-симулякров, покрывало майи, которое разглядел уже Шопенгауэр. А все бифуркации этих событий не имеют телеологической детерминации и носят кармический характер. Нон-модерный мир при этом лишён дурной кармы, созданной модерном, и является «чистой землёй», где не развиваются кармические привязанности, создаваемые утопическими рациональными проектами. Таким образом, нонмодерн больше не будет порождать новых модернов. Нон-модерн не только а-топичен, но и а-хроничен, поскольку его время неисторично. Историческое время, бывшее сердцем и сущностью модерна, кончилось вместе с этим последним. Теперь для него нет места. А для 27 разворачивания векторного модерного пространства не находится исторического времени. Больше нет векторов, есть лишь сингулярные точки, не оставляющие возможности для категорий центра или окраины. Это пространство номадизма, кочующее вместе с номадами и меняющееся в зависимости от бесчисленных форм их субъективации. Бесчисленных, быть может, в том отношении, что с категорией натурального числа также придётся расстаться. Трансцендентальный субъект и его аватары должны будут уступить место множественным формам субъективации, как в медитации ламрим. О почившем авторе не останется и памяти (можно ли вообразить себе столь нелепую вещь, как авторское право в отношении мантры?). А «смерть субъекта», о которой мы уже так много слышали, дает возможность для существования множества сингулярных субъектов, не зависящих от универсальных лекал субъективации. Морок трансцендентального субъекта, этого демона Мары, больше никого не соблазнит. Этот фантастический мир иллюзорен. Впрочем, чего ж еще ждать от сансары? Именно категория сансары и дает возможность говорить о нем так, как это делаю я. Но не менее иллюзорен модерный, постмодерный и какой угодно пост-пост-модерный мир. Коллективная кармическая проекция может принимать любую, самую невероятную форму, ибо все формы вероятностны – виртуальны. Образ нон-модерного мира, соткавшийся в сознании постструктуралистов, сегодня становится все менее невероятным. А его трансисторической гарантией служит буддийский образ мира, всматриваясь в который, постмодерное человечество может прозреть нон-модерный мир. Примечания Хайдеггер М. Европейский нигилизм / Время и бытие: Статьи и выступления. Пер. В.В. Бибихина. М., 1993. С. 103. 2 Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. Пер. В.П. Визгина и Н.С. Автономовой. СПб.: «A-cad», 1994. С. 35. 3 Латур Б. Нового времени не было. С. 115. 4 Foucault M., Sennett R. Sexuality and Solitude // London Review of Books. 1981. 21 May — 3 June. P. 5. 5 Moriarty M. Roland Barthes. Cambridge: Polity Press, 1991. P. 117. 1 *** 28 М.П. Биткеев, кандидат философских наук, доцент Калмыцкого госуниверситета Эссе: размышления о феноменологии и онтологии я и не-я в буддизме в диалоге с гегелевским пониманием сущности В данной работе я постараюсь изложить свою методологию реконструирования диалога между буддийской философией и гегелевским учением о сущности, которое в процессе становления моей буддийской феноменологии сыграло одну из ключевых ролей. Независимо от того, делаем ли мы сущность тех или иных явлений предметом рефлексии или нет, наше двойственное сознание1 бессознательно интроецирует ее как во внешний, так и во внутренний мир. В силу проецирующей и интроецирующей деятельности этого самого двойственного сознания, а точнее бессознательного (если пользоваться терминологией психологии) есть некая субстанциальная, самотождественная сущность у я и не-я. Эта трансцендентальная форма является основой для привязанности, ненависти, ревности, зависти, гордыни и т.д. Иначе говоря, из-за двойственного сознания мы вовне и внутри себя преднаходим то, что сами же и создали, сконструировали, правда, бессознательно, не ведая того. Но тогда возникает вопрос: как же на самом деле существуют я и не-я, т.е. все феномены, какова скрытая за ними ноуменальная сущность? В буддизме говорится о Пустотности и взаимозависимости. Это две стороны одной сущности. При этом конечной является Пустотность, в коей (на Абсолютном уровне) нет различений, нет двойственности. Сюда мы относим Чистое сознание2. На Относительном уровне можно выделить двойственную трансцендентальную сущность, которая при полаганиях на эмпирические уровни принимает конкретные содержания, конфигурации. Начнем рассмотрение с обычного, профанного мировосприятия. На поверхности явления мы фиксируем внутренним чувством, ментальным сознанием лишь одну сторону существования. В себе самом каждый также может обнаружить в феноменальной данности, т.е. временном проявлении лишь одну сторону. Если проявилось одно состояние, то исключается другое – его исключающее. И если мы феноменальную проявленность двойственности принимаем за сущность, то вместо взаимозависимой и противоречивой реальности получаем обособленные единицы, производные от бессознательно воспроизводящейся в нашем интерсубъективном мире концепции самосущего бытия. Конечно, так называемый здравый смысл уведомляет нас в том, что либо А, либо не-А. Под этим утверждением подпишутся и представи29 тели аналитической философии, отвергающие с порога постмодернистскую деконструкцию. Оговоримся, на уровне явления эта концептуальность обоснована. И все будет как будто бы правильно, если мы не сведем сущность к одной из сторон ее проявленности. А именно к этому нас склоняет феноменальная форма конституирования, положенная двойственным сознанием. Рассмотрим на примере. Если человек сейчас добр в силу определенных благоприятных внешних условий и внутренних причин, то исчезает ли в его потоке сознания (имеется в виду не только наличное состояние) негативная сторона? И, наоборот, исчезают ли вовсе позитивные стороны в случае, когда при неблагоприятных условиях берут верх негативные факторы? Очевидно, что нет. Другой вопрос: есть люди, в чьих потоках сознаний, психофизических совокупностей доминируют преимущественно позитивные или негативные факторы. Здесь мы уже подошли к тому пункту, который стал предметом дискуссий между Сватантрикой-Мадхьямикой и Прасангикой-Мадхьямикой. Первые считают, что есть «качества со стороны объектов», а вторые относят предикаты «добрый», «злой» и т.д. к взаимодействиям, к взаимозависимому происхождению, указывая на то, что все взаимообусловленно и находится в процессе трансцендирующего причинно-следственного становления. Конечно, есть различие между позитивом и негативом, между положительным эго и отрицательной тенью (если пользоваться юнгианскими терминами), между плохим и хорошим человеком. Но в то же время эти качества, как было сказано выше, не являются статичными, на уровне двойственного сознания они зависят от причин и условий, от обусловленных оснований. Поэтому и недоброжелательный по отношению ко многим человек может испытывать очень добрые чувства к другим. Также и, казалось бы, добрый индивид способен быть несправедливо, необоснованно нетерпим и злобен к отдельно взятой личности. Такое же проявление может иметь место и на уровне отдельного бессознательного временного состояния. Согласно буддизму, здесь работает карма. Те, «кто»3 совершил соответственно доброжелательные или недоброжелательные деяния по отношению к данному субъекту, будут при созревании кармы4 сталкиваться с идентичными следствиями. Т.е. причинение страданий влечет за собой карму претерпевания страданий, благие деяния, нацеленные на принесение другим счастья, ведут к благоприятным, счастливым уделам. Глядя на свою жизнь, каждый человек может обнаружить проявления и тех, и других кармических семян (васан). Но констатировать наличие обеих противоречивых сторон в основании двойственного сознания – недостаточно. Хотя это одно из первых условий преодоления паракальпиты, т.е. концептуализации обыденного, сансарного мировосприятия. Как говорил великий Нагарджуна – основатель философии Прасангики-Мадхьямики, тот, кто отрицает 30 двойственность, тот на самом деле ее утверждает. Следующим шагом исследуем рефлективную природу обеих сторон сущности. В каждом утверждении есть и отрицание. Когда человек придерживается позитивных моральных принципов на относительном уровне, то при этом он либо не приемлет, либо даже испытывает отвращение к тем или иным негативным феноменам. В зависимости от того, что именно и как именно отрицается, само утверждение будет иметь различное внутреннее содержание, несмотря на внешнюю архетипическую идентичность с, казалось бы, сходными проявлениями в других потоках сознания. Наконец, ведущее отношение сущности – а именно оно определяет сущность на данном этапе, – нуждается в условиях своего предполагания. Так сущность выходит в существование. Конечно, в человеке присутствует не одна эмпирическая сущность, их множество, как и архетипических пар образов, с которыми бессознательная психика отождествляется. На уровне двойственности большую роль играют чувства приятного и неприятного (выделяется еще и нейтральное чувство). Например, когда вступает в силу при определенных условиях та или иная карма, то в уме проявляются соответствующие архетипические образы я и не-я. Например, когда проявляется негативная карма, то в силу того, что синтез в известном смысле предшествует по форме содержаниям, в эмпирическом ментальном сознании появляется из причинного ума образ, вызывающий притяжение или отталкивание. Алая-Виджняна5 есть развертывающийся под действием цепляния клиштаманаса6 поток феноменов. На мой взгляд, архетипы, будучи неверно восприняты как обособленные феномены, являются основой сансарных, омраченных деяний. Но, будучи осознаны и пережиты в потоке сознания, как взаимозависимые и единые в одном основании, становятся фактором постижения взаимозависимости. Например, на уровне паракальпиты (самосущего существования) образы победителя и побежденного кажутся онтологическими, вызывая в одном случае у омраченного двойственного восприятия восхищение и снисходительную жалость. А вот паратантра, т.е. постижение трансцендентальной взаимозависимости говорит о том, что эти образы не только рефлективны, как образы господина и раба у Гегеля, но и кармически взаимосменяемы. Происходит смена ролей. Таким образом, архетипы не являются выражением нашей подлинной сущности. В Махамудре также есть практика освобождения от всех кармических образов-отождествлений, которые мы в силу тончайшего неведения принимаем за наши я и чужие не-я. В Чистом сознании, свободном от двойственности, нет такого рода концептуализаций, есть чистое сознавание, чистые чувства, свободные от эго, от клеш сознания. Когда в непосредственном переживании преодолевается двойственность, то постигается Таковость как ее недвойственная основа. 31 Чтобы правильно понять чувственные явления, т.е. феномены, надо реконструировать стоящую за ними взаимозависимую сущность, о которой преимущественно шла речь, и осознать ее нераздельное единство с абсолютной, т.е. Пустотностью. Таким образом, феномены становятся препятствием к пути Просветления, если в них интроецируется неверная сущность, но они же станут факторами прозрения, если реконструировать верно их ноуменальную сущность. Тогда любое событие становится условием тонких прозрений. Примечания Аналог кантианского трансцендентального единства апперцепций и, как считал Фихте, Абсолютного Я (в то время как Шеллинг проводил между ними различие). 2 В нем согласно буддийскому Учению нет двойственности, нет омрачений. Его природа – ясность, недискурсивное, непосредственное созерцание природы всех явлений. Приоритет такого знания Кант отдавал лишь Богу, а не человеческому роду. 3 Речь идет о кармических предшественниках в прошлых жизнях 4 Созревание – это когда причина встречается с условиями для своего проявления. 5 Название причинного сознания согласно классификации Читтаматры. Также она называется «сознание-сокровищница», или контейнер, содержащий в себе кармические семена из прошлых существований, и в коем откладываются плоды нынешних деяний. 6 Трансцендентальная основа эго, актуальное раздвоение. А вот АлаяВиджняна всего лишь потенциально содержит в себе двойственность. Различение на я и не-я, приятное и неприятное и т.д. начинается именно с клиштаманаса. 1 *** Л.П. Пендюрина, кандидат философских наук, доцент кафедры истории философии Южного федерального университета МИСТИЧЕСКИЙ ОПЫТ В БУДДИЗМЕ: ПРОБЛЕМА УНИВЕРСАЛЬНОСТИ И РАЗЛИЧИЯ Начало XXI века характеризуется очередным всплеском интереса к мистицизму. Причины этого различны, и часто сводятся не к одному фактору, а к целому ряду совокупности процессов, происходящих в обществе, а также к кризису сознания, возникшему в результате этих процессов. И если в тече32 ние долгого времени в отечественной философской литературе мистицизм в целом признавался псевдонаучным феноменом, разоблачение которого вменялось всей материалистической науке, то в настоящее время происходит переосмысление данного явления. Это в свою очередь требует обращения к тем религиозно-философским системам, в которых мистицизм и мистические практики составляют их сущность, в частности к буддизму, и выяснения того, насколько универсален мистический опыт буддизма и насколько он сравним с опытом других конфессий. Анализ указанной проблемы требует уточнения самого понятия мистицизма. Мы исходим из определения сделанного Идрисом Шахом. Под мистицизмом он понимает «умонастроение человека, определяющего собственное бытие не в координатах только нашего четырехмерного мира, но и в иерархии духовной структуры мироздания в целом»1. Это мировоззрение человека, уверенного в развитии своей духовной сущности и ее эволюции, направляемой развивающимся сознанием. В этом смысле буддизм является мистическим учением, так как он ориентирует своих последователей на личный не опосредованный трансцендентный опыт. Мистицизм буддизма невозможно понять без базовых идей, которые Е.А. Торчинов называет «основами учения буддизма». К ним относят следующие идеи: Четыре Благородные Истины, учение о причинно-зависимом происхождении и карме, доктрины анатмавады («не-души») и кшаникавады (учение о мгновенности) и также доктрина буддийской космологии. Что касается методики достижения цели любого буддиста – просветления – то она варьируется в разных философских направлениях и сектах буддизма, и собственно служит причиной разделения буддизма на различные течения. Все разнообразие буддийских методов располагается между двумя полюсами: практикой традиционной Хинаяны, с одной стороны, и практикой секты дзэн махаянистского буддизма, с другой. В Хинаяне просветление достигается в результате настойчивых усилий и строжайшего самоконтроля ищущего, который должен отказаться от всех прочих дел и стремиться только к достижению этого идеала. Сторонники Махаяны считают, что Будда обучал этому лишь как упайе, «искусному методу», с помощью которого ученик мог ясно убедиться на собственном опыте в абсурдности такого порочного круга – когда желаешь не желать или пытаешься избавиться от эгоизма, полагаясь только на свое эго. Философская база дзэнбуддизма не обладает какими-либо уникальными или исключительными положениями, не включенными в полный буддизм Махаяны. Различие состоит в нетрадиционном стиле и необычных формах выражения, принятых в дзэнбуддизме. В отличие от Хинаяны и Махаяны, где просветление предстает далекой целью, достижимой лишь после многих воплощений, наполненных 33 терпеливыми, практически сверхчеловеческими усилиями, в дзэн просветление предстает как мгновенный процесс интуитивного прозрения действительности – сатори. Этот мистический акт «вспышки интуиции» дзэн-буддизм описывает, как правило, в психологической терминологии. В целом буддийский мистицизм практичен и психологичен, а дзэн имеет еще более прикладную направленность, так как без мистического опыта невозможно пережить глубочайшую суть ума – невещественную Пустоту. О просветлении в буддизме нельзя говорить как о слиянии души с Богом, так как в буддизме нет понятия Бога и души как каких-то неизменных субстанций. В просветлении достигается нирвана. Тут Будда оказывается прямым предшественником Л. Витгенштейна, так как никогда не дает прямого ответа на вопрос: что такое нирвана? Ибо «о чем нельзя говорить, о том следует молчать». Единственное, на что можно указать, когда мы говорим о нирване, что это состояние абсолютно трансцендентное нашему сансарическому опыту. И любая ментальная конструкция уведет нас от него. Кроме того, буддизму свойственна следующая характерная черта: трансцендентный факт просветления совпадает с так называемым полным раскрытием «внутреннего» ума, сущность которого – озаряющая пустота. Просветление – есть достижение состояния Будды, и в тоже время «природа Будды», оно уже изначально присутствует в каждом живом существе, имманентно ему, то есть в акте Просветления происходит обнаружение совпадения трансцендентного и имманентного. Мистические практики или «духовные упражнения» использует не только буддизм. Изменения в сознании и природе человека, к которым приводят «духовные упражнения» присутствуют и христианстве, и исламе. Мистицизм христианского мира испытал влияние идей неоплатонизма и гностицизма. Поэтому западный христианский мистицизм избрал умозрительно-спекулятивный путь, заключающийся в попытках доказать и связать с религиозной жизнью традиционные богословские догмы, что превратило его, по сути, в мистическое богословие. Для восточного христианства характерно внимание не только к умозрительному, но и к практическому аспекту мистицизма. Здесь разрабатывались практические мистические упражнения и техники, ведущие к единению человека с Богом («умное делание»). Православная церковь делает различие между «божественной энергией» и «божественной субстанцией». Таким образом, онтологическое единство с Богом возможно, но личность, душа не растворяются в нём, а в акте синергии достигается энергийное единство. Я остаётся как Сверх-Я. Суть исламского мистицизма, как и всего исламского вероучения, выражается в необходимости постижения в собственном трансцендентном опыте той истины, что «нет Бога кроме Аллаха», и что только один Бог может быть 34 объектом поклонения. Цель же исламского мистицизма – это достижение индивидуального спасения путём абсолютного слияния с Богом (таухид). Суфии стремились к «уничтожению, исчезновению в Боге» (фана), что одновременно означало и «вечную жизнь, непрерывность в Боге» (бака). При этом необходимо отметить, что продвижение по мистическому пути начинается с исполнения предписаний мусульманского закона шариата. А все состояния на этом пути нельзя считать автоматически обретёнными, и вместе с конечной целью, слиянием с Богом, они считаются исключительно Божьим даром. К характерным чертам суфизма можно отнести непререкаемый авторитет личного наставника – шейха, и убеждение, что подлинный гносис, то есть познание Единого, обретается не через книги, а путем полного подчинения учителю. Определение позиций мистицизма в мировых религиях позволяет сделать вывод, что целью мистиков является единение с Абсолютом. Но как это выражается в понятиях их собственных традиций? В буддизме это достижение нирваны, то есть выход из круговращения рождения-и-смерти, просветление, обнаружение в себе природы Будды. В христианстве это «обожение», уподобление Богу: растворение души невозможно, но возможно достижение в акте синергии энергийного единства. В исламском мистицизме цель – полное слияние с Богом, одновременное уничтожение – фана и пребывание, новая жизнь в Боге – бака. Возникает следующий вопрос: о тождественности концепции фана, нирваны, энергийного единства. На наш взгляд говорить об их тождественности некорректно, так как эти концепции базируются на разных мировоззренческих основаниях, укоренённых в культуре, религии, традициях. Фана, как и энергийное единство не есть освобождение от мучительного круга существования, поскольку в исламе и христианстве отсутствует идея кармы и перерождения и признается реальность индивидуальной души. Просветление – не единение души с Богом либо уничтожение в Нём, так как нечему соединяться не с чем: в буддизме нет представлений ни о вечной душе, ни о едином Творце. Единение души с Богом в христианстве не означает уничтожение в ней, как в исламе. Так можно ли мыслить мистический опыт, как нечто универсальное? Нельзя, если стоять на позициях непоколебимости догматов каждой конфессии и несводимости их к какому-либо общему знаменателю. И все-таки можно, если перенести вопрос в плоскость психологическую. Ведь все эти факты имеют общее свойство – они трансцендентны обычному состоянию сознания человека. То есть в них имеет место изменение сознания. И это подтверждает мистическая практика, которая представляет собой психофизические упражнения – специальные практические приемы, ведущие к мистическим состояниям, иначе – состояниям изменённого сознания. 35 Таким образом, мистицизм есть определенный род духовно-практической деятельности, характеризующийся убеждённостью в существовании трансцендентного начала, и предполагающий возможность непосредственного общения с ним. Мы намеренно анализировали не спекулятивно-умозрительное мистическое богословие, а мистицизм в совокупности с практической составляющей, хотя граница между и ними зыбка. Это естественно, так как мистические учения опираются на мистическую практику, а занятие последней требует своего объяснения в тех или иных мистических теориях. Для практического же мистицизма характерно понимание приоритета реального психотехнического опыта по отношению к его вербальному и понятийному выражению и описанию, то есть практики перед её интерпретациями. Но именно не на уровне мистического опыта, а на уровне его выражения часто и пролегают расхождения в различных культурах. 1 Примечание Шах И. Суфизм. М., 1994. С. 15. *** М.Д. Зомонов, доктор философских наук, профессор кафедры культурологии Восточно-Сибирской академии культуры и искусств О специализированной культуре буддизма в Российской Федерации: краткий дискурс и рефлексия Известно, что морфологией культуры считается учение о внутренней структуре культуры и ее организационно-функциональном строении, что теоретики культурологии разрабатывают ряд концепций, которые делят культуру по разным основаниям. Так, культуролог А.Я.Флиер структурирует культуру на обыденную и специализированную, полагая, что основные функции человеческой жизнедеятельности возникали в недрах обыденной культуры, что со временем выделялись в специализированные профессии, освоение которых невозможно без специального профессионального образования, на чём строится специализированная культура. Он выделяет четыре блока осуществления человеческой жизнедеятельности, представленные следующими областями социальной практики: 36 1. Культура социальной организации и регуляции; 2. Культура познания рефлексии мира, человека и межчеловеческих отношений; 3. Культура социальной коммуникации, накопления, хранения и трансляции информации; 4. Культура физической и психической репродукции, реабилитации и рекреации человека [1]. Согласно названию нашей статьи, в русле изучения буддизма вкратце рассмотрим второй блок культуры познания и рефлексии мира, человека и межчеловеческих отношений. Очевидно, морфология культуры буддизма прослеживается на её обыденном и специализированном уровнях. Следовательно, рядовые верующие – носители обыденной буддийской культуры, а ламы (священники) – специализированной. Более того, культура буддизма охватывает все четыре блока жизнедеятельности человека, потому что структура буддизма можно выделить материальную и духовную форму культуры, а также социальную культуру и культуру личности. Специализированная культура буддизма географически распространялась в северном векторе образованными ламами по схеме «Индия – Тибет – Монголия – Россия», приобретая синкретический характер и смысл в процессе аккультурации. Носителями этой культуры последовательно становились индус, тибетец, китаец, монгол, россиян (бурят, тувинец, калмык и др.), и они учились друг у друга по принципу «учитель-ученик» и наоборот. Так, буряты были учениками тибетских и монгольских лам, а позже некоторые из них их учителями (Агван Доржиев, Лыгден Аржигаров и др). В постсоветскую эпоху в нашей стране создались благоприятные условия для прививания буддийской культуры среди её населения: на специализированном уровне работают как российские, так и зарубежные ламы, имея институты, центры, дацаны, дуганы в различных регионах Российской Федерации. В этой связи хотелось бы особо отметить деятельность зарубежных буддистов, особенно тибетских, под руководством Его Святейшества ДалайЛамы ХIV, Тензина Гьяцо. По его мнению, в России начинается эпоха возрождения духовных традиций, и созданы условия для знакомства людей с буддийской культурой, с Дхармой. Благодаря его деятельности российские студенты учатся в Индии; в свою очередь, Его Святейшество учредил в Москве Центр тибетской культуры и информации и направил для работы в этом центре своего духовного представителя, ученика Джампа Тинлея, геше-ла, выпускника Центральной школы для детей тибетских беженцев, затем Центрального Тибетского института в Сарнатхе, где выпускники владеют санскритом, хинди и английским языком, где в 1985 г. Вангчен Тинлей получил 37 степень «шастри» (бакалавра) буддийской философии, а в 1987 г. он принял обеты монаха-гелонга и получил духовное имя Джампа Тинлея, что означает «деятельная любовь», позже он занимался медитацией под руководством Далай-Ламы и Пано Римпоче – тайного йогина, передавшего геше-ла учение о Бодхичитте. Его же учителем был геше Намгьял Ванчен, буддийский философ, знаток доктрины Пустоты, лама из дацана Лоселинг. Учителями геше Тинлея также были другие, самые выдающиеся буддийские ламы современности. С 1993 г. начиналась непрерывная деятельность геше Джампа Тинлея в России. По Джампа Тинлею возрождение монастырского образования, создания Дхарм-центров для обучения светских людей буддийской философии и медитации и организации преподавания буддийской философии в ВУЗах являются главными направлениями возрождения и распространения буддизма в России. В Москве, Элисте, Новосибирске, Иркутске, Томске, Красноярске, Уфе, Улан-Удэ и в других городах им созданы Дхарма-центры под названиями «Арья-Баала», «Московский центр Ламы Цонкапы», «Зёленая Тара», «Майтрейя», «Атиша», «Сарасвати», «Ченрези», «Ваджрапани», «Чакрасамвара», «Манджушри», «Тушита» и др, а также община «Буяны уилс» в Монголии, где он даёт представление о тантре, объясняет понимание сущности тантрического посвящения. На специализированном уровне геше Тинлеем систематически читаются лекции-ретриты по многим видам и формам культуры буддизма в различных аудиториях Российской Федерации; им же опубликованы авторские работы по буддизму на русском, бурятском, калмыцком и тувинском языках; о нём же имеются множество позитивных по содержанию публикаций в газетах и журналах России [2]. В заключение следует сказать о том, что по нашему наблюдению, профессиональная деятельность тибетских лам в России высоко оценивается как буддистами, так и небуддистами, в частности, в сфере культуры физической и психической репродукции, реабилитации и рекреации человека. Благодаря их профессионализму, идёт успешный диалог культур «Восток-Запад» и «Юг-Север». Литература 1. Флиер А.Я. Культурология для культурологов: Учебное пособие. – М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2002. – С. 134-137. 2. Урбанаева И.С. Досточтимый Учитель геше Джампа Тинлей – 15 лет в России (1993-2008): хроника событий и воспоминания учеников. – Улан-Удэ: РИО БО «Зелёная Тара», 2008. – С.172. *** 38 О.А. Михалина, кандидат философских наук, доцент Новосибирского госуниверситета Буддизм и образование Базисные философские традиции великих цивилизаций Востока определили восточный тип воспитания. Данному типу свойственны жесткие требования относительно выполнения традиционных норм и канонов. Человек здесь понимается как духовное единство эмоций, воли и разума. Одновременно эта традиция стремится обратиться прямо к сердцу как средоточию божественного и человеческого. Поэтому знание носит вторичный характер как способ достижения «локальных» задач. В результате, для человека Востока ограничение индивидуальной свободы, независимости мышления, самостоятельности в различных сферах общественной жизни было типично. Такие течения, как буддизм, конфуцианство, даосизм, оказали огромное влияние на последующее развитие учений о человеке, а также на формирование образа жизни, способа мышления, культурных образцов и традиций стран Востока, на восточную философию образования. Общественное и индивидуальное сознание людей в этих странах до сих пор находится под воздействием образцов, представлений и идей, сформулированных в тот далекий период. С помощью философских учений, концепций, идей осуществляется анализ самых различных явлений в воспитании и образовании, даются практические рекомендации. Восточная философия развивается в тесном взаимодействии с религией: зачастую одно и то же философское течение предстает и как собственно философия, и как религия. Пример тому брахманизм, индуизм, буддизм и т.д. Так, мировоззренческой основой педагогической традиции Южно-азиатской цивилизации был индуизм, а позднее буддизм. Данная основа и определяла образ жизни человека, систему социальных и этических норм, обрядов и праздников. Ни воспитание, ни обучение не считались всесильными. Врожденные качества и наследственность в рамках данной традиции полностью обусловливали возможности воспитания и образования в процессе развития человека. Традиция понимания буддизма как образования сохранялась в истории, и в Древней Индии сформировался тип буддийских монастырей как учебных центров, та же модель была воспроизведена затем в Тибете, а позднее – в Монголии, Бурятии и т.д. В рамках буддистской философии образования лежит своя система понятий, принципов, практик, своя методология и ритуалы. Буддизм сформировал свое понимание образования. Так, санскритское слово «Vidya» понималось в пяти разных смыслах: «Vid Janana» (знать), «Vid Sattayami» (случаться), «Vid Labhe» (получать, находить, чувствовать), «Vid Vicarane» 39 (обсуждать, рассматривать), «Vid Cetana-akhyana-nivasesu» (чувствовать, жить)1. Таким образом, понятие «Vidya» означало разные аспекты понятия «образование». Другое слово «Siksha» также использовалось для выражения процесса обучения. Кроме того, существовали такие понятия, как «Adhyayana and Vinaya». Первое означает «идти около» и выражает идею об учениках, идущих к своему учителю за образованием. Второе означает «тренироваться особым способом». Первое означает «образование, обучение», а второе – «воспитание характера». Таким образом, в древнеиндийской традиции были представлены оба аспекта процесса образования: индивидуальный и социальный. Характеризуя древневосточную философию человека, отметим, что важнейшей частью ее является ориентация личности на крайне почтительное и гуманное отношение как к социальному, так и к природному миру. Вместе с тем эта философская традиция ориентирована на совершенствование внутреннего мира человека, его мир и судьба непременно связываются с трансцендентным (запредельным) миром. Индивидуальный субъект – это эмпирическая жизнь растущего и изменяющегося человека. Упанишады подчеркивают, что истинное я человека нельзя отождествлять с телом или духовной жизнью, подверженными росту. Но соединение духовных и материальных качеств создает индивидуум. Каждая личность, как и всякая вещь, это синтез, соединение. Буддисты называют это соединение санскарой, организацией2. Во всех индивидах без исключения соотношение составных частей вечно изменяется. Оно никогда не бывает тем же самым для двух последовательных мгновений. Любая система образования направлена на сохранение социокультурных ценностей данного общества в данную эпоху. Функциями буддистского образования являлись трансляция смыслообразующих параметров буддийской культуры и воспроизводство высокообразованной структуры сангхи (общины). Именно образовательные стратегии буддизма на межпоколенном уровне целенаправленно актуализировали процесс перевода ценностных религиознофилософских знаний в индивидуальную форму существования, когда внешнее (объективное) становится содержанием внутреннего (субъективного). Вся духовная цивилизация Востока несет в себе обращение к бытию личности, ее самосознанию и самосовершенствованию через уход от материального мира, что не могло не сказаться на всем образе жизни и способах освоения всех ценностей культуры народов Востока. Примечания Foreword L.O, Joshi Jt. Secretary in Education in Ancient India by Ved Mitra. – Delhi, 1964. 2 http://www.dhamma.ru/lib/radha/Radha9.htm 1 *** 40 Л.Б. Четирова, доктор философских наук, профессор кафедры философии Самарского госуниверситета Философия буддизма: некоторые моменты сравнения с западной философией На вопрос о том, почему философия возникла на рубеже VII и VI веков д.н.э. почти одновременно в трех разных регионах мира – Древней Индии, Древнем Китае, Древней Греции, наверное, никто не сможет дать однозначного ответа. Но у каждой из философий имеется свое объяснение собственного возникновения. Древнегреческая философия, положившая начало европейской философии, была самой молодой из них. И началась она, как определил Платон, с удивления – почему есть нечто, а не ничто? Индийская философия определяет свое рождение иначе – это тревога при виде зла, которое властвует в мире. Философия стремится понять источник зла для того, чтобы уничтожить человеческие страдания [1, с. 26]. Изначально эта философия была религиозной и нравственной – целью философии стало не столько удовлетворение интеллектуальных запросов человека, сколько нравственное преображение человека. Буддизм, наследуя и развивая основополагающие идеи и принципы индийской философии, выражает себя в 4-х благородных истинах: • Истина о том, что существует страдание; • Истина о причине страдания – желания; • Истина о том, что страдание можно прекратить; • Истина о том, что существует путь к прекращению страдания. Они как нельзя более явно обнаруживают не только нравственный смысл философии буддизма, но и ее практическую направленность. Итак, буддийская философия – это религиозная философия, нравственная и/или практически ориентированная философия. Если обратиться к европейской философии, то изначально она не была религиозной. И это составляет – предмет гордости западных историков философии [2]. Нравственную форму древнегреческая философия приобретает благодаря Сократу. С появлением ключевой для ее развития фигуры Сократа древнегреческая философия меняет ориентацию – цель философии формулируется как достижение знания ради морального совершенствования, а не ради знания самого по себе. Задача философия состояла в том, чтобы помочь человеку в его нравственном росте. В дальнейшем данная интенция присутствует во всех философских учениях античности. 41 Ситуация меняется с появлением христианства, когда философия ставится в ситуацию выбора – либо погибнуть как особый способ выражения мысли, либо стать религиозной. Обретя религиозную форму почти через тысячу лет после своего возникновения, европейская философия вынуждена была сформулировать для себя собственные задачи, которые бы отличали ее от христианского богословия. Прежняя цель – помощь и направление к нравственному росту стала целью самой христианской религии. Христианская философия времен Блаженного Августина начиналась с выражения догматов вероучения в языке философии. И здесь возникает проблема о соотношении веры и разума, которая, будучи по-разному тематизирована в творчестве христианских философов, породила множество дискуссий. Становясь схоластической, философия все более утрачивала нравственно-практическое содержание. Секуляризация философии в Новое время завершила этот процесс. С этого момента философия отвергает прежнюю религиозную форму, критикуя и отвергая и схоластику, и античную философию. Конечно, в европейской философии продолжают существовать религиозные философии, например, философия томизма, но они либо пребывают в пространстве религии, либо находятся на периферии философии. Философия как таковая все более становится светской и, со временем, отвечая на вызовы, науки, даже принуждена облечь себя в форму научности. Тем не менее, культурный горизонт, в котором существовала и существует европейская философия, очерчен универсалиями христианства. Если Протагор своим тезисом «человек есть мера всех вещей» провозглашает кредо западного гуманизма, то новоевропейские философы возвращают тему гуманизма в философский дискурс. При этом тематизация происходит в той системе интерпретации, которая задана христианством. В таком горизонте и появляется западный индивидуализм. Обычно, сравнивая философию буддизма и европейскую философию, говорят об отсутствии в буддизме идеи «Я». Точнее говоря, об иллюзии Эго как «длящягося, единичного и независимого» [3, с. 8]. Однако, не только в этом заключается отличие философии буддизма от западно-европейской. Согласно буддийскому пониманию, то, что обычно подразумевается под «Я» есть лишь сознание, выказывающее себя в разных формах на начальной стадии буддийского переживания пустотности. В тибетском буддизме традиции Карма Кагью выделяют пять ключевых стадий переживания пустотности: 1. Стадия Шраваков; 2. Стадия Читтаматры; 3. Стадия Сватантрика-Мадхьямаки; 4. Стадия Прасангика-Мадхьямаки; 5. Стадия Жентонг-Мадхьямаки. 42 Названные именами буддийских школ, стадии обозначают стадии развития понимания пустотности или абсолютной истины пустотности [3, с. 7]. При этом они представляют собой ступени понимания сознания, развитие от грубого понимания сознания к утончающемуся, пока не будет достигнуто полное и совершенное понимание. В западной традиции нет такого единства в понимании сознания, нет подобной целостности. Те коллизии, которые появляются вследствие решения так называемого основного вопроса философии – отношения мышления к бытию в западной традиции выражаются в философских школах материализма и идеализма, отвергающих друг друга. Каждая западная философская школа или направление самодостаточна и независима. В буддийской философии напротив, буддийские школы, формирующие разные взгляды на сознание, представляют собой ступени развития в понимании сознания или переживания пустотности. Знаком другого отличия западной философии от буддийской является присущая первой философема эсхатологии. Философема эсхатологии является одной из важнейших в западной философии1. Не случайно Августин Блаженный, считающийся основателем западноевропейской христианской философии, создавал ее как философию истории. Важнейшие положения христианского вероучения – о творении, грехопадении, искуплении, Страшном Суде определили экспликацию истории и историчности бытия как тем философии. В связи с этим можно привести в пример Гегеля и его систему абсолютного идеализма, которая, по сути, является выражением доктрин протестантизма в категориях спекулятивной философии [4]. Гегель крупнейший философ, видная фигура классического рационализма, но нелишне вспомнить, что он выпускник теологического института и получил диплом пастора. Отказ от философемы эсхатологии был осуществлен Ницше. Реализуя свой проект критики европейской культуры, а это критика христианства и его морали, он создает «теорию вечного возвращения», то есть вечного рождения. Когда в двадцатом веке Хайдеггер, отвергая классическую метафизику, заявляет, что вопрошающий о бытии сам подпадает под этот вопрос, он поновому решает вопрос о бытии. Бытие как Dasein служит указанием и путем к собственному и полному определению такого сущего как человек [5, с. 59]. Главная его работа называется «Бытие и время». Иначе говоря, эсхатология по-прежнему сохраняется в метафизике, несмотря на то, что Хайдеггер создавал философию, когда Ницше уже провозгласил смерть Бога, а вместе с этим гибель сверхчувственного мира. У Хайдеггера философема эсхатологии фигурирует совершенно по-новому. Он заговорил о бытии к смерти, бытии сущего, способного понять свое бытие. Согласно Хайдеггеру, человек является тем единственным сущим, который способен раскрыть смысл бытия, но не определить его. Способность по43 нять бытие реализуется под знаком смерти. Вот здесь и кроется важнейшее отличие философии буддизма от западноевропейской философии. Буддизм говорит о бытии под знаком рождения/перерождения. Смерти в значении ничто, в значении невозможности бытию быть для буддизма не существует. Смерть выполняет простую функцию – она лишь открывает ворота бардо, пройдя испытания которого сознание, в зависимости от степени запутанности и огрубления, либо вновь перерождается в сансарном круге бытия, либо освобождается. Примечание Идея о философеме эсхатологии и историческом измерении философии была высказана А.Б.Паткулем в его докладе на конференции «Практический поворот: современная философия в университете и за его пределами», 27-30 апреля 2009, Самара. 1 Литература 1. Чаттерджи С., Дата Д. Индийская философия: пер. с англ. – М.: Селена, 1994. 2. Вернан Ж. Происхождение древнегреческой мысли. – М.: Прогресс, 1988. 3. Кхенпо Цультрим Гьямцо Ринпоче. Последовательные стадии медитации на пустотность // http://www.ktgrinpoche.org/ 4. Кричевский А. В. Учение Гегеля об абсолютном духе как спекулятивная теология // Вопросы философии. – 1993. – № 5. 5. Паткуль А.Б. Человек, субъект, Dasein // Топос.- №3 (17). – 2007. *** А.Ш. Койбагаров, президент Российской Ассоциации Буддистов школы Карма Кагью, В.М. Дронова, организатор научной конференции и составитель научного сборника «Буддизм Ваджраяны в России: история и современность», Российская Ассоциация Буддистов школы Карма Кагью КАГЬЮ В РОССИИ: БУДДИЗМ НА МАРШЕ Возникновение и развитие буддизма в течение полутора тысяч лет в Индии, около тысячи лет развития в Тибете и странах испытывавших его влияние, позволяют считать его древним Учением своей славной историей, доказавшем свою полезность и нужность в разные времена для разных цивилизаций. Но буддизм традиционен и для России – он укоренен в культуре 44 калмыков, тувинцев и бурят. Причем в подавляющем большинстве это Тибетский буддизм. Более того, наша школа, буддизм школы Карма Кагью считается традиционным на территории России. Отечественные историки упоминают об этом, есть иностранные свидетельства. Семнадцатый Кармапа в письме, подтверждающем нашу аутентичность, отметил, что в традиции бурят и калмыков, ранее называвшихся ойратами, эта школа существует уже около семисот пятидесяти лет. Таким образом, на территории России мы присутствуем уже давно. Известные события начала 20 века сделали трудным или практически невозможным существование любых религиозных традиций в России. Религиозные репрессии, начавшиеся в двадцатых-тридцатых годах, продолжались, хоть и не будучи такими кровавыми, в пятидесятых, шестидесятых и семидесятых. Как пример – история с группой в Бурятии, группой Дандарона, приведшая к арестам и лишениям для участников группы. К периоду либерализации, периоду горбачевских реформ мы подошли в плачевном состоянии: были полностью разрушены почти все религиозные традиции в стране, но, тем не менее, был относительный достаток, относительно комфортное существование, очень хорошая система государственного образования и множество образованных, идеалистически настроенных людей. В этот момент произошел информационный взрыв, взрыв демократических свобод, и люди стали открыто и свободно говорить, общаться, искать. Конечно, эти поиски происходили и раньше, но тогда все говорилось только «на кухне»: люди не могли общаться друг с другом, не могли собираться, самоорганизующихся объединений не было или их деятельность сурово пресекалась. Вдруг в конце восьмидесятых это стало возможно. Когда Лама Оле Нидал впервые приехал в Россию, и мы собрались в маленькой квартирке в Питере, на Удельной, чтобы прослушать первую лекцию – большинство думало, что собрались мы случайно. Этому событию уже двадцать лет, и в 2008 мы отметили такой небольшой, но очень важный для нас юбилей. Тогда никто не представлял себе, во что это выльется, не подозревал, что вся наша жизнь и все устремления резко изменятся и повернутся в сторону буддизма. Тогда было очень много различных духовных предложений, и интересным казалось и то, и это, и буддизм был одним из вариантов, одной из тех замечательных возможностей, которые предоставило нам время. Вдруг обнаружилась потребность общества в духовном пути, но пути не догматичном, не сугубо и традиционно «религиозном», не связанном с резким изменением сознания и образа жизни. У многих из нас не было вообще никакого религиозного самоотождествления, отношения к каким-либо религиозным традициям. Лишь немногие хранили какие-то воспоминания о возможных духовных путях, о которых в их семьях что-то знали и могли рассказывать. У всех было хорошее образование, в большей или меньшей степени 45 научное, с прививкой марксистской материалистической антиклерикальной философии. И буддизм очень органично лег на этот фундамент. С одной стороны обществу легко было его принять, поскольку буддизм очень «научен» по форме, а с другой стороны буддизм очень легко трансформируется, применяясь к культурным стереотипам данного места и времени. С третьей и далее сторон буддизм стал так бурно распространяться благодаря успешной подаче, как он был представлен Ламой Оле Нидалом, отточившим свой стиль в Западной Европе и Америке – форпостах технологических и научных революций. Буддизм был преподан очень свежо, очень современно, очень прямо и «личностно». И вдруг страна как будто «взорвалась»: по прошествии пары тройки лет у нас в России тоже появилось множество центров по всей стране. За двадцать лет мы пришли к тому, что сейчас у нас более семидесяти центров, то есть крупных зарегистрированных организаций, а также медитационных групп практически во всех крупных городах России. Мы перекрываем и по широте, и по долготе всю эту огромную страну. Наверное, самый западный центр кагью в России расположен в Калининграде; самый восточный – на Сахалине; самые южные – Краснодар и Сочи, а на севере дальше всего Архангельск и Северодвинск. Безрелигиозное общество, тем не менее, для самоорганизации и регуляции нуждается в высшем авторитете, оправдывающем и обосновывающем существование моральных норм. Буддизм в этом очень логичен, убедителен и обращен лично к каждому – базисом «правильного» поведения является закон кармы – нужно творить добро и не делать вреда людям, потому что эти добро и зло в виде впечатлений формируют индивидуальное сознание и возвращаются человеку обратно в виде актов реальности. Безличный объективный закон в обществе считающим высшим авторитетом науку и становится таким авторитетом в духовной сфере. Центры не возникают только там, куда не доезжает учитель, буддийский лектор. Оказывается, что везде, во всех местах, даже в глубинке, есть люди, которые ищут буддизм, которым это близко и нужно. Они совершенно естественным образом начинают практиковать это учение и извлекать из этого пользу. Мы, прежде всего, направлены на буддийскую практику, и поэтому все остальное – материальная инфраструктура, социальные отношения, научные исследования, организация – подчинено практике. Буддийская практика первична! И тут тоже с самого начала были заложены правильно выбранные принципы, потому это и дало такой отклик по всей стране. Первое – сознательный отказ от монастырских организаций, от того, чтобы вырывать людей из социума и делать их профессиональными буддистами. Был сделан упор на мирской буддизм, на буддизм для работающих людей, имеющих семьи, общественные обязанности и права, живущих занятой, активной жизнью. 46 Второе – перевод текстов на русский язык. Это дало возможность не только наслаждаться экзотикой далекой этнографии и культурными вещами, но и понимать смысл того, что делается. За эти годы мы отошли от того, чтобы петь пуджи на тибетском, сопровождая хоры музыкой национальных тибетских инструментов, – это звучало необыкновенно красиво и завораживающе, но притягивало множество экзотических людей. В то же время, это было недоступно для всех, кто не обладал музыкальным слухом или не испытывал к этому интереса, поскольку искал не музыкального самообразования. Сейчас все тексты практик переведены. Некоторые тексты до сих пор поются на тибетском, как дань традиции, как дань уважения к почти тысячелетней передаче буддизма в Тибете, но и эти практики имеют подстрочный перевод. Все максимально русифицировано. Следующий принцип, который защитил и упростил функционирование организации Кагью в России, – это полное неучастие в политике. Мы прежде всего практики, мы изучаем и практикуем буддизм. Конечно, мы сочувствуем делу Тибета, и нас беспокоит то, что происходит с тибетцами, с народом и его культурой, но на уровне Ассоциации, на уровне центров, мы занимаемся только буддизмом – духовными практиками и передачей знания. Мы не участвуем ни в каких политических кампаниях. Конечно, в буддизм приходят свободные люди, и поэтому никому не возбраняется частным образом выражать любые свои воззрения, любые политические убеждения. Мы даже не спрашиваем у людей, которые ходят в центры, считают они себя буддистами или нет и каковы их политические предпочтения. Они могут быть атеистами, агностиками, могут себя считать принадлежащими к любой религиозной традиции, но, если они приходят в центр, практикуют и находят для себя полезными наши методы – это их путь. У нас в центре был такой случай: человек, ходивший к нам примерно месяц, вдруг сообщил всем, что он, вообще говоря, послан к нам по заданию ФСБ. «Как вы к этому относитесь? – спросил он. – И могу ли я, сказав об этом, продолжать ходить в центр?» На это никто не отреагировал практически никак. Люди сказали: «Ну, здесь многие находятся по заданию, такому ли сякому. Некоторые сообщают об этом, некоторые нет, но если человек практикует и получает от этого пользу, то все в порядке». Будда на всех одинаково смотрит, всех одинаково принимает, понимает, всем сочувствует и помогает. Кроме того, в наших центрах Карма Кагью сложился очень хороший, очень здоровый баланс между чистой практикой и изучением буддизма. Он нужен для того, чтобы центры не становились скучными, чтобы мы не теряли людей с простыми, сильными умами – людей, которые хотят сразу же изучать медитацию, применять методы и получать результаты, а не закапываться в книжки. 47 По поводу организации – было принято, что организация – это необходимое зло. Необходимое, но зло. Поэтому, чем меньше организации, тем лучше. Национальное объединение – буддийская Ассоциация создана и существует для координации и поддержания учения в неискаженном виде, но местные центры самоорганизуются, как они хотят, на основе дружбы и демократических принципов и независимы во всех, в том числе в финансовом отношении. В нашем сообществе реализован принцип «Роста Травы» (она ведь растет сама по себе) – может поэтому центры возникают так легко и так быстро растут. Очень важным признано использование всех современных возможностей связи и вообще современных технологий – для связи людей, поддержания знакомства и дружбы между ними, для оповещения и информирования; интернет – стриминг (трансляцию лекций в реальном времени), скайп, аськи, социальные сети, электронную почту мы стали использовать сразу, с момента их появления. Мобильники, покупку электронных билетов на бюджетные авиалинии, разные скидки и акции для дешевых путешествий буддисты тоже стали использовать раньше всеx. Технические средства – вещь, которая позволила нам удерживать все вместе и делится достижениями. Благодаря этому в современном мире существует так много практиков Ваджраяны, которая предполагает тесную связь с учителем, и без средств такой связи это было бы невозможно. Нет Наркотикам! Это тоже очень сильный защищающий момент – запрет буддистам и приходящим в Центры употреблять наркотики. С одной стороны – это защищает Центры и наши группы юридически, а с другой стороны этот запрет держит в стороне людей с запутанными умами и неясными целями, которые мешали бы другим, использующим чистые буддийские методы. И опять – в этом запрете нет морализаторства и сентиментальности – поэтому он и убеждает молодежь. Лама Оле Нидал – из своего травмирующего и тяжелого опыта поколения хиппи и наркотической революции 60-х- говорит на каждой лекции – нет ничего, что вам дали бы наркотики, никаких таких трансцендентальных опытов, что бы вам не дала буддийская медитация. Но медитация дает гораздо больше, кроме этого концентрирует ум, а наркотики – расконцентрируют. И они убивают тело и разрушают вашу жизнь. Создание атмосферы в центрах, приятной зрелым, образованным, самостоятельным людям – это создает хорошее первичное впечатление и делает легким для людей повторный приход. Минимум тибетского в Центрах – большая часть интерьера соответствует культуре западной – дизайн, манера общения друг с другом, даже отношение к Ламе – внутренне – огромное уважение, а на внешнем уровне – вежливое почтение, без подобострастия и фанатизма. Это не ревизионизм, не «необуддизм» – это действительно адаптация буддизма к иной культуре, с сохранением его сути. 48 Толерантность, или в не очень удачном русском переводе – терпимость – отсутствие фанатизма в отстаивании своего мнения, готовность признать существование многих видов истины, отсутствие монополии на нее, но тем не менее строгое следование духу, стилю и букве Учения переданном нам великими учителями Кагью. Мы признаем наличие многих направлений и стилей в буддизме, хорошо относимся к другим школам, особенно к школам тибетского буддизма с которыми у нас много общего, терпимо относимся к другим духовным путям, если они уважают право человека на жизнь, равенство и духовную свободу, но тем не менее не смешиваем поучения, не делаем из различных доктрин винегрета, зная, что для достижения Просветления важен пример учителя, ясность и однонаправленность в практике, а не интеллектуальные игры и эрудиция. Нет миссионерству – в Кагью считается, что если человек не дозрел до буддизма, то его не заманишь, не затащищь в центр, более того – такие люди, если бы они и пришли – вредны для общины. Говорится, что если есть озеро, то лебеди прилетят, если есть цветы, то будут пчелы. Но этим «лебедям и пчелам» нужно создать предложение – поэтому мы регулярно проводим публичные акции – фестивали, исскуств и кино, научные конференции, куда приглашаем представителей всех школ тибетского буддизма Нигма, Гелуг и Сакью, художественные выставки, спортивные мероприятия, публичные лекции, дни открытых дверей и прочие мероприятия, на своих и муниципальных площадках, куда новым людям было бы легко и удобно зайти. Одним из удачных опытов публичных мероприятий был опыт проведения научной конференции, инициированной Ассоциацией. Причем сначала научное буддологическое сообщество боялось ангажированности и цензуры – поскольку конференцию о ваджраяне созывает и финансирует религиозная организация, т. е. структура потенциально заинтересованная в манере освещения и результатах конференции. Но среди принципов буддизма есть один заложенный самим основателем Учения – Буддой Шакьямуни – «нет никакой религии выше истины». И когда ученые осознали, что этот принцип последовательно воплощается в жизнь Ассоциацией, то от заявок не было отбоя. В результате прошел очень достойный и представительный научный форум: 54 участника, из них около половины ученые – буддисты, способные изучать предмет не только снаружи, но и изнутри, с уровня практики, 11 докторов наук, географический охват – по всей России, от Центрального региона до Приморья на Дальнем Востоке, приехали также участники из зарубежных стран – были представители из Дании, Германии, Австрии и Великобритании. Буддисты участвовали, как волонтеры в подготовке и проведении конференции. Спонсировали мероприятие – тоже буддисты! Мероприятие прошло при 49 поддержке «Научного Центра философской компаративистики и социальногуманитарных исследований» факультета философии и политологии СанктПетербургского государственного университета, Государственного музея истории религии и Мэрии Санкт-Петербурга, вызвало большой резонанс в научных кругах, признано успешной и требует продолжения. Все идет к тому, что конференция станет ежегодной. Мы участвуем в образовательном процессе – нами подготовлены методические рекомендации для школ на основе западноевропейского опыта преподавания буддизма в школах и переданы в органы образования. Кроме того, многие центры включены в туристские справочники своего региона и регулярно проводят экскурсии для разных возрастных групп, большей частью для молодежи. Кроме того проводятся встречи со студентами, преподавателями вузов восточных гуманитарных специальностей, а также встречи с журналистами, освещающими религиозную тематику. И, конечно же, наш успех связан еще и с воодушевляющим примером Ламы Оле Нидала, с его неиссякаемой, кипучей энергией, с его способностью «сжимать время». Когда приезжает Лама, время начинает словно заворачиваться в спираль, одновременно происходит масса событий, масса вещей. Многие люди попадают в орбиту этой великой энергии, великой страсти открывать другим их возможности, дарить людям близкое ощущение будущего Просветления. В 2009 году к нам в страну приехал молодой Кармапа XVII-тый Тринле Тхайе Дордже – глава линии Кагью. Он с триумфом проехал по стране, посетил Санкт-Петербург, Москву, Элисту, Иркутск, Улан-Уде и Владивосток, встечался с учениками и новыми людьми, представителями власти и бизнес-элиты. Он познакомился с Россией, его увидела ближе российская буддийская Сангха. В Элисте Кармапа встречался с Главой буддийской Республики – Кирсаном Николаевичем Илюмжиновым и ламами разных линий, в Улан-Удэ – гостил у Хамбо Ламы нынешнего – Дамбы Аюшеева и лицезрел феномен нетленного тела Хамбо Ламы Итигелова. Благодаря примеру Оле и благословлению Кармапы в наши центры привлекаются такие же типы: энергичные, сильные идеалистичные люди, которые хотят беззаветно идти путем бодхисаттвы – помогать существам и потому, наверное, так быстро и насыщенно все происходит, так ярок этот феномен – современный буддизм Карма Кагью. Поэтому нас так много, так много людей щедро дарящих свои силы и время на благо всех существ, поэтому мы так быстро развиваемся, и это очень здоровое явление и замечательно, что в современной России есть такая возможность духовного пути. *** 50 И.В. Безруков, аспирант философского факультета СПбГУ О некоторых аспектах развития буддизма в Японии Уже в 8 веке влияние буддизма стало определяющим в политической жизни Японии, чему способствовал институт инкё, согласно которому император еще при жизни обязан был отречься в пользу наследника и, став монахом, управлять страной в качестве регента. Надо признать, что как раз этот фактор неблагоприятно сказался на развитии именно философского корпуса Японии. Политизация буддизма привела к изменению отношения к сектам оригинального буддизма без элементов японского дзэн. Ограниченность и строгость церемониала, логичная литургитика вкупе с жестким контролем населения – вот характеристики сект оригинального индийского и китайского буддизма. Именно эти факторы обусловили позже создание и такое сильное принятие дзэн-буддизма по всей стране. Императорское правительство стало использовать храмовые списки для контроля за ростом и перемещениями населения, каждый должен был быть прикреплен к любому из буддийских храмов, количество которых быстро росло: в 623 году их стало, по данным хроники Нихонги, 46. В конце 7 в. был издан специальный указ об установлении алтарей и изображении Будд во всех официальных учреждениях. В середине 8 века было принято решение о строительстве гигантского храма Тодайдзи в столице Нара, причем центральное место в храме заняла 16-метровая фигура Будды Вайрочана, золото для покрытия которой собирали по всей Японии. Буддийские храмы стали исчисляться тысячами. В такой ситуации дзэн и начал тот путь проникновения в духовную жизнь не только представителей сегуната, бакуфу (правительство сегуна), но и крестьянства. Через принятие дзэн в Японии стала меняться философия искусства. Дзэн-буддизм стал гарантом развития философской мысли Японии. Он сформировал японский менталитет. На основе других сект в итоге создавались общественные организации, а дзэн остался внутренним миром любого японца. Одной из причин столь доброжелательного отношения японцев к учению дзэн является участие остальных буддийских сект в создании государственной идеологии, впоследствии получившей название государственный синто, искусственно созданной верхушкой правительства императора, а впоследствии и сегуната. Таким образом, буддийские секты не могли полноценно развиваться философски, сосредоточившись на создании мощных религиозно-политических образований. Это организации Нитирэна, секты Сингон, Тэндай и др. 51 Синто-буддийская парадигма представляется здесь с несколько непривычной стороны – в качестве основы уникальности японского менталитета и мистики, но без участия философии дзэн. Секта Кэгон, оформившаяся и набиравшая силу в 8 веке, превратила принадлежавший ей столичный храм Тодайдзи в центр, претендовавший на объединение всех религиозных направлений, в том числе и на сближение, синтез буддизма и синтоизма. Опираясь на принцип хондзи суйдзяку, сущность которого сводилась к тому, что синтоистские божества – это все те же Будды в их очередных перерождениях, школы-секты японского буддизма (Сингон, Тэндай и др.) заложили основу так называемого «рёбу-синто» («двойной путь духов»), в рамках которого буддизм и синтоизм, некогда враждовавшие, должны были слиться в единое целое. Ребу-синто опирался на индийские культы буддизма, например культ будды Вайрочана, космического будды. Это движение имело определённый успех. Японские императоры официально обращались к синтоистским богам и храмам с просьбой оказать помощь в сооружении Тодайдзи и возведении Вайрочана. Они заявили также, что считают своим долгом поддерживать и буддизм, и синтоизм. Ребу-синто впоследствии стал причиной религиозной децентрализации Японии, и власти постепенно пришли к гонениям на естественный, развивавшийся издревле синтоизм, создавая, таким образом, единую государственную синто-буддийскую идеологию, которой гораздо легче было бы управлять. Таким образом, очевидно формирование своеобразных блоков, влиявших на социо-культурное, историческое и идеологическое формирование японского общества, этноса и государственности. Первый блок представляет собой синто-буддийское мировоззрение, где видоизмененный синтоизм, с большим трудом возвращающий самобытность в наше время, слит с классическим пониманием буддизма в индийской и китайской интерпретациях. Особенным здесь является игнорирование направлений махаянистского буддизма, а именно дзэн. Буддийские монахи нередко принимали участие в синтоистских празднествах и т.п. Особый вклад в сближение буддизма и синтоизма внесла секта Сингон (санскр. – мантра), распространившаяся в сравнительно позднее время из Индии и почти неизвестная в Китае (кроме Тибета). Основатель секты Кукай (774-835) сделал основной акцент на культ Будды Вайрочана, воспринимавшегося в рамках этого учения как символ космической Вселенной. Через причастность к космосу и космической графической системе Вселенной (мандала) с изображением различных Будд и бодхисатвы на ней, человек приобщался к буддийской символике и обретал надежду на просветление и спасение. Это один из редких случаев, когда в японской религиозной практике говорится о спасении. Обилие Будд и магически-символическая связь с ними, многие магические ритуалы секты Сингон позволили сблизить буддизм и синтоизм, отождествить синтоистские божества и силы природы с космическими 52 силами и Буддами буддизма. Таким образом, синто-буддийский синкретизм исполнял роль религии для народа, удовлетворяя потребность в праздничном церемониале, религиозной общности людей, например, на синтоистских праздниках мацури, предлагал необходимые обряды для рождения, смерти, свадьбы и т. д., избегая противостояния двух религий. Внеся важнейший вклад в ребу-синто, секта Сингон объявила главных японских ками аватарами различных Будд и бодхисатв, в том числе и Аматэрасу – аватарой Будды Вайрочана. Синтоистские божества гор тоже стали рассматриваться как воплощение Будд, и именно это учитывалось при строительстве там крупных буддийских монастырей. Даже во многих синтоистских храмах заправляли буддистские монахи. Только два важнейших, в Исэ и Идзумо, сохраняли свою независимость. С течением времени эту независимость стали активно поддерживать и японские императоры, видевшие в синтоизме опору своего влияния. Но это уже было связано с общим ослаблением роли императоров в политической жизни страны. Соответственно сегунату был выгоден синто-буддизм в качестве религии для народа, обладающей свойствами сдерживания масс и удовлетворяющей потребности народа в религиозном восприятии. Философская же и мировоззренческая мысль, как было сказано выше, развивалась благодаря пониманию мира согласно философии дзэн. Это можно принять в качестве второго блока формирования мировосприятия японского общества. Мощный философский корпус дзэн занял именно ту нишу, которую обошли вниманием и мистичность синтоизма, и религиозность классического буддизма. При правлении клана Фудзивара произошло возвышение школы Тэндай, центральный храм которой на горе Хиэй, под названием Энрякудзи, позволял себе не подчиняться приказам бакуфу. После ослабления клана Фудзивара в 11 в. военачальник из клана Минамото в 1192 г. стал сегуном, а его дружинники, получившие земли и титулы, заложили новое сословие – сословие самураев, основой мировоззрения которых и стал дзэн-буддизм. Оказав сильнейшее влияние на эстетику, дзэн становится основой изящных искусств, поэзии и живописи. Философское понимание категории небытия, ничто формирует у японцев особое отношение к смерти, что ярко выразилось в кодексе самураев и философии самоубийц-камикадзэ. Целостное понимание мира происходит не после занятий классическим буддизмом, чтением сутр или благочестивой жизни, а в момент просветления, сатори или кэнсё, как его еще называют. Парадоксальность установок и методов дзэн позволяет говорить об уникальном менталитете японцев, в чьей интерпретации он стал абсолютно иным, нежели чань-буддизм китайцев. На его основе впоследствии, в конце XIX века, лидером киотосской школы Нисида Китаро было создано первое аутентичное, самобытное и действительно японское философское учение, получившее самоназвание «антиинтеллектуализма». 53 Классический буддизм, представленный школами и течениями Сингон, Тэндай и Нитирэн, развивался в Японии, в основном, в качестве огромных социальных организаций, включающих и образовательные, и спортивные учреждения, а также органы местного самоуправления. Ярким примером тому служит секта Нитирэн, имеющая наибольшее количество последователей. И если дзэн в современности можно интерпретировать как суть этнического мировосприятия и духа, то классический буддизм, частью слившийся с синтоизмом, является религиозной основой жизни японского социума. Таким образом, очевидно своеобразное раздвоение буддийского учения в рамках развития на территории одной страны, впрочем, всеобъемлющее восприятие буддистов нивелирует утрату целостности, напротив стоит рассматривать дзэн как сугубо японский путь развития буддизма. Литература 1. Eliot Charles. Japanese Buddhism. – London, 1964. – 412 p. 2. Chan Buddhism in ritual context. / Ed. by Bernard Faure. – London, New York: Routledge Curzon, 2003. – 320p. 3. Антология дзэн. Под ред. Пахомова С. В. – СПб.: Наука, 2004. – 401с. 4. Буддизм в Японии / Отв. ред. Т. П. Григорьева. – М.: Наука: Восточная литература, 1993. – 704 с. 5. Вон Кью-Кит. Энциклопедия дзэн. – М.: Гранд: Фаир-пресс, 1999. – 395с. 6. Мещеряков А. Н. Древняя Япония: буддизм и синтоизм: проблема синкретизма. – М.: Наука, 1987. – 189 с. *** А. Матуляк, аспирант философского факультета СПбГУ Сознание – Осознанность в буддизме Сознание – основополагающая неоперациональная способность соотноситься, осознавать предмет (мир). В отличие от чувства, мышления, языка, которые являются операциональными способностями – способностями знания или способностями тела, сознание принципиально неоперационально, поскольку есть вообще способ данности предмета (мира). Поэтому в метафизическом смысле, сознание есть всегда. Сознание не может исчезнуть, точно так же как не может исчезнуть мир, который сознанием конституирован соотносительно. 54 В буддизме встречается понятие сознания как наблюдатель, я буду называть его сознание-очевидец, немного позже, я заменю его понятием осознанность, но для начала, позвольте мне немного по подробнее раскрыть значение этого термина. Итак, cознание-очевидец должно быть понято как образ сознательного понимания, но не как то, что тождественно чувствованию, думанью, ощущению, самоанализу и запоминанию. Это сама сущность знания, общая для всего выше перечисленного, это то, посредством чего мы знаем, чувствуем, ощущаем, анализируем и запоминаем. Сознание-очевидец может быть внимательным или невнимательным, в зависимости от того что происходит, когда мы начинаем уделять внимание объекту. Объект – центр внимания, так что то, что мы называем «сознание-очевидец», направлено главным образом на объект. Однако мы можем утверждать, что есть невнимательное сознаниеочевидец таких объектов, как фоновый шум и проприцепторные чувства. Очевидностью невнимательного сознания-очевидца есть способность припоминать, зная все время об этих пунктах косвенно. Тот факт, что есть смысл говорить о невнимательном сознании-очевидце или сказать «там был шум, хотя я не заметила его» свидетельствует о том, что сознание-очевидец является более главным, чем внимание. Полезную аналогию между сознаниемочевидец и вниманием можно представить на примере прожектора, луч которого может быть сфокусирован и сосредоточен на каком-то объекте, однако, в тоже самое время, бросать более тусклый свет на объекты, на которых не сосредотачивался. Здесь сознание-очевидец – свет, в то время как внимание может быть уподоблено сосредоточению или направлению луча на объект. Хотя, в тоже самое время, даже при сфокусированном луче, освещается не только объект, но и пространство вокруг него, и этот пример показывает как работает невнимательное наблюдение. Итак, перейдем теперь к термину осознанность, который может быть определен через сознание-очевидец, основанном на опыте и выраженном через метафору, используемую гуру Раманой Махараши, как общую «особенность» ко всем сознательным состояниям. Бари Дэйтон говорит о нем как о «материальном» (в противоположность «чистому», который испытывает недостаток в любом феноменальном характере).1 Важно здесь то, что феноменальный характер рассматривается как свойство осознанности непосредственно. Это означает, что эта феноменология не сводится к спектру основанных на опыте качеств, которые или проявляются, или второстепенно характеризуют дифференцированные смыслом объекты опыта, включая способы чувствования через которые воспринимаются объекты. Таким образом, это не может быть сведено к сенсорным качествам, определенно связанными с перцепционными методами видения, вкуса, запаха, звука, прикосновений, проприоцепций и освобождений от эмоций, настроения, концептуальной мысли, памяти или 55 воображения. Здесь то, что должно быть осознанно без каких либо исключений или ограничений и чье качество осознавания передают его собственную родовую «особенность» всем сознательным состояниям. Правильным сравнением здесь может быть аналогия луча белого света дифрагминтированного призмой в спектр цвета. В то время как каждый цвет (чувственный опыт) будет отличаться от других, все они объединены и имеют общий характер яркости (осознанность). Так как язык феноменологии описывает объекты опыта, естественно трудно передать феноменальный, субъективный характер, который не принадлежит объектам. Мне кажется, эта трудность удерживала многих мыслителей от признания предложенного понятия осознанности, кто-то пытался охарактеризовать ее как «второстепенный» аспект человеческого опыта, аспект, который, кажется, сводим не только к наблюдаемым объектам. С восточной традиции Адвайта Веданта Нисаргатт Махарадж именует этот аспект опыта как «сознательно присутствие»2, Артур Деикман со стороны западной традиции описывает это как «субъективный смысл нашего существования»3, Чалмерс ссылается на «глубокую и неосязаемую» «феноменологию Я», которую он уподобляет «жужжащему фону»4. Я предлагаю, чтобы мы назвали эту второстепенную феноменологию «субъективным смыслом присутствия». Я предпочитаю «присутствие» «существованию», потому что «присутствие» передает двойное значение: присутствие относительно места и присутствие относительно времени – и мы, возможно, испытываем субъективный смысл присутствия через моменты здесь и сейчас. Относительно времени, смысл настоящего момента, кажется, происходит от субъекта, вместо того, чтобы казаться отнесенным к объектам, о которых знает субъект. То есть осознание настоящего момента, кажется, не происходит из объектов сознания; скорее объекты (типа восприятия или мыслей), кажется, приходят в субъект в настоящий момент. В то время как этот пункт является лишь умозрительным, смысл настоящего – сиюминутность – возможно, самый непосредственный способ различить то, что мы называем феноменальным пониманием, и наиболее очевидный ход мыслей в том, то может быть больше сознательного опыта, чем просто объективного. Наше основное понятие осознанности, таким образом, передает тип опыта – субъективный смысл присутствия – который не устанавливается каким либо определенным качеством, имеющим отношение к объектам, внешним или внутренним. В нашем понятии, этот субъективный смысл присутствия квалифицирует сознаниеочевидец свойственно, являясь принципом работы субъекта. Это заканчивает нашу схему основного понятия осознанности как (1) вовлечение субъективной стороны очевидной дихотомии субъекта/объекта так, что это является (2) идентично принципу работы субъекта наблюдения и (3) свойственно феноменальному характеру. 56 Но, чтобы до конца определить понятие осознанности, я предлагаю рассматривать его как то, чему свойственны субъективные характеристики, через понятия неуловимости, неделимости, постоянства. Через них я постараюсь показать осознанность, как существенный компонент феноменального сознания. Итак, неуловимость – особенность, приписанная самости. Неуловимость, как и субъективность – проблема сознания. Мы не можем описать и предчувствовать самость и она не поддается обнаружению опытным путем. Субъект не может наблюдать себя как субъект наблюдения, который бы являлся одновременно его собственным объектом опыта, так же как камера не может видеть себя снимающей. Неуловимость – вездесущее явление, не ограниченное предметами опыта. Субъект не уловим для себя, он не может внимательно наблюдать себя. Хотя у субъекта есть непосредственный, основанный на опыте смысл его собственного существования. Таким образом, субъект, по принципу работы, оказывается одновременно не уловим вниманием, но в тоже время опытным. Самость, хотя и поддается обнаружению в опыте, не есть объект опыта. Она хоть и основана на опыте (то есть, составлена из элементов сознания), тем не менее, не известна как объект опыта. Это – один из факторов, который составляет представление, где самость находится за событиями. Элементы, формирующие наше сознание – неуловимы, осознанность не может быть сфокусирована на них пока они не прекратят быть элементами неотраженного сознания. Понятие неуловимости, следовательно, подразумевает понятие осознанности и наоборот. Когда субъект осознан, выражение его сознательной жизни проявляется через смысл самости, которая кажется неуловимой, но в тоже время объединяющей и неделимой в моменте настоящего. Если осознанность схватывает этот очевидный аспект сознательной жизни, тогда она не может предстать как нечто прерывистое или промежуточное. Как способ сознательного предчувствия осознанность субъекта будет «настроена» отмечать то, как прибывают и двигаются различные умственные объекты, включая различные способы ощущений и восприятия, но никогда как движется она сама. Если мы скажем, что сознание-очевидец замечает свое собственное отсутствие в данном состоянии сознания, то мы прейдем к противоречию. Для того чтобы обнаружить отсутствие необходимо присутствовать. Следовательно, сознание постоянно. Постоянство – аспект сознательной жизни, проявляющийся через самость, которая не только неделима в настоящем, но и неизменна в своих качествах. Осознанность, кажется, может изменяться наряду с содержанием. Так в пределах различных сознательных состояний оно может выступать, как невнимательное сознание-очевидец, перцептуальное сознание-очевидец (через пять различных чувств), познавательное сознание (размышление, запоминание, 57 воображение, наличие эмоций) и самосозерцательное сознание-очевидец (наблюдение своего собственного процесса мысли, и т.д.). Сознание-очевидец можно определить, как нейтральный аспект знания, который объединяет определенные состояния предчувствия (видение, слушание, думанье) в одну категорию. Появляясь в состоянии сознания, осознанность предстает не иначе как неуловимая, постоянная величина, являющаяся необходимым компонентом феноменального сознания. Из этого следует, что любая теория феноменального сознания, включая сознание, помещенное в физический мир должно обратиться к понятию понимания. Таким образом, можно заключить, что отсылание к осознанности, в силу ее неуловимого, неделимого, момента настоящего, хорошо подходит, как раз для того, чтобы схватить это неуловимое понимание величин непрерывности и постоянства. Учитывая, что осознанность уже включена в спецификацию неуловимости и цельности сознания, то правильнее было бы предположить, что осознанность – единственный концепт сознания, который схватывает все эти признаки. Таким образом, сознание может быть заменено понятием осознанность, которое можно охарактеризовать фразой – неуловимое, но в тоже время, объединенное, неизменяемое сознание, которое наблюдает изменения. Признаки постоянного единства, подразумевающие качества обычного состояния сознания, должны быть обусловлены ссылкой на осознанность, которая никогда, от одного сознательного момента к следующему, не присутствует как скачкообразная или различная (в отличие от объектов сознания). Примечания Dainton, Barry. (2002). «The Gaze of Consciousness» Journal of Consciousness Studies 9. p. 32 2 Powell Robert The Ultimate Medicine as Prescribed by Nisargadatta Maharaj. California; Blue Dove Press, p.87 3 Deikman, Arthur J. (1996). «I» = Awareness» Journal of Consciousness Studies: p.356. 4 Chalmers, David J. (1996a). The Conscious Mind. New York: Oxford University Press. p.10 1 *** 58 Е.В. Захарова, докторант философского факультета СПбГУ Психический детерминизм и буддийская практика В жизненных «обстоятельствах» и своих психических склонностях, в обуревающих страстях и страданиях человек чаще всего видит причины неудовлетворенности и недостаточности, ограниченности своей свободы. Духовные традиции, помимо теоретического рассмотрения противоречия свободы сознания и его психической обусловленности1, предполагают практики использования этой обусловленности на пути спасения человека от страдания. Если большая часть проявлений человеческого существования детерминированы физиолого-химическими и психологическими факторами и не являются сознательными (то есть, человек не отдает себе отчет либо в каузальных факторах своих действий, либо и вовсе в самих действиях), то можно предположить, что возможна работа, с помощью которой уровень сознательности будет возрастать. Выбор такого направления мысли подтверждается и исследованиями самих нейрофизиологов (Хабера, Хершензона, Маслинга), согласно которым область «когнитивного бессознательного» можно понимать как «систему, которая по своей природе движется к становлению сознательной, если только ей прямо не препятствуют»2. Эта работа осуществляется психотехническими установками духовных практик, одной из которых, в буддизме, является нивелирование представлений о «Я» – средоточии аффектированного сознания. Сознательное бытие, в буддийском понимании, требует отказа от того, что «Я» есть некая объективная данность, определенное стабильное образование, наделенное свойствами, такими как характер, темперамент, склонности. Как верно замечает В. Конев, обсуждая проблему анатты в восточной философии, «индивидуальность – это операция, а не субстанция»3. «Я» имеет смысл только в ситуации постоянного утверждения, творения себя, и, прежде всего, через осознание ситуации своей индивидуальности и рефлексивного (наблюдательского) к ней отношения. Поясним это положение. Если сознательный уровень – это некое понимание, то можно предположить, что оно обусловлено многочисленными биологическими, психологическими и социальными факторами. Например, обостренное осознание собственной недостаточности, приливы онтологической тоски могут быть следствием не «нехватки бытия», а нехватки функции щитовидной железы, так же как и переживание свободы и полноты жизни может корениться не в онтологии, а в физиологии. Пример последнего случая представляет Облон59 ский, герой Льва Толстого: «Окончив газету, вторую чашку кофе и калач с маслом, он встал, стряхнул крошки калача с жилета и, расправив широкую грудь, радостно улыбнулся, не оттого, чтоб у него на душе было что-нибудь особенно приятное, – радостную улыбку вызвало хорошее пищеварение»4. Утверждение своей индивидуальности как независимый от обусловленности акт есть не положение новых условий, своей свободы или несвободы, но прежде всего отношение к данным условиям и осознание их. Сознательная жизнь и утверждение своего бытия как свободного требует не отвержения обусловленности, а напротив, внимательного созерцания последней. Принцип анатты в буддийской философии говорит о том, что не всякое сознательное есть психически необусловленное – но только то, которое является свидетелем своей обусловленности, может таковым стать. Наблюдение определенности сознательных действий психическими процессами есть та сознательная работа, с помощью которой психотехника буддизма утверждает сознание в его дистанцированности от психического. К разговору о буддийской практике сознания привлечем некоторые сюжеты книги М. Мамардашвили и А. Пятигорского «Символ и сознание». Такой ход представляется уместным, поскольку сама работа написана как вспомогательное введение в понимание виджнянавады, одного из направлений буддийской философии, о чем прямо говорят авторы в «Трех беседах о метатеории сознания», предваряющих «Символ и сознание». Некоторые размышления авторов на тему сознания применимы и в нашем анализе практики Тхеравады. Е.А. Торчинов замечает, что особое внимание, уделяемое всей буддийской философией проблемам психики, сознания и механизмам его функционирования, объясняется основной целью преобразования сознания – заменой различающего сознания – виджняны, базирующегося на субъект-объектной дихотомии, «недвойственным» – адвая – сознанием-гносисом – джняна5. В буддийских практиках Тхеравады также подразумевается различение двух пониманий сознания. Торчинов отмечает, что онтологический статус имеет только второе, «недвойственное» сознание, – видение реальности «как она есть». Это – внесубъективное, «свободное от притока эгоцентрированных аффектов сознавание потока собственной психосоматической жизни. Начальная практика випассаны имеет целью показать человеку, что искомый уровень сознания не зависим от психофизической определенности. Нас здесь интересует форма этого поиска, предложенная, в частности, как М. Мамардашвили и А. Пятигорским, так и самой буддийской практикой и философией, идущая от того, что сознанием не является, то есть, от психики. На наш взгляд, работа «Символ и сознание» реализует философский вариант буддийской практики випассана (vipassana), суть которой – поиск сознания через «не то», осуществляемый авторами на уровне философских понятий. 60 Наблюдение (исследование) того, чем сознание не является (но о чем мы привыкли думать как о сознании) ведет бесконечно к поиску «того самого», «сознания», которое вечно ускользает и которое остается только этим «не …», то есть ничто (в смысле «не-что», как выразился Лама Оле Нидал). Различим сознание как неизвестное, искомое в буддизме необусловленное сознание и как аффектированное сознание, известное и данное нам в виде мыслей, чувств, ощущений. Последнее авторы «Символа и сознания» называют содержанием, или текстом сознания. Такое содержание – это сознательные психические процессы (ведь мы отдаем себе отчет в том, что что-то ощущаем, мыслим или чувствуем), которые нами в опыте связываются с теми или иными состояниями сознания. Состояние сознание (СС) – это форма понимания, которой соответствует то или иное психическое состояние (содержание), и СС характеризуется принципиальной приуроченностью к субъекту6. В определенном состоянии сознания я себе таким-то образом дан. Однако можно согласиться с выводом Мамардашвили и Пятигорского о том, что состояние сознания «принципиально не ориентировано однозначно на конкретное содержание, что само уже предполагает равноценность для него отрицательных и положительных психологических содержаний. (Вспомним о гениальной догадке ранних буддийских философов, которые отводили одинаково привилегированное положение и позитивным и негативным конструкциям сознания)»7. К примеру, в буддизме Тхеравады (рассмотрим современную бирманскую школу випассаны в традиции Схаягьи У Ба Кхина) влечение и отвращение – состояния сознания, а их содержание может быть любым. Эти состояния могут и не иметь содержания, но обычно имеют. Сами влечение и отвращение не имеют содержательной сущности8. Несодержательность СС проявляется негативно: например, в тренировке равностного отношения к любому содержанию выявляется независимость СС от конкретного содержания. В качестве примера приведем описание М. Мамардашвили зрения: «В зрении я фиксирую то, что не является содержанием ни зримого, ни зрящего, но все время идет вместе с ними и все время ускользает»9. Так протекает процесс того, что называется в буддизме осознаванием зрения, поиском «сознания глаза». Йогин понимает, что «сознание гла­за – это только сознание глаза, не более и не менее; и это сознание глаза не сле­дует смешивать с «личностью», не следу­ет его персонифицировать»10. Зрительное сознание в буддизме – одно из шести видов сознания: зрительное, слуховое, вкусовое, обонятельное, осязательное, ментальное, – которые, в соответствии с нашей классификацией, мы можем отнести к состояниям сознания. Йогин разотождествляет СС с его наполнением (зримым, слышимым), и свое наблюдающее «Я» – с состоянием сознания. 61 СС образуется во время интерпретации текста (содержания) психических процессов, или же состоянием сознания может быть вовсе отсутствие содержания. Например, отсутствие каких-то определенных содержаний может соответствовать некоему искомому (высшему) СС. Поэтому в индийской мифологии миры, более просветленные, чем наш, чувственный мир, населяют существа, лишенные, к примеру, зрения или осязания, а также таких качеств, как алчность, злоба. Это не свидетельство их ущербности, но обозначение рисунка онтологии их существования. Искомое сознание также не есть мышление. «Мышление есть качество, а сознание не есть качество. То есть, мы можем говорить так: чему-то могут приписываться качества сознания, но сознание не является качеством. [С этой точки зрения, мышление так же «психично», как зрение, слух и т. д.]»11. Это снова философский вариант буддийского «созерцания мысли»: «Если вы просто о чем-то подумали, отмечайте в уме: «мысль». Ес­ли вы станете размышлять – «размыш­ление». Если у вас появятся намерения что-то сделать, отмечайте: «намерения»12. В Дхаммападе говорится: «Пусть мудрец стережёт свою мысль, трудно постижимую, крайне изощрённую, спотыкающуюся где попало. Стережённая мысль приводит к счастью»13. «Так монах избавляется от отождествления своего я с психическими процессами, в частности, с мышлением»14. Если чувства и мышление – содержание, то «мы не можем никогда с определенностью сказать, что такое-то содержание соотносится с каким-то одним состоянием или какое-то одно состояние соотносится с каким-то одним содержанием»15. Таким образом, состояние сознания можно понимать «как формальное понятие не в смысле противоположности содержанию, а в смысле независимости от любого мыслимого содержания»16. Возможно, по аналогии с этим «состояние сознания не есть чтение текста, который дан до или независимо от состояния сознания… Текст – это некоторая длительность содержания, ориентированная на некоторое состояние сознания»17. Таким образом, введение понятия «состояние сознания» помогает в теории отделить «сознание» от «психического», что в практике випассаны осуществляется принципом равностного отношения к вариантам психических явлений. Если психика – это процессы, которые составляют содержание сознания (ощущения, мысли, чувства…), то йогин разотождествляет свое наблюдающее сознательное начало со всеми этими процессами. Практика открывает понимание того, что если психика – это то, что мы ищем и находим в своих состояниях, то сознание – это то, что мы ищем и не находим в них никогда. Перспектива буддийской практики связана с возведением подвижника до уровня «чистого» сознания, способного ввиду своей недвойственности слиться с полнотой бытия. Тогда как человеческое, «двойственное» сознание, 62 из-за ущербности понимания мира и «омраченности» аффектами всегда находящееся внутри психических ограничений, представляет собой уровень синтеза психических процессов. Буддизм помогает понять, что «обычное», обусловленное сознание слито с психикой, неотличимо от нее, и преодоление психического происходит редко, в спонтанном «прорыве» к трансцендентной реальности, к внепричинному Инобытию. Поэтому повседневное существование характеризуемо термином «сознание» весьма условно. «Вспышки» сознания дискретны, случайны, неконтролируемы. Духовные практики «удерживания» беспристрастного осознавания служат тому, чтобы сознание обнаружило свой психический субстрат и в этом обнаружении появилось для самого себя как возможность быть чем-то иным помимо своего психического содержания. Примечания Блестящее разрешение этого противоречия предлагает, например, философия адвайта-веданты. 2 Хант Г. Т. О природе сознания. С. 77. 3 Конев, В.А. Критика опыта сознания. С. 80. 4 Толстой Л.Н. Анна Каренина. С. 10. 5 См.: Торчинов Е.А. Введение в буддизм. С. 110. 6 См.: Пятигорский А.М. Три беседы о метатеории сознания. С. 90. 7 Мамардашвили М.К. Пятигорский, А.М. Символ и сознание. С. 60. 8 См.: Харт У. Искусство жизни: Медитация випассаны, как ее преподает С.Н. Гоенка. С. 29. 9 Мамардашвили М.К. Пятигорский А.М. Символ и сознание. С. 62. 10 Корнфилд Д. Современные буддийские мастера. С. 154. 11 Мамардашвили М.К. Пятигорский А.М. Указ. соч. С. 62. 12 Корнфилд Д. Указ. соч. С. 39. 13 Дхаммапада. III, 36. 14 Там же. 15 Мамардашвили М.К. Пятигорский, А.М. Указ. соч. С. 64. 16 Там же. С. 65. Например, в гештальт-терапии состояния сознания субъектов не определяются содержанием (текстом) (он может быть у разных субъектов одним и тем же – ссора с мужем, измены, смерть детей, и пр.) «И то, что появляется в акте осознавания этого что-то, и есть состояние сознания» (Мамардашвили М.К. Пятигорский А.М. Указ. соч. С. 33). В противном случае, психологии на все уже известны были бы ответы, но это не так. Только процесс осознавания ведет к просветлению (по выражению Дж. Энрайта, «Гештальт, ведущий к просветлению»). 17 Мамардашвили М.К. Пятигорский А.М. Указ. соч. С. 66. 1 63 Литература 1. Дхаммапада. М.: Издательство научной литературы, 1960. URL: http://ww.koleso.netherweb.com/dhamma/lib/index.html 2. Конев В.А. Критика опыта сознания: Самарские семинары по трактату М.К. Мамардашвили и А.М. Пятигорского «Символ и сознание» / Федеральное агентство по образованию. Самара: Изд-во «Самарский университет», 2008. 3. Корнфилд Д. Современные буддийские мастера. М.: Золотой век, 1993. 4. Мамардашвили М.К. Пятигорский А.М. Символ и сознание. Метафизические рассуждения о сознании, символике и языке / Под ред. Ю.П. Сенокосова. М.: Школа «Языки русской культуры», 1997. URL: http://www.philosophy.ru/ library/mmk/simvol.html (дата обращения: 15.09.09). 5. Пятигорский А.М. Три беседы о метатеории сознания: Краткое введение в учение виджнянавады (Совместно с М.К. Мамардашвили) // Пятигорский А.М. Избранные труды. М.: Языки славянской культуры, 2005. 6. Толстой Л.Н. Анна Каренина. Роман в восьми частях. Части 1-4. Л., 1968. 7. Торчинов Е.А. Введение в буддизм: Курс лекций. СПб.: Амфора. ТИД Амфора, 2005. 8. Хант Г. Т. О природе сознания: С когнитивной, феноменологической и трансперсональной точек зрения / Пер. с англ. А. Киселева. М.: ООО «Издательство АСТ» и др., 2004. 9. Харт У. Искусство жизни: Медитация випассаны, как ее преподает С.Н. Гоенка. М., 1987. 10. Энрайт Дж. Гештальт, ведущий к просветлению. URL: http://www.karolinga.boom.ru/d12/txt02.htm (дата обращения: 21.05.2009). *** Т.В. Бернюкевич, кандидат философских наук, профессор Читинского госуниверситета АЗИЯ И БУДДИЗМ В КОНТЕКСТЕ ТВОРЧЕСКИХ ИДЕЙ В. ХЛЕБНИКОВА Наличие «восточных элементов» в произведениях известного поэтафутуриста В. Хлебникова часто связывают с местом его рождения. Как известно, родился он под Астраханью там, где проживает народ, исповедующий буддизм, – калмыки, и сам об этом писал следующее: «Родился 28 октября 1885 в стане монгольских исповедующих Будду кочевников – имя “Ханская ставка”, в степи – высохшем дне исчезающего Каспийского моря (море 40 имен)» [2; 641]. 64 Исследователь творчества Хлебникова Р.В. Дуганов так комментирует значение этого факта в жизни и творческой биографии поэта: «Задавая вопрос “Нужно ли начинать рассказ с детства?”, он говорил о детстве как о воскрешении прапамяти народа. И, вспоминая место своего рождения в Калмыкии, на пересечении Запада и Востока, “где море Китая затеряло в великих степях несколько своих брызг, и эти капли-станы, затерянные в чужих степях, медленно узнавали общий быт и общую судьбу со всем русским людом”, он говорил о себе – другом: “Но ведь это я, но в другом виде, это <второй> я – этот монгольский мальчик. Задумавшийся о судьбах своего народа”» [3; 313]. Сложность выявления буддийских аллюзий в творчестве Хлебникова связана с общей сложностью философско-культурологического анализа творчества авангардистов. По мнению Е. Бобринской, произведения авангардного искусства «требуют определенных интерпретационных усилий, позволяющих в какой-то мере преодолеть их непроницаемость», а принципиальные аспекты эстетики авангарда нередко могут быть раскрыты и поняты только в соотнесении с «тем или иным контекстом или с целой вереницей контекстов» [1; 4]. Одним из таких контекстов являлось воскрешение и преломление архетипических сюжетов, архаических пластов. Авангардная «религиозность» имеет свои специфические черты, связанные с общими мировоззренческими особенностями начала XX века – а именно, с кризисом ортодоксальной религии и кризисом того, что принято считать европейской культурой. Это вызвало к жизни некоторые языческие и неоязыческие тенденции в религиозной жизни Европы и России, тягу к формированию «нового религиозного сознания», стремление к созданию неких синтетических учений, что отразилось и в художественных построениях русского авангарда, в «попытках (иногда в духе теософских учений) обретения своеобразной открытости религиозного опыта». Данная «открытость» способствовала тому, что среди источников мировоззренческих, и в том числе религиозных, элементов авангардного искусства мы находим «самый широкий и противоречивый спектр подобных источников от буддизма и гностицизма до архаических языческих культов и сектантской мистики» [1; 6]. Одним из выражений и интереса к историографии и попыток создания образа «нового будущего» был «миф истока». История, устремленная в будущее, радикально менялась. Истоки культуры общечеловеческой и российской переосмысливались. Это нашло яркое отражение и в языке литературных произведений русского авангарда. Оживлялся миф, лежащий в основе языкового строя. Результатом был так называемый «эффект “реализованной метафоры”» в поэтических текстах, при котором происходило «”оживление первоначальных предметных представлений” лежащих в основе условного 65 образа» [1; 6]. В контексте «мифа истока» становится понятным отношение поэта к Азии, особая историческая роль, которую поэт отводит ей в «единой книге человечества»: Всегда рабыня, но с родиной царей на смуглой груди, Ты поворачиваешь страницы книги той, Чей почерк – росчерки пера морей. Чернилами служили люди, Расстрел царя был знаком восклицанья, Победа войск служила запятой, А толпы – многоточия, Чье бешенство не робко, – Народный гнев воочью, И трещины столетий – скобкой [10; 132]. Исследователи футуризма видят в обращении представителей русского авангарда к «мифу истока» проявление «вектора», «подтачивающего основы европейской рациональности Нового времени и одним из значительных его показателей считают активный интерес к восточным философским учениям, которое проявилось в увлечении художников, писателей и поэтов начала XX в. индуизмом и буддизмом. Ряд исследователей отмечают особую значимость в творчестве Хлебникова идеи смерти и ее преодоления. Следует заметить, что хлебниковская танатологическая концепция часто связывается с идеями философа Н.Ф. Федорова [7; 5-35]. С другой стороны, например. Дуганов пишет о том, что в произведениях Хлебникова показывается всеобщая связь бытия через смерть [См., 3]. Феномен смерти у Хлебникова опять же есть один из мотивов открытия им «основного закона времени». Существуют разные мнения по поводу источников его «идеи победы над смертью». Так, Н. Степанов считает: «Мысль о победе над смертью постоянно занимала Хлебникова, но источник ее следует видеть не в мистически-религиозных учениях, которые Хлебникову были глубоко чужды, а в его натурфилософии, теории вечного превращения и преобразования материи» [8; 196]. В то же время, например, Д.А. Пашкин считает, что «на самом деле, “теория вечного превращения и преобразования материи” как нельзя лучше вписывается в эти (вполне, впрочем, у Степанова, абстрактные) “мистически-религиозные учения”, которые, в свою очередь, вполне интересовали Будетлянина и вовсе не были ему чужды (вплоть до оккультных и магических)» [6]. Он приводит целый ряд примеров из произведений Хлебникова и исследовательских работ, обращая внимание на модель «множественности посмертных воплощений». Также рассмотрение идеи “смерти-возрождения” в творчестве В. Хлебникова представлено в книге В. Кравца [См., 4]. 66 О метемпсихозе, по мнению Д.А. Пашкин, свидетельствуют такие тексты Хлебникова, как прозаический текст «Ка», который «демонстрирует все мыслимые и немыслимые варианты реинкарнационных моделей», а также «Дети Выдры». Даже в грамматике стихотворений поэта, указывает автор статьи, находит отражение идея о множественности воплощений [6]. Например, в стихотворении «Охотник скрытных долей» (1908) – «бор бытий». В стихотворении «С утробой медною», по мнению Пашкина, присутствует весьма «прозрачная фраза»: «В переселеньи душ ты был / Быть может, раньше нож» [6]. Как уже говорилось, тема Востока тесно связана у Хлебникова с его концепцией времени. Известно, что главным своим открытием сам Хлебников считал «основной закон времени». Над его обоснованием поэт работал практически всю жизнь (с мая 1905 г. по ноябрь 1920 г.). В «Досках судьбы» он пишет: «Если существуют чистые законы времени, то они должны управлять всем, что протекает во времени, безразлично, будет ли это душа Гоголя, “Евгений Онегин” Пушкина, светила солнечного мира, сдвиги земной коры и страшная смена царства людей, смена Девонского времени временем, ознаменованным вмешательством человека в жизнь и строение земного шара» [9; 75]. Победа над временем означала, что «не события управляют временем, а время ими» [9; 75], а сам «закон времени» – это «общая истина закона жизни и смерти» [9; 112]. Иначе человек всегда находится в плену у времени. Иначе нет оправдания ни частной жизни каждого, ни существования стран и народов, всей этой «вековой качели народов» [9; 112]. Проблема времени включала в себя отношения «я» и потока истории, индивидуального творчества жизни и исторически закономерно-объективного бытия. «Хлебников слишком хорошо знал историю, чтобы не видеть, как любая индивидуальность или сверхиндивидуальность обязательно проигрывает спор со временем. Если слепо и упрямо идет наперекор ему, не замечая закономерностей, не проецируя прошлого на будущее. Для Хлебникова свобода во времени есть познание характера времени, приятие его условий. Для того чтобы понять, насколько это общее положение соответствовало творческой практике поэта, достаточно проследить хотя бы за тем, как поэт переосмысливал одну из традиционных тем русской литературы девятнадцатого столетия – тему плена» [5; 152] – считают Лощиц Ю.М., Турбин В.Н. Плен – это одна из самых драматичных жизненных ситуаций. Но есть великий и неустранимый плен непознанного времени. Именно поэтому лишь внешне бесконфликтен плен главного героя повести «Есир» Истомы. Рассказ завораживает особым ощущением медленнотекущего времени, поражает простором, среди которого находится будущий невольник: «Заплаты, свеже положенные на парус, заново черная от смолы бударка, сверкающее на волнах и на смоляных боках лодки, громадная белуга, лежавшая на 67 лодке, свесив на землю свою махалку, орланы, белохвост, сидевший на отмели, другой черной точкой сидел на верхушке песчаного обрыва, и тучи уток со свистом падали откуда-то сверху на то подымавшееся, то опускавшееся море, – вот что было вокруг» [10; 305]. Многоцветным и многоголосым предстает берег перед рыбаками: «Суда с парусами из серебряной парчи», «живописные женщины востока», «вольные сыны Дона в драгоценных венках» [10; 307]. Жизнь вокруг была наполнена звуками и красками разных культур, поэтому, быть может, ни у кого не вызвало удивление появление чудного гостя – индуса. Перед читателем разворачивается свиток индийских «новостей». Несмотря на то, что некогда Индия была «столь кроткой, что она самому небу жертвовали только цветы» в повествовании индуса рассказывается о весьма немирных событиях [10; 307]. Эти рассказы порождают ночной кошмар Истомы: «Истома заснул, думая о пленнике, брошенном в яму, по лицу которого ползает жаба; о правителях, которым приносят корзины вырванных глаз; о правителях, зашивающих рты слишком говорливым и разрезывающих рот слишком молчаливым; о казни глотанием песка до смерти» [10; 307]. Бесспорно, в этих рассказах индуса о драматичных исторических событиях в Индии, сне самого Истома о жестоких правителях можно увидеть и социальную подоплеку. Но исчерпывается ли это содержание повести лишь социальной или социально-исторической проблематикой? Перед нами индус, который молчал в ответ на вопрос Истомы и думал, как «далекий гуру (учитель) из Индии руководит его разумом здесь», сам Истома, задумавшийся о ползавшем на его руке муравье: «Кто этот муравей? Воин? Полководец? Великий учитель своего народа? Мудрец?» [10; 310]. А в это время «около тихо плескалась Волга-невеста». Связаны времена, связаны страны и пространства, так же, как соединены священные воды Ганга с «северной невестой» Волгой. [10; 307]. Индус предсказывает Истоме плен и жизнь в Индии. По существу Истома был уже готов к странствиям в далекой и загадочной стране. Чувствовал ли себя пленником на чужбине Истома? Словно бусинки в четках «отсчитывается» увиденное Истомой в Индии. Вот перед ним древний отшельник («… старик не менял своего положения, руки его не умели двигаться, и ногти прорастали предметы, как корни растения, белые и кривые»), его вид наводит Истому на мысль: «Не весь ли народ индусов перед ним?». И «теневые боги» (сравните: «боги – призраки у тьмы») «трепетали около него темными крыльями ночных бабочек» [10; 318]. Видел Истома и множество храмов. Видел «воздушные храмы, висевшие ласточкой над грозной пропастью», «храмы, множеством подземных пещер вырубленные в глубине первобытной каменной породы» [10; 318-319]. 68 Со многими верами и учениями встречался герой повести. Поэтому вся Индия кажется Истоме страной «искания истины». Причем одновременно и исканием, и отчаянием как стон индуса: «все – Майя!». И во взлетевшем на «белый столб покрытого зеленью храма» павлине и в «ветре» его перьев, усыпанных «потоком больших и малых глаз» увидел Истома «собрание великих и малых богов этой страны» [10; 321] И учение браминов, и учение Будды говорят об одном: «… И то, что ты можешь увидеть глазом, и то, что ты можешь услышать своим ухом, все это мировой призрак, Майя, а мировую истину не дано ни увидеть смертными глазами, ни услышать смертным слухом» [10; 320]. И вот «пленника» потянуло на родину. Истома возвращается домой, заканчиваются его скитания на чужбине. Вместе с увиденным приходит к герою ощущение единства мира и всех его обитателей. Хлебников напоминает читателю об Истоме, который когда-то до плена разглядывал муравья и думал, кто этот муравей. В Индии «… он научился понимать сложенный из сосновых игол муравейник, когда увидел жилые горы храмов и видел медные кумиры Будды много раз больше размеров человека» [10; 317]. Пространство преодолено. Но преодолено ли время? «Грустно постояв над знакомыми волнами, Истома двинулся дальше. Куда? – он сам не знал» [10; 321]. Кто он, Истома? Не вечный ли пленник Майи, Времени? В одном из своих известных стихотворений Хлебников напишет: Годы, люди и народы Убегают навсегда. Как текучая вода. В гибком зеркале природы Звезды – невод, рыбы – мы, Боги – призраки у тьмы [10; 67]. Всегда сложно говорить о творчестве писателей и поэтов в ракурсе влияния на них определенных философских идей, мировоззренческих интенций. Все это: идеи, влияния концепций и теорий – переплавляется в одном – в творчестве. И уже там мы видим их преломления и отблески (иногда яркие, а иногда совсем чуть-чуть, лишь полутона и тени). Но сам поэт неслучайно называл себя и своих творческих единомышленников «будетлянами». Все творчество Хлебникова – прорыв преград времени и локальных пространств, где это время, а точнее времена разворачиваются. Это полет в Будущее, где частное, единичное и конечное должно обратиться в единое и бесконечное. И тем самым будет «оправдана» история человечества, истоки которой поэт видел в Азии. 69 Литература 1. Бобринская Е. Ранний русский авангард в контексте философской и художественной культуры рубеже веков Очерки. – М., 1999. 2. Велимир Хлебников. Автобиографическая заметка 1914г. / Творения. – М., 1986. 3. Дуганов Р.В. Велимир Хлебников. Природа творчества. – М.: Советский писатель. 1990. 4. Кравец В. Разговор о Хлебникове. – Киев, 1998. 5. Лощиц Ю. М., Турбин В. Н. Тема Востока в творчестве В. Хлебникова// Народы Азии и Африки. – 1966. – № 4. – С. 147 – 160. 6. Пашкин Д.А. Русский Танатос. Концепция «победы над смертью» В. Хлебникова: художественное напряжение и методы разрешения // http://topos.ru/article/280/printed 7. Поляков М.Я. Велимир Хлебников: Мировоззрение и поэтика // Хлебников В. Творения. – М., 1986, с. 5-35. 8. Степанов Н. Велимир Хлебников: Жизнь и творчество. – М., 1975, с. 196. 9. Хлебников В. Отрывок из «Досок судьбы». Листы 1 – 3. – М.: 1922-1923. 10. Хлебников В. Стихотворения. Поэмы. Драмы. Проза. – М.: Советская Россия, 1986. *** Е.И. Рабинович, аспирант Уральского госуниверситета СНОВИДЕНИЯ В ТИБЕТСКОЙ ЖИТИЙНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ В тибетской культуре повсеместно распространена вера в сакральный характер сновидений. Вместе с рецепцией тибетского варианта буддизма, данная традиция проникает и в ряд регионов Российской Федерации, где тибетский вариант буддизма является традиционной формой религии. Значение, которое северо-буддийский мир придавал сновидениям, обрело отражение и в тибетской житийной литературе. Принимая во внимание то место, которое религия занимала в традиционном тибетском обществе, жития святых могут быть названы выражением высочайших идеалов этой культуры. Являясь важной составляющей элитарной, интеллектуальной культуры монастырей, жития святых традиционно имеют широкое распространение и в народной культуре, являясь для неё, зачастую, основным источником религиозных знаний. Тибетская житийная литература (тиб. rnam thar, намтар) появляется в XII веке. Образцам для создания нового жанра послужила индо70 буддийские жития. В XIII-XIV веках складывается житийная литература, основывающаяся, главным образом, на фактах жизни и деятельности героев. В XVII веке появляется новый жанр «духовной автобиографии». В последующие века структурно и стилистически тибетские жития не претерпели существенных изменений [7; 637]. В последние годы стали появляться тибетские биографии и автобиографии, написанные под влиянием западной литературной традиции. Обязательным элементом большинства тибетских агиографических сочинений, является включение в текст жития описания сновидений героя произведения. Описания сновидений могут быть не многочисленны, отмечая только ключевые моменты жизни героя, иногда же сновидениям уделяется более пристальное внимание. Анализируя намтар тертонмы Дэчен Чойкьи Вангмо, итальянская исследовательница Д. Росси говорит: «сны так многочисленны – с нормой около одного, если не двух на странице, – что иногда, читая текст, трудно запомнить или различить границу между различными уровнями действительности» [10;373]. Анализ описаний сновидений в тибетских житиях (тиб. намтар) часто обнаруживает параллели с местом сновидений в индийских буддийских житиях. Эти параллели являются как структурными (сновидениями отмечаются значимые для авторов события), так и содержательными (общность образов и сюжетов сновидений). Основу корпуса описаний сновидений составляют пять типов снов. Это позволило нам составить типологию сновидений в тибетских житийных сочинениях. Данные группы сновидений отмечают основные вехи духовного пути, как он понимается в тибето-буддийской культуре. Подчёркивая ключевые моменты жизненного пути, описания сновидения в житиях призваны подтвердить истинность духовных свершений героя, являясь своеобразным доказательством их подлинности. 1. Чудесные сны о рождении будущего святого. Пророческие сны, которые посещают родителей незадолго до рождения необыкновенных детей, широко распространены во всех мировых религиях, являясь своеобразным «знаком божественной причастности, иногда даже действительного божественного отцовства» [12;2489]. Данная группа сновидений – одна из наиболее распространённых в тибетских житиях. Традиционно, во время беременности мать будущего героя жития видит вещий сон, предсказывающий необычайную будущность её ребенка. Так же такие сновидения могут видеть отец будущего святого, родственники и соседи. В намтар Мачиг Лабдон включено такое сновидение, указывающее на неё как на эманацию богини Тары. «У Чам Бум [матери героини жития] уже была дочь шестнадцати лет по имени Бумме. Она сказала: «Прошлой ночью я … видела белый свет, который излился в мою мать, осветив при этом весь дом. После этого девочка восьми 71 лет с ваджром в руке появилась передо мной. <...> Когда же я спросила, как её имя, она ответила: «Я Тара, разве ты не узнала меня?» Я удивилась и попробовала взять её на руки, но она убежала от меня и забралась на колени к моей матери, и тут я проснулась» [2; 104]. Часто сновидение указывает на то, что во чрево матери вошло необычное существо (божество или сознание недавно умершего почитаемого учителя). При поиске нового воплощения почитаемого религиозного деятеля (тиб. sprul sku, тулку) большое значение уделяли снам, видениям, предсказаниям оракула. В ситуации выбора нового перерожденца, в особенности, если претендентов было несколько, благоприятные сновидения родителей могли иметь важное, либо даже решающее значение. Если знаки считались благоприятными, то простой крестьянский ребёнок мог стать настоятелем большого монастыря или даже главой государства, а семья могла войти в состав тибетского дворянства [4; 176]. Главной функцией включения в агиографию вещего сна о рождении будущего святого, как своеобразныое подтверждением изначальной святости героя жития, так и указание на определённую преемственность с канонической индо-буддийской литературой, послужившей образцом для создания тибетских намтаров [13; 21-23]. Самое известное в буддийском мире житие – жизнеописание Будды Шакьямуни – начинается со сна его матери, царицы Майи. 2. Сновидения во взаимоотношениях «учитель – ученик». Встреча с духовным наставником относится в житиях к числу ключевых этапов жизни героя, а именно такие этапы авторы житийных сочинений отмечают включением сновидений. В житиях ученик нередко видит учителя во сне ещё до их реальной встречи. Учитель, встречая потенциального ученика, и ученик, встретивший предполагаемого учителя, большое внимание уделяли снам. Считалось, что благоприятный сон является выражением хорошей связи между ними, существовавшей в одной из прошлых жизней. Также такой сон мог стать пророчеством о результатах, которые будут достигнуты при установлении взаимоотношений «учитель – ученик». Учитель является в снах чтобы дать совет, поддержать в трудной ситуации [9; 342-243]. Явление учителя в сновидениях может также служить указанием на духовный прогресс ученика. Сновидения, отражающие отношения «учитель-ученик» в житиях, призваны как подчеркнуть значимость этой темы, так и подтвердить сакральность данной связи в конкретной биографии. 3. Явления божеств в сновидениях и способность видет вещие сны. Эта группа сновидений – самая распространённая в тибетских житиях. По всё видимости, явление в житийных снах божеств, а также великих учителей древности, призвано стать подтверждением духовных свершений героя жития. Являясь знаком духовных свершений, божества в житийных сновидениях часто делают предсказания о будущем сновидца: «он увидел во сне 72 восьмерых Будд Врачевания, которые предсказали, что в будущем он станет Буддой по имени Высокочтимый Вселенский Правитель» [3; 23]. Появление божеств в житийных сновидения, служит знаком успешности духовной практики, а также подтверждением выхода героя намтара за пределы обычного человеческого мировидения. В намтаре основателя монастыря Лавран Джамьян-Шадбы читаем: «Размышляя о том, что происходит с регентом, Владыка увидел во сне, как с отвеса одной скалы отвалился большой камень. «Можно ли приладить его обратно?» – подумал владыка, но не смог, а гора, треснув у основания, разрушилась. Тогда Владыка сказал: «Похоже, что регент не проживёт долго» [1; 186]. Явления божеств в сновидениях и обретение способности видеть вещие сны символизирует окончание этапа ученичества и начала деятельности «для блага живых существ» в качестве учителя. 4. Сон, как побуждение к действию. Сновидения этого типа отмечают зрелый, наиболее деятельный период в жизни героев агиографических сочинений. В жизнеописании тибетского царя Трисонг Дэцена (VIII век) содержится следующее сновидение этого типа: «царь … увидел во сне, будто в небе появился достославный Ваджрасаттва и произнёс такое пророчество: «Царь, есть в Индии учение, именуемое святое Великое Совершенство. В отличие от учений о причине, которые необходимо изучать, оно даёт освобождение в тот самый миг, когда его постигнешь. Ты должен послать за ним двух переводчиков-тибетцев» [6; 99]. В том же житии содержится интересное подтверждение наших выводов о причинах того значения, которое придаётся описанию сновидений в житиях их авторами. По легенде, когда царь Трисонг Дэцен начал строительство первого в Тибете буддийского монастыря, тибетские духи и демоны мешали ему в этом. Тогда наставник царя дал ему такой совет: « В Непале, в пещере Янглешо, живёт сиддха <…> Падмасамбхава, обладатель великой духовной мощи и сокрушительной силы. <…> Если сможешь его пригласить, он исполнит твои желания и усмирит местных духов. Великий царь, сделай вид, что эти советы открылись тебе во сне (курсив мой – Е.Р.)» [6; 67]. Из этого отрывка можно сделать вывод, что авторы житий прекрасно понимали значение сновидений для подтверждения истинности сообщения. Так же вышеприведённый текст говорит о вере тибетцев в истинность такого рода сновидений и даже определённом страхе не исполнить содержащееся в сне указание. Так в нашем источнике, министры царя, которые ранее противились приглашению индийских проповедников буддизма, после оглашения «пророческого» сна были вынуждены согласиться с царским требованием. Данная группа сновидений призвана как, в очередной раз, подчеркнуть необычность героя жития, так и подтвердить истинность его деяний, санкционированных свыше. Сны этой группы оказывают влияние на самые разные действия героя. Под влияние таких сновидений герой жития часто вынужден 73 отказаться от задуманного и совершить прямо противоположное. Указание во сне становится причиной написания трактата, основания монастыря или строительства храма. Очевидно, что вера в сакральную природу сновидений святых, придавала значимости и книге, монастырю, храму, причиной создания которых, объявлялось сновидение такого рода. 5. Сны о близкой смерти. Сновидения такого типа широко распространены в различных культурах, что, вероятно, связано с универсальным представлением о сне как временной смерти и смерти как вечном сне [8; 198]. В житиях герои иногда видят вещие сны о скорой собственной смерти, однако наиболее распространён сюжет, когда ученик получает во сне предсказание о кончине учителя. Образец такого рода сновидений содержится в житии тибето-бутанского святого XVI века. Провожая отца в путь, его сын и ученик «почувствовал, что он больше никогда не встретится со своим отцом. Он громко заплакал. Его служитель утешал его, говоря, что этого не произойдёт, но он ответил, что видел дурные сны и что это произойдёт» [11; 96]. Включение в жития сновидений предсказывающих смерть, призвано доказать пророческий дар героя жития, обретение им победы над смертью (если обычное живое существо рождается по воле кармы, то святой-тулку может самостоятельно выбирать время и место своего следующего рождения), подчеркнуть уровень его духовной реализации. Таким образом, мы видим, что сновидения в тибетской житийной литературе выполняет ряд важных функций: подтверждение подлинности святости героя жития, его духовной реализации; необычность его происхождения; доказательство истинности его деяний и сакрализация их последствий; указание на определённую преемственность с канонической индо-буддийской литературой, а также преемственность тибетской и индийской традиций святости. В заключение так же стоит отметить, что распространённая в тибетской культуре вера в вещие сны могла стать серьёзным дестабилизирующим фактором для этого общества [13; 134]. Сновидения, понимаемые как послания божеств, могли стать серьёзным источником инновационых изменений. Тибетская житийная литература задаёт определённую норму допустимых, «ортодоксальных» сновидений, указывая кому, когда и какие образы должны являться в сновидениях, чтобы быть признанными истинными. Задавая определённую модель сновидений, тибетская житийная литература защищает культуру от опасных пророчеств и видений, и упорядочивает, казалось бы, принципиально не контролируемую сферу подсознательного, поскольку, по словам американского философа Норманна Малколма, «понятие сновидения производно не от самих сновидений, а от рассказов о сновидениях» [5]. 74 Литература 1. Гончог-Чжигмэд-Вангбо. Повествование о жизни Всеведущего ЧжамьянШадбий-Дорчже, могущественного учёного и сиддха, называющееся «Брод, ведущий к удивительно благому уделу». – Улан-Удэ, 2008 2. Джамгон Конгтрул Лодро Тайе. Житие Мачиг Лабдрон // Знаменитые йогини. Женщины в буддизме. – М., 1996. – С. 93-138 3. Житие Конгтрула Лодро Тайе // Джамгон Конгтрул Лодро Тайе. Мириады миров: буддийская космология в Абхидхарме, Калачакре и Дзогчене. – СПб., 2003. – С. 15- 31 4. Кычанов Е. И., Мельниченко Б. Н. История Тибета с древнейших времён до наших дней. − М., 2005 5. Малкольм Н. Состояние сна. – М., 1993 6. Рождённый из лотоса. Жизнеописание Падмасамбхавы. − СПб., 2003. 7. Савицкий Л. С. Тибетская литература [первой половины XIX в.] // История всемирной литературы. – М., 1989. − Т. 6. − С. 636−637 8. Толстая С. М. Иномирное пространство сна // Сны и видения в народной культуре. – М., 2001. – С. 198-219 9. Трактхунг Гьялпо. Жизнь Миларепы // Великие учителя Тибета. – М., 2003. – С. 209-463 10. Donatella Rossi. mKha’ ‘gro dbang mo’i rnam thar, The Biography of the gTer ston mab De chen chos kyi dbang mo (1868-1927?) // Revue d’Etudes Tibetaines – Tibetan Studies in Honor of Samten Karmay. Part II – Buddhist & Bon po Studies, Novembre 2008. – Paris. – P. 371-378 11. Dorji, Lham. Religious Life and History of the Emanated Heart-son Thukse Dawa Gyeltshen //The Journal of Bhutan Studies. − Volume 13, Winter 2005. − P. 74-104 12. Tedlock, Barbara. Dreams // Encyclopedia of Religion. New York, 2005. − Vol.4. − P. 2482-2491 13. Young, Serinity. Dreaming in the Lotus: Buddhist Dream Narrative, Imagery & Practice. – N.Y., 1999 *** В.А. Васильченко, докторант Ставропольского госуниверситета СКЕПТИЦИЗМ И БУДДИЗМ В СРАВНЕНИИ И ДИАЛОГЕ В ХIХ-ХХ веках интерес к доказательству наличия исторических имплантаций буддистских религиозно-философских сюжетов в западную культурную ткань приобрел среди европейских интеллектуалов весьма широкие 75 масштабы. Причиной тому служит и образовавшийся дефицит собственных базовых смыслосодержащих ценностей, и естественная потребность в приискании новых методологических инструментов, дающих дополнительные опции при конструировании картины стремительно меняющейся реальности. Интерес этот нередко носил и носит маргинальный и выхолощенный характер, что до определенной степени дискредитирует сами попытки компаративистских исследований в данном направлении. Тем не менее, возможности эффективного сопоставления сюжетов из культурных фондов Востока и Запада далеко еще не истощены, по крайней мере, в части изучения особенностей формирования такого, казалось бы, исключительно европейского мировоззренческого феномена, как скептицизм. Внимание к подобного рода анализу стимулируется еще и тем, что научное понимание скептического мировоззрения и определение места его в культурно-исторической ткани ушло вперед не так значительно, как то можно было ожидать. Скептицизм в популярной литературе принято относить к интеллектуальным продуктам западной культуры, к традициям, пропитанным рациональностью, индивидуализмом и формальной логикой. Аргументация позднего представителя и собирателя античной скептической школы Секста Эмпирика внешне легко расслаивается на схемы, заполненные однообразными дедуктивными связями и узлами. Однако более пристальное рассмотрение обнаруживает в ней нерастворимые смысловые примеси – результат высевания культурного материала из предшествующих исторических эпох. Компаративистский анализ трудов Секста Эмпирика и некоторых доктринальных текстов махаянского буддизма, равно как и ряд обстоятельств фактического характера, позволяют осторожно говорить о существовании суггестивных нитей между восточным религиозно-философским мировоззрением и мировоззрением собственно скептическим. Данная работа носит по необходимости исключительно пропедевтический и общий характер. Цель ее – систематизация некоторых предварительных сведений по проблеме, сопровождаемая сугубо гипотетическими выводами. Основной упор делается не на раскрытие внутренней логики скептического учения, но на как можно более широкую демонстрацию выпадающих из ее традиционных интерпретаций фактов. Это определяет такую конструктивную особенность изложения материала, как использование минимума филологических приемов. На данный момент представляется целесообразным ограничиться только общефилософским анализом. Какие же обстоятельства позволяют в принципе говорить о влиянии буддийской философии на античный скептицизм? Прежде всего, внимание классической филологии, исследовавшей скептические тексты, еще в XIX веке обратил на себя один пункт, обладающий свойством воспроизводиться при раз76 личных преобразованиях скептического дискурса, а именно: решительное отвращение скептиков к спекулятивному, отвлеченному, догматическому мышлению. Отказ от метафизических представлений о реальности гарантирует, согласно скептической этике, достижение состояния атараксии – душевного спокойствия, безмятежности как высшей ценности существования. Данный нюанс дал возможность поставить вопрос о продуктивности анализа европейского скептицизма как феномена восточного, индийского происхождения с соответствующей философской родословной, поскольку идеал атараксии имел сходство с практиками индийских аскетов. Уже классики антиковедения XIX века обсуждали эту гипотезу вполне серьезно. Так, В. Брошар допускал возможность существования для скептицизма индийских корней [19, pp. 45, 74, 75]. Другие ученые, например, Э. Целлер, подвергли его аргументацию критике, а Р. Рихтер заключил, что, не имея конкретного материала, подобного рода проблемы можно решать лишь совершенно гадательно [13, с. XII]. Среди буддологов, однако, проблемы транзита индийских мифологем в европейскую культуру через античность продолжают активно дискутироваться и сейчас. Так, по мнению Э. Конзе, негативное отношение мадхьямиков к теоретизированию обнаруживает поразительную параллель с так называемым движением греческих скептиков [10, с. 187]. Необходимо отметить, что попытки рассмотреть вопрос исходя только из общих соображений и здравого смысла результативными быть не могут. Позиционирование того либо иного западного философского учения в качестве дубликата восточного или наоборот наряду с увлекательными поисками смысловых пересечений требует крайне внимательного и аккуратного обращения с историческим материалом. Компаративистские штудии необходимо должны опираться на строгую методологию сличения исторических, культурных, психологических, лингвистических фактов. Как отмечает В.К. Шохин, для постановки вопроса о теоретической возможности (лишь теоретической) выведения любого элемента X в любой традиции B из любой традиции A требуется наличие как минимум четырех необходимых условий: 1. Между A и B имеются культурно-исторические контакты, достаточные для обеспечения возможности идейного обмена между ними; 2. X в A засвидетельствован достоверно раньше, чем в B; 3. X в B не имеет автохтонных прецедентов; 4. X в B имеет неопровержимые специальные (не общие) сходства с X в A. Насколько же соответствует этим требованиям данная ситуация? Рассмотрим, во-первых, возможности исторических контактов. Сведения о них незначительны, но весьма любопытны. Так, Диоген Лаэрций сообщает о том, что родоначальник античного скептицизма Пиррон, сопровождая повсюду своего наставника Анаксарха, встречался с индийскими гимнософистами, 77 от которых якобы и вывел свою достойнейшую философию [6, с. 379]. Вызывает интерес и упоминание имени Будды Климентом Александрийским [9, с. 117], писателем II-III веков нашей эры. Учение Будды, следовательно, известно было во II веке в Александрии, а ведь именно здесь, как предполагается, проходила деятельность позднего представителя античного скепсиса Секста Эмпирика. По словам В.К. Шохина, «Александрия знала Индию потому, что, во-первых, местные купцы активно общались с индийскими, вовторых, в Индию ездили александрийские христианские миссионеры, в частности Пантен (II век)» [18, с. 222]. Наконец, следует, в общем, отметить, что походы Александра Македонского, в результате которых возникли Греко-Бактрийское и Индо-Греческое государства, образовали платформу для взаимных культурных инъекций Востока и Запада. В знаменитом буддийском философском памятнике «Вопросы Милинды» приведен диалог об архатстве между буддийским монахом Нагасеной и греко-индийским царем Милиндой (Менандром – первая половина II века до нашей эры). Менандр, вероятно, в результате обратился в буддизм. Во всяком случае, он сыграл значительную роль в распространении буддизма. Между державами Маурьев и Селевкидов, имевшими общие границы, необходимо должен был осуществляться реципрокный обмен. Критики концепции реальности влияния на античный скептицизм со стороны индийской философии не замедлили указать на целый ряд трудностей, возникающих при анализе возможностей исторических контактов и культурного кроссинговера между скептиками и индийскими аскетами. Во-первых, подробностей встреч Пиррона с гимнософистами показания Диогена Лаэрция не удержали, оставаясь для большинства исследователей в лучшем случае малоинформативным, если вообще не избыточным для понимания античного скепсиса источником. По мнению, например, А.С. Богомолова, Пиррону незачем было ума искать и ездить так далеко, поскольку учение его синтезировало элементы, имевшиеся уже в греческой мысли и прекрасно объясняется целиком из последней [4, с. 331]. Свои сложности возникают и при попытке идентифицировать гимнософистов Диогена Лаэрция как протобуддистов. Для С.В. Пахомова мысль о том, что Пиррон заимствовал свою идею скептического воздержания от суждения из мадхьямики, выглядит просто фантастичной уже потому, что для этого приходится изрядно удревнять саму мадхьямику, возводя ее истоки к 350 году до нашей эры [12, с. 15]. С другой стороны, не имея до сих пор полного представления об особенностях формирования и модусах бытования источников махаянского буддизма, делать категорическое заключение о невозможности подобного оборота буддийского культурного фонда было бы весьма и весьма поспешно. 78 Вопрос о возможностях присутствия и формах влияния буддийской философии в античной культуре специально рассматривался В.К. Шохиным в работе «Ф.И. Щербатской и его компаративистская философия». В целом В.К. Шохин по отношению к реальности и весомости идеологических следствий греко-индийских контактов для античного мира настроен весьма и весьма критично, и признает их состоятельность, пожалуй, только для скептической школы [18, с. 221]. Правда, исследователь связывает упоминаемых Диогеном Лаэрцием гимнософистов не с каким-то вариантом протобуддизма, но с традицией так называемых индийских «скептиков» (которых за способность уклоняться от ответа на любой вопрос буддисты прозвали «скользкими рыбами» – амаравиккхепики) [18, с. 221]. Данное предположение не выглядит убедительным. Как справедливо отмечается в литературе, «образ сосредоточенных и малообщительных гимнософистов, которые самостоятельно не искали встречи с кем-либо, никак не согласуется с образом болтливых спорщиков, «изворачивающихся, словно угри», представленным в буддийской традиции» [5, с. 125]. Более того, никак не является ритором и демагогом и сам Пиррон, живший в уединении и искавший возможность «сбросить с шеи ярмо пустомысленных мнений софистов». Таким образом, хотя попытки установления прямой синхронизации между античным скептицизмом и буддизмом махаяны на данный момент следует считать недостаточно обоснованными, отрицать принципиальную возможность кооптации отдельных буддистских идеологем в субстрат скептических постулатов (пусть и при крайней фрагментарности реальных исторических контактов) нельзя. Но, во-вторых, и в случае, если будет доказана иллюзорность прямых или опосредованных заимствований в результате известных на сегодняшний момент культурных коммуникаций, останется общность риторической матрицы скептического рассуждения и рассуждения, воспитанного буддистской логикой, общность, гнездящаяся как в сходстве отдельных образов, так и в совпадении схем аргументации. Проблема влияния индийской философии на античный скептицизм была принципиально поставлена в работе А.М. Френкиана (A.M. Frenkian) «Греческий скептицизм и индийская философия» («Scepticismul grec si filozofia Indiana»), которая на сегодняшний момент является наиболее полным специальным исследованием в данном направлении. Эта работа исключительно важна в контексте первоначального накопления эмпирического материала по проблеме, поскольку в центре внимания ученого находится поиск текстологических параллелей у греческих и индийских авторов. А.М. Френкьян специально анализирует три таких значимых совпадения, связанных с образами «змеи и веревки» и «огня и дыма», а также логического рассуждения по способу «тетралеммы». 79 Например, как сообщает Тимон Флиунтский, его учитель Пиррон видел истинную мудрость в том, чтобы говорить о любой вещи, что она не более существует, чем не существует, существует и не существует одновременно, и не существует и не не существует. Такой способ рассуждения, при котором последовательно подвергаются отрицанию альтернативные предикаты, приписываемые изучаемому предмету, их конъюнкция, а также и отрицание конъюнкции, получил название тетралеммы. Как пишет А.М. Френкиан, «тетралемма очень стара в индийском мышлении и находится в самых древних частях Буддийского канона на языке пали, относящегося к I веку до нашей эры» [20, c. 53], а «Пиррон был первым греком, воспринявшим эту манеру ставить вопрос в виде тетралеммы, введя ее в греческое мышление» [20, с. 58]. Мнение о том, что тетралемма как прием доказательства заимствована скептиками из индийской логико-аргументационной традиции было поддержано в последнее время В.К. Шохиным, по словам которого матрица рассуждения Пиррона – это и есть знаменитое индийское «воздержание от суждений» по схеме «антитетралеммы»: ~p, ~~p, ~(p^~p), ~~(p^~p), разработанное уже в начальный, шраманский период индийской философии в V веке до нашей эры [18, с. 221]. В данном случае налицо, как считает исследователь, реальность контакта греческих философов с индийскими. Никакая степень заботливости и осмотрительности в анализе не поможет уже, вероятно, уточнить адекватность и истинный смысл сложного свидетельства Тимона, полученного нами из весьма третьих рук. Оно, тем не менее, составляет ядро философии Пиррона, пусть и окруженное диффузным слоем интерпретаций. Но нельзя отрицать, что именно онтологическая (или гносеологическая) формула Пиррона обратилась в циркуляционный процесс антиметафизической аргументации у поздних скептиков. Так, в сочинениях Секста Эмпирика можно обнаружить более десятка случаев применения тетралеммы. Например, начиная обсуждение вопроса о том, существует ли что-нибудь истинное по своей природе, он постулирует, что нечто либо есть истинное, либо ложное, либо не истинно и не ложно, либо и ложно и истинно, причем каждая из альтернатив опровергается [15, с. 277]. Тетралемма неоднократно встречается в буддийском логико-философском дискурсе. Общие правила производства критики основных философских понятий и схем, представленной в трактате основателя мадхьямаки Нагарджуны «Муламадхьямакакарика», базируются, в том числе и на использовании классической тетралеммы. Например, вещи не возникают ни из себя, ни из другого, ни из себя и из другого вместе, ни без причины вообще [3, с. 228], поскольку причина не может быть релевантной ни по отношению к несущему, ни по отношению к сущему: если что-то не-сущее, то у него еще нет причины, а если сущее, то ее уже нет [3, с. 230]. В целом здесь следует ска80 зать, что одно общее сопоставление негативной диалектики у Нагарджуны и Секста Эмпирика дает целый ряд параллельных чтений. Например, критикуя понятие движения, Нагарджуна отмечает, что движущееся не существует ввиду невозможности пройти как уже пройденное, так и еще не пройденное [3, с. 237] и т. п. Таким образом, Нагарджуна заключает, что ни движение, ни движущийся, ни проходимый им путь не существуют [3, с. 244]. Но совершенно параллельную данной критику понятий причины и движения мы находим у Секста Эмпирика [14, с. 276-298, с. 331]. Одно такое сопоставление не дает возможности утверждать, что чьи-то аргументы являются здесь дочерними или простыми принадлежностями других (апории против движения были весьма популярным упражнением в греческой диалектике до и помимо скептиков), но генетическое сходство схем распределения дедуктивных издержек просматривается. Другое текстуальное совпадение, обнаруженное А.М. Френкианом, касается использования Секстом Эмпириком при установлении дихотомии напоминающего и указывающего знака оборота «нет дыма без огня». По словам Секста, напоминающим знаком называется тот, который, наблюдаемый вместе с обозначаемым в живом представлении, одновременно со своим появлением перед нашими чувствами, хотя бы обозначаемое им было неочевидно, ведет нас к воспоминанию о том, что наблюдалось вместе с ним и теперь не представляется очевидным, как, например, обстоит дело с дымом и огнем. Напоминающий знак заверен жизнью, ибо всякий, кто видит дым, считает, что указан огонь [15, с. 280]. Комментируя секстовский оборот «нет дыма без огня» А.М. Френкиан замечает, что «мы встречаем эту формулу четыре раза у Секста Эмпирика и нам неизвестно, чтобы она существовала у других греческих авторов», при том, что «в Индии формула «нет дыма без огня» – одна из наиболее популярных и распространенных философем» [20, с. 49-50]. Действительно, в Индии, собственно говоря, выражение «холм огненный потому, что он дымится, а все, что дымится – огненно», наряду с выражением «Девадатта смертен потому, что он человек, а все люди смертны» является школьной, учебной иллюстрацией правильного логического вывода [17, с. 179]. Что любопытно, греческий аналог примера с Девадаттой («Все люди смертны и, поскольку Сократ человек, значит, Сократ смертен» – модус Barbara первой фигуры простого силлогизма) впервые встречается также только у Секста Эмпирика. У Аристотеля силлогизмов такой формы нет. Значительное внимание А.М. Френкиан уделяет еще одной знаменательной текстуальной параллели – образу «змеи и веревки». Данный образ Секст Эмпирик использует при изложении академической философии, а именно при изложении учения последователей новой академии о вероятностных представлениях. «Например, – пишет Секст, – тот, кто внезапно входит в тем81 ный дом, где лежит какая-нибудь свернутая веревка, получит о ней представление как о змее просто вероятное; если же он точно исследует и проверит то, что относится к ней, как, например, то, что она не двигается, что цвет у нее такой-то, и разное другое, то представление о веревке получится вероятное и со всех сторон проверенное» [15, с. 255]. По утверждению А.М. Френкиана, «пример веревки, принимаемой за змею, в индийской философии встречается неоднократно для пояснения различных философских представлений и типичен для показа известного соотношения между двумя объектами, из которых один обусловливает другой. Так, в философской системе Веданта, в комментариях Шанкары, этот образ используется как пример для иллюстрирования соотношения абсолютного (брахман) и эмпирического мира, рожденного из него на основе иллюзии (майи) и космического незнания (авидьи) [20, с. 48-49]. Вообще же образ «змеи и веревки» встречается как у буддийских, так и небуддийских авторов, таких как Гаудапада, Рамануджа, Чандракирти, Дигнага и других. В то же время в античной традиции в чистом виде он не прослеживается. Анализ данных текстуальных параллелизмов показывает, что античный скептицизм и индийскую философию можно рассматривать как порознь взятые, только допустив наличие последовательной серии случайных совпадений при формировании и развитии скептической школы. Однако еще не обнаружилось ничего, что бы указывало именно на буддизм махаяны как на донора логических приемов и образов скептического дискурса. Перечисленные А.М. Френкианом сюжеты являются общими для разных традиций индийской философии. Представляется, однако, что комплекс параллельных чтений может быть существенно расширен за счет рассмотрения автореферентных метафор в текстах Секста Эмпирика и литературе сутр. Метафора отброшенной лестницы, репрезентирующая у Секста самоопровержимость скептического дискурса («Как нет ничего невозможного в том, чтобы взошедший по лестнице на высокое место опрокинул ногою лестницу после восхождения, так не противоречит здравому смыслу и то, что скептик, достигнувши завершения предстоявшего ему предприятия при посредстве рассуждения, доказывающего, что доказательства не существует, как бы при помощи некоей штурмовой лестницы потом устранит и самое это рассуждение» [14, с. 243]), не находит себе автохтонных параллелей, но соответствует известной в буддийское традиции аллегории, уподобляющей учение Будды плоту, позволяющему переправиться через реку и оставляемому затем на берегу. Эта притча содержится в Палийском каноне, в Алагагадупама сутте [1]. По словам Э. Конзе, буддисты всегда сравнивали этот мир страданий, мир рождения-и-смерти, с разлившейся рекой. На ближнем берегу блуждаем мы, мучимые всевозможными неприятностями и горестями. На другом берегу, по ту сторону, находится нирвана [10, с. 165]. 82 Типологически близкий образ присутствует вроде бы и в «Алмазной сутре», которая (в изложении Р. Блайса) характеризует учение Махаяны следующим образом: «Нёрай учит вас, монахов, что его учение подобно плоту, на котором люди переправляются через реку. Когда переправа окончена, плот оставляют на берегу». [11, с. 214]. В иных переводах складка парадокса здесь почти незаметна («Те, кто постиг, что Благовестие (дхарма-парьяя) подобно плоту, должны избегать Законоучений, а еще более – их отрицания» – у Андросова [2, с. 619]; «Знающие, что я проповедую Дхарму, подобную плоду (?), должны оставить восхваление дхарм, а тем более не-дхарм» – у Торчинова [8, с. 43] и т. д.), однако общий смысл фрагмента остается идентичным. Так, комментируя данный пассаж, В.П. Андросов пишет, что «изучая сутру, мы интуитивно схватываем дух блага, заключенный в тексте, передающем весть о Благе не только посредством писаного (вернее, выраженного в знаках), Закона, но и посредством «угадываемого» смысла, являющегося основой всех Законоучений и текстов. Именно Благовестие как смысл только и служит плотом для переправы через реку сансары» [2, с. 619-620]. Сам логикопонятийный субстрат «Алмазной сутры» разрывается изнутри от давления скопившихся противоречий, причем консервативные культуры приемов теоретического доказывания травестируются, и винт буддийской диалектики за один оборот превращает противоречие в тождество: «Субхути, проповедующий Дхарму не имеет Дхармы, которую можно было бы проповедовать. Это и именуют проповедью Дхармы» [8, с. 60]. Автореферентные метафоры неоднократно появляются и в дальнейшей буддистской традиции, например, в дзэнских наставнических нарративах. «Поймав рыбу, мы забываем о сети», – пишет в трактате об уме дзэнский мастер Обаку [7, с. 234]. Не следует, конечного, и из этого совпадения заключать о наличии исходного для исследуемых текстов (скептического и буддийских) доктринального продукта, а тем более строить предположения о его виде и качестве. Все же позволительно констатировать, что скептическая и буддийская аргументации образуют в существенных частностях унисональный дуэт, и определенные выводы здесь напрашиваются. И скепсис, и буддизм махаяны характеризуются критической направленностью по отношению к умозрительному теоретизированию, их рефлексивные стратегии и рекомендуемые модели поведения ориентированы на опыт, практическую пользу и деконструкцию метафизических механизмов рассудка. Элементы скепсиса проницают буддизм махаяны, поскольку доктринальные и экзегетические тексты его («Алмазная сутра», «Сутра сердца», «Коренные строфы о Срединности» Нагарджуны и другие) являются кодексами полемических упражнений и не выставляют философской точки зрения. Согласно Э. Конзе, цель диалектики Нагарджуны заключалась вовсе не в том, чтобы 83 прийти к некоему законченному и определенному утверждению, а в том, чтобы уничтожить все мнения и свести все положительные убеждения к абсурду [10, с. 182]. Как пишет современный исследователь мадхьямаки В.П. Андросов, «для мадхьямика хороша и правильна лишь та логика, посредством которой верующие интеллектуалы докажут себе недействительность, ненужность и вредность (в целях «спасения») дискурсивного мышления» [3, с. 198]. Е.А. Торчинов отмечает, что «буддийская философия относилась самими буддистами к области «искусных средств», «уловок» бодхисаттвы… она может способствовать обретению мудрости, но сама не может быть мудростью» [16, с. 122-123]. Об этом же говорит и притча из Палийского канона: «Монахи, зная, что Дхарма похожа на плот, оставляйте даже (умелые) качества (дхаммы), не говоря уже об остальных» [1]. Исторические и социальные закономерности размещения данной аргументационной методики в столь разных культурных ареалах, как Индия и Средиземноморье, не могли не повлиять на появление местных провинциальных различий и в ее интерпретационном покрове. Для Нагарджуны целью является апофатическое осмысление мира конечной истины, постижение которой осуществляется через указанное «снятие» рациональности: для того, чтобы прийти в мир конечной истины, следует обосновать конвенциональный характер понятийных основ мира кажимости. Для скептика же цель – достижение атараксии (безмятежности, невозмутимости). Каждый из данных дискурсов обладает видовой специфичностью, которая, тем не менее, перекрывается общим объединяющим слоем – направленностью на элиминацию рассудочных, спекулятивных представлений о реальности. Разумеется, целиком, без всяких критических замечаний принять схему индийского происхождения античного скептицизма невозможно – скептицизм в истории заявил о себе раньше, чем буддизм махаяны. Но и отбросить имеющиеся факты было бы неправильно. Ученые-антиковеды доказывают, что скептики работали исключительно в рамках античной традиции, а их учение органически связано с комплексом представлений, свойственных древнегреческой философии. Гипертрофированное сомнение признается начальным моментом скептического дискурса о познании. Однако изучение условий формирования пирронизма в обстановке упадка классического полиса дает возможность установить ряд интересных закономерностей, провоцирующих альтернативные выводы. В частности, манипуляции автореферентными метафорами, свойственные скептическим нарративам, пусть косвенно, но свидетельствуют о появлении важного рубежа в истории античной философии, когда на ее развитие начинает оказывать влияние буддийская культура. В связи с этим можно осторожно предположить, что возникновение скептицизма в европейской традиции есть результат сложного взаимодействия, одно84 временно синергетического и антагонистического, восточного и западного стилей мышления, восточного и западного самосознания. Проблема в любом случае далека от завершения и требует дальнейшей разработки. В любом случае предпосылки для того, чтобы скептицизм и буддизм сыграли роль прокладываемых навстречу друг другу культурных туннелей между мировоззрениями Запада и Востока и объединились в воздействии на общественное сознание, угнетенное в настоящее время манифестациями примитивных мифологий имеются. Литература 1. Алагагадупама сутта (Притча о змее, фрагмент) // Маджджхима Никая (Перевод с английского Дмитрия Ивахненко на основе перевода с пали Тханиссаро Бхикху) // http://www.dhamma.ru/canon/mn22.htm 2. Алмазная сутра или Сутра о Совершенной мудрости, рассекающей [тьму невежества], как удар молнии // Андросов В.П. Буддизм Нагарджуны: Религиозно-философские трактаты. – М.: Восточная литература, 2000. 3. Андросов В.П. Учение Нагарджуны о Срединности. – М.: Восточная литература, 2006. 4. Богомолов А.С. Античная философия. – М.: Высш. шк., 2006. 5. Бонгард-Левин Г.М., Бухарин М.Д., Вигасин А.А. Индия и античный мир. – М.: Восточная литература, 2002. 6. Диоген Лаэрций. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М.: Мысль, 1979. 7. Золотой век дзэн. Антология классических коанов дзэн эпохи Тан. Составление и комментарий Р. Блайса. – СПб.: «Евразия», 1998. 8. Избранные сутры китайского буддизма. – СПб: Наука, 2000. 9. Климент Александрийский. Строматы. Т. 1 (Книги 1-3). – СПб.: Издательство Олега Абышко, 2003. 10. Конзе Э. Буддизм: сущность и развитие. – СПб.: Наука, 2003. 11. Мумонкан. «Застава без ворот». Сорок восемь классических коанов дзен с комментариями Р.Х. Блайса. – СПб.: Евразия, 2000. 12. Пахомов С.В. Дух Востока и западная цивилизация // Конзе Э. Буддизм: сущность и развитие. – СПб.: Наука, 2003. 13. Рихтер Р. Скептицизм в философии. Т. 1. – СПб., «Шиповник», 1910. 14. Секст Эмпирик. Сочинения в двух томах. Т. 1. – М.: Мысль, 1976. 15. Секст Эмпирик. Сочинения в двух томах. Т. 2. – М.: Мысль, 1976. 16. Торчинов Е.А. Философия буддизма Махаяны. – СПб.: «Петербургское Востоковедение», 2002. 17. Чаттерджи С., Датта Д. Индийская философия. – М.: Селена, 1994. 85 18. Шохин В.К. Ф.И. Щербатской и его компаративистская философия. – М.: Институт философии РАН, 1998. 19. Brochard V. Les sceptiques grecs. Paris, Imprim. nationale, 1887. 20. Frenkian А. М. Scepticismul grec si filozofia Indiana. – Bucuresti: (Editura) Academiei Republicii populare Romine, 1957. *** О.Г. Нишнианидзе, аспирантка Южного федерального университета ВОСЕМЬ БЛАГОРОДНЫХ ИСТИН БУДДИЗМА И АНТИЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ ПРАКСИС Ни для кого не секрет, что мы переживаем период мирового кризиса. О нем твердят СМИ, о нем говорят на улицах, его последствия мы ощущаем и на себе. Казалось бы, всего лишь год назад существование человека на Западе, да и в России выглядело стабильным, сытым и подконтрольным обывателю. При таких (стабильных) условиях многих интересовали лишь собственная зарплата, счета за коммунальные услуги, кредитные выплаты, телевизионные сериалы и ток-шоу. Но с началом мирового кризиса ситуация изменилась. Оказалось, что мы живет в опасном и нестабильном мире, что привычные формы социальной общности (предприятия, фирмы, корпорации и т.п.) гарантируют существование своих членов лишь во время экономического подъема и высоких цен на нефть. Человек вдруг ощутил себя одиноким, незащищенным, ответственным за свою судьбу. И если философия не предназначена для того, чтобы помочь ему, то для чего же она? Между тем, многие наши современники полагают, что в сегодняшнем мире философия никому, кроме самих философов, не нужна. В этом смысле интересно интервью директора Института философии РАН А.А. Гусейнова, озаглавленное «Российской газетой» «Сократ попал в тупик» («Российская газета» – Федеральный выпуск №4563 от 16 января 2008 г.). Востребована ли философия сегодня? «Спрашивать, зачем человеку философия, – отвечает на это вопрос д-р Гусейнов, – все равно, что спрашивать, зачем ему думать». Как только у человека появляется чувство неудовлетворенности, связанное с бренностью нашего существования, с самой сутью человека, как только возникает нестабильная ситуация, индивид вступает на поле философии. Так было и в VI в. до н.э., когда на смену брахманизму приходит буддизм. В это время распадается родовая община, рушатся традиционные связи, т.е. привычный уклад жизни неминуемо растворяется. При этом возникает необ86 ходимость в новом механизме социального регулирования и защиты, в новой системе обеспечения социальной стабильности. Конечно же, как это и бывает, буддистская философия предложила качественно иные принципы существования человека и социума. В новом буддистском обществе акцент перемещается от коллективного к индивидуальному: теперь, осознав и сформулировав свой личный праведный путь, человек имеет возможность вырваться из сансары. В способности воспринять учение Будды и избрать путь к спасению все люди оказались равными. Главная цель буддизма, к которой должен стремиться каждый, – прекращение перерождений, вызывающих страдания, достижение нирваны, состояния покоя, блаженства. Однако достижение подобного сверхбытия возможно лишь при особом внимании человека к себе, при «заботе о себе», при ведении добродетельной жизни. Указанный Буддой путь состоит из восьми ступеней, или правил, и поэтому носит название благородного восьмеричного пути. Следующий этому благородному пути достигает определенных добродетелей: истинное воззрение, истинная решимость, истинная речь, истинное поведение, истинный образ жизни, истинное усилие, истинное направление мысли, истинное сосредоточение. Таким образом, восьмеричный путь представляет собой определенный образ жизни, определенную практику, реализация которой ведет к самосовершенствованию, и, как результат, достижению состояния покоя. Поскольку буддизм учит, что невежество является причиной наших страданий, то для нравственного совершенствования необходимо в первую очередь истинное воззрение (истинное понимание четырех благородных истин). Знание истин должно быть дополнено решимостью преобразовать жизнь в соответствии с ними. Наше поведение и речь, оказавшись подконтрольными истинной решимости, также приобретают статус истинных. Истинный образ жизни заключается в том, что следует зарабатывать средства на жизнь честным путем. Необходимость этого правила вытекает из того, что для поддержания жизни нельзя прибегать к недозволенным средствам – надо сосредоточенно трудиться в соответствии с доброй решимостью. Человек должен воздерживаться, например, от торговли живыми существами, людьми и животными. Истинный образ жизни, так же заключается в отказе от излишеств, в том, чтобы удовлетворятся необходимым и не искать богатства и роскоши. Только поняв необходимое и достаточное можно избавиться от зависти и многих других страстей и страданий с ними связанных. Непрерывное совершенствование невозможно без постоянного стремления к освобождению от груза старых дурных мыслей, без борьбы против их появления. Поскольку ум не может оставаться пустым, его надо постоянно стремиться заполнять хорошими идеями, стараясь закрепить их в уме. Такое 87 постоянное старание называется истинным. Истинное направление мысли заключается в том, что необходимо воспринимать вещи такими, какими они являются на самом деле. Человек сосредоточивается на осмыслении и исследовании истин. Истинное сосредоточение проходит в несколько этапов. На первой ступени глубокого созерцания человек наслаждается радостью чистого мышления и покоем отрешенности от земного. Когда достигается такое сосредоточение, вера в четырехстороннюю истину рассеивает все сомнения, и необходимость в рассуждениях и исследованиях отпадает. Так возникает вторая стадия сосредоточения, которая представляет собой радость, покой и внутреннее спокойствие, порожденные усиленным невозмутимым размышлением. Это – стадия сознания, радости и покоя. На следующей ступени делается попытка перейти к состоянию безразличия, то есть способности отрешиться даже от радости сосредоточения. Так возникает третья, более высокая ступень сосредоточения, когда человек испытывает совершенную невозмутимость и освобождается от ощущения телесности. Но он еще сознает это освобождение и невозмутимость, хотя и безразличен к радости сосредоточения. Наконец, человек пытается избавиться даже от этого сознания освобождения и невозмутимости и от всех чувств радости и вдохновения, которые он ранее испытывал. Тем самым он поднимается на четвертую ступень сосредоточения. В результате достигается желанная цель – прекращение всякого страдания. Соблюдение этих правил, предложенных философией буддизма, приводит к состоянию совершенной невозмутимости и самообладания, так необходимого в современной жизни. Таким образом, несмотря на бессчетные стремления понизить статус философии, А.А.Гусейнов считает, что философия необходима как отдельному человеку, так и обществу, «ведь идеи нескольких великих мыслителей могут изменить мир». Философы помогают человечеству по-новому взглянуть на себя, на мироустройство, на многие важнейшие вопросы общества; мыслители показывают людям новые ценности, ориентиры, новые перспективы развития. В историко-философской мысли закрепилось мнение, согласно которому статус человека как индивида, его творческого начала во всех сферах жизни повысил научно-технический прогресс. Этому учат авторы многочисленных книг по истории философии. Например, Ричард Тарнас в «Истории западного мышления» пишет: «С наступлением эпохи Ренессанса человеческая жизнь… обрела присущую ей непосредственную, самостоятельную ценность, некую волнующую экзистенциальную значимость». Но справедливо ли считать эпоху Возрождения первооткрывательницей человеческой личности? 88 Цель моей статьи – показать, что обращение человека к самому себе как личности произошло не в эпоху Ренессанса, а гораздо раньше, что уже в эллинистической античности наблюдается всплеск «индивидуализма», все более важное место отводится «частным» аспектам существования, личному поведению и вниманию к самому себе. И именно в античности были разработаны философские практики образа жизни, которые по праву можно считать первыми социогуманитарными технологиями. Что оказало влияние на подобное развитие событий? Опять же ситуация перемен и связанная с ней нестабильность. Рассмотрим данную эпоху подробнее. С признанием авторитета разума греки избавляются от подавляющей власти богов; теперь человек в своей повседневной деятельности преследует собственные интересы и полагается на самого себя, «зная, что не потому человек счастлив, что его любят боги, а потому его любят боги, что он счастлив» [4]. Такое доверительное отношение к разуму объясняется полисным характером греческой жизни, важной ролью народного собрания и публичных ораторских состязаний. Гражданский характер общественной жизни и роль личностного начала в ней нашли обоснование в практической философии, задачей которой выступает обоснование человеческих добродетелей, должной меры жизни людей. Период классики характеризуется необычайным взлетом общественной жизни. В качестве самой главной и первой обязанности каждого свободного гражданина фигурировала способность управлять государством. Это умение предполагало участие в народном собрании, военных кампаниях, судопроизводстве, кроме того, было необходимо «доходчиво и ясно выражать свое мнение по любому общественно значимому вопросу» [2]. Исходя из вышесказанного, оказывается понятной потребность в развитии целого комплекса умений и навыков, которыми должен обладать свободный гражданин. В Греции для обозначения совокупности подобных знаний употреблялось слово калокагатия, которое характеризует гармоничного, прекрасного человека, идеального гражданина – калокагатоса. Не вызывает сомнения тот факт, что для выработки обширного комплекса гражданских доблестей требовалось много свободного времени. В классическую эпоху как раз благодаря рабству граждане обладали им. Досуг, свободное время получил название схолэ – школа. Именно в этих условиях греческого города-государства, все жители которого были активными гражданами, развивается учение софистов. Софисты были первыми профессиональными учителями; они берутся готовить граждан к участию в работе в суде, в народном собрании. Они готовили хороших граждан, умеющих излагать мысль, 89 аргументировать и выступать. Получается, что тот идеал гармоничного и всесторонне развитого человека, который в эпоху Возрождения стал целью универсального развития, в античности был хорошим гражданином. Однако в конце IV в. до н. э. жизнь греков коренным образом изменилась. Эпоха эллинизма ознаменовала крушение полисной социальности: античный полис разрушался, верховная власть перешла в руки монарха. Вместе с античным полисом рушится и политическая солидарность, которая определяла смысл существования отдельного человека в классическую эпоху. В этих условиях в центре внимания оказался уже не хороший гражданин, которого взращивали в классической Греции, а человек как индивид. В ситуации крушения полисной системы стабильность, присущая прежней жизни греков, неизбежно утрачивается; она словно растворяется в потоке перемен. Окружающая действительность, таким образом, оказывается бессильной в предоставлении жизненной опоры каждому отдельному человеку. Теперь же задачей для каждого человека становится поиск и утверждение новой жизненной опоры. Помочь найти гарантии индивидуального существования вызвались такие философские школы, как эпикуреизм, стоицизм и скептицизм. Диоген Лаэртский отмечал, что представители названных школ считали идеалом существования такое состояние, в котором человек остается невозмутимым при любых обстоятельствах, с достоинством перенося как дары, так и удары судьбы. Это состояние безмятежности – атараксия. Рассмотрим, как эту установка была реализована в эпикуреизме. Каждый человек имеет право на счастливую жизнь, утверждал Эпикур. Однако не следует отождествлять счастье с удовольствием. Удовольствие является непосредственным, а достижение счастья требует усилий – в первую очередь, занятий философией. В письме Менекею Эпикур пишет, что занятия философией необходимы для душевного здоровья, а поэтому «заниматься философией следует и молодому и старому: первому – для того, чтобы он и в старости остался молод благами в доброй памяти о прошлом, второму – чтобы он был и молод и стар, не испытывая страха перед будущим» [1]. Главная задача философии, с точки зрения Эпикура, – обоснование и достижение счастья человека. Наибольшее беспокойство причиняют человеку душевные страдания, источником которых является невежество. Философия же, по убеждению Эпикура, является лучшим лекарством в борьбе с невежеством, а, следовательно, и со страданиями. Опираясь с помощью философии на собственный разум, человек может защитить себя от превратностей жизни и боязни смерти; ответить на многие злободневные вопросы. Так, что величайшая из зол – смерть – не имеет к нам никакого отношения. Эпикур пишет Менекею: «Привыкай 90 думать, что смерть для нас – ничто: ведь все и хорошее и дурное заключается в ощущении, а смерть есть лишение ощущений. <…> Стало быть, … когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет» [1]. Получается, что и бояться на самом деле нечего. Итак, в эпоху эллинизма в фокусе оказывается не гражданин, а человек как личность, человек с его внутренним миром. И тут же он оказывается предметом и творением философии. Соответственно философия осмысливается не столько как умозрение (как у Платона и Аристотеля), сколько как практическое искусство, освоив которое, можно обрести гармонию, достоинство и счастье. Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что: во-первых, в ситуации перемен, нестабильности, опасности возникает потребность в поиске новой опоры. Во-вторых, как индийское, так и древнегреческое общество предложило в качестве такой опоры философию. В-третьих, в центре внимания философии впервые оказался человек. Отличительной и даже особенной чертой эллинистической античности является становление человека как индивида, проблема человеческой личности с ее внутренним миром. Ее открытие произошло уже в эллинистической Греции, о чем свидетельствуют многие философские тексты того времени. И, наконец, в-четвертых, философия приобрела функцию созидания человеческой личности. Поэтому она уже не столько теоретически нагруженное знание, сколько образ жизни с разработанными практиками образа жизни, которые, по сути, являются первыми социогуманитарными технологиями. Литература 1. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов // М., «Мысль», 1986. 2. Ромек Е.А., Ромек В.Г., «Тренинг наслаждения», Речь, 2003. 3. Гусейнов А.А. «Сократ попал в тупик» // «Российская газета», Федеральный выпуск №4563 от 16 января 2008 г. 4. «История философии» под ред. Кохановского В.П. и Яковлева В.П., Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002. 5. Р. Тарнас «История западного мышления» / Пер. с английского Т.А. Азаркович. – М.: КРОН-ПРЕСС, 1995. 6. Щербатской Ф.И. Философское учение буддизма.// Восток – Запад. Исследования. Переводы. Публикации. М., 1989. 7. Чаттерджи С. Дата Д. Индийская философия М., 1994. *** 91 Ю.В. Домина, аспирант, преподаватель Южного федерального университета МИМЕСИС КАК СПОСОБ РЕЧЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ТЕАТРЕ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ Мимесис с целым комплексом значений, включающих (зачастую неумелое, комичное) подражание, имитацию, представление, самовыражение и др., является весьма распространённым в научном обиходе термином. Он стал предметом научных изысканий Платона, Аристотеля, З. Фрейда, У. Бенджамина, Т. Адорно, Э. Ауэрбаха, Л. Иригерей, Р. Жирара, Ф. Лаку-Лабарта, П. Рикёра, Ю.М. Лотмана, войдя, таким образом, в понятийный аппарат семиотики, культурологии, филологии, психотерапии, антропологии и других гуманитарных наук. С античности известно два ключевых понимания мимесиса: в искусствоведении и философии этот термин означает подражание как концепцию художественного творчества, способ воспроизведения природы в произведении искусства. Так, согласно Демокриту, искусство, понимаемое как творческая продуктивная деятельность человека, происходит от подражания человека животным. Платон считал, что основу всякого творчества составляет подражание (как простое копирование) предметам и явлениям окружающего мира [3]. Собственно эстетическая концепция мимесиса принадлежит Аристотелю. Она включает в себя и адекватное отображение действительности (изображение вещей такими, «как они были или есть»), и деятельность творческого воображения (изображение их такими, «как о них говорят и думают»), и идеализацию действительности (изображение их такими, «какими они должны быть»). В зависимости от творческой задачи художник может сознательно или идеализировать, возвысить своих героев (как поступает трагический поэт), или представить их в смешном и неприглядном виде (что присуще авторам комедий), или изобразить их в обычном виде. Цель мимесиса в искусстве, по Аристотелю, – приобретение знания и возбуждение чувства удовольствия от воспроизведения, созерцания и познавания предмета [1]. Однако многие исследователи отмечают неадекватность такого толкования мимесиса. Поль Зюмтор, например, считает, что подражание – это всего лишь категория искусства, принадлежащая к особой системе ценностей. Оно обладает собственной правдивостью, связанной с «фигурой» текста, и является его неотъемлемой составляющей. Поэтический язык не является ни проекцией реальности, ни ее описанием, ни повторением; по сути, он даже не ее комментарий. Он существует отдельно, а референтом поэтического текста является некая истина, отличная от реальности, и единственной гарантией которой служит поэтическое слово [3]. 92 Поль Рикёр по-новому переосмыслил мимесис как метафору действительности, отсылающую к реальности не для того, чтобы копировать её, а для того, чтобы предписать новое прочтение. Это значит, что человек создает свои собственные версии «реальности», объединяющие метафорические аспекты освоения «действительности» с интерпретацией ее содержания. Мимесис, таким образом, подчёркивает обоюдонаправленный характер конструирования «реальности»: как с точки зрения создания индивидом собственных версий, так и с точки зрения их интерпретации и понимания. У Рикёра мимесис имеет три аспекта: мимесис1 – предварительное понимание того, чем является человеческое действие с его семантикой, символизмом и темпоральностью; мимесис2 заключается между истоком и исходом текста, на этом уровне мимесис может быть определён как конфигурация действия; миме-сис3 знаменует собой пересечение мира текста и мира слушателя или читателя [10]. Второе из анализируемых нами толкований мимесиса (стилистический приём, характеризующийся подражанием чужой речи) также зарождается в трудах античных мыслителей, но оно выходит за пределы чистого творчества («поэзис») в область практической, в нашем случае – речевой, деятельности человека («праксис»). В качестве материала для исследования нами были использованы тексты комедий У. Шекспира, который, особенно на раннем этапе творчества, весьма активно использовал мимесис, расширив разнообразие его видов и функций и обогатив его эмоционально-экспрессивный потенциал. К тому же, мимесис, обладающий театральной природой, близок Ренессансу, поглощённому идеей игры. Происхождение и некоторые функции мимесиса как тропа связаны с таким театральным жанром, как мим, предполагающим комическое разыгрывание мнимого под настоящее. В состав мима, по словам О.М. Фрейденберг [6], входили пародия, глумление и передразнивание. Согласно В. Вейдле, Г. Колер, предпринявший исследование значений мимесиса в античности и их эволюции, пришёл к следующим заключениям: а) Привычное толкование слова mimesis, обычно переводимого как «подражание», «вводит в заблуждение», так как «охватывает лишь малую часть изначального круга значений» [цит. по 4]. Постепенное сужение круга значений происходит до середины V века, так что даже для послеклассического времени преобладание частичного значения «imitatio» («подражание») нельзя считать характерным. б) Древний смысл греческого слова mimesis никоим образом не был порожден ни теорией какого-либо искусства, и менее всего – изобразительного, считавшегося в те времена «подражательным», ни теорией поэтического искусства, но появился в религиозной, точнее, – культовой сфере, еще точнее, – в культовом танце в том его виде, который принадлежал к дионисийским 93 оргиям и исполнялся mimos'oм или несколькими mimoi. Издревле mimeisthai означало как «представлять посредством танца», так и «выражать танцем», поскольку в танце (даже не культовом) выражение и представление не могут быть разделены. Эти выводы подтверждаются и исследованиями кембриджских ритуалистов. Джейн Гаррисон в работе «Античное искусство и ритуал» заявляет: «Мы переводим mīmēsis как «имитация, подражание», и поступаем совсем неверно. Слово mimesis означает действия, деятельность человека, называемого mime». Важно, что актёр (actor), занявший место мима, когда пантомиму и примитивную драму сменил театр, в английском языке происходит от глагола act, который означает не «имитировать, подражать», а «действовать, поступать», а именно этот деятельностный аспект подчёркивается в древнегреческом dromenon (ритуал, то, что воспроизведено) и drama. Искусство и ритуал близки также в силу своего эмоционального начала: в обоих случаях явление действительности копируется не в качестве самоцели, а для воспроизведения эмоций, которыми это явление сопровождалось, и только когда затихают эмоции, копия становится простой имитацией. Когда актёр переодевается, надевает маску, шкуру убитого зверя или птичьи перья, он делает это не для того, чтобы скопировать кого-то другого, а чтобы подчёркнуть, усилить свою индивидуальность [9]. Фрэнсис Корнфорд приходит к тому же заключению в «Психологии и драме» [7] и «Мистицизме и науке в пифагорейской традиции» [8], где он отмечает ещё одно важное свойство мимесиса – сопричастность, слияние выражающего с выражаемым, за счёт чего и происходит катарсис, очищение от воспроизводимых эмоций. Согласно В. Вейдле, миметическое превращение достигается в некоем действе. Оно не оправдывает себя тем, что создает осмысленное произведение: оно само изначально осмыслено. Не произведение речи – сам язык танца, звука, слов осмыслен, поскольку он миметичен. Мимесис – это процесс, а не состояние. Хотя он и проявляется через произведение, изначально он является свойством не собственно произведения, а процесса создания, деятельности, действа, которое его творит [4]. В дискурсе шекспировского театра мимезис представляет собой гегелевское «своё иное», где противоположности «Я» и «Другой» синтезируются, сливаются в неразделимое единство, где, впрочем, вполне явственны те смыслы, которые вносит инициатор мимесиса и те, которые он оставляет от миметируемой реплики. В то же время, мимесис – лишь отражение в кривом зеркале слов собеседника, так что та же форма получает принципиально новое содержание, обогащается новыми интонациями и акцентами и, хотя внешне мимесис напоминает простое копирование, подражание, по сути, он им не является. На первый взгляд те же слова в реплике инициатора несут в 94 себе весь комплекс значений, которыми наделил их тот, кто их первым высказал, и тот, кто их смиметировал, поэтому мимесис и как стилистический приём является не сколько подражанием (несмотря на своё происхождение), сколько формой самовыражения через подражание. Актёр и зритель, говорящий и слушающий, «Я» и «Другой» приобретают равное положение: один представляет, другой воспроизводит, завершая акт творения высказывания: VALENTINE. Is Silvia dead? PROTEUS. No, Valentine. VALENTINE. No Valentine, indeed, for sacred Silvia. [11] В этом отношении мимесис как нельзя лучше воплощает собой диалогическую природу языка, о которой говорит М.М. Бахтин: «Быть – значит общаться диалогически. Когда диалог кончается, все кончается. Поэтому диалог, в сущности, не может и не должен кончиться... Всё – средство, диалог – цель. Один голос ничего не кончает и ничего не разрешает. Два голоса – минимум жизни, минимум бытия» [2]. Это готовность внимательно слушать «Другого» и отвечать ему, понимая, что только через «Другого» «Я» может понять и раскрыть себя, определить свое положение в мире и свое назначение, приобщиться к мировому единству. Все эти формы взаимодействия социально обусловлены и осуществляются с помощью языка. Таким образом, и сознание, и познание, и язык диалогичны. Смысл рождается на границе двух сознаний, в месте встречи Я и Другого, в процессе их диалогического взаимодействия. В настоящем исследовании «Я» и «Другой» совпадают с автором высказывания, содержащего мимезис, и его собеседником, чья реплика подвергается миметированию, и обозначают субъектов коммуникации, чья индивидуальность определяется комплексом ролей, навязанных как внутренним миром художественного произведения, персонажами которых они являются, так и драматургом, создавшим этот мир. Поэтому необходимо учитывать, что слово каждого коммуниканта в дискурсе шекспировских комедий потенциально многоголосое, так как его речевой портрет отражает специфический характер образа персонажа, участвующего в коммуникации, идиостиль автора пьесы, представления о речевом поведении исполнителя той или иной роли, свойственные эпохе Ренессанса. «Я» и «Другой» в дискурсе шекспировских комедий – равноправные субъекты коммуникации, а общего в них куда больше, чем отличного, в силу охваченности единым духом игры, где, впрочем, ни один не забывает свою роль и стремится постоянно самоутверждаться в ней. В мимесисе «Я» и «Другой» максимально сближаются, но внутренняя дистанция между «Я» и «Не-Я» всё же остаётся, проявляясь в разной степени искажениях высказывания собеседника. 95 Самым ярким примером разграничивания «Я» и «Другого» является использование мимесиса в рамках социально-различительной функции, где он выступает неотъемлемой чертой речевого поведения персонажей, исполняющих роль слуг, а по совместительству шутов: ANTIPHOLUS OF EPHESUS. Well, I'll break in; go borrow me a crow. DROMIO OF EPHESUS. A crow without feather? Master, mean you so? [12] Мимезис может использоваться персонажем, чтобы замаскировать свои истинные эмоции и мысли, имитируя чужие, то есть внешне кажется, что «Я» полностью вбирает в себя «Другого», в то время как внутренне «Я» сохраняет свои взгляды, своё мнение, не обязательно совпадающее с «Другим», и соглашается, потому что такая позиция выгодна. BASSANIO. Ay, sir, for three months. SHYLOCK. For three months- well. BASSANIO. For the which, as I told you, Antonio shall be bound. SHYLOCK. Antonio shall become bound- well. [13] Есть также примеры мимесиса, где «Я» внутренне сливается с «Другим» для осознания своего «Я» в сценах, которые можно условно назвать «театрв-театре», где персонажи приобретают дополнительные функции, соответствующие данной игре, а мимесис помогает им самоидентифицироваться, утвердиться в новом качестве: PETRUCHIO. I say it is the moon. KATHARINA. I know it is the moon. PETRUCHIO. Nay, then you lie: it is the blessed sun. KATHARINA. Then, God be bless'd, it is the blessed sun. [14] Последний пример, однако, демонстрирует максимальное единение «Я» и «Другого», принятие «Другого» как части «Я» через подражание речевым моделям, которыми пользуется «Другой». Не следует, впрочем, забывать, что даже в этом случае с «Другим» отождествляет себя лишь часть «Я», это только одна из ролей (в данном случае – послушной жены) в репертуаре актёра, а именно такими осознают себя все персонажи шекспировских комедий. Таким образом, стилистический приём мимесиса предполагает максимально возможное в условиях коммуникации сближение «Я» и «Другого», их соучастие в порождении высказывания, что объясняется амбивалентной природой приёма как такового. Литература 1. Аристотель. Поэтика. Об искусстве поэзии // Аристотель. Этика. Политика. Риторика. Поэтика. Категории. – Минск: Литература, 1998. – С. 1064-1112. 2. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство,1979. 3. Бычков В.В. Эстетика: Учебник. – М.: Гардарики, 2004. 96 4. Вейдле В. Эмбриология поэзии: Статьи по поэтике и теории искусства [Электронный ресурс] // Энциклопедия культур Déjà vu. – 2002. – Режим доступа: http://www.ec-dejavu.net/m-2/Mimesis.html 5. Зюмтор П. Опыт построения средневековой поэтики. – СПб., 2002. – С. 116-117. 6. Фрейденберг О.М. Образ и Понятие. // Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. – М., 1978. – С. 180-205. 7. Cornford F.M. Psychology and the Drama [1922 / 1927] // Selected Papers of F. M. C. Edited with an introduction by Alan C. Bowen (Greek and Roman Philosophy, 10). – London / New York, 1987. – P. 2-20 8. Cornford F.M. Mysticism and Science in the Pythagorean Tradition [1922-1923] // Selected Papers of F. M. C. Edited with an introduction by Alan C. Bowen (Greek and Roman Philosophy, 10). – London / New York, 1987. – P. 99-112. 9. Harrison J.A. Ancient Art and Ritual. – London, 1913. 10. Ricoeur P. Mimesis and representation // Annals of Scholarship. – 1981. – Vol. 2. – P. 15–32. 11. Shakespeare W. The Two Gentlemen of Verona. Complete Works of Shakespeare, Collins. – HarperCollins UK, 2006. 12. Shakespeare W. The Comedy of Errors. Complete Works of Shakespeare, Collins. – HarperCollins UK, 2006. 13. Shakespeare W. The Merchant of Venice. Complete Works of Shakespeare, Collins. – HarperCollins UK, 2006. 14. Shakespeare W. The Taming of the Shrew. Complete Works of Shakespeare, Collins. – HarperCollins UK, 2006. *** С.К. Сараева, аспирант Астраханского госуниверситета БУДДИЗМ В ДИАЛОГЕ РЕЛИГИЙ (НА ПРИМЕРЕ УЧЕНИЯ ДАЛАЙ-ЛАМЫ XIV) В настоящее время многие говорят о необходимости мирного диалога между различными религиозными сообществами и в первую очередь, конечно же, между представителями ведущих мировых религий. Выступая, как борец за утверждения мира и согласия на земле, Далай-лама XIV говорит, что наилучший путь одолеть неведение и прийти к пониманию – это путь диалога между последователями разных религиозных традиций. Говоря о религии, 97 Далай-лама XIV подчеркивает необходимость принятия религиозного плюрализма в отдельных странах и отвержения любой формы насилия над различными этническими и религиозными группами людей. Здесь он выступает как сторонник идей другого проповедника ненасилия и мира Востока – Махатмы Ганди. Как говорил Махатма Ганди: «Насилие порождает еще большее насилие. Ненасилие не есть оружие слабых, это оружие сильных». [1] Тензин Гьяцо, в свою очередь, утверждает, что отказ от насилия – это не только отсутствие от насилия, но также он включает чувство сострадания и заботу о других. По его мнению, необходимо поддерживать идею ненасилия и непричинения зла не только в семье, но и в религиях. Весьма ценны дискуссии между теологами, в которых следует обсудить сходство и, что, возможно, еще важнее, различия между религиозными традициями, исследовать их и оценить. Также, по его мнению, полезны встречи рядовых верующих, практически следующих той или иной религии, – на таких встречах люди могли бы поделиться своим опытом. Личные встречи с представителями отдельных религиозных структур могут оказаться для людей достаточно воодушевляющими, поскольку могут помочь человеку научиться восхищаться и воспринимать другие учения. Можно согласиться с Тензин Гьяцо, что большую пользу могли бы принести периодические встречи религиозных лидеров, во время которых они молились бы о чём-то общем. Встреча в Ассизах, в Италии, в 1986 году, когда представители всех мировых религий собрались, чтобы помолиться за мир, принесла необычайную пользу многим верующим, поскольку символизировала солидарность и преданность миру всех ее участников. И, наконец, очень полезными могут быть совместные паломничества представителей разных религиозных традиций. Нечто в этом духе было, когда в 1993 году Его Святейшество приезжал в Лурд, а затем в Иерусалим – святое место трех великих религий мира. Он также посещал различные индуистские, мусульманские, джайнские и сикхские храмы в Индии и за границей. Анализируя произведения Его Святейшество и информацию, которую мы получаем из масс – медиа, можно отметить, что этические воззрения Далайламы XIV имеют скорее надрелигиозный характер, несмотря на то, что он является главой буддийской общины; можно проследить процесс синтеза этических категорий и норм различных религий и представлений в проповедуемом им учении жизни. Он выступает не только как представитель религиозного сообщества, но и как просто человек, ищущий истину и проповедующий идею ненасилия, которая помогает человеку любого вероисповедания пойти верным путем, не оставив после себя множество «скверн». Несмотря на то, что Его Святейшество получил исключительно религиозное и духовное образование, мировой признание он снискал благодаря уникальной способности доносить до людей разных вероисповеданий ответы 98 на вопросы, которые они не могут найти в различных религиях. С ранней юности главной (и постоянной) областью изучения для него были буддийская философия и психология. В особенности он изучал труды религиозных философов школы гелуг, к которой традиционно принадлежат Далай-ламы. Но, будучи твердым сторонником религиозного плюрализма, он исследовал также основные труды других буддийских традиций. Его труды скорее светского характера, а не религиозного. Его Святейшество ставит своей целью призыв к нравственному единению людей на основании общечеловеческих законов. Хотелось бы, прежде всего, обратиться к нерелигиозным трудам Его Святейшества «Этика для нового тысячелетия» (2001 г.) и «Открытое сердце» (1999 г.), которые, по моему мнению, наиболее полно отражают ту нравственно-этическую базу, которую несет своим учение Далай-лама. Создание этих книг для массового читателя не обошлось без ряда сложностей, и в работе приняло участие много людей. Особая проблема возникла из-за того, что ряд тибетских терминов, использовать которые ему казалось необходимым, трудно переложить на современный язык. А так как он ни в коем случае не собирался писать философский трактат, то постарался объяснить эти термины так, чтобы их легко могли понять читатели, не имеющие специальной подготовки, и чтобы их можно было точно перевести на другие языки. Его Святейшество убежден, что для людей очень важно воспитывать в себе чувство, которое он называет «всеобщей ответственностью»[2], и наиболее лучшим способом распространения этого явления он называет межрелигиозный диалог. Это не является точным переводом тибетского термина, который буквально означает универсальное сознание (sem). Хотя понятие ответственности скорее подразумевается, чем присутствует в этом термине явно, оно всё же определенно включается в него. Когда он говорит, что на основе заботы о благополучии других мы можем и должны развивать в себе чувство всеобщей ответственности, он, тем не менее, не полагает, что прямо отвечает, например, за войны и голод в разных частях мира. Но в буддийской практике постоянно напоминается о нашей обязанности служить всем существам во всех мирах. Точно так же теисты осознают, что преданность Богу влечет за собой заботу обо всех его лично созданиях. «Развивать чувство всеобщей ответственности – в общем значении каждого нашего поступка, с учетом равных прав всех других на счастье и отсутствие страдания – значит развивать такое состояние ума, чтобы в том случае, когда мы видим возможность принести кому-то пользу, мы бы отдавали ей предпочтение перед собственными узкими интересами. Но, конечно, хотя нас волнует и то, что вне наших возможностей, мы принимаем это как естественную часть бытия и стараемся сделать то, что можем».[3] 99 Литература 1. Жаркова А.Н. Махатма Ганди.100 человек, которые изменили историю. №6. 2008. С.29 2. Гьятцо Т. Этика для нового тысячелетия. СПб. 2005.С.68 3. Гьяцо Т. Открытое сердце. СПб.1999.С.70 4. http://www.savetibet.ru *** В.А. Васильченко, докторант Ставропольского государственного университета ГРЕЧЕСКИЙ СИЛЛОГИЗМ И ЕГО БУДДИЙСКИЕ ВЕРСИИ Проблема сравнительного изучения философского наследия Востока и Запада является сквозной проблемой философской компаративистики, начиная с XIX века, с работ пионеров научной индологии У.Джонса, А.Дюперрона, Ф.Шлегеля и других, занимавшихся раскладкой и упорядочиванием индоевропейских дискурсивных параллелей. Исторически инвариантным здесь было сопоставление философских школ в рамках миграционной теории, предполагавшей перекрестное движение концепций, нарративов, образов, метафор с их последующей адаптацией к новой культурной среде. Данное сопоставление касается, в том числе, и происхождения специальной логической теории – силлогистики – основы которой были заложены в трудах Аристотеля. Поскольку в Индии в ряде философских школ конструировались собственные силлогизмоподобные схемы умозаключения, У.Джонс предположил, что ученик Аристотеля и участник походов Александра Македонского Каллисфен, найдя в Индии уже разработанную логику, мог передать ее Аристотелю [5, с. 182]. Современная история логики перемещение столь крупногабаритной и тяжеловесной теории как аристотелевская силлогистика из Индии в Грецию признает маловероятным – слишком много асимметричных по отношению к индийской логики частей содержится в учении Стагирита. Однако применительно к так называемому квази-силлогизму Секста Эмпирика решение вопроса о возможности культурной инфлюации извне выглядит значительно более сложным и неоднозначным. Исследования развития формы простого категорического силлогизма обнаруживают ряд неясностей, связанных с частичной переработкой аристотелевского силлогизма у позднего представителя скептической школы Секста Эмпирика. Как указал еще Я.Лукасевич, традиционный образец силлогисти100 ческого рассуждения («Все люди смертны, Сократ – человек, следовательно, Сократ смертен») не является аутентичным выражением аристотелевского силлогизма, поскольку отличается от него в двух логически существенных пунктах. Во-первых, посылка «Сократ – человек» – это единичное предложение, потому что его субъект «Сократ» – единичный термин. Аристотель же не вводит в свою систему единичных терминов или посылок. Во-вторых, ни один силлогизм первоначально не формулировался Аристотелем как вывод; у него все они являются импликациями, содержащими конъюнкцию посылок в качестве антецедента и заключение в качестве консеквента [2, с. 33–34]. Данный силлогизм правильнее было бы назвать секстовым, поскольку в идентичной форме (с заменой понятия «смертный» понятием «живое существо») он встречается у Секста Эмпирика [4, с. 294]. Каковы перспективы последовательного решения проблемы происхождения квази-силлогизма Секста Эмпирика на основе философского обобщения данных по греческой и индийской логике? Современная компаративистика, а также некоторые тенденции в теории силлогизма дают толчок развитию связи между представлением схем дедуктивного вывода у античных скептиков и логическим учением буддизма. В свое время в рамках философии эта проблема была поставлена А.М. Френкианом. А.М. Френкиан обнаружил важное текстуальное совпадение, которое касается использования Секстом Эмпириком при установлении дихотомии напоминающего и указывающего знака оборота «нет дыма без огня». По словам Секста, напоминающим знаком называется тот, который ведет нас к воспоминанию о том, что наблюдалось вместе с ним и теперь не представляется очевидным, как, например, обстоит дело с дымом и огнем. Напоминающий знак заверен жизнью, ибо всякий, кто видит дым, считает, что указан огонь [4, с. 280]. Комментируя секстовский оборот «нет дыма без огня» А.М. Френкиан замечает, что «мы встречаем эту формулу четыре раза у Секста Эмпирика и нам неизвестно, чтобы она существовала у других греческих авторов», при том, что «в Индии формула «нет дыма без огня» – одна из наиболее популярных и распространенных философем» [6, с. 49–50]. Действительно, в Индии данный образ является школьным, учебным примером правильного логического вывода. Он встречается и в «Ньяя-сутре» Готамы, и у крупнейшего представителя буддийской логики Дигнаги. Анумана (логический вывод) Дигнаги выглядит следующим образом: 1. Всюду, где есть дым, есть и огонь, как в очаге. 2. А здесь есть дым. 3. Следовательно, здесь есть и огонь [3, с. 239]. Между силлогизмами Секста Эмпирика и Дигнаги можно провести следующую важную параллель. Силлогизм Секста основан на употреблении единичного термина (им является субъект меньшей предпосылки – меньший 101 термин силлогизма). Что касается буддийского силлогизма, то он неизменно имел единичную меньшую посылку. В то же время в аристотелевской силлогистике, как показал Я.Лукасевич, единичным посылкам места нет. Оспаривая мнение Я.Лукасевича о том, что Аристотель при построении своей логики не принимает во внимание единичные термины, некоторые исследователи все же находят в «Аналитиках» примеры силлогизмов с единичными терминами [3, с. 242]. Действительно, Стагирит пишет, что «если А говорится о Б, а Б – о В, могло бы казаться, что при таком отношении терминов силлогизм возможен, однако отсюда не получается ни чего-то необходимого, ни силлогизма. В самом деле, пусть А обозначает быть всегда, Б – мыслимый Аристомен, а В – Аристомен. В таком случае будет истинным, что А присуще Б, ибо мыслимый Аристомен существует всегда, но и Б присуще В, ибо Аристомен есть мыслимый Аристомен. Однако А не присуще В, ибо Аристомен преходящ» [1, с. 186–187]. Аристотель рассматривает данный силлогизм как ошибочный и указывает на причину этой ошибки – большую единичную предпосылку мы неверно полагаем общей, поскольку утверждение «это присуще этому» почти ничем не отличается от утверждения «это присуще всему этому» [1, с. 187]. Таким образом, Я.Лукасевич совершенно прав, когда указывает, что при построении своей логики Аристотель не принимает во внимание единичных терминов. И совершенно не важно, по какой причине он это делает, потому ли, что единичные термины не могут быть предикатом истинного предложения (Я.Лукасевич предполагал, что ход мыслей Аристотеля был именно таким [2, с. 41]), или потому, что просто не успел разработать сингулярное расширение своей силлогистической системы [2, с. 22]. Тем удивительнее видеть у Секста Эмпирика в качестве примера перипатетического силлогизма формулу с единичным субъектом в меньшей посылке. Кроме того, критика Секстом перипатетических силлогизмов связана с употреблением их в форме энтимем, что копирует модификацию схемы вывода в ходе полемики буддистов с найяиками о членах силлогизма. Рассматривая рассуждение «Сократ – человек; всякий человек – животное; значит, Сократ – животное», Секст Эмпирик отмечает, что если за мыслью, что чтонибудь является человеком, следует и то, что он животное, и вследствие этого будет истинной посылка «всякий человек – животное», то, когда говорится, что Сократ – человек, выводится вместе с этим и то, что он животное, так что достаточно такого соединения «Сократ – человек; значит, Сократ – животное», – и посылка «всякий человек – животное» оказывается излишней [4, с. 294]. Здесь Секст Эмпирик редуцирует простой силлогизм к энтимеме, сокращая большую посылку как логически чрезмерную. В то же время история развития индийской логики характеризуется повышением компактности силлогизма и выпадением избыточных посылок. Наглядные схемы разработанного в рамках школы ньяя пятичленного сил102 логизма встретили сильную критику со стороны буддийских логиков, посчитавших, что необходимыми для доказательства являются только три члена (две посылки и заключение) и предложивших более прогрессивный по внешности трехчленный силлогизм. Финальной стадией эволюции формы индийского силлогизма стало разделение Дигнагой умозаключения на два вида: «вывод для себя» (двухчленный) и «вывод для других» (трехчленный). «Вывод для других» есть не что иное, как уже представленная выше анумана Дигнаги. Что касается «вывода для себя», то он имеет следующий облик: «Здесь есть огонь, так как есть дым» [3, с. 231]. Очевидно, что «вывод для себя» представляет собой ни что иное, как энтимему, выполненную по первой фигуре простого силлогизма путем сокращения большей посылки («всюду, где есть дым, есть и огонь»). Таким образом, скептические и буддийские нарративы формальнологического профиля показывают спорадическое попарное сходство между собой как в эксплицирующих логический вывод примерах, так и в приемах технической обработки силлогизма. Во-первых, формула «нет дыма без огня», являющаяся образцом правильного умозаключения в индийской логике, встречается в античности, по-видимому, только у скептиков, в текстах Секста Эмпирика. Во-вторых, Секст Эмпирик в качестве иллюстрации перипатетического силлогизма приводит силлогизм с единичным меньшим термином, что типично именно для силлогизмов, конструировавшихся в рамках индийской логической традиции, в то время как в силлогистике Аристотеля единичные термины исключались из рассмотрения. Наконец, и у Секста Эмпирика, и у буддийских логиков энтимема фигурирует в качестве элемента критики формы силлогизма, экспонируемого конкурирующей традицией – в случае Секста перипатетической, в случае буддистов традиции школы ньяя. Разумеется, говорить о мономорфности скептического и буддийского дискурсов хотя бы в их логической части невозможно. Скажем, у скептиков энтимема выступает атрибутом деструкции аргументационных практик в догматической философии, в то время как у буддистов ее появление связано с естественными тенденциями механизации вывода и презентационным обновлением дизайна силлогизма. Наметить какую-либо систему в греко-буддийских дисперсных связях на сегодняшний момент весьма затруднительно. Однако общее сопоставление античного скептицизма и буддизма махаяны показывает, что их сходство не сводится только к сходствам в силлогистическом репертуаре средств доказательства, но охватывает концептуальные основы дискурса [6], что дает возможность говорить если и не о семейной преемственности между буддийским силлогизмом и квази-силлогизмом Секста Эмпирика, то о генетическом восхождении обеих схем логического вывода к общему прототипу. Некоторый базис для подобного заключения дает факт 103 путешествия родоначальника скептической школы Пиррона в Индию и его общения с гимнософистами, от которых он и мог почерпнуть разбираемые в статье логические идеи. Настоящая попытка дать свод общих логических черт скептицизма и буддизма махаяны остается всего лишь попыткой в сравнении с огромным объемом задачи. Речь шла только о предварительном анализе отдельных параллельных чтений, решает же проблему сплошное обследование материала, которое остается делом будущего. В качестве предварительной гипотезы происхождения квази-силлогизма Секста Эмпирика можно предложить тезис о том, что последовательная коррекция аристотелевского силлогизма со стороны индийской логики привела к такому видоизменению перипатетического силлогизма у Секста, которое можно считать его новой редакцией. При этом режим синтеза сопровождался преобладанием местных, греческих вариаций, неизбежным сокращением питающего дискурса и выпадением отдельных его звеньев. Литература 1. Аристотель. Первая Аналитика // Сочинения в четырех томах. Т. 2. – М.: Мысль, 1978. 2. Лукасевич Я. Аристотелевская силлогистика с точки зрения современной формально логики. – Биробиджан: ИП «Тривиум», 2000. 3. Канаева Н.А., Заболотных Э.Л. Проблема выводного знания в Индии. Логико-эпистемологические воззрения Дигнаги и его идейных преемников. – М.: Восточная литература, 2002. 4. Секст Эмпирик. Сочинения в двух томах. Т. 2. – М.: Мысль, 1976. 5. Шопенгауэр Артур. О четверояком корне закона достаточного основания // Сочинения: В 2-х томах. Т. 1. – М.: Наука, 1993 г. 6. Frenkian А.М. Scepticismul grec si filozofia Indiana. – Bucuresti: (Editura) Academiei Republicii populare Romine, 1957. *** Г.В. Нурова аспирант Калмыцкого государственного университета Традиции и современность в религиозном искусстве калмыков Будучи одним из монгольских народов, калмыки приняли буддизм школы «гелуг», основателем которой, как известно, был лама Цонкапа (тиб.), живший в четырнадцатом веке (1349-1419) и оказавший огромное влияние на развитие, становление буддийской философской мысли в Центральной Азии. 104 Масштабность личности Цонкапы (тиб.) – Зунквы гегена, (калм.) настолько велика, что отмечающейся в республике праздник «Зул» непосредственно связан с его именем. Придя в Россию, предки современных калмыков уже исповедовали буддизм Махаяны, ещё точнее – самой молодой из её школ – «гелуг». После вхождения в состав Российского государства четыреста лет назад, калмыки сумели сохранить этническую самобытность и оригинальную культуру. В вопросе веры калмыки также остались единодушны, будучи приверженцами Махаяны (иногда всё ещё неправильно называемой ламаизмом») [Торчинов Е.,2005] В Центральном хуруле Калмыкии «Бурхн Багшин Алтн Сюме» среди множества роскошных, монументальных росписей – тханка, в зале для молитв, находится роспись, посвящённая четырнадцати Далай ламам Тибета, четырнадцати воплощениям бодхисатвы сострадания – Авалокитешвары, Арьябалы (калм.). Не для кого не секрет, что в буддийской практике, её основой, её квинтэссенцией является преданность Духовному наставнику – Гуру. «Главная суть всех наставлений – преданность святому Другу» [ Чже Цонкапа, 1994]. Этой теме уделено в буддийских трудах учителей разных школ, достаточное внимание и время. Невозможно обойти тему, связанную с вверением себя Гуру, как с основой буддийского воззрения. Уже давно изложено в Лам-риме: «достижение и совершенствование парамит, Уровней [Бодхисаттв], терпения, самадхи, сверхъестественных способностей, дхарани, уверенности в себе, [подлинного] посвящения заслуг, Пожелания и всех [остальных] элементов состояния Будды зависит от Учителя. Учитель – их корень, от Учителя они происходят, Учитель их месторождение и источник, Учитель их порождает, Учитель их растит, Учитель их опора, Учитель – их причина» [Чже Цонкапа, 1994]. К сказанному великим Дзонхавой, лишь предлагается рассмотреть знаковую и важную роспись на одной из стен калмыцкого хурула. Известно, что калмыцкие ханы имели прямые контакты с Далай-ламами, непосредственно общались с Тибетом, связь калмыков со Страной снегов была крепкой и на протяжении долгого периода времени носила характер учитель-ученик. Центр росписи – портрет Далай-ламы XIV-го Тензина Гьяцо. Его Святейшество изображён с большой долей портретного сходства, здесь следует отметить, что в тханкописной традиции двадцатого века наблюдается тенденция написания известных личностей – инкарнированных лам в присущих каждому из них канонических позах, но с лицами, соответствующими их современному облику. Его Святейшество Далай-лама изображён в центре, восседающим на троне, в левой руке он держит колесо Учения – Дхармачакру, правая – сложена в мудре поворота Колеса Дхармы – Дхармачакрамудре. За его 105 спиной, по обеим сторонам – распустившиеся цветы лотоса, на одном – меч мудрости (символ Манджушри), а на втором – текст, символ высшей мудрости «праджняпарамиты». Вокруг Далай-ламы расположены изображения Его предшественниковДалай-лам Тибета, начиная с первого Далай-ламы Гендун Друба (1391-1474), сердечного ученика Дже Цонкапы – Лобсанга Драгпы. Каждый Далай-лама запечатлён с характерными для него атрибутами и под фигурой каждого, на пышно украшенном троне написано его имя. Для верующих буддистов представляется прекрасная возможность увидеть Далайламу III-го Сонама Гьяцо, со времени которого титул «Далай», дарованный ему монгольским Алтан ханом, стал самым известным именем Главы Тибета, Далай-ламу IV-го (монгола по происхождению), найденного и привезённого в Лхасу уже в пятнадцатилетнем возрасте; Великого Далай-ламу V-го Нгаванг Лобсанга Гьяцо во времена которого особо окрепли связи между ойратскими ханами и Тибетом. Известно, что ойратский просветитель, Зая-Пандита Намкайджамцо был послан Далай-ламой V-м к соплеменникам на берега Волги для процветания Дхармы. Также каноническое изображение Далай-ламы XIII-го Нгаванг Лобсан Тубтена Гьямцо (1876-1933) интересно для изучающих историю отношений между Тибетом и Россией, ведь во время Его жизни произошли потрясения и значительные изменения в мире, от революций до образования новых государств. Четырнадцать Далай-лам – тханка знаковая, она свидетель эпохи – начала XXI века и прямое указание на то, что её создание относится ко времени Далай-ламы XIV-го Тензина Гьяцо. И бесспорным подтверждением преданности народа своему коренному Духовному наставнику -Далай ламе. После многих лет забвения религии в Калмыкии, буддизм в настоящее время испытывает подъём. Главенствующую роль в этом процессе принадлежит Духовному лидеру Калмыков – Шаджин – ламе Тэло Тулку Ринпоче. Все, что сделано в республике за период с 1992-по 2009 г. происходило при непосредственном участии Шаджин – ламы. По плану Тэло Тулку Ринпоче, приехавшим в июне 2006 года художникам предстояло расписать Центральный хурул Калмыкии. Ринпоче непосредственно руководил работами по художественным росписям , и, как говорил руководитель группы танкописцев Тхуптен Гонпо, «мы, приступив к работе, прежде всего, учитываем пожелания заказчика (в данном случае – Главы Буддистов Калмыкии и администрации хурула) и всё, что написано, выполнено по их пожеланию». Cамой крупной танкой является «Великий Дзонхава-», «Зунква-гегян» (Святой Дзонхава). Это одна из ключевых тханок в интерьере дугана. 106 Цонкапа – Богдо Зунква, (калм.), родился в 1357 году в Тибете, в провинции Амдо, созданная им школа со временем заняла «верховное положение в духовной иерархии Тибета» [Рерих Ю., С.19]. В отношении крепости традиций и привержености ей, можно отметить что, даже открытие Нового буддийского храма «Золотая Обитель» состоялось в день праздника «Зул» (27.12.05), посвящённого памяти ламы Дзонхавы. Почитание, благоговение перед личностью святого Дзонхавы, получило подтверждение и отражение в тематике росписей двух больших хурулов Калмыкии – Сякюсн сюме (1996) и Центрального калмыцкого Алтн Сюме (2005). В росписях Сякюсн сюме (1998-2003), работу над которыми вели художники под руководством калмыцкого тханкописца Эрдни Немгирова, была создана огромная настенная танка – «Дзонкхава с сердечными Учениками-Кхедрубом Ринпоче и Гъялцабом Ринпоче». В большом поле танки выделяются размерами три фигуры-самого Дзонхавы и двух Учеников. Лама Дзонхава изображён в традиционной позе, руки в положении «дхармачакра – мудра» (Жест вращения Колеса Учения), он и ученики окружены белоснежными облаками «подобными белой простокваше», в центре танки, в верхней части – рай Будды Майтрейи, в двух верхних углах – справа – каноническое изображение Далай-ламы XIV-го Тензина Гьяцо; слева от него – Богдо Геген IX-й Джебзун Дамба Хутухта Монголии. Ниже, замыкая повествование танки, помещена фигура Каларопы (санскр.), стоящего на быке. Напротив неё – символическое изображение монаха с мандалой, подносящего её Дзонкхаве. Обрамление танки решено в декоративном, праздничном ключе, создавая мажорный, радостный настрой. Всё действие разворачивается на фоне глубокой синевы небес, синий цвет очень богат здесь – в него вплавлены кобальт, ультрамарин и дополнительные цвета синей гаммы. О символике цвета в танкописи написано много, но в каждом конкретном случае, она обретает особый смысл. В Индии, в г.Дхарамсала есть школа буддийской тханкописи, в которой вместе с тибетцами обучаются люди из разных стран. Ранее она существовала при библиотеке тибетских трудов, её основателем был выдающийся тибетский художник – танкописец Еше Сенге. Большинство из художников, приехавших в Элисту, были его учениками, они – носители и продолжатели стиля Еше Сенге, его школы. В новом храме «Бурхн Багшин Алтн Сюме» самой большой по масштабам является тханка « Лама Дзонхава в пяти проявлениях». В верхнем поле тханки – выделяется размером фигура основателя школы «гелуг» в традиционной, известной позе полного лотоса, с руками, сложенными в мудрее «вращения Колеса Учения и Дарования Учения». Он одет в одежды монаха-бхикшу, на голове желтая шапка учёного – пандита. По углам масштабной росписи помещены фигуры Ламы Дзонхавы в разных проявлениях – в виде монаха, вос107 седающего на слоне; как жёлтого Манджушри, едущего на льве; как гневную ипостась Манджушри серого цвета с мечом в правой руке, едущего на тигре и как монаха, парящего в облаках. Согласно жизнеописаниям Дзонхавы, после его ухода в нирвану, сердечный ученик Дзонхавы – Кхедруб Ринпоче был безутешен и молился, чтобы увидеть Учителя. Его желание сбылось – во время медитации ему явился Лама Дзонхава в пяти различных проявлениях. Искусство буддизма ничто иное, как Дхарма, выраженная языком изобразительного искусства. Любой верующий человек, обладающий знаниями в области буддийского Учения, может понять многое из того, что изображено в интерьере Центрального хурула и других калмыцких буддийских храмов. Описанные тханки выражают один из важнейших принципов в буддизме махаяны – принцип вверения себя Благому другу, Гуру. Литература 1. Торчинов.Е. введение в буддизм: Курс лекций. СПб.: Амфора 2005, С.73 2. Дже Цонкапа. Большое руководство к этапам Пути пробуждения. СПб.: Нартанг, 1994, С.56 3. Там же. ***