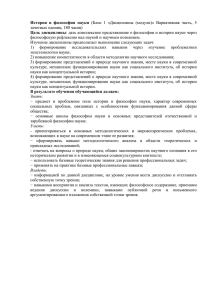ЦЕННОСТНАЯ ОСНОВА РУССКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ
advertisement

ЦЕННОСТНАЯ ОСНОВА РУССКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ФИЛОСОФИИ /Опыт трех конференций/ Эта статья является результатом участия в серии конференций, посвященных русской философии. Некоторые из них проводились в рамках Дней Петербургской философии, часть - благодаря усилиям кафедры философии СПбИНЖЭКОНа и кафедре отечественной и зарубежной культуры СПбГПУ (Политехническому университету). Некоторые были приурочены к памятным датам (В.В. Розанову, о. П. Флоренскому), некоторые темы возникли, благодаря научному интересу их устроителей (так конференция по философии русского космизма была организована Е. А. Трофимовой). Итогом многолетних усилий явилась конференция «Генеалогия ценностей в русской философии серебряного века», включенная в Дни Петербургской философии 2011 года. Она отчасти носила полемический характер, поскольку следовало обосновать само существование русской аксиологической философии. Один из авторитетных российских философов М.С. Каган в работе «Судьбы теории ценности в истории отечественной философии» в разделе, посвященном отечественной теории ценностей, ставит провокационный вопрос «Почему русская философия не знала теории ценности» (так называется первый параграф второй главы) [1, с. 30]. Автор полагает, что в русской философии было достаточно «частных суждений» о ценностях, но не было специальных аксиологических исследований. М.С. Каган объясняет это тем, что русская религиозная философия наследовала богословскому (византийскому) мировоззрению, и в ней признается только одна подлинная ценность – «Божественная». Точка зрения М.С. Кагана состоит в том, что аксиологическая теория не может строиться на противопоставление «своего» как истинного и «чужого» как неистинного. По этой причине аксиология не может быть религиозной, а только светской, свободной от религиозного содержания, теорией. Но и не всякая вне религиозная философия является аксиологической, если в ней специально не ставится ценностная проблематика. В России, полагает М.С. Каган, аксиология могла бы возникнуть во времена расцвета романтической философии, но этого не случилось, поскольку в ней, в соответствии с общим духом эпохи Просвещения, преобладала познавательная проблематика, вследствие чего утвердился такой тип сознания, который М.С. Каган называет «абсолютноистинной концепцией», апеллирующий либо к Божественному Откровению, либо к непререкаемому авторитету Науки. Получается парадокс: русская аксиология для М.С. Кагана оказывается невозможной именно потому, что в русской религиозной философии заложен определенный аксиологический принцип. Неудача русских философов, - так считает М.С. Каган, - заключается в том, что они «свои ценности провозглашали истинами и не нуждались поэтому в какой-то особой «теории ценности»» (Там же, с.31). Автор приводит целый список исповедуемых ценностей у В. Соловьева (Истина, Добро и Красота), П. Флоренского (та же «метафизическая триада»), у И. Ильина (вера как «путь духовного обновления»), у Е. Трубецкого («истина-смысл»), у С. Франка (Добро и Любовь, совпадающие с Богом), у Б. Вышеславцева («святость, святыня»). Если свести все аргументы М.С. Кагана против возможности найти в русской философии аксиологическую основу, их суть – в отрицании возможности совместить религиозные и философские основания. Однако, такое совмещение не только возможно, но и весьма ценностно емко (насыщено аксиологическими смыслами), и, кроме того, отрицая эту возможность, М.С. Каган вынужден отстаивать свою конкретную ценностную программу, в которой основные религиозные и философские понятия разнесены в разные стороны и которую он также понимает как единственно возможную, - и в этом случае она является абсолютной, и по сути его возражений – не аксиологической. Итак, согласно пониманию аксиологии М.С. Каганом как специальной осмысленной теории ценностей, в ней предполагается наличие равнозначных ценностных рядов, и заложен запрет на «свою», корневую аксиологическую программу. Итак, установка кажется спорной и потому, что следует обосновать включение в аксиологическую аналитическую программу принципа «религиозной нейтральности», и еще более потому, что в ней подразумевается, что аксиолог, создавая свою теорию, не утверждает ее на определенной ценностной основе. Аксиолог вовсе не должен быть релятивистом, - в этом суть первого возражения. Этот аргумент можно считать убедительным в том случае, если рассматривать аксиологию рядоположенной другим философским разделам, когда теория познания может не согласовываться с этикой или с онтологией, как, например, это было в философии Парменида. Но если философию понимать как род согласованного знания, тогда в ней этические принципы, как полная ценностная определенность, является обязательным условием, и именно это делает философское учение целостным и конкретным знанием. В этом суть второго возражения. Третье возражение: можно было бы утверждать, что русская философия не аксиологична по своей сути в двух случаях: 1) если ценности не стали в ней предметом аналитики; 2) если ценности не являются коррелятами философских положений. Ни то, ни другое на наш взгляд не верно. Ценности явились предметной основой в философии таких ее блестящих представителей, как П. Флоренский, И. Ильин, В. Розанов, С. Франк, К. Леонтьев, С. Булгаков, А. Лосев. Ценности вообще определяют смысл философствования русских мыслителей, и особенно это касается представителей серебряного века. Без ценностной подоплеки нет знания-мировоззрения, т.е. философии. Эту тенденцию в русской философии совершенно определенно выразили В. Розанов, П. Флоренский, И. Ильин. Но основной ценностью философской системы может стать и знание как таковое, рациональность, сознание (что и происходит, начиная с эпохи Просвещения, и еще более это относится к феноменологической традиции). В русской философии это прежде всего касается философии Н. Лосского, Г. Шпета, П Яковенко и др. Вернемся к основному аргументу М.С. Кагана о необходимости утверждения в аксиологии порядка равнозначных ценностных структур, среди которых ни у одного класса ценностей, все равно, религиозных или научных, нет преимущества. В этом смысле лучшим образцом такого рода знания была классическая античная софистика. Софисты выступили толкователями и защитниками новых ценностей, а точнее разных ценностных порядков, когда привычный и не требующий особой аналитики строй традиций, норм, моральных правил оспаривается, и являются другие, нетипичные для общества, ориентиры. Софистика подходит именно потому, что в ней не утверждаются определенные, раз навсегда данные ценности, а разыгрываются возможные равнозначные ценностные вариации. Учения софистов полностью соответствуют тому смыслу аксиологического знания, На котором настаивает М. С. Каган, и на этом основании их можно назвать, если можно так выразиться, синкретическими аксиологами. Но именно по этой причине отказывался признать софистов философами Сократ. И ему понадобилось специальное название для рода их деятельности, «софистика», чтобы отличить ее от философии, которая для него является по преимуществу ценностной системой знания. Следует оговориться, что Сократ различает «старших софистов» и софистов-профессионалов. К первым он относит Горгия, Протагора, Продика и ставит их на одну ступень с Парменидом, Фалесом и другими философами, внушавшими ему, совсем как у Гомера, «и почтение, и ужас», так сказано в «Теэтете». Но софистика как отдельно от философии стоящее ремесло, - это относится к софистам «второго поколения», бойким продавцам мудрости, Сократ сам блестяще овладел софистическими приемами и риторическими уловками. Пройдя крепкую софистическую школу, Сократ умел уклончиво отвечать на вопросы, использовать диалектические тонкости, логические парадоксы, тавтологии, которые позволяют ему с легкостью сбивать с толку противников. Для софистов продвижение к истине вовсе не является целью. Они стремятся показать, что всякую истину можно и следует оспаривать. Знание не может скрепляться ценностным содержанием, именно оно делает его уязвимым для опровержения. Но релятивизм, который при этом демонстрируется, как доказательство от обратного, обнаруживает бесперспективность софистической мудрости. В этом отношении очень примечателен диалог «Эвтидем», в котором братья-софисты демонстрируют свое умение морочить людей. Казалось бы, случай, когда обучение философии является приватным делом, дает право всякому «учителю мудрости» придерживаться собственного пути в философии и использовать при этом всякому свою методу, совершенно игнорируя систему ценностей. Но ситуация делается напряженной, когда учитель мудрости при этом подмигивает и с откровенностью, граничащей с цинизмом, объявляет истину всего лишь состязанием на словах и учит опровергать все, что говорится, «будь то ложь, будь то истина» (5, с.174). Философ в этом положении превращается в оратора, способного убеждать людей без того, чтобы быть самому убежденным. «Вообще, - говорится в «Федре», - оратор должен искать правдоподобия, зачастую сказав истине «прости» (6, с.125). Трюки, которые проделывают «продавцы мудрости» сродни тем, что показывают фокусники на представлении – фокус оказывается нераскрытым, непостижимым – это условие представления с неизбежным вымоганием платы от простодушных зрителей. Избавляя своих учеников от односторонности, софисты заставляли их мириться с двусмысленностями, с которыми они оставались. Сократ так описывал суть обучения у софистов: «Называю же я это игрой потому, что хотя бы кто многому и даже всему научился в этом роде, о самих предметах и делах – в каком они положении, - ничего не узнает, забавляться же перед людьми будет способен, подставляя им ногу и опрокидывая их через различные значения имен, все равно как те, кто, выхватывая стулья из-под хотящих садиться, радуются и смеются, видя их опрокинутыми навзничь» (Творения Платона (5, с.181). Нельзя сказать, что самому Сократу была совершенно чужда привлекательность интеллектуальной игры, или стремление подцепить на крючок диалектики софиста, или просто неопытного в таких премудростях собеседника, или желание заставить завзятого спорщика сказать то, что вовсе не входило в его расчеты, - множество свидетельств тому мы находим в диалогах с Гиппием, Эвтифроном, с Горгием и Протагором. Но релятивизм Сократа выступает в форме осторожного, но и настойчивого продвижения в определении меры знания своего противника и самого себя. Во многих случаях Сократ выступает как чрезвычайно талантливый ученик софистов. По сравнению с ними, правда, Сократ выглядит наивным, задавая вопросы и сомневаясь в вещах, очевидных для обыденного сознания. Он может показать несостоятельность многих представлений, несомненных для большинства, приходя их в противоречие с другими самоочевидными вещами. Формально Сократ допускает релятивизм, устраивая диалогические и полилогические исследования протагонистов, в которых всегда представлены не только разнообразные знания, но и многообразные ценностные основания. Но он всегда разрешается в положительном знании, точнее непреодолимой тяге к нему, основой которого является тоска, а ее причиной выступает аксиологический релятивизм. Чему могут научить софисты – вот тот вопрос, на который учителя мудрости вынуждены постоянно и прилюдно давать ответ, находясь в обществе Сократа. Они провоцируются Сократом и говорят всегда более того, что им следовало бы, поскольку их откровенность превращается в саморазоблачение. Истинное знание может быть сложным, не может не быть разнообразным, но оно не ограничивается релятивистскими положениями. Релятивистские ухищрения – это только ненадежные подпорки к иному, разрешившемуся от сомнений знанию. Эти сократические истины развиваются в русской философской традиции. Здесь был учтен опыт философского релятивизма и его преодоления. Нам следует ответить на все те же существенные для аксиологической проблематики вопросы: 1) действительно ли в русской философии ценности не имеют значения в качестве коррелятов философских положений; 2) может ли религиозная философия быть аксиологической, может ли она вообще рассматриваться как род рационально конструированного знания; 3) должна ли философия быть нейтрально-релятивной в отношении конкретных ценностей. Привлечем для этого трех видных русских философов, Павла Флоренского, Ивана Ильина и Василия Розанова. В “Логических исследованиях” феноменолог Эдмунд Гуссерль остроумно возражает философу-скептику Эрдману на его критику антропологического аргумента, суть которого состоит в том, что любому человеку, и философу в том числе, доступны лишь человеческие истины. Гуссерль полагает, что логически формы неантропологического знания возможны. Но, иронически добавляет он при этом, если “нормальному” человеку, чтобы понять теоремы о трансцендентных Абеля, понадобилось бы пять лет, ему потребовалась бы тысяча лет для того, чтобы постичь истины ангелов (7, с. 278). По своему первоначальному образованию Гуссерль был математиком, и знал, о чем говорил, по крайней мере, что касается математического знания. Любая философия определяет границы, за которыми мышление, согласовываясь с основами хорошо организованного здравого смысла и опыта, прорывается к совсем иному типу знания, которое в соответствии с европейскими традициями, называют знанием трансцендентным. Особенность русской религиозной философии ХХ столетия состоит в том, что предметная область располагается именно в том промежутке, который обозначил Гуссерль – между - не просто хорошо, но превосходно организованной рациональной культурой - и областью «истин ангелов». Именно в этой философии сопрягаются философский и религиозный опыт. К философам, к которым можно подходить с такой мерой, очевидно, принадлежат Павел Флоренский и Иван Ильин. Связь двух имен - Павла Флоренского и Ивана Ильина - возникает отнюдь не случайно. Они были современниками блестящего расцвета русской культуры, жили в эпоху, которую принято называть «серебряным веком». Но время это породило мыслителей совершенно разной ориентации знания, и основа их родства кроется в особой дисциплине ума, которая уберегает от неосторожного, преждевременного, нескромного интереса к «истинам ангелов». Оба философа прекрасно учились и получили золотые медали по окончании, - Ильин – Первой московской, Флоренский – Третьей тифлисской классических гимназий. Оба поступили в Московский университет, Ильин – на факультет права в 1901 году, Флоренский - на физико-математический в 1900 году. Ильин и Флоренский учились блестяще, оба по правам и преимуществам полученных по окончании университетских курсов дипломов были приглашены остаться при университете для подготовки защиты диссертации. Ильин принял приглашение, будучи уже внутренне сформировавшимся и вполне самостоятельным ученым. Вот что пишет он сразу по окончании университета о телеологии своей научной работы: «Главное стремление мое – обуздать в работе формально-методологический, все разлагающий и распыляющий в анализе подход, который мне легок и свойственен /…/ Знаю только, что о чужих мыслях меня больше не тянет писать: как не старайся, хотя разорвись – все не то и чувствуешь себя добросовестным лгуном» (2, С.13). Защита диссертации Ивана Ильина «Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека» проходила в трагических обстоятельствах революционной России, когда один из его оппонентов, - Павел Иванович Новгородцев, - вынужден был накануне защиты провести ночь вне дома, поскольку у него в квартире проводился обыск, и была утроена засада. Начался уже и скоро завершился «разгром русской академической науки» (Ю. Лисица). На основе защищенной диссертации Ивану Ильину были одновременно присуждены магистерская и докторская степени. П. Флоренский после окончания университета, несмотря на предложение своих учителей Н. Е. Жуковского и Л.К. Лахтина остаться при факультете, в 1904 г. поступает в Московскую Духовную Академию из желания «без каких-нибудь компромиссов, честно, воспринять все положительное учение Церкви и научно-философское мировоззрение вместе с искусством» (3, с. 8). Итак, в самом деле, первое, что объединяет двух выдающихся русских философов, – это глубочайшая рациональная культура, добытая ими из разных источников. У Ильина она выражается в его рационалистической рефлексивной воле, которая была взращена на гегелевской диалектике, у Флоренского она коренится на его выдающемся математическом даровании. Очень по-разному складывались у Ильина и Флоренского отношения с представителями «эстетического ренессанса». Андрей Белый оставил своеобразное «свидетельство обиженного»: «…Молодой, одержимый, бледный, как скелет, Иван Александрович Ильин /…/ возненавидел меня с первой встречи: ни за что, ни про что; бывают такие вполне инстинктивные антипатии: Ильина при виде меня передергивало; сардоническая улыбка змеилась на тонких и мертвых устах его; с нарочитой, иступленною сухостью, бегая глазками мимо меня, он мне кланялся; наше знакомство определялось отнюдь не словами, а тем, как молчали мы, исподлобья метая взгляды друг в друга» (2, С. 16). Вполне можно себе представить причины такого отчуждения – христианские идеалы семьи, брака, духовного целомудрия, восприемником и ревнителем которых был Ильин, никак не сочетались с вольными нравами русской богемы начала ХХ столетия. В полной мере Ильин выскажет суть своего мировоззрения в замечательном произведении «Основы христианской культуры»: «…современное искусство, «светски» освободившее себя от религиозного чувства и чутья, идет навстречу потребностям современной безбожной массы: мода рождает «модернизм», скука и пресыщенность – нервирующую остроту; кинематограф заменяет храм; треск и рев радиоаппарата вытесняет личную культуру музыки и слова. В искусстве отпадает «третье измерение» художественности, священности, предметности; двумерная душа создает пошлое, безбожное искусство и сама становится его жертвою» (2, с.289). К слову сказать, П. Флоренский дружил с Андреем Белым, поскольку еще в университете он посещал семинары его отца, выдающегося математика Николая Васильевича Бугаева, председателя Московского математического общества. Но вот что действительно сближает двух философов, кроме причастности к глубочайшей рациональной традиции, это глубинная связь с православной культурой. Павел Флоренский особенно предупреждает об опасности суетного погружения в трансцендентное: праздное суемудрие порождает увлечение демонологией, мистицизмом, спиритизмом. В этом смысле опорой и путеводной нитью служит рациональное же богословие отцов церкви, это надежное и полезное руководство в движении уже в области «истин ангелов». Но те, кто знаком с этой рационалистической традицией, знают, что и здесь тоже нет такого знания, которое является «готовым к употреблению». Именно здесь разворачивается настоящая духовная брань, которая позволяет только приблизиться и едва удерживаться в этих истинах, достаточно для подтверждения этого обратиться к сочинениям Августина Блаженного, Иоанна Златоуста, или открыть, например, Оптинский цветник. Или вот еще пример из совсем новых свидетельств. В книге «Несвятые святые» архимандрита Тихона Шевкунова есть рассказ о Псково-печерском старце схиигумене Мелхиседеке, «удивительном и таинственном подвижнике». Повествуется о том, как однажды о. Тихон пришел к нему со своими страстями и бедами, незаслуженными и жестокими, как ему представлялось, испытаниями. Старец, понурив голову, выслушал все и вдруг горько-горько зарыдал. «Брат! – сказа он с невыразимой болью. – Что ты меня спрашиваешь? Я сам погибаю!». «Старец-схиигумен, - пишет далее отец Тихон, - этот великий, святой жизни подвижник и аскет, стоял передо мной и плакал от неподдельного горя, что он воистину – худший и грешнейший человек на земле» (4, с.110-112). Это совсем новое, нашего времени свидетельство того, чего стоит обретение истин ангелов и какой ценой это дается. Есть одна очень важная для всей традиции религиозной философии тема – отношение ко злу. И здесь возможны самые разные подходы к решению этой проблемы. Мало что может сравниться по силе и впечатляющей глубине с работой, раскрывающей и систематически описывающей зло, чем начало труда «О сопротивлении злу силою» Ивана Ильина. В нем анализируются разные формы насилия, праведности, сопротивления злу, формы бегства от жизни, нигилизма, варианты ложных решений проблемы различения добра и зла, компромиссы между их приверженцами, функции жалости, наслаждения, проясняются границы любви, и пр.. Другое – у Павла Флоренского. Зло для него также – «реальная сила», но следует всячески отчуждаться от зла. Его тактика состоит в том, чтобы никогда не допускать «его в сознание как нечто имманентное ему, /…/ всегда относиться ко злу как к чему-то безусловно чуждому и внешнему, /…/ не переживать, как реальность, /…/ видеть в нем «предельное понятие», отрицать которое не должно, но исследовать которое невозможно, оставаясь имманентным области добра» (3, с. 314). Усилия Павла Флоренского направлены на то, чтобы усилием воли удерживать зло в его свернутой в точку мощности силою осторожного и знающего разума, что также сложно и нисколько не легче, чем систематически изучать многообразные способы проявления его в мире, как это делает Иван Ильин. Но тщета рационального знания в отношении к такого рода предметам проявляется в том, что философия (и особенно это касается аксиологии в том смысле, в каком понимает ее М.С Каган)– это только Пролегомены, это изощренная пропедевтика, т.е. введение. Во что, или к чему введение? Многие блестящие философы понимают, что метод – это виртуозно разработанный рефлексивный способ для превращения философии в «строгую науку», способную решать главные фундаментальные современные проблемы, это только очень сложная аналитическая техника для решения проблем «жизненного мира» (и Флоренский, и Ильин в качестве такого рационального инструментария называют диалектику). Для чего, каким целям служит она? Методология вся должна быть подчинена нравственной философии или истинам ангелов. Предметом грандиозных методологических усилий является метод исследования, аналитика самих принципов рационального мышления. Но вопрос остается, - можно ли применить их к той сфере, которую назвают «истинами ангелов»? Так что же собой представляет рациональная культура? Определяют ли принципы рациональности теологическую догматику и тот религиозный опыт, на который претендуют приверженцы иррационализма, которые пытаются продемонстрировать иные, вне-рассудочные истины? Духовный контекст разрешения этой проблематики отличается острым полемическим содержанием. Начиная с эпохи Просвещения, Моисей Мендельсон обсуждал вопросы отношения религиозного знания и рациональности с Готхольдом Лессингом, Фридрих Якоби критиковал философию Иммануила Канта и Фридриха Шлейермахера, Иоанн Готлоб Фихте полемизировал по этому поводу с Фридрихом Шлегелем, Жан-Поль Рихтер - с Фридрихом Шиллером. В немецкой классической философии XIX столетия тема природы рационального знания утвердилась как одна из самых существенных, затем в ХХ столетии она исследовалась в философии жизни, в экзистенциальной философии, в феноменологии, в аналитической философии. Но первым и самым последовательным философом, кто специально исследовал проблемы отношения веры и рациональности, был оригинальнейший немецкий философ Иоганн Гаман. Впечатляющая картина идей, заложенных в его философии, объясняет то внимание, которое проявляли к нему Фихте, Гегель, Новалис, Фр. Шлегель, Дильтей, Кьеркегор. Гаман, как в высшей степени неординарный мыслитель, вызывал интерес у романтиков, которые считали его своим предтечей и наставником. Анализ многообразия форм рациональности выявляет такие тенденции в ее развитии, «которые не могут быть сведены только лишь к рационалистической традиции в том виде, который придало ей Просвещение» (8, с. 44). Гаман находится в оппозиции к просвещенческой философии культуры, он является ее внимательным исследователем и критиком. Своеобразие взглядов Гамана определяется тем, что он пытается утвердить философию в той области, в которой, он полагает, «не имеют силы правила и доказательства обычной логики» (9, с.21). В таком понимании философии отражается неприятие притязаний «высшей силы демонстративного разума в его самомнении и самообожествлении» (9, с. 31). В оппозиции к «философии школьного Просвещения», выраженной в системе Х. Вольфа, и в то же время в возвращении, к ее истоку, – к собственно философии Лейбница, - коренятся представления Гамана о совершенном познании в форме чувства или веры. Это станет фундаментом философии Гамана и сделает его «наиболее чистым выразителем антирационалистического направления просвещения» (10, с.10). Основу его взглядов составляют мистика, как «смутная, гениальная демония индивидуального духа», и «поэзия веры». Но в каком отношении все это находится к критикуемой самим философом рациональной основе познания? Гаман не был бы философом, если бы не пытался доказывать, т.е. пользоваться теми рациональными формами изложения своих взглядов, которые на первый взгляд отрицал. Другое дело, что он склонялся к особому способу выражения своего мнения, которого впоследствии будет придерживаться и Ф. Ницше, полагавший, что аристократ духа ничего не должен доказывать, он призван только утверждать свое мнение. Гаман в этом отношении находится между теологией и философией, с одной стороны, и литературой, с другой. Благодаря присущему ему блестящему и парадоксалистскому слогу он выступает мастером афоризма, завораживающего своими не проявленными, но обозначенными смыслами. Гаман – это ироник, литератор, остроумный комментатор чужих мнений. Особое значение в этой связи приобретает литературная составляющая его творчества. Но литература предполагает иную по сравнению с философией телеологию и иной строй и порядок мысли, именно в ней индивидуальная выразительность оказывается более ценной, чем рациональная строгость и теоретическая продуманность. Похоже, что Гаман продуктивно следует совету Лейбница, что «стоит выражаться неправильно, чтобы выразиться посильнее». В этом свете мистицизм Гамана не в последнюю очередь связан с его манерой выражения, образцом чего может послужить следующий пассаж: «...Вольтер, первосвященник во храме вкуса, заключает не менее логично, чем Каифа, и думает более плодотворно, чем Ирод…» (из «Эстетики в чистом виде»). Не от Гамана первого исходит эта традиция, и не на нем она заканчивается. Достаточно в этой связи вспомнить Новалиса, Вакенродера, Ницше, Кьеркегора или Хайдеггера, всех тех философов, которые особо культивировали свой литературный стиль. Не случайно Гаман вступает в полемику о проблемах языка с И. Кантом. Напрашивается параллель с философией позднего Хайдеггера с его погружением в литературное творчество уже в самом тривиальном смысле этого слова. Литературными являются такие мыслительные структуры, которые выступают частью бесконечной, требующей все новых дополнений коллекции разрастающихся определений. Быть может, именно этот аспект мышления Иоганна Гамана заслуживает особого внимания, поскольку проливает свет на его так называемый «иррационализм», который уже имеет отношение не к идейному, но к формальному содержанию его творчества. Что касается мистицизма Гамана, то основа его критики рациональности состоит в том, что отрицается «возможность познания достоверной истины исключительно средствами рассудочного знания» (10, с.2.), и это вполне согласуется со скептическими (рациональными по сути) аргументами в отношении разума. Но рационализация сверхчувственного (т.е. включение его в структуру рассуждения), никак не означает, что мы переходим с позиции рационализма на почву иррациональности. В этом отношении русская религиозная философия ХХ столетия радикальным образом продвинулась в понимании необходимости, а, главное, возможности соединения опыта философии и теологии. Всегда, когда речь идет о религиозной вере, имеется в виду особые переживания присутствия трансцендентной силы. Они называются по-разному, напр., «благодатная сила», – при этом особо подчеркивается, что описывается опыт «действительного в о с п р и я т и я, простого, как звук», а вовсе не так называемого «поэтического сравнения» (3, с.314). Но предметом нашего интереса является не неизреченность, не таинство богообщения, а, напротив, возможность рационального свидетельства об этом. И Флоренский, и Ильин, в которых одновременно сосуществуют религиозные переживания и исследовательская воля, показывают, как именно они соединяются и выражаются в рациональном знании. Как пишет П. Флоренский, открывается «предметное знание об ином», и оно-то, это знание является необходимым дополнением «цельного знания». Он свидетельствует, что видел «такую реальность, которой не отнимут у меня все разрешители действительности во мнимость» (3, с. 316-317). Опыт описания такого рода переживаний предполагает овладение совершенно новым языком. Как говорил Флоренский, находится «свое внутреннее, а потому и свое внешнее слово», не имеющее ничего общего с «безжизненными продуктами литературных фабрик» («как будто князь мира «раскладывает свои скучные «Дела»). В поверхностных словах «…пышность их – пышность бумажных и тряпичных цветов, запыленных, выцветших и загаженных мухами: такие слова – лишь фальсификация» (3. с. 690). Следует отметить, что рационально организованное математическое дарование Павла Флоренского не входило в противоречие с его опытом богопознания», в статье «О типах возрастания» пишет о возможности «сопряжения математики и нравственного богословия» (3, с. 284). Но он же пишет о необходимости борьбы с «дурным научным вкусом», имея в виду «пустое аналогизирование между математикой и нравственной жизнью». Флоренский в этом отношении отличается от «философов-мистиков», в частности, от Иоганна Гамана. Когда Гаман пытается «философствовать в чувстве» (как мы видели, он имеет в виду мистическое ощущение богоприсутствия), он делает это вполне корректно, традиционно и рационалистично. Здесь, на наш взгляд, не вполне различенными остаются предмет и метод философствования мыслителя, которого называли «северным магом» и оракулом, и характеристической особенностью письма которого является «чувственная страстность», отчасти затемняющая рационалистические схемы его рассуждений. Тема противостояние культуры и антикультуры, в которой зияет духовная пустота, - это отнюдь не достижение исключительно ХХ столетия. Когда в «Государстве» Платона Сократу возражает софист Фразимах и приводит в доказательство своей правоты житейские соображения по поводу того, что справедливость – это ничто иное как «благородная тупость», и всегда у несправедливого имеется больше способов одолеть справедливого, потому что первый не ограничен никакими соображениями морали и нравственности, Сократ приводит блестящий аргумент. Он говорит, что если бы Фрасимах был прав, то задолго до своей встречи с Сократом, последний из справедливых был бы изничтожен одним из несправедливых. А вот то, что они с Фрасимахом сидят и обсуждают справедливость, есть ничто иное, как свидетельство необоримости и неуничтожимости справедливости. Мир стоит на нравственности, это единственная скрепа его существования. В «Основах христианской культуры» Иван Ильин пишет, что культура начинается там, где духовное содержание ищет себе верную и совершенную форму (2, с.291). Следует заметить, что Гаман ставит проблемы (отношение зла и добра, свободы и истины) и решает их, проясняет источники знания, утверждает свою правоту, аргументирует, а это в полной мере свидетельствует о рациональном характере его собственных умозаключений. Следовательно, мы можем утверждать, что плодом его рассуждений является именно философия чувства и веры, то есть вполне рациональная система экспозиции своих представлений. Проясняя, как именно в критикующей рационализм системе осуществляется критика, мы показываем рациональные возможности этой критики. Но если основой знания объявляется интуиция трансцендентного, возникает проблема возможности его рационального осмысления. Иррационалисты опираются на особое «чувство» в выявлении присутствия трансцендентного начала в опыте и рассматривают интуицию как источник, удостоверяющий его наличие. Именно таким образом конституированный «факт сверхчувственного» утверждается в любой мифологической или теологической конструкции, однако, источником знания о нем, даже смутного, неотчетливого, интуитивного (в смысле – непосредственного), всегда являются интеллигибельные способности человека. Чаще всего «способность сверхчувственного» в человеке объясняется религиозными потребностями человека. Между теологией и философией в этом отношении не пролегает пропасть: если знание, или достоверность присутствия Бога утверждается непосредственным образом – в чувстве, и это знание требует своего конструирования, раскрытия или развития, даже просто рассказа о нем, - это в любом случае будет рационалистическая форма экспозиции такого рода интуиций. Мистически ориентированное философствование также описывает переживания по этому поводу. Философия призвана разрешить и преодолеть возникающие здесь затруднения. Но как в философии избежать отягощения этой интуитивной «чистоты знания», когда рационально представленное знание о трансценденции может быть дано средствами понятий, логики, структуры и способов изложения? Этот вопрос, у всякого рассуждающего о нем всегда разрешается по-своему. Вопрос о сути рационального знания в этом смысле не имеет окончательного разрешения, ведь существует много разных конкретных видов рациональности (платоновой, аристотелевой, кантовой, декартовой, гуссерлевой). Но что объединяет их при всем конкретном и действительном своеобразии? Спекулятивность, возможность исследовать отвлеченные предметы? Или, если рационализм действительно имеет природу демонстративного разума, то рациональность состоит в доказательности, аргументированности всех без исключения положений? Или рационализм – это способность переводить в мысли поток сознания, все частные существенные и не существенные переживания сознания, в которых каждый пребывает непрерывно, но, тем не менее, нуждается в усилиях, поистине титанических, чтобы эти смутные и неопределенные переживания превратись в осмысленные и необходимые формы знания? Но как тогда сосуществуют в одном сознании философские и религиозные переживания? По-видимому, вопрос о совместимости принципов рациональности с религиозными чувствами и с основаниями веры может разрешиться в телеологическом (целеполагающем) горизонте философии. Это означает, что мы философию можем использовать как субструктуру для описания особых состояний сознания. Эта проблематика исследуется на стыке философии, истории культуры и теологии или религиоведения. Религиоведческий аспект выдвигается на первый план не случайно, поскольку основным предметом знания выступает трансцендентное. Итак, философии можно противопоставить: 1) теологию как самую древнюю и основательную практику описания трансцендентных сущностей и как форму прорыва в те сферы знания, которые остаются принципиально проблематическими для последовательного философствования; 2) критику как «оборонительную секту», по выражению Р. Гайма; 3) литературу как способ преодоления «нищеты философии»; Но можно объединить все это и создать сплав философии (дисциплинированной рациональности), теологии как освященного догматизма и литературы (в которой наибольшую ценность представляют уникальная выразительность и индивидуальность дискурса). Именно в русской религиозной философии мы видим пример подобного титанического усилия. Философия, из которой отделяются и отпочковываются все новые и новые науки, в числе которых и аксиология, превращается в методологию наук, она утрачивает свое содержание и, вследствие этого, - свою мировоззренческую основу. Те, кто понимают, какие из этого воспоследствуют явления, и в числе их были русские философы, о которых велась выше речь, много сил положили на то, чтобы вернуть всю полноту знания. В этом состоит их историческая роль и как философов- аксиологов. Василий Васильевич Розанов является одним из самых сложных и противоречивых русских философов. В нем нет цельности мировоззрения Ивана Ильина, нет бесконечного разнообразия интересов Павла Флоренского, но в нем есть нить, на которую нанизаны все его философские и литературные, чрезвычайно глубокие и потому темные идеи. Эта связующая основа его мировоззрения – парадокс, и восстановить ценностную ось его мировоззрения –задача чрезвычайно сложная и потому увлекательная. В размышлении 1905 года «Мечта в щелку» он описывает свои гимназические годы: «Утром я вставал – тихий, скромный, послушный /…/ и шел в гимназию. Здесь я садился за парту и, сделав стеклянные глаза, смотрел или на учителя, который в силу чарующей гипнотической внимательности моей объяснял не столько кассу, сколько в частности мне /…/ Семь лет постоянного обмана сделали то, что я не только внимательно смотрел на учителя, но как-то через известные темпы времени поводи шеей, отчего гоова кивала, но не торопливо, а именно как у вдумчивого ученика /…/ Конечно, я ничего не слышал и не видел. Когда меня вызывали – это была мука и каинство. /…/ Так же пролетели и четыре года филологического факультета.» Затем «прямо после университеты я сел за огромную книгу «О понимании, без подготовок, без справок, без «литературы предмета /…/ Странная судьба, странная жизнь» (12, с.103). Этот абстрактный и обширный философский труд, написанный в форме средневекового трактата, оказлся незамеченным и невостребованным. В.В. Бибихин, комментируя тракта, назвал свою вступительную к нему статью «Время читать Розанова». Действительно, любой его читатель может в заголовок вынести название «Читайте Розанова!». Талант Розанова как философа-педагога раскроется в блестящем цикле его статей о положении дел в русской средней и высшей школах – в «Сумерках просвещения» (1883- 1898 гг.). За этим всем стоял опыт преподавания в Елецкой гимназии, в ней почти одновременно учились будущие великие писатели России, - Иван Бунин, который очень скоро перешел на домашнее образование, Сергий Булгаков, с которым Розанов встречался вскользь, но сблизился уже в Петербурге, и Михаил Пришвин, которому Розанов преподавал географию и в судьбе которого он сыграл роковую роль, настояв на его исключении из гимназии «с волчьим билетом». Отношения между Розановым и Пришвиным описаны в повести последнего «Кащеева цепь» (Об этом на конференции, посвященной Розанову, Д. Миронов сделал великолепный доклад, материалы которого я здесь использую). Итак, парадоксальная жизнь, парадоксальная деятельность, парадоксальное письмо – и блестящий результат построения аксиоогической системы, в которой аксиология, гносеология, этика и онтология взаимопроникновенны и поддерживают одна другую. При этом теория ценностей не неприкаянна, а выстрадана и дана в развитии, в своем экзистенциальном построении, в жизненной корреляции. Русская аксиология аксиологична по своей сути, ее литературная закваска, дающая ей совершенную форму выражения, только выражение внутреннего на поверхности вещей. ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА 1. Каган М.С. Философская теория ценностей. СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1997 2. И. Ильин. Соб. соч. в 10 т. Т.1. 3. П. Флоренский. Соч. в 4 т. Т.1. М.: Мысль, 1994. 4. Архимандрит Тихон (Шевкунов) «Несвятые святые» М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2011. 5. Творения Платона (В 2 т.) Т.2. М., 1899. 6. Полное собрание творений Платона в 15 т.Т.5. Пг., 1922. 7. Гуссерль Э. Логические исследования. Т. 1. Пролегомены к чистой логике // Гуссерль Э. Философия как строгая наука. Новочеркасск, 1994. 8. Волжин С.В. Философия чувства и веры И.Г. Гамана и Ф.Г. Якоби в контексте философии культуры немецкого просвещения. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук. СПб., 2007. 9. И.Г. Гаман. Ф.Г. Якоби. Философия чувства и веры. СПб., 2006. 10. Волжин С.В. Философия чувства и веры И.Г. Гамана и Ф.Г. Якоби в контексте философии культуры немецкого просвещения. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук. СПб., 2007. 11. О сопротивлении злу силою // И. Ильин Путь к очевидности. М.: Изд-во «Республика», 1993. 12. Розанов В.В.Мечта в щелку // Розанов В.В. Сочинения. М.: Сов. Россия, 1990 13. Розанов В.В. Сумерки просвещения М.: Педагогика, 1990 14. Розанов В.В. О понимании. Опыт исследования природы, границ внутреннего строения науки как цельного знания. М.: «Танаис», 1996