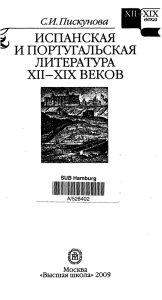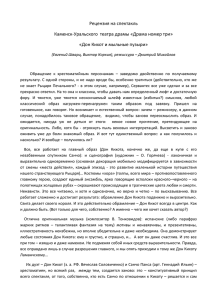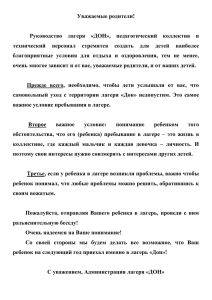Дел-Рио Н.Б., Талалова Л.Н., Москва, ДОН КИХОТ И ПРОБЛЕМА
advertisement
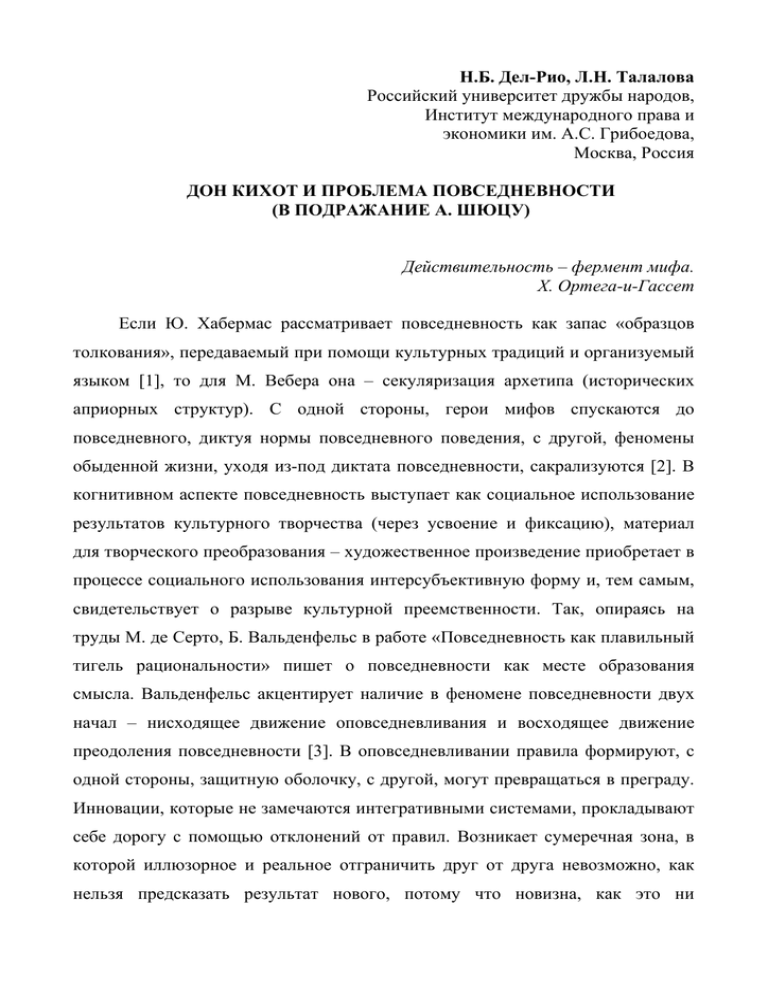
Н.Б. Дел-Рио, Л.Н. Талалова Российский университет дружбы народов, Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова, Москва, Россия ДОН КИХОТ И ПРОБЛЕМА ПОВСЕДНЕВНОСТИ (В ПОДРАЖАНИЕ А. ШЮЦУ) Действительность – фермент мифа. Х. Ортега-и-Гассет Если Ю. Хабермас рассматривает повседневность как запас «образцов толкования», передаваемый при помощи культурных традиций и организуемый языком [1], то для М. Вебера она – секуляризация архетипа (исторических априорных структур). С одной стороны, герои мифов спускаются до повседневного, диктуя нормы повседневного поведения, с другой, феномены обыденной жизни, уходя из-под диктата повседневности, сакрализуются [2]. В когнитивном аспекте повседневность выступает как социальное использование результатов культурного творчества (через усвоение и фиксацию), материал для творческого преобразования – художественное произведение приобретает в процессе социального использования интерсубъективную форму и, тем самым, свидетельствует о разрыве культурной преемственности. Так, опираясь на труды М. де Серто, Б. Вальденфельс в работе «Повседневность как плавильный тигель рациональности» пишет о повседневности как месте образования смысла. Вальденфельс акцентирует наличие в феномене повседневности двух начал – нисходящее движение оповседневливания и восходящее движение преодоления повседневности [3]. В оповседневливании правила формируют, с одной стороны, защитную оболочку, с другой, могут превращаться в преграду. Инновации, которые не замечаются интегративными системами, прокладывают себе дорогу с помощью отклонений от правил. Возникает сумеречная зона, в которой иллюзорное и реальное отграничить друг от друга невозможно, как нельзя предсказать результат нового, потому что новизна, как это ни парадоксально, может тормозить движение вперед, и тогда изобретатель нового, обладающий именем, превращается в анонима, исчезает. Для И.Т. Касавина и С.П. Щавелева в уже хрестоматийном «Анализе повседневности» последняя – понятие, связанное с рядом фундаментальных парных оппозиций. Заблуждение и истина, профанное и сакральное [Выделено курсивом нами; отсылка к Б. Вальденфельсу – Авт.] – аналоговые пары, терминологическое различие которых определено различием предметных областей. Эти полюса познавательного процесса, морального сознания и религиозного культа образуют в культуре два измерения, которые можно обозначить как повседневность и миф. В их взаимодействии и противостоянии протекает вся человеческая жизнь, содержание которой определяется приближением и удалением от этих полюсов, меняющейся ориентацией на одно или другое направление. Повседневность, дабы обрести смысл, нуждается в отсылке к истокам; она требует мифического обоснования. Философия делает повседневность в разных ее формах объектом своего исследования, постоянно колеблясь между ее низведением к рутинному сознанию и возвышением до интегрального мифоподобного горизонта, свойственного современности [4]. Отталкиваясь от известной работы А. Шюца «Дон Кихот и проблема реальности» [5], в которой он противопоставляет субуниверсум Дон Кихота (реальность) как шлем Мамбрина повседневности как тазу для бритья, проследим парную оппозицию – возведение до мифологемы и низведение к обыденному – у разных авторов разных эпох (от Ф. Бутервека до К.Х. Селы) как пример интерпретации самого образа Дон Кихота, отметив как данность, что герой стал общечеловеческим образом, выражающим вечные свойства человеческого духа, а явление донкихотизма приобрело статус философского понятия. Иначе, рассмотрим проблему не изнутри, а снаружи. В XVII и XVIII вв. историки литературы, философы, писавшие о «Дон Кихоте», рассматривали роман с точки зрения тех исторических причин, которыми он был порожден, и тех последствий, которые он вызвал. Для них роман и образ Дон Кихота лишь пародия на рыцарские романы и рыцарские нравы. На роман смотрели как на явление историческое, образ трактовали как тип определенной эпохи и социальной среды. Лишь в XIX в. роман канонизируется. Его начинают интерпретировать, образ воспринимается как философская категория. Дон Кихот провозглашается общечеловеческим символом. Ф. Бутервек, начавший одним из первых интерпретировать образ идальго, установил взгляд на Дон Кихота как на выражение вечного контраста между идеализмом и материализмом, альтруизмом и эгоизмом, которые борются в человеческой душе; олицетворение вечных порывов человека ввысь и его вечной прикованности к земному, контрастом между поэтическими восторгами и прозаическими буднями, между безграничной верой человека и его ограниченной трезвенностью. Эти взгляды развивали немецкий романтик А.В. Шлегель и французский историк Ж. де Сисмонди. Философам и ученым вторили поэты и беллетристы. Видя в Дон Кихоте символ веры человека в добро, его вечного стремления к идеальному, необходимости преодолеть трезвенный практицизм массы, поэты стремились утвердить взгляд на Дон Кихота как на фигуру величественную, а не комическую. Такие взгляды на Дон Кихота развивались Дж. Байроном, В. Гюго, Г. Гейне, И.С. Тургеневым, В.Г. Белинским, Ф.М. Достоевским, А.И. Герценом, Д.С. Мережковским, А.В. Луначарским, В.В. Набоковым, M. де Унамуно. Для Байрона Дон Кихот – знамя борьбы, между тем как толпа превратила это знамя в колпак паяца. Во многом родственную взглядам Байрона оценку дает Тургенев. Он отказывается видеть в Дон Кихоте «фигуру, созданную для осмеяния старинных рыцарских романов». Для него он – «высокое начало самопожертвования», «вера, прежде всего; вера в истину, доступную постоянству служения и силе жертвы». Из многочисленных истолкователей «Дон Кихота» в духе Байрона и Тургенева остановимся и на Гейне. Он, как и Тургенев, утверждает, что личность, стремящаяся преодолеть ограниченное настоящее – это всегда Дон Кихот, тогда как массы, следующие за ней, суть Санчо Панса. Итак, по мнению Байрона, Тургенева, Гейне, «исторический» Дон Кихот является главным двигателем прогресса, донкихотизм – выражение героического в человеке, Санчо Панса – способность масс надеяться на Дон Кихота, следовать за ним. Исследователи становились на историческую точку зрения при изучении образа Дон Кихота, когда перед их классом стояли задачи преодоления тех условий, которые породили его. И, наоборот, они давали его сакрализованную интерпретацию, когда они сами, как и Дон Кихот, противопоставляли реальной жизни свою идеалистическую веру и бессильны были ее подкрепить социальными актами. М.С. Самарина пишет о такой сакрализации Дон-Кихота рядом авторов, проводя параллели между Франциском Ассизским и Дон Кихотом. Оба восходят к одному архетипу, Христу; как стигматизированный Франциск Ассизский, так и Дон Кихот – «испанский Христос» (по выражению М. Унамуно), и являются носителями именно христианской идеи. То, что роман Сервантеса – произведение христианской литературы, было очевидно и для Унамуно, ярчайшей личности Испании первой трети XX в., и для Достоевского. Для Унамуно «Дон Кихот» – произведение христианской литературы, причем тяготеющей к Средневековью, а не Возрождению, о чем говорит и название его книги 1905 г. «Житие Дон Кихота и Санчо», звучащее в традициях жанра средневековой агиографии [6]. А Достоевский писал, что «…из прекрасных лиц в литературе христианской стоит всего законченнее Дон Кихот» [7, c. 251]. Как Франциск Ассизский выходит за рамки религиозной идеи, так и Дон Кихот не является всего лишь литературным персонажем; они – вечные символы, существующие в коллективном сознании эпохи постмодернизма вне хронологических и географических рамок [8]. В свете сакрализации Дон Кихота одними из основных составляющих донкихотства являются экстремальное мировосприятие и обостренное нравственное чувство, душевное беспокойство, граничащее с безумием. При этом меланхолическое безумие «рыцаря печального образа» как феномен имеет глубокие корни в европейской культуре – в литературе (от «ацидии», мучительного беспокойства и тоски на грани безумия, страдал Ф. Петрарка), изобразительном искусстве («Меланхолия» А. Дюрера). Такое «Божественное безумие» сродни мудрости пророков, визионеров, мистиков. Стремление выбиться из традиционных рамок «нормальности», эксцентричность поведения, граничащая с ненормальностью (параллели с русским юродством), целиком вписываются в понятие донкихотства. Именно в таком состоянии души находится Дон Кихот, что не раз уже было предметом исследования. Э. Макола, анализируя душевное состояние Дон Кихота, пишет о его внутреннем разладе, постоянном смятении в осознании себя на грани двух реальностей, беспокойстве как следствии осознания несовершенства мира, болезненном состоянии души как свойстве творческих натур, тоске по идеалу, и, конечно, о его неадекватном поведении [9]. Д.С. Мережковский, видевший в фигурах средневековых мистиков воплощение своей религиозной философии, в «Испанских мистиках» пишет о донкихотстве Св. Терезы Авильской, также воспитанной на рыцарских романах, – о параллели между рыцарским служением и религиозным подвижничеством, имеющих одну общую основу – мистическую любовь, о родстве донкихотства и донжуанства, «рыцарства любви небесной и любви земной», сливающихся в одно – «… в безумную преданность невозможной мечте в “Небесное рыцарство”» [10, c. 46]. Одним из первых движение в направлении десакрализации Дон Кихота сделал тогда еще начинающий Х. Ортега-и-Гассет в своей первой крупной работе. Он полагал, что герой – тот, кто хочет быть самим собой. В силу этого, героическое берет начало в реальном акте воли. В эпосе нет ничего подобного. Вот почему Дон Кихот – не эпическая фигура, а именно герой. Он считал, что приключенческий роман, эпос суть первый, наивный способ переживания воображаемых смысловых явлений. Реалистический роман – второй, непрямой способ. Однако ему необходим первый, ему нужен мираж, чтобы заставить нас видеть его именно как мираж. Вот почему не только «Дон Кихот», который был специально задуман Сервантесом как критика рыцарских романов, несет их внутри себя, но в целом «роман» как литературный жанр заключается в подобном внутреннем усвоении [11]. Он пишет: «Сервантес не изобретает a nihilo поэтическую тему действительности; он просто возводит ее в классический ранг. Тема текла, как струйка воды <….>, пока не нашла в романе, в «Дон Кихоте», соответствующую ей органическую структуру. Во всяком случае, эта тема имеет странную родословную. Она родилась у антиподов мифа и эпоса. В строгом смысле слова она родилась вне литературы» [11, c. 52]. Продолжает эту линию другой испаноязычный мыслитель Х.Л. Борхес: Сервантесу нравится смешивать объективное с субъективным, сама форма «Дон Кихота» заставила Сервантеса противопоставить миру поэтическому и вымышленному мир прозаический и реальный. Дж. Конрад и Г. Джеймс облекали действительность в форму романа, потому что считали ее поэтичной; для Сервантеса реальное и поэтическое – антонимы. Обширной и неопределенной географии «Амадиса» он противопоставляет пыльные дороги и грязные постоялые дворы Кастилии. Сервантес создал поэзию Испании XVII в., но для него ни тот век, ни та Испания не были поэтичными; ему были бы непонятны люди вроде М. де Унамуно, или Асорина (испанский писатель, эссеист, один из наиболее влиятельных литературных критиков своего времени) или А. Мачадо, умиляющиеся при упоминании Ламанчи. Замысел его произведения воспрещал включение чудесного; оно, однако, должно было там присутствовать, хотя бы косвенно, как преступления и тайна в пародии на детективный роман. Прибегать к талисманам Сервантес не мог, но он сумел ввести сверхъестественное очень тонким и потому более эффектным способом [12]. А У. Эко в своих «Внутренних рецензиях», начиная эссе, сознательно «скатывается» на уровень профанности – «…книга, крайне неровная и местами труднопроходимая, описывает жизненные странствия одного испанского гранда <…> в погоне за фантасмагорическими иллюзиями. У гранда-героя, как я понял, наблюдается какое-то умственное расстройство. Это легко ощутить, потому что образ получился очень объемным, живым; Сервантес, надо сказать, одаренный рассказчик. Слуга героя – простачок, не лишенный природного здравомыслия; естественно, читатель легко себя с ним отождествляет, тем более что сумасшествие главного героя не может не отталкивать. Вот, в сущности, и весь сюжет; <…> однако, позволю себе выйти за пределы субъективной симпатии и высказать ряд общих соображений» [13, c. 67]. Еще более уничижительную оценку, направленную на демифологизацию Дон Кихота, можно найти в самой испанской литературе – в непереведенном на русский язык рассказе гения современной испанской литературы К.Х. Селы «Amadis de Gaula» («Амадис Гальский») при характеристике главного героя появляются метафоры: el último caballero andante – последний странствующий рыцарь, el último bon chevalier de la Table Ronde – последний шевалье Круглого Стола, el último paladín de desvalidos – последний защитник убогих. Села в характеристике своего главного героя использует прямую отсылку к уже упоминавшемуся нами ранее в статье Амадису Галльскому – рыцарю без страха и упрека средневековых испанских романов, а затем и герою одноименного романа XV в. Г.Р. де Монтальво, у которого Амадис Гальский предстает не только как самый бесстрашный из рыцарей, но и как человек, несправедливо гонимый и наделенный чувством сострадания. В самом широком смысле, все написанные художественные произведения, поднимающие тему донкихотства, по существу, делятся на две группы: произведения драматические, где авторы скорбят о трагической участи героев «печального образа», и произведения, осмеивающие образ; в параллель с ними парная оппозиция возвышения vs. низвержения, демифологизации так же хорошо заметна и на уровне исследовательских работ – философских и литературоведческих. Литература 1. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие / Под ред. Д.В. Скляднева. – СПб.: Наука, 2000. – 379 с. 2. Вебер М. Избранные произведения: Пер. с нем. – М.: Прогресс, 1990. – 808 с. 3. Вальденфельс Б. Повседневность как плавильный тигель рациональности // Социо-Логос: Пер. с англ., нем., фр. – М.: Прогресс, 1991 // Вальденфельс Б. Повседневность как плавильный тигель рациональности. – С. 39–50. 4. Касавин И.Т., Щавелев С.П. Анализ повседневности. – М.: Канон+, 2004. – 584 с. 5. Шюц А. Дон Кихот и проблема реальности: Пер. с англ. В. Степаненко // Философская и социологическая мысль. – 1995. №. 11–12. – С. 144–169. 6. Унамуно М. де. Житие Дон Кихота и Санчо по Мигелю де Сервантесу Сааведре, объясненное и комментированное Мигелем де Унамуно. – М.: Наука, 2002. – 404 с. 7. Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. – Л., 1972–1990. Т. 28. Кн. 2. 8. Самарина М.С. Франциск Ассизский и его наследие: от истоков к современности. – СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 2008. – С. 114–126. 9. Macola E. Il sistema delirante di Don Chisciotte // Don Chisciotte a Padova. Atti della I Giornata Cervantina. Padova, 1992. – P. 81–99. 10. Мережковский Д.С. Испанские мистики. – Брюссель, 1988. – С. 46. – Цит. по: Багно В. Дорогами «Дон Кихота»: судьба романа Сервантеса. – М., 1988. – С. 384–400. 11. Ортега-и-Гассет Х. Размышления о «Дон Кихоте»: Пер. с исп. О.В. Журавлева, А.Б. Матвеева. – СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 1997. – 332 с. 12. Борхес Х.Л. Скрытая магия в «Дон Кихоте» // Борхес Х.Л. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. – С. 366–369. 13. Эко У. Внутренние рецензии (Сервантес Мигель. «Дон Кихот»): Пер. с итал. Е. Костюкович // Иностранная литература, 1997, № 5.