ОТЗЫВЫ, РЕЦЕНЗИИ - Научная библиотека ЧелГУ
advertisement
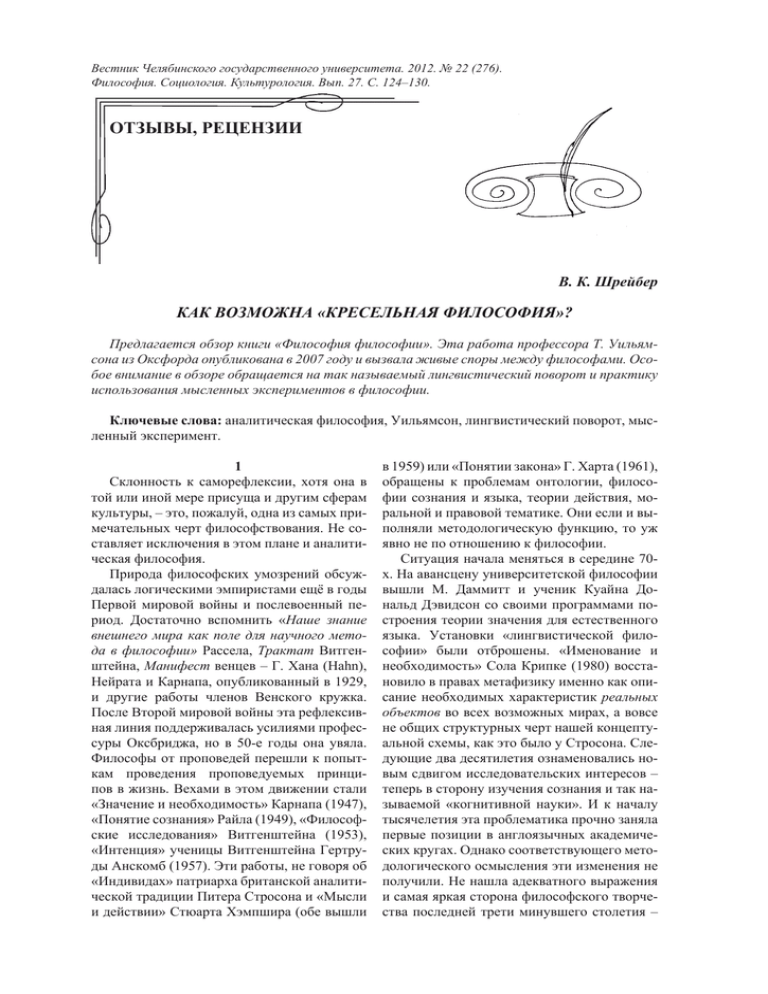
Вестник Челябинского государственного университета. 2012. № 22 (276). Философия. Социология. Культурология. Вып. 27. С. 124–130. ОТЗЫВЫ, РЕЦЕНЗИИ В. К. Шрейбер КАК ВОЗМОЖНА «КРЕСЕЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ»? Предлагается обзор книги «Философия философии». Эта работа профессора Т. Уильямсона из Оксфорда опубликована в 2007 году и вызвала живые споры между философами. Особое внимание в обзоре обращается на так называемый лингвистический поворот и практику использования мысленных экспериментов в философии. Ключевые слова: аналитическая философия, Уильямсон, лингвистический поворот, мысленный эксперимент. 1 Склонность к саморефлексии, хотя она в той или иной мере присуща и другим сферам культуры, – это, пожалуй, одна из самых примечательных черт философствования. Не составляет исключения в этом плане и аналитическая философия. Природа философских умозрений обсуждалась логическими эмпиристами ещё в годы Первой мировой войны и послевоенный период. Достаточно вспомнить «Наше знание внешнего мира как поле для научного метода в философии» Рассела, Трактат Витгенштейна, Манифест венцев – Г. Хана (Hahn), Нейрата и Карнапа, опубликованный в 1929, и другие работы членов Венского кружка. После Второй мировой войны эта рефлексивная линия поддерживалась усилиями профессуры Оксбриджа, но в 50-е годы она увяла. Философы от проповедей перешли к попыткам проведения проповедуемых принципов в жизнь. Вехами в этом движении стали «Значение и необходимость» Карнапа (1947), «Понятие сознания» Райла (1949), «Философские исследования» Витгенштейна (1953), «Интенция» ученицы Витгенштейна Гертруды Анскомб (1957). Эти работы, не говоря об «Индивидах» патриарха британской аналитической традиции Питера Стросона и «Мысли и действии» Стюарта Хэмпшира (обе вышли в 1959) или «Понятии закона» Г. Харта (1961), обращены к проблемам онтологии, философии сознания и языка, теории действия, моральной и правовой тематике. Они если и выполняли методологическую функцию, то уж явно не по отношению к философии. Ситуация начала меняться в середине 70х. На авансцену университетской философии вышли М. Даммитт и ученик Куайна Дональд Дэвидсон со своими программами построения теории значения для естественного языка. Установки «лингвистической философии» были отброшены. «Именование и необходимость» Сола Крипке (1980) восстановило в правах метафизику именно как описание необходимых характеристик реальных объектов во всех возможных мирах, а вовсе не общих структурных черт нашей концептуальной схемы, как это было у Стросона. Следующие два десятилетия ознаменовались новым сдвигом исследовательских интересов – теперь в сторону изучения сознания и так называемой «когнитивной науки». И к началу тысячелетия эта проблематика прочно заняла первые позиции в англоязычных академических кругах. Однако соответствующего методологического осмысления эти изменения не получили. Не нашла адекватного выражения и самая яркая сторона философского творчества последней трети минувшего столетия – Как возможна «кресельная философия»? 125 «возрождение метафизического мышления» (р. 19). Профессор логики одного из старейших оксфордских колледжей Тимоти Уильямсон поставил целью закрыть эту лакуну. Родом из Швеции, Уильямсон все свои научные степени получил в Оксфорде и к 56 годам успел опубликовать более ста статей и сделать три книги. Его монографию 1994 года «Неопределенность» (Vagueness) критика назвала классикой аналитической философии. В своей последней работе «Философия философии» (переиздана в 2008 году) Уильямсон вновь показывает себя вдумчивым и провоцирующим дискуссию мыслителем. Теперь он обращается к рассмотрению того, как делается философия. Есть ли какие-то специфически философские методы анализа и сугубо философские области исследования? Или же философия гораздо больше походит на прочие науки, чем это принято среди самих поклонников богини Минервы? Обещая нам не предвосхищать своих выводов, автор вместе с тем уже во введении фиксирует своё убеждение, что методы философии точно так же могут быть предметом гносеологии, как и методы других наук (р. 7–8). ветственно, пятая глава отдана анализу «метафизической» модальности, а шестая – мысленному эксперименту. Последняя тема, пожалуй, особенно интересна для российского читателя, поскольку мы за исключением тех, кто прошел специализацию по логике, слабо знаем модальную логику и мысленным экспериментом пользуемся редко и интуитивно. Седьмая глава называется «Свидетельство в философии». Здесь Уильямсон доказывает, что в философии свидетельства играют ничуть не меньшую роль, чем в физике, истории или математике. В этой связи он разбирает так называемый принцип «нейтральности свидетельств» (р. 210), его кажущиеся достоинства и реальные недостатки, показывает логическую некорректность попыток спасти идею «нейтральности» на путях психологизации свидетельства. Завершает главу обсуждение возможностей «интуиций» как последнего основания для решения философских споров. Когда аналитические философы выходят за рамки аргументов, они ссылаются на «интуиции» (р. 214). Может показаться, что любой философский спор, в конце концов, сводится к конфликту интуиций. Интуиции, иронизирует Уильямсон, выступают философскими «свидетельствами». Вообще говоря, апелляции к «интуициям» объясняются стремлением оппонентов отыскать некую общую концептуально-смысловую базу для разрешения спора и возможно проистекают от неосознанного влияния принципа «нейтральности свидетельств». Но успех таких маневров сомнителен. Ссылка на интуицию не освобождает исследователя от обязанности объяснить, как он перешел от формулировки интуиции к её истинности (р. 215). Обратившись затем к анализу понятия интуиции, Уильямсон приходит к весьма скептическому и, на мой взгляд, правильному выводу относительно её доказательных возможностей: Столь скептические результаты, естественно, ставят перед читателем вопрос о возможностях увеличения, прироста философского знания. Именно этой проблеме посвящена последняя глава книги, озаглавленная «Максимизация знания». Она состоит из пяти разделов и, в частности, предлагает разбор отношений между убеждением и истинностью. В этой связи Уильямсон останавливается на проблеме интерпретации и эпистемической роли принципа «милосердия» (charity), предложенного в 70-е Дэвидсоном. 2 «Философия философии» состоит из восьми глав, послесловия и двух дополнений по модальной логике. В первой главе предлагается экспликация понятий лингвистического и концептуального поворотов. Глава вторая посвящена проблеме смысла философствования. Автор полагает, что главная задача философов – отнюдь не в прояснении слов и концептов, и вопросы такого плана вообще не являются философскими. Доказательство ведется в манере case study на примере онтологического содержания понятия неопределенности. Третья и четвертая главы, в которых исследуются метафизическая и эпистемологическая концепции аналитичности, развивают авторскую аргументацию. Уильямсон стремится показать, что ни одна из них не может служить доказательством того, что философы занимаются концептуальными истинами в ущерб «субстанциональным истинам о мире». Одним из важнейших методов «кресельного» исследования, по Уильямсону, является мысленный эксперимент. Он отмечает связь между развитием модальной логики и практикой мысленных экспериментов. Соот- 126 В послесловии с весьма обязывающим названием «Работать следует лучше» подчеркивается, что у философов никогда ещё не было возможности работать со столь высокими стандартами точности и доказательности, как сегодня. Эта возможность сложилась за последние пятьдесят лет благодаря достижениям в теории истины, философии языка и модальной логики. Поэтому фаза, на которой находится нынешняя метафизика – и в том числе «аналитическая» традиция, – есть «даже не начало конца, но, возможно, – конец начала» (����������������������������� p���������������������������� . 292). По отношению к мировой традиции последнее замечание неточно: завершение процесса размежевания мифа и философии произошло в элейской школе. Но для традиции, которая более столетия пыталась доказать, что эпоха модерна, наконец-то, открыла перспективу покончить с «метафизическими» премудростями и заменить туманные поучения философствующих оракулов работой по обобщению новейших результатов естественных наук, – этот предложенный Уильямсоном парафраз афоризма Уинстона Черчилля весьма знаменателен. Книга, «выросшая из ощущения, что современной философии не хватает образа самой себя, отдающего ей должное» (p. ix), развивает два главных тезиса. Они, по замечанию автора, явным образом противоречат друг другу. Первый тезис: философия гораздо больше походит на другие типы наук, нежели это принято считать большинством философов и – второе – философию можно делать, не вставая с кресла, «кресельными, так сказать, методами» (armchair methods). Метафора «кресельных методов», похоже, содержит аллюзию на известное рассуждение Декарта. Во втором «размышлении» основоположник методологического скептицизма предлагает отказаться от доверия к чувственности и, соответственно, к физике и медицине как наукам, связанным с исследованием сложных вещей, в пользу математического знания. Науки вроде арифметики и геометрии изучают простейшие и наиболее общие понятия и «содержат в себе нечто достоверное и не подлежащее сомнению. Ибо сплю ли я или бодрствую, два плюс три дают пять, а квадрат не может иметь более четырех сторон»1. Если риторические красоты Картезия подвергнуть отрицанию, то речь, пожалуй, пойдет о дедукции и мысленных экспериментах. В. К. Шрейбер Близость Уильямсона Декарту проявляется, по крайней мере, в том отношении, что за модель для сравнения он принимает математику. Хотя он, конечно, отвергает идею врожденных знаний. Опора на умозрение, пишет Уильямсон, отличает философию от многих дисциплин, но в математике она обнаруживает себя ещё явственнее. Конечно, «кресельные методы» распространены и в других науках, – к примеру, в физике, экономике или лингвистике. Но для философии они имеют исключительное значение в силу самой природы предмета. Если некоторые стороны реальности нельзя изучать, не выбравшись из кресла и не подвергнув их наблюдению, то понятно, что «кресельное» философствование легитимно только в том случае, если оно не является исследованием традиционного типа. Иначе говоря, Уильямсон должен объяснить, что же это за исследование. Отправной точкой его рефлексий является констатация того, что современная философия делается на волне «лингвистического поворота». Резонно полагать, что лингвистический поворот был инициирован логическим позитивизмом и деятельностью Венского кружка. Но, согласно Уильямсону, он охватывает третью четверть двадцатого столетия и включает «концептуальный поворот», выразившийся в сдвиге внимания от языка и языковых выражений к мышлению и концептам. Уильямсон разбирает эти изменения на материале эволюции взглядов Альфреда Айера, Майкла Даммитта и Дэвида Виггинса, квалифицируя последнего как «автора одной из самых изящных эссенциалистских метафизик, дискурс которой гармонично соединяет логику и биологию» (р. 20). Критика упрекает Уильямсона в ограниченности угла зрения. От автора труда со столь амбициозным названием логично ожидать обращения к широкому историко-философскому контексту и показа того, как работали ведущие философы во всем многообразии метафизических тем и дискурсов. Но из «образов», унаследованных от прошлого столетия, Уильямсон указывает только натурализм, постмодернизм и лингвистическую философию, а последнюю сводит к воззрениям своих предшественников по заведованию кафедрой Нового колледжа2. Однако Уильямсон не претендует на полнокровное исследование темы. Во введении он оговаривает, что Как возможна «кресельная философия»? 127 предлагает лишь «эссе», то есть этюд, представляющий общие и предварительные суждения по вопросу, и живая реакция на публикацию свидетельствует, что его предложение не так уж и плохо3. Другими словами, ограничение оправдано. Но тем большее оправдание есть у автора этих заметок, вынужденного на нескольких страницах передать и прокомментировать содержание по объему в десятки раз большее. Поэтому я ограничусь только двумя сюжетами из монографии: характеристикой лингвистического поворота и особенностями мысленного эксперимента. пишет Айер, – непосредственно не занимается физическими свойствами вещей. Его интересует только способ, которым мы говорим о них. Другими словами, философские высказывания по своему характеру являются высказываниями не о фактах, а о языке – они не описывают поведения физических или даже ментальных объектов; они выражают определения (definitions) или формальные следствия определений»4. Исток этого подхода Айер усматривает в творчестве Юма и Беркли. Даммитт связал лингвистический поворот с Фреге и сформулировал три принципа, на которых строилась вся конструкция: «во-первых, целью философии является анализ структуры мысли; во-вторых, изучение мысли должно быть резко отделено от изучения психологического процесса мышления (thinking); и, наконец, единственно правильный метод анализа мысли состоит в анализе языка»5. Принятие этих допущений, по Даммитту, являлось отличительным признаком всей аналитической школы. После гипотезы Джерри Фодора о существовании индивидуального языка в виде специфического кода нейродинамических структур мозга часть аналитиков отказалась от третьего принципа Даммитта. Понимание смысла философствования изменилось; слова были замещены концептами. Но на самом деле лингвистические философы и раньше рассуждали скорее о концептах, нежели о словах. Ибо концепт мыслился ими как общее содержание синонимичных выражений. Поэтому не будет большим преувеличением называть тех, кто признает два первых принципа Даммитта, «концептуальными философами» (р. 13). Концептуальный поворот охватил не одну аналитическую философию. Другой формой концептуального поворота является, по Уильямсону, феноменологическая традиция. При всех различиях участников лингвистического и концептуального поворотов, будь то Витгенштейн, Тарский, Райл или Даммитт, у них есть общие черты. Во-первых, все пользуются «кресельным» методом анализа языка и, соответственно, концептов. Кроме того, истины, которые они пытаются таким образом обосновать, рассматриваются как истины аналитические, необходимые и априорные. Наконец: все согласны, что предметная область философии – это язык и концепты. Когда философ обращается, скажем, к проблеме 3 Выражение «лингвистический поворот» обрело широкую известность благодаря Ричарду Рорти, который в 1967 году выпустил под этим названием популярную философскую антологию. Во введении Рорти объяснял, что цель состояла в подборке материалов для характеристики последней философской революции, а именно – перехода к лингвистической философии. Под «лингвистической философией» Рорти подразумевал тип исследований, опирающихся на представление, что философскими являются проблемы, которые могут быть решены (или ликвидированы) путем их перефразировки либо уточнением смысла используемых языковых единиц. «Лингвистический поворот», отмечает Уильямсон, превратился в стандартное обозначение весьма «туманного кластера теорий», который нельзя ограничивать философией языка в рортианском смысле. Однако для всех участников этого действа язык, так или иначе, являлся центральной темой философии. При этом «тему» не надо понимать как синоним «предмета», потому что лингвистический поворот не был попыткой свести философию к лингвистике (p. 10). К примеру, тема музыкального произведения и его предмет это вовсе не одно и то же. Но, с другой стороны, признать анализ языка одним из философских методов это ещё не значит совершить «лингвистический поворот», потому что в этом случае язык не рассматривается как главный объект исследовательского интереса. Для пояснения смысла «поворота» Уильямсон приводит выдержки из работ Айера и Даммитта. «В качестве аналитика философ, – 128 справедливости, он на самом деле рассуждает о концепте справедливости. Этим философы отличаются от физиков или химиков, применяющих апостериорные методы для изучения сил, веществ или атомов. Хакер, комментируя эти соображения Уильямсона, отмечает неудовлетворительность подборки. И надо признать, что он прав. Далеко не все «аналитики» принимали, что философия априори является концептуальным исследованием. Стросон, правда, подчеркивал, что «наше существенное, если не единственное занятие состоит в том, чтобы достигать ясности относительно наших концептов и их места в нашей жизни»6 и «устанавливать связи между главными структурными чертами или элементами нашей концептуальной схемы»7. Но большинством идея изоляции лингвистического значения от обозначаемой реалии воспринималась как извращение. Когда, – замечает Витгенштейн, – умирает господин N, говорят, что умирает носитель данного имени, но не его значение8. Этот же взгляд на отношение исследования слов и соответствующих им реалий находим у Герберта Харта. Он прямо указывает, что «идея, согласно которой исследование значений слов проливает свет только на слова, является ложной»9. Ни один аналитический философ не сводил философию к анализу структуры мысли, как это ошибочно полагал Даммитт. Так, Райл занимался анализом феноменов сознания, а вовсе не структурой рассуждений о сознании. Харт в «Понятии закона» размышляет не о структуре суждений о праве, а о праве как таковом. Можно надеяться, что Уильямсон прояснит отношения концептов и концептуальных истин. Но и здесь надежды не оправдываются. Вначале он сообщает, что концепты есть «нечто похожее на способы презентации, способы размышления и разговора, или интеллектуальные способности» (p. 15). Кроме того, о концептах говорится, что они ближе стоят к значению слова, нежели к самому слову, поскольку они суть «значения или нечто на них похожее» (р. 29). Уточняя понятие концепта, автор далее пишет, что концепты это – «нечто похожее на мысленные (������������������������������������� mental������������������������������� ) или семантические репрезентации» (р. 30). Как пишет Хакер, такое обилие неравнозначных определений в соединении с мешающим распознаванию оператором «нечто вроде» (something like) не способствует В. К. Шрейбер уяснению того, как понимали концепт аналитические философы. Уильямсон не только не объясняет, что такое концептуальная истина, но вдобавок еще и ошибочно отождествляет её с истиной аналитической10. Итог: обращение к работе двадцатишестилетнего Айера и, по словам Хакера, «печально известному» утверждению Даммитта, что для приверженцев лингвистического поворота цель состоит в изучении мысли и единственным методом является анализ языка, – это обращение едва ли позволяет дать «строгую» характеристику аналитической философии между 1920-ми и 50-ми годами прошлого столетия. 4 Мысленный эксперимент – это способ исследования гипотез с помощью воображаемой ситуации. Такая ситуация, хотя она и вымышленна, должна содержать реальные и релевантные гипотезе характеристики, работа с которыми позволяет выявить скрытые свойства изучаемых сущностей и уточнить условия истинности гипотезы. В философии используется с глубокой древности. Один из первых мысленных экспериментов был придуман ещё Эпикуром для демонстрации безграничности пространства. Локк предложил ситуацию переноса сознания между мозгами принца и сапожника, чтобы показать, что тождество личности опирается не на телесную идентичность, но на постоянство памяти. На мысленный эксперимент опирались теоретики общественного договора от Гоббса до Канта. Но все рекорды популярности побила «китайская комната» Джона Сирля. Она посеяла сомнения в создании искусственного интеллекта. Уильямсон прав, когда пишет, что «разумный акт воображения» может опровергнуть даже хорошо подкрепленную теорию (р. 179). Вместе с тем сегодня эпистемическая значимость мысленных экспериментов превратилась в предмет споров. Ряд исследователей, называющих себя «экспериментальными философами», подвергли несколько таких известных экспериментов скрупулезному анализу. Обнаружилось, что ответы на ключевые философские проблемы зависят от этнической принадлежности субъекта и его установок по отношению к этничности, от порядка обсуждения вопросов и прочих не относящихся к истинности факторов11. Ре- Как возможна «кресельная философия»? 129 зультат поставил под вопрос эффективность использования мысленных экспериментов в философии. Уильямсон усматривает в мысленном эксперименте одну из самых ярких и важных форм «кресельной» методологии и обещает исследовать логическую структуру мысленного эксперимента. Его цель – соотнести мысленный эксперимент с противоречащими фактам условными утверждениями и «метафизической модальностью» и показать, что в нем нет ничего специфически философского и он по существу является приложением обычных способов мышления. Уильямсон действует в уже знакомой нам манере разбора некоторого образца, в качестве которого предлагается теорема Эдмонда Геттье, точнее, его отказ от интерпретации знания как опирающейся на доказательство уверенности в истинности некоторой информации12. Необходимыми и достаточными условиями знания традиционно – ещё с Платона – считаются истинность, то есть соответствие объекту, уверенность субъекта в истинности и её обоснованность. Геттье придумал случаи, когда человек располагает основаниями верить в истинность своего убеждения, но оно не составляет знания. Вот один из них. Некий книготорговец подделал книгу так, чтобы её можно было позиционировать как принадлежавшую Виржинии Вульф. Под давлением этих свидетельств Орландо покупает книгу. Теперь он уверен, что владеет книгой из библиотеки самой Виржинии Вульф. Эта уверенность, казалось бы, является ложной. Однако на самом деле в его собрании есть книга из библиотеки Вульф, хотя он и не ассоциирует их друг с другом. Значит, Орландо имеет оправданное (������ justified�������������������������������������� ) и истинное убеждение, которое не является знанием. Поддается ли этот случай генерализации в качестве философского мысленного эксперимента? Уильямсон проводит формализацию аргумента Геттье и затем разбирает его сильную или метафизическую версию и слабую, когда ситуация описывается условными высказываниями, противоречащими факту. В конечном счете, он склоняется к положительному ответу: мысленный эксперимент вида Геттье представляет собой прямой имеющий силу модальный аргумент для модального заключения (р. 187). Роль воображения при этом состоит в верификации посылок. Эпистемологически эта ситуация не отличается от повседневной практики обращения к условным высказываниям (р. 188). Но если это принять, то позиция Уильямсона оказывается открытой для критики со стороны «экспериментальных философов», настаивающих на неустранимости социокультурного момента из проверочной процедуры. Уильямсон апеллирует здесь к профессионализму философского сообщества: уровень единообразия между философамипрофессионалами много выше, чем у студентов, приступивших к изучению философии (р. 191). Таким образом, то, чем мысленный эксперимент отличается от размышлений, скажем, шахматиста, и что превращает его в инструмент философского анализа, это то, что он проговаривается на языке философии. Для аналитика, избравшего своей мишенью «лингвистический» и «концептуальный» повороты, это несколько неожиданный результат. И все-таки книга замечательна. Автору не откажешь ни в квалификации, ни в озабоченности положением философии, ни в трезвости оценок. Многое, пишет Уильямсон, делается нами «скоропалительно в спешке, чтобы привлечь хоть толику внимания. Детали не прорабатываются с тем вниманием, которого они заслуживают: ключевые положения формулируются неясно, формулировки, различающиеся по смыслу, рассматриваются как равнозначные, примеры характеризуются явно недостаточно, направление аргументации только обозначается, форма аргумента остается необъясненной и т. д. <…> Грязная работа иногда маскируется претенциозностью, скрытыми намеками, афористической лаконичностью или, напротив, обезоруживающей непринужденностью. Но чаще какие-либо специальные маскировки отсутствуют: производители и потребители просто не слишком озабочены проверкой деталей» (р. 288). Речь идет об аналитической философии. Но в качестве обоснованного убеждения в их истинности без знания эти слова вполне применимы и к нашим пенатам. Примечания Декарт, Р. Размышления о первой философии, в которых доказывается существование Бога и различия между человеческой душой и телом / Р. Декарт // Декарт, Р. Сочинения : в 2 т. Т. 2. М. 1994. С. 18. 1 В. К. Шрейбер 130 Haker, P. M. S. A Philosopher of Philosophy / P. M. S. Haker // The Philosophical Quarterly. 2009. Vol. 50, № 235. April. Р. 337–348. 3 Работа вызвала массу откликов. Кроме «The Philosophical Quarterly» и «Analysis», где в 2009 она стала предметом дискуссии, её обсуждали в журналах «Philosophical Books» (2010. Vol. 51, № 1) и «Philosophical Studies» (2009, № 145). Из последних откликов отмечу рецензию Уитмера (�������������������� D������������������� . ����������������� G���������������� . �������������� Witmer�������� ) в журнале «Метафилософия». См.: Metaphilosophy. 2011. Vol. 42, № 1–2. January. Р. 155–160. 4 Ayer, A. J. Language, Truth and Logic / A. J. Ayer. L. : Victor Gollancz, 1936. P. 61–62. 5 Dummett, M. Truth and Other Enigmas / M. Dummett. L. : Duckworth, 1978. P. 458. 6 Strawson, P. F. Intellectual Autobiography / P. F. Strawson // The Philosophy of P. F. Strawson / ed. L. E. Hahn. Chicago : Open Court, 1998. P. 20. 2 Strawson, P. F. Scepticism and Naturalism / P. F. Strawson. L. : Methuen, 1985. P. 20. 8 Витгенштейн, Л. Философские исследования / Л. Витгенштейн // Витгенштейн, Л. Философские работы. Ч. 2. М. : Гнозис, 1994. С. 98. 9 Hart, H. L. A. The Concept of Law / H. L. A. Hart. Oxford : Clarendon press., 1961. Р. VII. 10 Ibid. P. 348. 11 Weinberg, J. M. Normativity and Epistemic Intuitions / J. M. Weinberg, N. Shaun, S. Stich // Philosophical Topics. 2001. Vol. 29, nos. 1–2. P. 429–60. 12 Gettier, E. Is Justified Truth Belief Knowledge? / E. Gettier // Analysis. 1963. № 23. Р. 121–123. 7