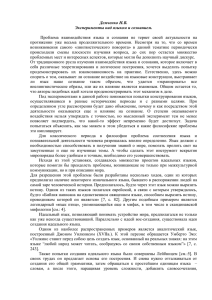PDF - Кафедра эстетики и философии культуры СПбГУ
advertisement
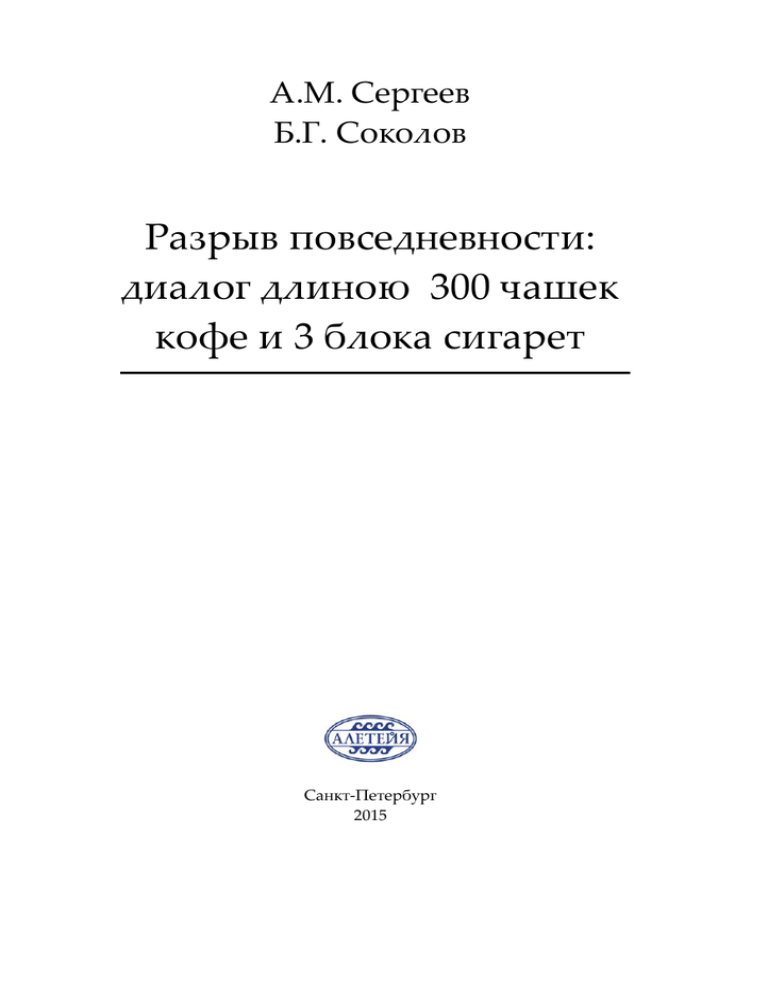
А.М. Сергеев Б.Г. Соколов Разрыв повседневности: диалог длиною 300 чашек кофе и 3 блока сигарет Санкт-Петербург 2015 УДК 1 ББК 87 С 322 Печатается по решению Ученого Совета Мурманского государственного гуманитарного университета Сергеев А.М., Соколов Б.Г. Разрыв повседневности: диалог длиною в 300 чашек кофе и 3 блока сигарет. СПб.: «Алетейя», 2015 г. – 280 с. ISBN 978-5-9906154-3-4 Книга А.М. Сергеева и Б.Г. Соколова "Разрыв повседневности: 300 чашек кофе и 3 блока сигарет" представляет собой не столь уж часто встречающийся жанр диалога двух философов: диалога двух сознаний, концепций и идей, объединенных одними тематическими линиями. Общность тематических горизонтов не говорит о единодушии в понимании и осмыслении одних и тех же проблем. Скорее мы видим реальное сопряжение разных философских и идейных установок авторов, порой то перекликающихся и дополняющих друг друга разным аргументами, то противостоящих друг другу и спорящих между собой. Но это тем интересней, так как читатель оказывается вовлеченным в топос мысли и круговорот разнообразных идейных построений. Подобная диалогичная формы текста позволяет пробудить собственное отношение читателя к рассматриваемым в книге темам: сознание, язык, жизнь, которые оказываются своеобразным каркасом диалога Научные рецензенты: д.ф.н., проф. А.И. Виноградов, д.ф.н., проф. В.П.Щербаков Редактор: А.П. Клименко Оформление обложки: К.В. Азаров, Н.С. Королева Сергеев А.М. 2015 Соколов Б.Г. 2015 «Алетейя» 2015 ОГЛАВЛЕНИЕ ВРЕМЯ МЫСЛИ (ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ) 5 СОЗНАНИЕ 10 СВОЖ 75 ЖИЗНЬ, СОЗНАНИЕ И ЯЗЫК 220 ПРОБЛЕМАТИЧНОСТЬ МЫСЛИ (ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ) 255 ВРЕМЯ МЫСЛИ (ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ) Много, много времени утекло с того дня, как изрек Фалес: Больше всего – пространство, ибо оно вмещает все. Быстрее всего – мысль, ибо она бежит без остановки. Мудрее всего – время, ибо оно обнаруживает все1. А потому и можно дополнить (upgrade) известное изречение античного мыслителя: Больше всего – мысль, ибо она вмещает вмещающее все пространство. Мудрее всего – мысль, ибо она обнаруживает и время. Загадочнее всего – время мысли, ибо оно настает там и тогда, когда никто не знает… Время мысли – это то, что вырастает изнутри и разрывает плотные редуты социального и повседневного…И время у мысли другое… Время мысли – другое время, ибо другая мера времени… Я мерю время мысли выкуренной сигаретой, Андрей – чашкой кофе. Именно они отмеряют размер и концентрацию мысли… Время мысли должно быть изолировано от обыденного времени, выброшенопроброшено за пределы обычного времени, того времени, в которое погружена повседневность. А потому и название нашей общей книги именно таким образом обрисовывает топос и хронос мысли – это 1 Фрагменты ранних греческих философов. М.: Наука, 1989. С. 103. 6 Разрыв повседневности топос разрыва повседневности и хронос, отмеряемый выпитой чашкой кофе или выкуренной сигаретой… А потому и время выпитых 300 чашек кофе – это то время, за которое была написана часть общего диалога Андреем Сергеевым. Соответственно, именно три блока сигарет выкурил «Ваш покорный слуга», когда думал о написанном Андреем и писал свой текст. Ни в коем случае это не реклама «нездорового» образа жизни. Ведь речь идет не о жизни, развертываемой по канонам повседневности, но о том довольно редком и довольно болезненном моменте рождения мысли. Поток повседневности должен пройти процедуру «ἐποχή», остановки, нигиляции. Мысль – а не та мыслительная жвачка, которой мы предаемся постоянно и повседневно, – уединенна, она сторонится путей пустых и прагматических разговоров… Она возникает в разрыве повседневности. А потому и время у нее другое… Но все же тесно с «обыденным» временем связанное. Ибо мера повседневного времени также вырастает изнутри, а не определяется тем метрическим пространственным временем, с которым «беспечно нянчится» современность… И хотя время мерить трудно, ибо оно мерит все, эта мера – нечто исходно наше, как и то время, которое мерится этим исходно нашим, но до этого нашего, до сокровенности нашего, еще нужно дойти… … …длину можно мерить и сантиметрами, и парсеками, и локтями, и футами. Можно как персонаж советского мультика измерять длину в попугаях, слонах или змеях. Мера расстояния, впрочем, как времени – «вещь» условная и конвенциональная. Можно – и переходами, когда расстояние от одного города до другого определяется через то время, которое было затрачено на путь. Именно так еще недавно измеряли расстояния наши предки. И эта мера, мера, которой мы, несмотря на то что современность властно навязывает нам метрическую меру, мерим поток нашей жизни. Мы в нашей повседневной жизни довольно говорим, что мы живем в часе пути от работы, или когда собираемся путешествовать, не всегда задумываемся о том, сколько километров нам придется преодолеть на самолете или поезде, а довольствуемся тем, что до Мурманска часа полтора лета, а до Бангкока лететь без перекура аж одиннадцать часов. Пространство, которое мы обживаем, а не фиксиру- Время мысли 7 ем через систему метрических координат на карте, расставляя по дороге верстовые или километровые отметки, мы мерим временем. Можно сказать, что нет пространства, но есть время, которое выстраивает пространство. И в этом смысле, та форма, которая, согласно И. Канту, «контролирует» наше временение, а именно – априорная форма внутреннего чувства, является исходной точкой нашего экзистирования. И в пространстве, и во времени… Но само время, которым мы мерим и обживаем пространство, имеет свою меру, которая в современности выстраивается опять же в горизонте метрической системы. Конечно, спору нет, «метрическая», сконструированная не так давно и паразитирующая на «неметрической» секунде система, в точности равна тому временному интервалу, который на XIII Генеральной конференции по мерам и весам (1967) был определен как временной, равный 9192631770 периодам излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133. Может, конечно, кого-нибудь и восхитит или повергнет в трепет непредставимое для нормального сознания число периодов излучения цезия-133 (9192631770), но меня – не очень. Честно скажу, на «глазок» я не отличу 9192631770 периодов излучения цезия-133 от 9192631771 периодов излучения того же цезия-133. Наверное, это с легкостью может делать естественнонаучный ум, вооруженный современными гаджетами, но обычный человек, с трудом способный помножить двухзначные числа, такое сделать не может. Но дело даже не в том десятизначном числе, которое трудно себе наглядно и жизненно представить. Меня удивляет, скорее, другое: как быстро забывается исток, как просто оказывается перекодировать самое существенное в формат цифры. Ведь исток секунды другой – это не «научная считалка», а биение нашего сердца в нашей груди. Одна секунда – это удар сердца, это тот ритм, который стучит в нашей груди и отмеряет время проживаемой нами жизни. И как это быстро забылось! Теперь секунда – это 9192631771 периодов излучения цезия-133, и – баста… Однако – и постоянно – мы проживаем время, не сильно оглядываясь на цифровую привязку. Мы не говорим: это было 670 000 секунд назад, но – это было еще до праздников, в позапрошлом году, в год рождения дочери или – как услышал в одном фильме – прошло уже 2 войны…И сколько бы ни убеждали нас, что Земля вращается вокруг Солнца, но для нас – и не думаю, что когда-нибудь это изменится, – Солнце встает над горизонтом и проходит свой 8 Разрыв повседневности круговой маршрут над «плоской тарелкой» Земли…И это происходит не только потому, что удобнее, что привыкли, что так все говорят, но, скорее, потому, что все, что связано со временем, мы проживаем внутри нас. Мы проживаем этот мир и проживаем его внутреннее, пусть в «результате» мы и получаем внешний мир. Мир конституируется «изнутри», ибо «изнутри» мы экзистируем. И иного нам не дано… И из этого «изнутри», в котором «живет» наше, не метрическое, а соизмеряющееся с нашим дыханием и биением нашего сердца ритмом, вырастает другое временное измерение… И, как ни «потешно» это, «увидеть» это внутреннее время, то время, в котором мы живем и в котором мы строим свой мир, – можно лишь тогда, когда мы говорим «Стоп» этому времени и, соответственно, этому миру. Лишь тогда, когда мы разрываем и останавливаем поток повседневного существования, когда в предельной концентрации, отсекающей все лишнее, может родиться мысль… *** Несколько слов о нашей с Андреем Сергеевым книге: как она рождалась и почему выбрана такая форма «записи»… Наша книга диалогична, конечно, в той мере, в какой может быть диалогичен текст. Книга задумывалась и «оформлялась» как диалог, диалог двух друзей, разделенных в повседневности теми километрами, которые отделяют Мурманск от Санкт-Петербурга. К счастью, современные технологии не только «кластеризуют» сознание, но они все же облегчают коммуникацию и дают новые возможности выстраивания текста. Чем, собственно говоря, мы и воспользовались. В те не очень долгие встречи, когда было принято решение писать текст, мы обговорили возможный «маршрут» диалога и то, как мы будем использовать современные возможности. И обо этом позвольте сказать несколько слов. Исходный текст – это текст Андрея Сергеева. Именно он записан обычным шрифтом. То, что «взрывает» монологичность в принципе любого авторского текста и что написано курсивом, – это мои, Соколова Бориса, «вторжения» в «запись» мысли Андрея. А потому – мой текст, текст курсивом – вторичен, он «паразитирует» на Время мысли 9 ткани изначального текста. Выделенные в книге жирным курсивом слова, абзацы, иногда даже обрывки слов – это зоны «совместности», то пространство текста Андрея, где либо происходило вторжение в его мысль, либо те ментальные топосы, в которых начинался диалог. Конечно, отчасти наш общий текст - это два разных текста, два разных символических, биографических пласта, которые стоят за этими двумя разными авторами. Но это не два монолога, ибо я подхватывал, развивал, иногда дружески не соглашался с текстом Андрея Сергеева. В свою очередь, когда я по электронной почте отсылал то, что удавалось Андрею, он вносил определенные коррективы в свой текст: текст расширялся, дополнялся и исправлялся. В результате – очень надеюсь, что это так – получился более прихотливый по форме, смыслу и символической концентрации единый текст – текст нашей совместности и общего вопрошания о тех как вполне актуальных, так и немного «архаических» вопросах, которые волновали нас. Не знаю, насколько мы продвинулись в решении или обсуждении того, о чем писали, – судить не мне и не моему другу, Андрею Сергееву. Но то, что мы «гарантируем», – это наш диалог, это наша мысль… И этого, я думаю, не так уж мало для любой книги, для любого текста… Б.Соколов СОЗНАНИЕ Сознание всегда отлично от того, что сознается. Живя и действуя, мы связываемся с массой вещей, однако сознание оказывается до и после этих «вещей»: оно доводит нас до «вещей» и позволяет нам покидать их, чтобы иметь возможность перейти к иному. В этом отношении сознание можно понимать чистым действием; действием как таковым. Есть и еще одно важное, на наш взгляд, обстоятельство. Собранность человека в жизни и жизнью отличается от его собранности в сознании, и сознанием. К жизни мы приспосабливаемся и прилаживаемся: сама жизнь, видимо, несет в себе характер приспособления; приспособления к чему бы то ни было; ко всему. С сознанием же нам приходится считаться: если нам доводится с ним сталкиваться, то мы его принимаем; принимаем его как силу, которая ведет себя всегда определенным образом и выражает себя определенным способом, т.е. только так и не иначе. В сознании есть некая строгость, которую мы готовы принять. Сознание – это уже готовая форма, и эта его «готовность» поражает. Она свела с ума не одного человека, когда он начинал размышлять о том, кто же его – сознание – так здорово «приготовил». Если же мы не считаемся с такой готовностью сознания и нас его законченность, неустранимость и всеохватность не устраивают, то сознание исчезает. В этом случае оно исчезает для нас, но перед тем, кто его готов принять, оно раскрывается в своем тотальном отсутствии, ибо то, что и как мы проживаем в этом мире, говорит о том, что как раз с сознанием как Глава I. Сознание 11 таковым мы не встречаемся, встречаемся с делом, заботой, вещами, наконец, с теми, у кого, как и у нас, сознание раскрывается в его отсутствии. Но его раскрытие в его отсутствии отнюдь не означает то, что в своем отсутствии оно не присутствует. Сознание всегда присутствует. При-сут-ствует. Здесь необходима ремарка. Термин присутствие – перевод хайдеггеровского Dasein, предложенный Бибихиным, который мне симпатичен, прежде всего, потому, что в этом слове звучит не формальное нахождение рядом, а именно – проникающее внутрь, в суть происходящего или случающегося: «при-сут(ь)ствие». Присутствие, прочитанное как проникновение в суть, причем проникающе-изменяющее саму суть и, одновременно, дарующее нам эту самую суть. Понятое таким образом присутствие (а не как формальное «нахождение в…», на что нас ориентирует обыденное употребление данного слова) говорит о том, что оно имеет дело с сутью вещей, событий, людей и т.п. А теперь вопрос: Но что донесет до нас эту самую суть, как не сознание? Что, как не наше сознание, вообще схватит и осмыслит то, что перед нами предстоит как мир вещей, людей, событий? Но почему, наконец, мы употребляем термин «сознание»? Не душа, не разум, не мысль? Может быть, это происходит потому, что мы разучились думать о «душе», заменив «архаичный» титул более нейтральным и секуляризованным «сознанием»? Скорее всего, речь идет не столько о простом замещении одного слова другим, сколько о значительной корректировке нашего взгляда, нашей мысли, нашей, наконец, жизни. В самом деле, когда мы говорим о душе, то невольно включаем в наш разговор Бога, потустороннее, вечное, трансцендентное. Иначе обстоит дело, когда мы употребляем термин «сознание»: мы сразу же «присягаем» на верность современной модели объективности и научности… И так, наверное, нам проще и, во всяком случае, нейтральнее. К тому же, вполне научно и современно. И, что самое грустное, вполне привычно. Но с чем мы в этом случае имеем дело, вполне научно и нейтрально вопрошая о том, что «обитает» в нашей голове? Думается, что чаще всего мы как раз встречаемся с отсутствием сознания, по крайней мере, если дело сознания – порождать мысль. Это значит, что с ним – с сознанием, порождающим мысль, – довольно редка бывает наша 12 Разрыв повседневности встреча с сознанием способна испугать, как и любая встреча человека с совершенно новым. Тут главное не то, чтобы не испугаться, а то, что надо попытаться продумать свой страх, т.е. войти скорее, погрузиться в сознание, в которое, в свою очередь, погружена мысль, которая – и тоже в свою очередь – погружена в то, о чем она, эта мысль, и в то, кто мыслит. Всегда, когда мы обращаемся, входим в проблему сознания, мы входим в «штопор» бесконечного круговорота отсылок, референций, отношений, различений… Мы не можем остановиться ни на чем однозначном, а потому, предвидя провал и катастрофу уже состоявшихся попыток найти твердую и не сдвигаемую точку опоры, ну хотя бы только надежду на незыблемость, мы отступаем… Или убеждаем себя, что вот оно, вожделенное «все ясно»… чтобы через мгновение почувствовать – и счастье, кто не застрял на придуманной им опоре, но продолжает движение вперед, – что все решенное ускользает и прячется. А потому мы боимся войти в него и располагаться в нем на основании своей мысли. Можно, конечно, говорить о некотором профессионализме в способах и формах решения этих вопросов, однако вопросы эти могут встать перед каждым человеком, и значит, каждый должен себя с ними как-то соотнести. Вообще говоря, без должного человека нет. Другое дело, что каждый из нас в содержательном отношении понимает должное поразному. Видимо, исток отношения человека к должному связывается им с тем, что он готов принять его как силу, превосходящую самого человека, и потому способную вызвать страх человека перед его новизной, перед отсутствием повторений. Это не отменяет возможности понимания некоторых алгоритмов действия такой силы, но также и не снимает понимания того, что сила эта раскрывается не только в этих алгоритмах, но и может не быть алгоритмизирована вовсе. Связывая себя с сознанием, мы расстаемся с вещами и действиями, т.е. ослабляем связь с определенными ситуациями жизни, но обре- Глава I. Сознание 13 таем – за счет этого – способность охвата ее (жизни) целостности. Будучи в сознании, мы выпадаем из ситуаций жизни; из жизненного пространства и времени, оказываясь в положении «между»: между одной и другой жизненными ситуациями, внутри которых мы пребываем, заметно ослабляя силу сознания или вообще оказываясь вне него. Иначе говоря, мы попадаем в странную и явно не загруженную жизненными реалиями ситуацию – в «паузу недеяния», в «теоретическую паузу», в «промежуточную ситуацию», в «состояние подвешенности» и остановка привычного хода нашей жизни – изменение установки нашего сознания. В этом-то и вся проблема. Гуссерль говорит о рефлексивной установке, отличая ее от прямых актов: «… мы должны отличать прямые акты схватывания в восприятии, в воспоминании, высказывании, в оценке, в целеполагании и т.д. от рефлексивных, посредством которых, как схватывающих актов новой ступени, нам только и раскрываются сами прямые акты»1. Рефлексия изменяет переживание: «Конечно, в результате этого (рефлексии – Б.С.) на место первоначально переживания становится, по существу, другое, и потому следует сказать, что рефлексия изменяет первоначальное переживание… Она существенно изменяет прежнее наивное переживание; ведь последнее утрачивает перво-начальный модус прямого акта»2. Что происходит в обычной жизни, не «вполне чуждой сознательности»? Даже если мы примем модус Das Man как тотальную и единственную характеристику несобственности нашего повседневного существования, превознесем до онтологиче-ского и единственного принципа наших поступков реализацию действия социальных машин или последствия тотальной дрессуры, то даже в этом случае мы «пользуемся» сознанием, ибо что-то и худо-бедно мыслим. Но подобное мышление наивно в том отношении, что в рамках его мы не занимаем позицию тематизации нашей собственной позиции (т.е. отрефлексированным, ставшим предельно ясным для нас самих образом), наших действий, не смотрим отрефлесированным образом на себя со стороны. 1 Гуссерль Э. Картезианские размышления. СПб.: «Наука», «Ювента», 1998. С. 97. 2 Там же. С.98. 14 Разрыв повседневности Конечно, все не так просто, как представлялось тому же Гуссерлю, когда он отличал прямой акт от рефлексивного, ибо в нетематизированном виде мы все же некоторым образом наблюдаем за собой, за своими мыслями, за своими поступками и т.п. со стороны: данные психологии и прихотливый анализ фигуры Другого, постоянно смотрящего на нас, что стало предметом довольно тонного анализа в «Бытие и Ничто» Сартра, показывают, что в данном случае речь идет о сильном (а потому, в конечном счете, ложном) упрощении реального обстояния дел. Но даже при том, что взгляд со стороны в некотором роде сопровождает нас всю нашу жизнь, все же, как правило, в тематическом горизонте наше действие, акт, мысль, желание не пребывают. Мы как бы отдаемся стихии этого акта. И вот тебе на: рефлексия. Она вырывает нас из объятия «привычного скольжения» по акту, мысли, действию и ставит в рефлексивную позицию наблюдающего. Мы не просто удерживаем какой-либо «акт» ощущения, мысли, действия, но рассматриваем его со стороны. И в этом отношении рефлексия изменяет первичную наивную отданность стихии данного акта на рефлексивную позицию отстранения от этого акта. А что происходит тогда, когда мы полагаем уже в самом акте рефлексии само не просто какое-нибудь наше действие, мысль, ощущение, а само сознание? Да не просто сознание, а сознание вместе с той «мешаниной» и иногда хаосом обрывков мыслей, намерений, желаний, сомнений, уверенности и т.п., которые раскрашивают любое «движение» нашего сознания? Во-первых, как всякая рефлексия, подобная установка в отношении сознания его, сознание, изменяет. Во-вторых, не забудем, что сознание (и не случайно сам титул со-знания отражает не только совместность со знанием, но, через эту совместность, отделенность) – это уже «отчасти» рефлексивный акт. В этом рефлексивном отношении к сознанию, которое изменяет, а значит, изначально усложняет наш анализ сознания, которое уже предстает перед нами в «очищенном» и «отстраненном» от реальной жизни сознания виде, добавляется тот, кто смотрит на это сознание, причем – весь «комизм указанной ситуации» – с помощью этого самого неочищенного, нерефлексивного сознания. Структура при самом предельном упрощении следующая: живое сознание переводится в рефлексивный вид живым сознанием, которое, при этом, осознает, что оно имеет дело с измененной посредством рефлексии формой этого сознания. И к тому же – все это осуществляет довольно сомнительный, с точки зрения «научной» (особенно есте- Глава I. Сознание 15 ственнонаучной) вменяемости, субъект познания, индивид в обоих своих ипостасях: как реальный живой индивид и как трансцендентальный субъект. Начало – скажем прямо – удручающее в своей сложности и прихотливости: никакой надежды на картезианскую ясность нет, и прояснить то, что происходит, когда «работает сознание», т.е. когда мы мыслим, когда мы ощущаем, когда переживаем приобщение к сознанию и фактически сталкиваемся с усилением себя благодаря собранности себя в сознании. Речь идет о сознательном действии (процедуре), благодаря которому начинаем видеть не факты жизни, а факты сознания, позволяющем блокировать генетические и детерминистические линии связи явлений с жизнью и дающем возможность рассматривать их как таковые, т.е. онтологически. Приобщаясь к фактам сознания, человек склонен переживать душевный подъем, так как полагает, что ему – вместе с сознанием – всѐ «по плечу». Следует, правда, оговориться. Выявить начальный факт сознания своей жизни трудно по причине того, что если человек и осознает нечто в качестве факта сознания, то уже оказывается присутствующим в сознании в целом, т.е. уже как-то в нем «расположенным» и в него «вместившимся». Однако человек может наделить один из значимых для него фактов изначальными полномочиями, хотя понятно, что это только мифологическое построение, в рамках которого реален не факт жизни, а факт сознания – это уже установка, рефлексивная позиция. «Я», здесь и сейчас, обращаюсь лишь к тому, что полагаю как несомненное. Но то несомненное, которое признается этой самой рефлексивной позицией. Круговой маршрут: рефлексивная установка «порождает» факт сознания, который, в свою очередь, только в этой рефлексивной установке и может иметь место. Исток этой рефлексивной асаны предельно прозрачен: Декарт и, более современная версия, Гуссерль. Иными словами, это наши новоевропейские правила игры. «Расплата» за эту рефлексивную установку также довольно прозрачна: изоляция (помещение в скобки) реальности и бесконечная, изматывающая авантюра поиска и удостоверения этой изначально репрессированной реальности. 16 Разрыв повседневности Но что мы имеем в «позитиве»? – Факт. Факт сознания. Но этот факт – всего лишь факт представления нашего сознания, которое всегда сингулярно, а потому всегда сомнительно-одиноко для самой новоевропейской научной установки. Как, впрочем, и то, что мы именуем фактом – увы, запущенная машина сомнения не щадит и факт, и уж тем более факт сознания. Ведь для современного естественно-научного дискурса апелляция к факту сознания – сомнительная процедура верификации. Можно апеллировать к факту, который – но об этом мало кто думает – всегда является лишь фактом нашего сознания. Он становится фактом не потому, что верифицирует, противолежит сознанию, упорствуя в своем бытийствовании в противовес «эфемерности» и «неуловимости» процессов сознания, не вопреки ему, но как раз ему, сознанию благодаря раздвижению границ происходящего, оказываясь изъятыми из жизненных ситуаций самим попаданием в сознание, мы устанавливаем место и время своей мысли, так же как место и время себя в качестве мыслящих. Это – место и время сознания, потенциально обладающие всей его силой, из которой человек – в случае его «равенства» сознанию – может исходить в понимании своей жизни, отстраняясь от ее случаев и обстоятельств. «Помещаясь» в сознание и «размещаясь» в нем, мы оказываемся всецело предоставленными себе и можем теперь реагировать на самих себя и отзываться на своѐ. Все это важно потому, что сама жизнь во всей целостности без нас быть собранной не способна. К тому же, если человек не живет своим – не важно, по причине боязни или не понимая этого, – он занят чужим и непременно будет искать с ним встречи и им в большей степени заниматься. Чужое будет выступать как свое, ведь себя он не знает. Такая теоретическая пауза, обретаемая в жизни путем нашего попадания в сознание, может длиться столько, насколько у нас хватает сил, ибо наше продвижение в сознании не предопределяется жизнью, а полностью зависит от нас. Не трудно также понять, что попадание в сознание сугубо индивидуально и сообщать другим о содержании такой паузы трудно Глава I. Сознание 17 а может быть, и невозможно – в режиме несомненности и адекватности – сообщить не только о своей паузе, но и о том, что ты чувствуешь, наконец, о том, что говоришь, и быть уверенным во взаимности, в том, что адресат послания тебя понял так, как понял это послание ты сам. То, что он понял, – не проблема, ибо понимают все, а непонимание – лишь «вид» понимания. Проблема – в той адекватной взаимности, которая обеспечивает совместность попадания в смысл, в значение. И здесь развертывается мистика. Иначе и не скажешь: мистика понимания. Ибо если строго и однозначно подходить к процедуре понимания другим сказанного тобой, то его, понимания, быть вообще не должно. Нет, конечно: если бы мы, говоря, мысля, чувствуя, использовали бы ту модель, которая называется денотацией, вопросов вообще бы не было. Денотат: когда означающее четко и однозначно связано с означающим. Все было бы как у Лейбница с его идеальным языком: просто подсчитали бы. Но мы погружены в коннотативный по своему смыслу символизм, когда любое сказанное, помысленное, прочувствованное всегда сдвигается через культурные, личностные, национальные, биографические и т.п. коннотативные ссылки от жесткости означивания к отражению «бесконечной» контекстуальности. А потому как я, 50-летний профессор, совок по «формату» моего сознания, с определенной биографией, предпочтениями, со своей «цветовой дифференциацией штанов» (вспомним советский кинофильм «Кин-дза-дза»), могу понять чуждый мне символизм, который неизбежно выстраивается через коннотативность смысла, не только культурно и языково далекого мне вьетнамца, но и – проблема отцов и детей – своей внучки, с малых лет держащей I-Phone, не игравшей в зарницу, вскормленной, по большей части, искусственным молоком? Понимание, которое происходит, происходит вопреки. Оно не должно состояться, но случается, когда мой мир уже не только сингулярный – читай факт моего сознания, – но общий мир, т.е. не просто мой, но наш собственный случай попадания в сознание может мало что сказать другим. Каждый из нас сам и по-своему «разбирается» с сознанием. Здесь каждый исходит из своего, а оно у нас разное. Синхронизировать и соизмерить индивидуальные попытки взаимодействия с сознанием практически невозможно: если это и случается, то 18 Разрыв повседневности только тогда, когда мы вне сознания; когда выходим из него, т.е. внешним образом. И еще. Благодаря паузе (промежутку) человек приобщается к голосу сознания – к совести. Совесть – это и есть внутренний голос сознания, говорящий тебе о себе. Пауза позволяет прислушаться к себе и отсечь все то, что к тебе не имеет отношения. Пауза позволяет попасть в себя путем смещения от фактов жизни в сторону сознания, т.е. увидеть факты жизни в их осмысленности. Важно научиться отвлекаться не от конкретных фактов жизни в угоду другим фактам, а практиковать в себе способность отвлечения от фактов жизни вообще и сосредоточения – посредством этого – в сознании. Человек может замечать места и эпохи, покинутые сознанием. Однажды попав в сознание, он способен остро переживать дисбаланс между ним и жизнью; дисбаланс содержания сознательной жизни и жизни, оставленной сознанием. Смириться и примириться с тем, что наша жизнь покинута сознанием, трудно. Нас задевает положение, когда жизнь предоставлена сама себе, и сознания в ней не встречаешь. Правда, и с сознанием «накладно»: уж больно высоки его требования, и приспосабливаться к нему трудно. Но, оказываясь совсем без сознания, человек испытывает cтрах возникает, когда есть, собственно, некий «объект» страха; когда есть в той или иной мере осознание того, что боишься. Страх, в этом отношении, вполне объектен, объективен. В двадцатом веке, можно сказать, действует уже традиционное деление – от Фрейда до Хайдеггера – внутренней неуверенности и опасения на страх, ужас, испуг. Страх – когда знаешь и имеешь возможность подготовиться; испуг – когда угрожающее возникает внезапно. Особняком – и в этом смысле речь идет о глубинном, сущностном экзистенциале – стоит ужас как предчувствие и ожидание неизвестного. Указанная градация не полна, особенно если мы поближе рассмотрим, что, собственно говоря, происходит. Про-ис-ходит: наверное, правильнее в данном случае разделить дефисом. Происходит: проистекает, выливается из, выходит из нутра. Происходит: внутренний импульс, не только «раскрашивающий» факты сознания, но и изменяющий наши оптику и точку зрения. Действительно, одно дело смотреть на что-то с интересом или любоваться им, другое – этого опасаться. Изменяется не только сам Глава I. Сознание 19 конституируемый объект (собирается в совершенно ином стиле, темпе, внимании и т.п.), но и тот, кто этот объект лицезреет, собирает воедино, конституирует. Посмотрим повнимательнее – но, конечно, не очень, ибо тогда мы и будем остаток текста разбирать довольно прихотливую динамику и структуру происходящего, – что случается, когда мы боимся (страх), испугались или когда мы охвачены ужасом. В свою очередь, то, что маркируется как Испуг – это уже зона травмы для психики. Неизвестность вторгается внезапно и не дает возможность организовать «линии обороны». Заикание или невроз – как последствия испуга. Тот шок, который поражает изнутри и проникает в самое сокровенное, либо кардинально переформатирует беззащитные, по причине неподготовленности, внутренние структуры сознания, либо окажется постоянным источником борьбы за восстановление работы этих структур в прежнем режиме, что, согласно Фрейду, результируется в приобретенных неврозах. Гораздо интереснее ужас. Ужасаются тогда, когда неизвестно, чего бояться, когда возникает парализующая волю тревога от предчувствия неминуемого. Ужасаются просто, а не чего-то. Причем исток этого ужасающего беспокойства может быть как вовне, так и внутри. Ужас – «вектор», направленный неизвестно куда, и, возможно, неизвестно откуда. Про-истекает и все. Совершенно, потому, прав М. Хайдеггер, «записывающий» ужас в исходные экзистенциалы, т.е. то, что лежит «до» любого результата «сборки» феномена. Но, в отличие, скажем, от заботы, ужас не результируется, он не способен конституировать никакое сущее, никакой феномен, а лишь добавляет феномену определенный «колорит». Однако корректнее говорить не о конституировании феномена в определенной «тональности», а о самой тональности мiра, в которую наш мiр погружает ужас. Феномен – «после» мiра, он уже заражен тональностью ожидания и предчувствия приближающегося нечто неизвестного, но неизбежно вредоносного. Мiр и я сплавлены воедино этим ожиданием. Когда же происходит тематизация ужаса, тогда он уступает место страху, который «имеет» объект своего опасения. Ужас – как стихия, которая лишь «настраивает», а потому, наверное, правильнее было бы говорить о нем как о подлинном «настроении». Подобно любому «настроению», ужас не имеет своего объекта: когда мы 20 Разрыв повседневности просто радуемся, тогда мир становится светлее или доброжелательнее; когда же ужасаемся, тогда окружающее окрашивается в мрачные тона предчувствия неизбежно трагичного и предрешенного. А потому, когда, например, говорят, что люди живут в состоянии страха, то делают это несколько «некорректно». Ситуацию, наверное, правильнее было бы обрисовать следующим образом. Состояние ужаса настраивает процедуры сборки реальности в тревожные, апокалептические и безнадежные тона. Ужас нас охватывает, он пронизывает нас и овладевает. Все случается так, как происходит, когда нами овладевают наваждение, ревность, ярость; когда одержимым овладевают/вселяются бесы, изгнать которых возможно лишь тогда, когда вмешается другая, также овладевающая нами сакральная инстанция. Ужас – не онтологичен, он – онтичен. Ужас безобъектен, у него нет того, «перед чем» он, он просто есть и овладевает. И именно потому, что он безобъектен, с ним ничего нельзя поделать: доводы рассудка и разума бессильны перед ним. В ужасе как раз и раскрываются наша беспомощность, бессилие. «Он отшатнулся в ужасе» – но в том-то и дело, что отшатнуться, убежать невозможно, ибо раз нет объекта, то и бежать некуда, ибо раз нет «ментального топоса» ужаса, то он повсюду и, главное, внутри. Вернее: повсюду. Это «повсюду» предстает как то, что «до» «внутри», «вовне», как то, что, не имея объект, растворяет в себе и любые субъектные структуры. Именно потому ужас раскрывает Ничто. Но не то Ничто, которое служит резервуаром и опорой Индивидуальности и Свободы (ибо в этом случае мы искали бы ужаса, опирались бы на него как на самоутверждение нас), а то Ничто, которое тотально нигилирует нас самих, отдавая нашу самость в бесчувственные и бесчеловечные объятья Судьбы и Рока. Ужас – это трагедия, а катарсис, который захватывает сопереживающего героям трагедии, дарует то очищение, которое приводит не к утверждению самости, но к растворению в стихиях, нас превосходящих и нас же поглощающих. Еще прихотливее, чем ужас, страх. Здесь развертывается – в отношении сознания, конечно, – интрига вполне в духе Сартровского «Бытия и Ничто». Посмотрим на ситуацию, когда мы мыслим о сознании: мы боимся «оказаться наедине» с нашим сознанием и, одновременно, боимся «отказаться» от него. Мы боимся, прежде всего, той ответственности, которая сразу же начинает тематизироваться, когда мы вступаем в «зону сознания»: мы начинаем подозревать, что для принятия любого, Глава I. Сознание 21 самого маломальского решения мы должны взвесить все за и против и зафиксировать то, что именно мы принимаем именно данное решение, и записать его внятными буквами на «доску почета или позора» своей истории и биографии. Эта ответственность давит, а потому вполне оправдано стремление избежать ее любой ценой, прежде всего, отказаться от этого сознания, которое заставляет нас взвалить на себя груз ответственности и за себя, и за свои поступки, и за свои решения, и за неминуемые последствия. Тематизировав, «зримо зафиксировав» свое сознание, мы одновременно принимаем на себя ответственность, простирающуюся гораздо дальше нашей зоны возможного воздействия, мы взваливаем на себя ответственность за свой мiр (мiр в Хайдеггеровском смысле). А теперь простой вопрос: а оно нам нужно? Нужно ли взвалить на себя столь неподъемную ношу ответственности, причем той, которая расширяется даже на наш сон, а не только порабощает наше бодрствование? А потому – избежать ее, избежать сознания, избежать любой ценой, ценой тотального забвения. Погрузиться в дела, заботы, хлопоты, привычные асаны обязанностей и ритуальных действий. И – не мыслить, спрятаться от мысли в «зону das Man», довольствовавшись повторением не нами помысленного и продуманного, не нами освоенного и не нами найденного. Именно поэтому мыслить, т.е. принимать ответственность и за помысленное, и за реальность, за которую мы оказываемся ответственными, бесконечно трудно. Речь, понятно, не идет о том, что у нас в сознании ничего не происходит. Нет, в нем постоянно мелькают какие-то образы, мысли, мы планируем что-то, настраиваемся на что-то, стремимся и т.д. Но это все происходит без обращения к сознанию, в режиме «das Man», в режиме автоматизма и бесконечной «легкости», даруемой несобственностью и несамостоянием. Но как можно мыслить, даже в том убогом стиле повторения несобственности, не подозревая, что за этим неаутентичным мышлением не стоит подлинная стихия мысли и сознания? Не очень получается, и самообман избегания сознания постоянно рассеивается, уступая место постоянной тревоге прорывающегося и преследующего нас ответственного сознания. А потому, как следствие, а скорее, как верный «попутчик» избегания сознания постоянно тревожащий нас страх, заявляющий в своей, вроде как безобъектной, несвхватываемости, что сознание есть, что оно нику- 22 Разрыв повседневности да не ушло, что любой автоматизм и любой повтор – все равно задействуют то, что хочется больше всего избегнуть, – сознания и той ответственности, которая стоит за спиной сознания. Это именно страх, ибо объект всегда присутствует даже в своем «якобы-отсутствии», даже тогда, когда «зона сознания» нарочито избегается и как-то съѐживается С позиции сознания жизнь всегда есть что-то внешнее, тогда как, осознавая жизнь, мы совершаем внутреннюю работу, в параметры жизни не вмещающуюся или совмещающуюся с жизнью только частично. Для жизни наши – внутренние – «разборки» с сознанием неинтересны; не клеятся они к ситуациям жизни. Тот, кто входит в сознание, в жизни – вне ее осознания – не участвует. Факты сознания и факты жизни – это вещи разные. Конечно, могут складываться ситуации пересечения фактичности сознания с фактичностью жизни, но, во-первых, такие ситуации не часты, а вовторых, их некоторое совпадение обнаруживается из другого места – из «третьей», внешней, точки; внешней по отношению к месту сознания и месту жизни. Такой точкой могут пониматься, например, автор и процесс авторского творения, в процессе которого появляется некий текст, соединяющий сознание и жизнь. Для того чтобы констатация фактов жизни совпала с констатацией фактов сознания, необходим зритель или наблюдатель, который присутствует рядом с происходящим и фиксирует такое «совпадение». Здесь и теперь: две точки, позволяющие фиксировать сущее, пригвождающее – как булавка в гербарии прикалывает несчастное насекомое – это сущее к определенному вполне «материальному месту». Но и в этом, вполне зримом случае гербария, булавка в большей степени не столько фиксирует «материальную» систему координат – насекомое в рамке за стеклом, – сколько переводит нас в символический мир, полностью перекодируя это сущее вплоть до полного изменения его как сущего. Поясню: насекомое, парализованное и умерщвленное, перемещается в мир научного познания, навеки становясь «живой» иллюстрацией определенной таксономии. Но эта «жизнь», «новая жизнь» засушенного насекомого, не просто надстраивается и паразитирует «поверх» конкретного прежде живого существа, но она Глава I. Сознание 23 возможна лишь тогда, когда оно, это животное, уже мертво. Это – «эйдос» перекодировки, т.е. предельно обнажающий и разоблачающий самого себя: жизнь в одной системе координат означает смерть в другой (реальное существование насекомого не совместимо с его «жизнью» в качестве иллюстрации в энтомологическом собрании). Здесь и теперь: точки, в которых пересекаются все символические линии, горизонт символического. Из этого-то горизонта, окружающего нас, который окаймляет нашу систему координат, и «восходят» солнца перекодировки, освещающие через «здесь и сейчас» своим символическим светом нашу реальность, называемую мiром. Ту реальность, которая уже есть «до» любого акта конституирования каждого объекта этого мiра. Здесь и сейчас – не точки, а вход в наш символический мир. У каждой культуры – этот вход свой, уникальный, т.е. свои «здесь и теперь», размечающие по уникальному шаблону наше мiроокружье изначально и необходимо акцентировать внимание на том, что объекты сознания могут возникать внутри конкретной направленности сознания и существуют благодаря этой направленности. Без энергии сознания такие объекты угасают и перестают существовать: они именно гаснут, а не распадаются. Распад объектов сознания, если это происходит, возникает тогда, когда в направленность сознания вмешивается иная энергия; энергия иного сознания. Направленность задает ток силы, позволяющей объектам сознания существовать. Можно сказать, что объекты сознания держатся благодаря ей. Если же вернуться к теме разности фактов сознания и фактов жизни, то стоит добавить еще одно соображение. То, что стало фактом сознания – для того, кто начинает осознавать, – фактически не может быть отменено, разве только этот факт сознания может быть как-то скорректирован другим фактом сознания, но, конечно, не фактом жизни. Факты сознания соотносятся друг с другом, но не с фактами жизни, и потому они могут быть рассматриваемы в виде некоей единой среды или в виде некоего континуума, в пределах которых нет и не находится места и времени для фактов жизни. Фактичность сознания и фактичность жизни можно уподобить отдельным друг от друга параллельным логическим и, соответственно, содержательным гори- 24 Разрыв повседневности зонтам, внутри которых действуют разные закономерности. И то, что значимо для одного континуума, может совершенно ничего не значить для другого. Сознательные акты и то, что принято рассматривать как бессознательные, инстинктивные акты, наконец, автоматизм привычек, позволяющий если не думать, то, по крайней мере, не отдавать себе явный отчет в их совершении, т.е. не «возводить» их в ранг рефлексии (которая, напомню, изменяет непосредственное), – разделение, конечно, довольно условное. В сознании – если его, конечно, рассматривать шире, чем просто рациональную мыслительную деятельность, – много «намешано», смешано и сплавлено. Как и любой феномен нашей человеческой, а потому культурной, реальности, все символично, т.е. представляет собой конденсат (причем вечно изменяющийся и подвижный) бесконечных отсылок, с одной стороны, выбрасывающих нас в иные контекстуальные поля, с другой – эти самые контекстуальные поля связывающих в едином символическом образовании. Конечно, когда мы начинаем рефлексировать, то можем разделить и изолировать в нашей мысли и сознательное, и бессознательное, автоматизм и рефлексивное схватывание, но все эти операции как изолированные в сознании – довольно условны и абстрактны и упрощают реальное обстояние дел. Не говоря уже о том, что рефлексия всегда изменяет первично данное, а потому рациональные операции имеют дело не с реальностью чего-либо, а с преобразованной, вторичной реальностью мысли. Любое сущее, которое конституируется нами, которое проживается нами, которое воздействует на нас, – это сплетение и взаимопроникновение бесконечного числа отсылок. Это же верно и в отношении самого «феномена» сознания, когда мы его изолируем в нашем сознании как объект и подвергаем рефлексии. В любой его акт (а говорить о сознании имеет смысл не как о статичной структуре, а как о динамическом процессе) вплетено слишком многое: в сознание – и бессознательное, и автоматизм, а в жизненные и, кажется, лишенные осознания, действия – вполне рациональный и взвешенный расчет… А потому не столь уж несознательны наши иногда «спонтанные» и неосознаваемые в момент совершения поступки и реакции Глава I. Сознание 25 человека сориентированы фактами сознания, но не фактами жизни, так же как и повседневные действия людей обуславливаются именно фактами жизни, а не фактами сознания. Следует понять и принять, что выделенные посредством сознания точки жизни внутри самих жизненных реалий не значимы. Можно сказать, что для жизни они не существенны, т.е. для нее их нет. Добавим: деятельность сознания может совершенно не совпадать с нашей жизненной потребностью: человек сознательно может ограничивать свои жизненные потребности и, придавая им статус частности, отказываться от них. Не секрет, что нас съедает работа, т.е. предельная, насколько это возможно, интеграция в среду практических действий. Все существенное мы связываем преимущественно и только с работой, а то, что с ней не связано, включая и размышления о чистом действии или о недеянии, связанном с попаданием в среду теоретической паузы, стремимся последовательно в себе вытравить. В результате все, что не связано с работой и к ней не имеет отношения, приучаемся считать «комплексами» и «фобиями». Следовательно, многое в нас, в первую очередь – своѐ, не будучи востребованным, деградирует или просто исчезает. С «подмораживанием» своих чувств, вялостью своей мысли и зябкостью своей жизни сталкивается эпизодически или постоянно каждый из нас. Пытаясь взнуздать себя и распрямиться, к каким только средствам мы не прибегаем, но и это не спасает и не греет. Чувственность человека, разумеется, никуда не девается: ее проявления в виде «вспышек» страстей и экстатических состояний случаются практически с каждым человеком. Однако, будучи загнанной во внутренний мир человека и не находя для себя публично принимаемого выхода, связанного с рациональным к ней отношением, чувственность находит свое разрешение в квазиформах: например, в экстрасенсорике или порнографии. Сознание же позволяет нам взаимодействовать с чистыми – теоретическими – формами и понимать благодаря этому свою жизнь. Справедливости ради заметим, что, к сожалению, большинство людей либо вообще оказываются не способными приходить в сознание, либо, приходя в него, не способны применять теоретическое знание применительно к своей собственной жизни. Но если это случается, то сознание способно наделять жизненные факты имен- 26 Разрыв повседневности но «сознательными» характеристиками и качествами. Из жизни теперь уже берется то, что способно войти в состав события. Так, если человек стремится разобраться в своем чувстве или в чувстве другого человека, а тем более, увидеть во вспыхнувшем чувстве событие, ему не остается ничего другого, нежели сделать его фактом сознания и перестать относиться к нему как к факту жизни. Люди нередко поддаются порыву чувств и тонут в их наплыве: они привыкают жить и ценить «буйство глаз и половодье чувств», считая, что это им «по душе», хотя к душе это отношения не имеет. Важно именно «переварить» чувство, чтобы оно стало своим: впадение человека в чувствительность воспринимается в рамках определяющего рационального отношения как нечто неуместное. В не «переваренном» и не «переработанном» виде любое чувство в нас не помещается и в нас быть размещено не может: оно нами изрыгается, а это – не только не эстетично, но и не физиологично. Стоит обратить внимание, что в спешке человек уже, вроде бы как, и не может обходиться без таких не «переваренных» и потому разлагающихся в нашем существе чувств. Если мы остановимся…замрем… если скажем «стоп» потоку жизненной суеты (фактам жизни) и обратимся к мысли (фактам сознания), изолировав в меру философской «испорченности» реальность, то какое эпохэ (Гуссерль) мы получаем в результате? – Чистоту потока сознания, где любое переживание как акт сознания – неизбежно, но от этой неизбежности не менее нелепый скандал. Прежде всего, скандал потому, что в результате изолирования в нашем сознании актов, переживаемых нем, мы получаем переживание, лишенное жизненности, по сравнению с реальным переживанием, а значит – и не переживание вовсе. А то, что переживается, или интенциональный объект, распадается на два «потока»: «что переживается» и «как оно переживается» (ноэзис и ноэма), что также довольно далеко от реально переживаемого акта сознания, в меньшей степени «озабоченного» на «что переживается» и «как оно переживается». Скандал еще и в следующем: переживание как чистый акт сознания изначально не чисто, ибо заключает в себе ссылки на «нечистый» и чуждый объект сознания. Конечно, это не тот реальный объект, который еще предстоит конституировать, «собрать», Глава I. Сознание 27 но все же нечто иное, нечто чуждое сознанию как таковому, но включенное в сердцевину чистоты самоданности сознания, основная характеристика которого – интенциональность как направленность на... Изолировав внешний мир, мы его же и помещаем внутрь созданной «конструкции» как основной «персонаж» происходящего, причем лишенный, как и само сознание и его переживания, той жизненности, которая остается по причине своей сомнительности (Декарт) вне игры. То, что замирает, останавливается – это реальный мир, а потому и должно замереть и остановиться само сознание, лишенное своей опоры, своей «пищи». Эпохэ мира – это остановка мира, а потому и остановка реального сознания. Это смерть, ибо «подлинно» замирает и останавливает поток реальности лишь тот, кто уже умер…но он уже не есть. Он перешел в иное, «параллельное». «Мертвые сраму не имают», они выпадают из подвижных и постоянно суетящихся в динамике, развитии, стремлении рядов сущего, подвижного сущего. Они, умершие, – совершенны, ибо уже все совершено и сделано, и интерпретационные потуги вписать их в подвижный горизонт – «Ах, вот он какой на самом деле был…» – их, умерших, в их совершенстве никак не затрагивают. И дело даже не в том «теоретическом» изъяне, который мы акцентировали в феноменологии, но в том, что этот изъян отражает ту опасность, которая отчасти объясняет «безмыслие» нашего повседневного существования: сознание опасно для жизни в своей потенциальной инфицированности смертью. А потому и вполне понятно желание думая, мысля, стараться все же не думать, не подвергать пусть и не ставшие рефлексивно тематизированными подвижные порядки реальности той смертельной остановке, которая «поджидает» эту реальность со стороны сознания. И это ощущение смерти – избегается вполне экзистенциально и реально переживаем некую страсть, это – объективный факт нашей жизни, однако в границах своего ожидания и размерности переживания ее последствий эта страсть предстает фактом нашего сознания. И мы не можем без этого обходиться. Осознание чувства, так же как жизни и смерти вообще, конечно, субъективно, однако это – факты сознания; факты его объективности. Заметим, в частности, что и в интимных отношениях на смену чувственному влечению приходят 28 Разрыв повседневности рационально выстраиваемые сексуальные или брачно-семейные отношения, связанные с осознанием страсти и возникновением фактов осознания человеком своей чувственности. Сфокусируем внимание на том, что секс, будучи механизмом воспроизводства человека, не только служит деторождению, но и может пониматься в качестве занятия, приносящего человеку удовольствие. Здесь важно подчеркнуть то, что секс обладает избыточным характером, по сравнению с иными механизмами природного размножения. В поиске друг друга люди вовлекаются в процесс «любовных игр», где могут воспринимать себя уже в качестве одного – единого – тела, в которое они «помещаются», переживая порывы экстатического напряжения. К тому же воспоминания о пережитом продлевают и буквально длят случившееся единение. Особо следует оговориться, что сексуальные воспоминания являются одними из самых сильных воспоминаний. Они в состоянии вобрать в себя всего человека во всей его целостности. Характерно, что такими воспоминаниями человек предпочитает не делиться, а если и делится ими с кем-либо, то только отчасти. Другими словами, переживание таких воспоминаний демонстрирует задетость – ими – нашей психики. Человек становится тронутым такими воспоминаниями и даже поражен пережитым им в прошлом экстатическим выходом вне себя, оборачивающимся вхождением его целостности в целостность другого. Он тронут и поражен тем, что смог пережить выход за пределы самого себя. В эпицентре сексуальных переживаний человек в действительности снимает свою пространственно-временную определенность и утрачивает свои конечные очертания. И потому речь здесь должна идти не только и не столько о физиологии, сколько о мета-физиологии или о метафизике пола и любви сказано много... куда ж деться от «основного инстинкта»? Окно в иной мир, в бесконечность, путь к Богу; наконец, все помнят «Евангелие» с его Бог есть любовь… Нет чтобы просто ограничиться констатацией «любовь – это немного неприлично, но очень, очень приятно» или тем, что все это – банальный способ продолжения рода… Так нет, надстраивает мысль «реду- Глава I. Сознание 29 ты» красивых слов, чтобы оправдать и эстетически навести глянец над вполне прагматичной ситуацией воспроизводства, причем она, мысль, так «понадстроит», что, вместо того чтобы способствовать мультиплицировнию населения Земли, она, скорее, приводит к его уменьшению… И все… все… даже в той приземленной версии о любви и поле, который тиражируется «утилитаризмом» и «прагматизмом» обыденности, есть нечто мистическое, ибо даже в этой версии ответа на вопрос о любви всегда заключен вполне прагматичный вопрос: «А зачем?» Ведь проще и без пола, и без любви… Тем более, что в современности пол – дело наживное и «косметологическое», да и, как говорят, ангелы пола не имеют, и воскреснут все отнюдь не «озадаченные генитальными проблемами»; а любовь – лишь шалость юности, еще не осознавшей свое предназначение в накапливании наличности… Зачем все это? Зачем продолжать род, если мы не будем отвечать, руководствуясь биологической «точкой зрения», или уберем архаические культурно-религиозные доминанты, с необходимостью различаемые в этом вопросе? Ответственность перед ушедшими и грядущими в ситуации, когда все здесь для «конкретно тебя», заканчивается? Да это все пустое и нерациональное. Зачем, зачем?.. Вопрос, который каждый задает себе и, в меру своей отданности себе и своей мысли, отвечает. Каждый: можно удовлетвориться любой версией ответа. Можно вообще его, вопрос, вроде, не задавать, но на периферии сознания все же отвечать на него. Можно, наконец, поставить здесь и сейчас вопрос о себе и, одновременно, череде других, с которыми ты внутренне, а не внешне сплавлен… … череда поколений, взламывающих время и прорисовывающих время вечности рода…связь с прошедшими и уже ушедшими, с грядущими поколениями и со своими, рядом идущими по жизни… Но при чем здесь сознание? Ибо речь ведь сейчас – магистрально – о нем? Сознание – это то, что не просто надстраивается над физиологией и биологией, сознание – это то, что делает пол полом, а любовь любовью. И дело не просто в том, что мы только благодаря сознанию, собственно говоря, и знаем, с чем имеем дело. Хотя, кажется, именно без него, сознания, все и происходит, ибо нехитрое это дело без оного, сознания, «реализовывать» физиологические позывы. Дело, скорее, в 30 Разрыв повседневности том, что только у человека есть возможность не просто преодолевать физиологию или возводить ее в ранг рефлексивной абстракции, но и делать физиологию сознанием, а сознание – физиологией. Мы мыслим телом, но, одновременно, делаем, создаем пол. И это не просто «технологический искус» или «извращение» современности – вопрос о поле и о возможной его смене. Всегда и везде маскулинность или женственность – результат не физиологии, но культурной и социальной дресс уры. Мужественность воспитывается, так же как и утрачивается. И именно в нашем сознании происходит изначальная идентификация другого как символического пола и определяется наше к нему отношение. Мы собираем и определяем, мгновенно и почти что «инстинктивно», другого как нашу внутреннюю структуру, как горизонт наших действий и совместности, выстраивая символическое поле нашей мироокружности. Не существует для нас физиологии: она – символически инфицирована, а наша жизнь – всегда символическая жизнь, а не просто биологический процесс, который маркируют как жизнь если стремимся ее понять, предстает не чем иным, как совокупностью событий, к осознанию которых мы вновь и вновь возвращаемся. Смысл события разворачивается в связи с бытием: событие – со-бытийно более того, символически со-бытийно. Сама со-бытийность и есть тот символизм, в котором живет человек может, конечно, взаимодействовать с «приземленными» и «заземленными» событиями, сводя их к жизненным ситуациям, случаям и обстоятельствам, однако тогда онтологический статус события неуклонно понижается. По сути же, каждое из этих событий собирает и суммирует в себе то, что «до» и «вне» этого события выступало чем-то разрозненным. Событие можно уподобить цели, к которой, не зная об этом, направлялись разные частности нашей жизни. После того как событие свершилось, оно понимается нами причиной дальнейшего направленного движения жизни. Глава I. Сознание 31 Событие фактически собирает человека в определенное единое тождество. Благодаря событию отдельные и спонтанные содержания жизни индивида получают единую перспективу его понимания, будучи стянутыми этой перспективой. На фоне случившегося понимания отдельные содержания жизни действительно спасают себя. Вот почему необходимо периодически совершать особое дополнительное действие приобщения к событию всех разрозненных действий. На основании придания всему существующему понимания строится любая сакральная – культовая – деятельность, связанная с выполнением определенного ритуала и обряда. Благодаря такому особенному действию любое отдельное действие обретает некоторую избыточность своего «прочтения» и восполняет себя, так как теперь оно превышает пределы, внутри которых оно понималось до этого. Уже после того как человек связан с неким событием, оно является дополнительным стимулом развития его жизни. Без события человек обойтись не может: одно событие «отметается» и «отставляется» в сторону не само по себе, а только обращением к другому событию. Событие не прекращается: одно событие может быть замещено и ограничено лишь другим событием. Но это означает лишь то, что мы всегда в событии, и есть только два окончательных и предельных события, которые не ограничиваются «лично» для нас другим событием: смерть и рождение. Но даже они – рождение и смерть, – включаясь в символизм человеческой реальности, утрачивают свою предельность и окончательность, вписываются в событие других: мы живы, пока нас помнят, пока помнят нас, нас помнящие, пока живы те, кто помнит о помнящих нас… Мы уже здесь, в этом мире, мы в нем уже тогда, когда мать наша носит нас под своим сердцем, когда наши родители встретились, когда наша бабушка носила и ждала появления на свет нашей матери…Событие, в этом смысле, абсолютно, событие как со-бытие. Более того: само бытие всегда полагается в нашей человеческой реальности – и это уже вопрос онтики – как со-бытие, и со-бытие события, распластанного серией конституирующих и уходящих в бесконечность символизма отсылок. А потому изначально полагает- 32 Разрыв повседневности ся тотальность со-бытийствующих в том, что можно назвать миром, миром – и до, и одновременно с той интенциональной заботой, которая разбивает единый мир, ойкумену нашего присутствия на фрагменты-феномены. Наряду с повседневными вопросами, которые встают перед человеком в процессе жизни, разрешение которых – дело времени, есть другие вопросы, носящие неразрешимый характер. Любое их решение всегда временно, частично и не снимает сам вопрос. Предназначение таких вопросов состоит в том, что они являются линиями связи человека с сознанием и сознания с жизнью. Такие вопросы формализуют разнонаправленные психические содержания нашей жизни, структурируют отдельные жизненные факты путем их осознания и придают психике направленный характер развития, в результате в совокупности действий образуется некая тенденция. К слову сказать, многие наши беды проистекают по причине неумения спрашивать, в первую очередь – спрашивать самих себя. Не удивительно поэтому, что все больше в современном обществе распространяется несомненность. Человеку, не испытывающему сомнений, вопросы ни к чему. Несомненность направлена на такую трактовку любого отношения человека к чему бы то ни было, когда противоположное принципиально не может пониматься в субстанциальном ключе, а если и принимается в расчет, то сугубо функционально. Если и выбирать между стремлениями понять себя и понять жизнь, то нужно, конечно, выбирать первое, а не второе. Надо пытаться понять себя: себя – осознающего и себя – отказывающегося от сознания. Пытаясь понять жизнь, человек вынужденно и независимо от себя самого начинает подменять своѐ не своим: он опирается на жизнь, исходящую из себя самой и собой мотивированную, но не на ее понимание – это то, во что мы погружены, что есть, собственно говоря, мы сами. Мы живем, понимая, «создавая» свой мiр, мы его, наш мiр «создаем», понимая. Понимание – это отнюдь не рациональный и рефлексивный процесс. Понимание – до любой фиксации и рациона- Глава I. Сознание 33 лизации. Мы понимаем всей нашей жизнью и любым нашим действием. Я «понимаю» дверной замок не столько тем, что знаю его устройство и как он «работает», «мгновенно» пробегая цепочку «силлогизмов»: вот дверь, у нее замок; значит, чтобы ее открыть, я должен повернуть ручку, и т.п. Я понимаю дверной замок, когда просто подхожу и открываю дверь, не тематизируя и рационально не фиксируя те этапы, на которые иногда в инструкции разбивается (и тем, довольно часто, запутывается) реальный процесс… Все, скорее, происходит, как в ситуации durée у Бергсона: есть единый процесс длительности-времени, который, конечно, рацио может разбить на серию кинематографических и замкнутых эпизодов-точек. Но при этом реальность подлинной длительности durée утрачивается, т.е. мы теряем живое время, которое замещается симуляцией прерывистых толчков. Так и с пониманием: оно дорационально, а рациональная разбивка лишь «извращает» реальный жизненный процесс понимания. И подобно той схематике, которую прозорливо выявляет А. Бергсон в отношении реальной длительности, в отношении понимания мы действуем подобным образом: при «расщеплении» «континуального» и «единого» акта понимания получаем блоки, которые не могут потом быть собраны в сам акт понимания. Понимание – это мы сами, ибо то, что мы конституируем как изначально данное, а именно – наш мiр, первично «выстраивается» через понимание, а потому «инфицирован» пониманием, является этим самым пониманием. Понимание – это всегда со-бытие, ибо понимать – это, как говорил Ж.-П. Сартр, всегда превосходить себя, выходить за пределы самого себя, делаться иным в самом себе, пропитывать собой весь мiр и мiр собой. Со-бытийность мiра тождественна, поэтому интенцио-нальная включенность в мiр и раскрывается в понимании. Мы понимаем всем своим существом: мы понимаем телом в той же мере, что и понимаем «головой» или «сердцем». Именно поэтому так редка философия, которая занимается пониманием мiра, его прояснением. Но тогда можно сделать вывод, что философия не сильно отличается от той повседневности, в которую мы погружены: и то, и другое «инфицированы» пониманием. Отнюдь. Понимание, в которое мы погружены, и понимание, которому предается философия, сущностно различны. Постараюсь прояснить это. 34 Разрыв повседневности Всем известно, что уже в античности (Платон, Сократ, Аристотель) первый жест философии связывали с удивлением. Но в том мире повседневности, в котором мы живем, т.е. в ситуации, в которую мы все, по большей части, погружены, нет места удивлению: мы понимаем изначально и всегда, не сомневаясь в своем понимании нашей ситуации. Удивление же может возникнуть лишь тогда, когда произошел «кризис» в структуре обыденного понимания, когда прежде понятное вдруг стало непонятным и непостижимым. Это происходит тогда, когда «физика» оказывается мета-физикой, т.е. тем, что «по ту сторону» естественного, когда мир выявляет в себе самом не зоны понимания, а, наоборот, раскрывается в своей потаенной и ужасающей непонятности. В этот-то моменте проясняется, что обыденность, погруженность и «лишенность» мысли не гарантируют прежнего процесса понимающего конституирования. Мир уже не собирается по-прежнему: без напряга, без размышления, без мысли, без сомнения. Конечно, потом, после этого первичного сомнения-удивления, наступает другое понимание, но это, новое понимание, – уже не то, что было прежде. Оно оказывается рефлексивной попыткой преодоления непонимания, а потому – отказа от себя прошлого, «спокойного» и уравновешенного и, соответственно, от своего прошлого мира. Но, конечно, не будем же столь самонадеянны и очарованы философией: философия не единый способ понимать себя и свой мiр. Мы принимаем и другие «асаны», пытаясь понимать жизнь, человек приносит себя в жертву и начинает служить частному. Либо мы увязаем в фактах жизни, либо успеваем переработать их в факты сознательного опыта, которые в таком виде понимаются нами как события нашей жизни. Бывает, говоришь с человеком, стремясь выявить, чем он живет и дышит, а он втягивается в мелкотемье, разменивается на частности частностей. И ты устаешь не от обилия мелочей, а от неоправданности твоих ожиданий и неудачи установления отношений человека с человеком, которые все откладываются на «в дальнейшем» и на «потом». Становится досадно, почему люди тонут в частностях, отказываясь от себя, и не могут жить своей жизнью? Почему они не Глава I. Сознание 35 могут связать себя только с одной частностью, отделяя ее от всего остального? Ведь такое соединение с отдельным многое могло бы дать человеку в деле понимания им себя. Но нет, поток мелочей прочно захватывает его и, расплющивая его суть своей массой, уносит с собой. Важная сама по себе любая мелочь не видна, когда она воспринимается близко. Вопрос перспективы: близкое занимает весь наш горизонт. Еще хуже: когда благодаря своей близости она, мелочь, становится нашими «глазами», через которые мы смотрим на мир. Мир становится «перекодированным» и растасканным по мелочам. Нужно удаление и, возможно, то эпохэ, которое происходит, когда мы, останавливая поток близлежайше важнейшего, встаем в рефлексивную позицию. Мы удаляем из наших «глаз» все это мелковажнейшее, то, чем насыщена без предела наша жизнь, забота о чем стала нашей единственной заботой.. И тогда, удаленная, удерживаемая на расстоянии ставшей ближайшей мыслью, она и показывает свое истинное «лицо» и свое предназначение. И – главное – свою ненавязчивую опасность: оказаться погруженным в стихию безмыслия повседневности, сотканной и обретающей свой смысл в потоке мелочей. Масштабность не дает воспринимать мелочь. В ситуации глобализма человек утрачивает способность сугубо своего восприятия и, отчуждаясь от себя, способен воспринимать теперь уже только то, на что обращается внимание других. Восприимчивость человека – это основание его собственной жизни – кардинально изменяется; она сминается и комкается внешней инсталляцией того, как надо воспринимать явление с позиции масштаба больших цифр. Необходимо постоянно приостанавливать и стопорить потоки, в которые ты вынужденно втянут и которые влекут тебя без твоего индивидуально-личностного участия. Важным способом в этом деле является сосредоточение внимания: сам сигнал «внимание!» ориентирует на прерывание деятельности, которую человек вел до этого. 36 Разрыв повседневности Здесь, в этом мире мелочей и сиюминутных обязанностей, и протекает вся наша жизнь. И не надо приуменьшать ее воздействие. При всей своей мелочности и незначительности (с точки зрения высокомерия «великих дел и великих свершений»), эта повседневность форматирует наше сознание. Именно в погруженности в эту стихию происходит создание того мыслительного «аппарата», который эту же повседневность и презрительно отвергает. Но не забудем: здесь происходит самое значительное в нашем мире, а именно – рождение и становление человека. Конечно, физик может мыслить о мельчайших кварках вселенной или о том, что возможно мыслить о времени, текущем в обратном направлении. Но вот настает «конец рабочего дня, и за пределами своей лаборатории и своей мысли о предельном и беспредельном он вполне «бездумно» наливает себе в чашку кофе, – чтобы, кстати, стимулировать течение своей мысли, – и делает это без учета «обратного» хода времени или кваркового состава того, что будет пить как эспрессо… Не стоит, кстати, забывать о том, что сказал как-то Фердинанд де Соссюр: на обычном рынке, базаре за день происходит рождение большего количества новых слов, чем за год деятельности Академии наук… Сказанное – не «похвала» повседневности, но «констатация» реального обстояния дел. Важно, однако, чтобы все эти хлопоты и заботы не захватили полностью и окончательно нас до «гробовой доски», чтобы мы хоть иногда, прерывая поток повседневности, вставали в рефлексивную позицию мысли, от этой повседневности отстраняясь и отвлекаясь, хотелось бы поделиться одним соображением. Ряд глубоких метаморфоз, происходящих с нами, думается, станет более понятен, если мы обратим внимание на новоевропейское отношение к истине, добру, прекрасному, совести, стыду, чести. Ранее человек мог понимать их именно как вещи, его взаимодействие с которыми позволяло ему собираться в самом себе. Он отвечал на их зов, преодолевая в себе пустоту, обретаем ли мы нечто? Ну, с точки зрения, например, шуньявады? Если все пустота, то стоит ли ее бояться и опасаться? Впрочем, пустота пустоте рознь. Онтический статус пустоты – значите- Глава I. Сознание 37 лен. Можно упомянуть «Бытие и Ничто» Ж.-П. Сартра, Ничто М. Хайдеггера, или шуньяту-пустоту буддизма, чтобы различить Ничто и ту ничтожность, которую культивирует das Man. То, что мы иногда называем «насыщенной» жизнью, как раз и обладает всеми признаками никчемности, по сути – пустотности. Эта пустотная жизнь возникает тогда, когда мы лишаемся аутентичности своего бытийствования. Пустота возникает как при обретении кажущейся насыщенности и полноты существования, так и при утрате – в наших глазах – своей вещности; и в своем внутреннем развоплощении эти вещи становились только понятиями, которые воспринимались как пустые формы, начинающие что-либо значить только внутри определенных идейных горизонтов. Ясно, что значение понятий может определяться в различных контекстах поразному. По мере своего «превращения» в понятия наиболее существенные для нашей жизни вещи наполняются разным содержанием в зависимости от того, к каким языковым комбинациям и понятийным играм мы прибегаем. За счет своего втягивания в такие – бесконечные – построения человек получает возможность облегченного и менее ответственного отношения к истине и добру, стыду и чести. Сама втянутость человека в дело наполнения пустых понятий различными содержаниями, когда он уже не может этого не делать, свидетельствует о его внутренней опустошенности. Себя человек знает все меньше и меньше. И, будучи далеким от себя, он потому и стремится занять себя тем, что к нему самому непосредственного отношения не имеет. В этом своем опустошении, оборачивающемся ничтожением своего, он рискует утратить последние свои силы. Ему бы собраться и сосредоточиться, но он не знает, кто он такой и когда бывает собой, а когда – нет. Более того, человек уже и стремится не задавать себе вопросов о том, когда он есть и где он есть. Незнание себя и неумение связаться с собой – отличительная черта нашего времени, компенсируемая обильным ростом разнообразнейших средств по связыванию себя с другими, как и увеличением 38 Разрыв повседневности объема времени, которое незнающий себя человек готов тратить на установление внешних по отношению к себе связей. Аргумент типа «я не знал» или «я не предполагал» не срабатывает, ибо за своѐ знание – по мере обретения своего, как и за свое незнание – по причине того, что такое «незнание» – своѐ, каждый отвечает сам и каждый отвечает в пустоте своего одиночества. И именно это – не вполне оптимистическое предчувствие – прячется за тем разворотом от обыденности, когда мы начинаем мыслить и обращаемся к внутренней жизни нашего сознания. Причем отвечать за всех. И это – не идея соборности. Отвечать за всех – как реальная ситуация в том мире, который мы конституируем как свой мiр. Мы за него отвечаем, ибо никто, кроме нас, его не создает. А потому человек всегда отвечает только за себя и всегда находится в пустоте своего одиночества, даже если некто берется отвечать за другого человека, он должен понимать, что становится частью жизни того, кому он помогает, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Человек становится основанием действий того, за кого отвечает, а тому, возможно, станет когда-то трудно все это вынести, и он непременно напомнит об этом тому, кто вызвался быть основанием его жизни. Причем напомнит об этом неожиданно, ведь отвечающий об этом помнить не будет, а будет полагать, что он «просто» помог человеку. Он обязательно будет застигнут врасплох из-за своего непонимания ситуации. Возможно, что характерное для нашей жизни опустошение – опустошение повсеместное – является последствием приучения себя к тому, что мы принципиально способны наполнить любое понятие любым содержанием по причине его пустоты, и тогда мы «присягаем на верность» А. Шопенгауэру, у которого понятия – пустые футляры, куда возможно вложить если не все подряд, то многое. Именно у А. Шопенгауэра понятие – функция разума, который, в отличие от рассудка, не дает нам никакой твердости и реальности. Но – с другой стороны – как раз поня- Глава I. Сознание 39 тие, «вырабатываемое» разумом человека, отличает нас от животного, обладающего, так же как и человек, рассудком, т.е. способностью на уровне чувственности создавать мир как представление. Лишь человеку принадлежит сама возможность употреблять понятие обусловлена способностью человека его чем-то наполнить. Мысль понимается «оболочкой», которую можно и даже необходимо заполнять, а человек втягивается в не прекращающиеся траты себя без какого-либо внутреннего своего восполнения, чему ранее способствовало связывание его с вещностью вещей. Заметим, что ко всему человек относится с позиции влечения: он вовлечен во взаимодействие с вещью тем обстоятельством, что она его увлекает, а он к ней влечется. В параметрах такого увлечения собственно и формируются все технические средства, включая понятийные аппараты, на основе которых осуществляется содержательное описание вещи. Влечение к вещи как к своему иному, как к застывшей и ставшей материальностью мысли. Вещь – не просто то, что мы сделали, что мы потребляем и что извечно соседствует с нами. Вещь – зеркало сознания, в которое проще заглянуть, чем в само сознание. Конечно, для этого вещь должна повторить тот жест эпохэ, который изолирует ее из ее непосредственной служебности. Вещи мы не замечаем, так же как не замечаем сознания: мы просто ими пользуемся, и лишь тогда, когда что-то не получается, когда вещь «ломается» или «вдруг» ее не оказывается на привычном, а потому незаметном, месте, мы обращаем вдруг на это внимание. Вещь, как и сознание, мы обнаруживаем тогда, когда есть «удивление», когда есть толчок, заставляющий нас вдруг обратить на нее рефлексивный взгляд, изъяв ее из потаенности безмыслия обыденности. Конечно, этот взгляд – взгляд рефлексивный, т.е. жест, запускающий вполне внятные герменевтические процедуры. Но он несколько отличается от другого рефлексивного взгляда, когда, например, мы пытаемся починить сломавшийся прибор. В этом случае мы действуем с рефлексивной приглядкой на его «служебные обязанности», т.е. начинаем смотреть на вещь несколько по-другому, нежели тогда, когда просто пользуемся ею. 40 Разрыв повседневности Но и тогда, когда вещь пребывает в своей служебности или когда она изъята из оборота повседневности, она оказывается не менее инфицированной символичностью, чем, скажем, любой написанный на бумаге текст или послание. Это происходит, прежде всего, потому, что любая вещь обладает не просто бытийственностью, каковой «пропитаны» естественные предметы природы, а, можно сказать, своеобразной интенциональной бытийственностью (событийствованием). Вещь заражается интенциональностью, свойственной человеческому сознанию, поскольку этим сознанием, в конечном счете, конституируется. Напомню, что сознание – как справедливо, но отнюдь не достаточно, зафиксировали Брентано и Гуссерль (и, конечно, череда феноменологов рангом помельче) – есть всегда «сознание о…», т.е. оно, сознание, направлено «на что-то» и пропитано своим объектом. В этом отношении та интенциональность, которой пропитана вещь, несколько иная, ибо связана, прежде всего, с ее статусом служебности: без служебности вещь – это просто предмет. Вещь – это «всегда вещь для…». Иначе говоря, для вещи сущностным является ее телос, который и приводит ее к ее бытийствованию. Например, мобильный телефон – это вещь, которая создана для того, чтобы с ее помощью можно было разговаривать с человеком, удаленным на расстояние (конечно, в современном мобильнике это – одна из функций). В свою очередь, кастрюля – это вещь, служащая для приготовления пищи, а ручка – это вещь, которую берут в руки для того, чтобы с ее помощью что-либо писать, рисовать и т.п. Именно это «для» любой вещи раскрывает ее служебность, но как раз в этой служебности и заключена и причина бытийствования вещи. Но это «для» вещи – как показатель инъекции ее символичности, а потому через это «для» можно осуществлять герменевтическое истолкование стоящего перед нами рукотворного предмета – вещи. Интенциональное «для…» вещи (ее служебность), можно сказать, служит для того, чтобы запечатлевать интенциональное «о…» нашего сознания, создавшего эту вещь. Именно благодаря служебности, фиксируемой в «для» вещи, мы можем увидеть «вещественный» облик нашей интенциональности и, соответственно, нашего сознания. Можно, конечно, проводить феноменологический анализ сознания – трудный и во многих позициях спорный, но, во всяком случае, имеющий дело со столь «эфемерными» и трудноуловимыми сюжетами «ноэзиса» и «ноэматических» горизонтов, потока сознания и т.п. Но гораздо «проще» и «нагляднее» увидеть и, соответственно, проинтерпретировать и результат, и процесс Глава I. Сознание 41 сознания, запечатленные в облике и действии вещи. Вещь – это свое иное нашего сознания, причем не только в той его части, которая относится к т.н. «эйдетике», но и в тех его «регионах», которые можно условно отнести к бессознательному и даже телесному. Вещь – например кресло – подстраивается, подгоняется под нашу «физиологию». Причем эта подгонка проявляет не столько то, что мы обладаем определенными физическими параметрами, но, в большей степени, то, что наша физиология пропитана символичностью. И она, вещь, пропитана этой символичностью не в меньшей мере, чем, скажем, культурный институт или произведение искусства. Простая иллюстрация, связанная с только что упомянутым креслом. Достаточно сравнить облики кресел – от трона самодержца до «пуфиков» в какой-нибудь приемной директора, – как перед нами сразу проступят символическая значимость вещи, и, соответственно, «трансформация» облика «места для сидения», его подстраивание под культурные линии того пространства, где оно находится. В первом случае – трон – это не просто место для сидения монарха (хотя, конечно, и это), но манифестация его власти и величия, заставляющая саму телесность позы подстраиваться под ритуализированное пространство манифестации величия. Во втором – это место релакса и необременительного ожидания, в котором можно разве что полистать журналы и перемолвиться парой политесных фраз с теми, кто столь же «погружен» в «негу комфорта» – напротив или наискосок от вас – на таком же, обволакивающем телесность, месте для сидения. Таким образом, кресло, как и любая вещь, запечатлевает нашу мысль, наш культурный контекст и отражает наши чаяния, наши стремления и во вполне внятном и зримо удерживаемом облике дает возможность герменевтического прочтения символического, кото-рым пропитан каждый наш жест, каждый наш взгляд. Она, вещь, собирает в материально зримом виде наши заботы и стремления, как и влечение вообще оказывает на человека восполняющее действие. Своим по отношению к сознанию человеку не стать. И в этом смысле сознание всегда есть некое странное и чужое по отношению к нашей жизни явление, вторгающееся и располагающееся в 42 Разрыв повседневности ней неожиданным и нежданным образом. Разумеется, мы можем способствовать развитию в нашей жизни сознания, но это происходит именно осознанно. Иначе говоря, проникновение сознания в параметры нашей жизни и его «расположение» осуществляются самим же сознанием. Вот почему говорить о том, что сознание может быть вызвано нашим намерением – намерением «попадания» в него, не приходится. Лучше сразу же принять методологическое правило взаимодействия с сознанием как с тем, что к жизни конкретного отношения не имеет и – в своей обособленности от нее – ей даже противостоит. Добавим, что к сознанию не привыкнешь и с ним не устроишься. Его надо принять. Приходится принимать. Вместе с тем через приобщение к сознанию мы обретаем своѐ – личностное – измерение жизни: благодаря осознанию в безличном потоке жизненных явлений человек выделяет значимые именно для него самого жизненные ситуации. В этом отношении сознание можно понимать как нечто своѐ, чужое по отношению к нашей жизни. Сознание – оно чужое, но во мне. Оно моѐ. Может стать моим при всей никак не устраняемой своей странности. Нелепые – со стороны окружающих – поступки человека могут свидетельствовать не только о его экстравагантности или сумасбродстве, но и о вторжении в его жизнь сознания; они могут стать сообщениями о мотивированности его жизни сознанием. Наряду с этим, стоит осознать, т.е. принять в сознание, опыт нашего столкновения со странностью, как и понять участие странностей в нашей жизни, вносящих некий диссонанс в размеренность привычного. Обратим ся к тому несомненному, что фиксируется как собственное «я». И даже если мы говорим о трансцендентальном «я» как о том конструкте, который обеспечивает вменяемость сознания (вспомним, что трансцендентальное «я» – у Канта, например – сопровождает любой наш акт мысли), то даже в этом случае мы все равно апеллируем – пусть не совсем явно и открыто – к своему собственному, вполне личному «я». То есть к тому «я», которое, прежде всего, действует, стремится, гневается, чем-то озабочено и занято. На этой нетематизируемой, повседневной и привычной самоданности нашего «я», по сути, базируется любое «транс- Глава I. Сознание 43 цендентальное рассуждение», даже то «летающее» в эмпиреях философской фантастики рассуждение, которому предается феноменология. Несомненность cogito ergo sum, как и любая стартовая позиция любой дедукции и индукции, имеет свою опору в этой незыблемости и несомненности «эмпирического», личностного «я». Кто и когда сомневался в себе самом? Но какая «благодарность» со стороны мысли к собственному истоку несомненности, к той укорененности, которая всегда стоит за «плечами» любого размышления? Разве что Фихте отдал должное «я». А так, что происходит с этим вполне реальным и личностным «я», которое удостоверяет все наши полеты фантазии и строгие научные калькуляции? Прежде всего, осуществляется «кастрация “я”»: «я» становится бестелесным и бесполым. А затем оказывается, что оно – это кастрированное и бестелесное «я» – результат сборки различного рода социальных и культурных машин и механизмов, которые, конечно, нацелены на него, но фактически в меньшей мере обращают на него внимание, что странные люди тянутся друг к другу. Вероятно, они находятся в одной среде, являются порождением одной силы и связующими элементами одной энергии. Речь здесь идет о сознании. Отметим, что неуместность и несвоевременность можно понимать в двух отношениях. Во-первых, в качестве того, что выглядит неуместным и несвоевременным, но таковым в действительности не является. Во-вторых, встречаются и действительная неуместность и действительная несвоевременность, обнажающие иные начала в нашей жизни, никак не совпадающие с тем, по отношению к чему они выявляют свою странность. С неуместным и несвоевременным трудно, ибо они не вмещаются в места и времена жизни. Но, преодолевая трудность взаимодействия с ними, можно понять, что вносимый их присутствием диссонанс позволяет задуматься: не свидетельствует ли это об ином месте и ином времени по отношению к жизни, и, может быть, эти странности напрямую связаны с «жизнью» сознания?! Стоит осознать, что неуместность и несвоевременность в состоянии скомпрометировать любое место и любое время, попадая в которые 44 Разрыв повседневности человек обрекается на странствие и становится странником по отношению к местам и временам своей состоявшейся жизни. Взаимодействие с неуместностью и странностью помогает человеку отстраняться от всего, во что он себя вкладывает, т.е. отстраняться от любого жизненного содержания. Важно уловить и схватить проблему основания – проблему основания своей жизни сознанием. Основательным для каждого из нас будет то, что выделено сознанием и связано его посредством с нами. И потому сознание может пониматься в качестве условия, процедуры и специфического устройства по переводу безличных и не своих жизненных ситуаций человека тогда, когда он прибегает к сознанию, именно в свои ситуации. Так рождается своѐ; рождается моѐ и твоѐ, рождается самость. Но почему тогда она, эта самость, не родилась тогда, когда мы первый раз вдохнули воздух этого мира, увидели в первый раз нестерпимый блеск света? К себе нужно еще прийти, нужно еще найти себя. Нащупать собственный путь можно, пройдя тысячи дорог. И эти, не наши дороги, по которым мы ходим вокруг да около нашей тропы, лишь выполняют роль «негативной теологии». Мой путь – это не этот путь, он – не тот путь. И лишь однажды – если это вообще случается – мы нащупываем свое. Но тогда несомненность того «я», к которому мы постоянно апеллируем и которое выступает «молчаливым» основанием любой предельной рефлексии, не столь уж несомненна. Если бы это было так, то нам не нужно было бы пройти столько дорог, чтобы, наконец, оказаться в том месте, где начинался наш путь. Но это случится только тогда, – счастливы и благословенны, видимо, те, кто сразу вступил на свой путь, но их ой как немного, – когда мы начинаем видеть чужое, обрисовывающее свое. И это обретение своего происходит лишь тогда, когда мы сравниваем, когда мы рассуждаем о жизни какого-то человека, то факты его жизни связываются именно нашим к ним отношением, при этом одни мы пропускаем мимо, а на других акцентируем свое внимание. Исходя из такой проекции понимания, постепенно образуется некая устойчивость восприятия, выступающая уже в качестве субстанции, зачастую Глава I. Сознание 45 отождествляемой сначала с пониманием рассматриваемой жизни, а потом и с самой жизнью того, кто рассматривается. Для самого наблюдающего его отношение к чему бы то ни было, включая и другого человека, крайне важно: такое отношение многое объясняет и непременно как-то «срабатывает», несмотря на то что в составе такой «субстанции» могут встречаться построения, откровенно связанные с предубеждениями и мифами. Однако за пределами нашего отношения, в частности касательно рассматриваемого нами человека к самому себе, такая субстанция восприятия недейственна. Человек всегда занимает свое место и находится в своем времени, даже не зная об этом. Поэтому обычно места и времена разных людей не совпадают и не пересекаются между собой; если некоторое их взаимодействие и происходит, то только косвенным образом. Для того чтобы разные люди увидели одно, должен совпасть горизонт их восприятия. Если это случается, то люди начинают видеть одно место и одно время – зона хронотопа, хроно-топоса, улавливающая и определивающая меня. Я всегда здесь и сейчас, но одновременно я – не здесь и не сейчас. Здесь и сейчас – только труп, и это хорошо, слишком хорошо показал Ж.-П. Сартр. Совпадает с собой только мертвец или предмет. Пока мы живые, мы не совпадаем с собой, мы убегаем и от определенности места, и от определенности времени. Особенно времени. То мгновение, которое резервируется за настоящим, ускользает от самого себя, становясь другим, и в этом ускользании обретает свои постоянство и вечность. Человек распластан во времени, удерживая и, одновременно, ускользая от прошлого, будущего и настоящего. Мы – причем «здесь и сейчас» – вспоминаем или мечтаем. Более того, то «здесь и сейчас», которое мы схватываем «неповоротливой» и вечно запаздывающей мыслью, уже давно в прошлом. Самообман, онтически укорененный ситуацией несовпадения и убегания «я» от самого себя, заражает и наше, человеческое время. Прошлое никогда не совпадает с самим собой, и это прекрасно показывают исторические интерпретации, каждый раз запускающие машину «министерства Правды»… а будущее… кто его видел? Ведь мы помещены в лгущие о своей незыблемости «здесь и сейчас», с которыми мы, вроде, только и имеем 46 Разрыв повседневности дело в том, что они начинают рассматривать происходящее на основе одной идеи и посредством одного вида. Эйдос (идею, вид) можно понимать в качестве перспективы развития определенного содержания, когда он удерживает элементы и части чего-либо в некоем «понимательном» единстве. Причем единство этих элементов и частей способно к развитию, а значит – может быть развернуто во внутреннем своем движении. Заметим, что в обособленности от жизни сознание можно уподобить некоему абсолютному горизонту, в границах которого нет и не может быть ничего неосознанного в принципе. Этим устанавливается определенность, в соотнесении с которой жизнь получает осмысление, а факты жизни понимаются в качестве событий. Поиск смысла твоей жизни в действиях других людей бесперспективен как раз по причине отказа от осознания своей жизни. Человек же не может обойтись без смысловой перспективы. В ситуации исчезновения смысла жизнь подвергается деструкции. Смысл организует состав существования человека, придавая возможность развития этому существованию и создавая ему целевую перспективу. Два «маркера» человеческого, слишком человеческого – смысл и цель. Без человека – нет смысла и нет цели. И наоборот, где мы можем обнаружить или предположить следы наличия цели и смысла, там мы склонны искать (и, конечно, находить, ибо если человек что-либо ищет, он обязательно либо найдет, либо найдет, но «потом», либо «вообразит», что нашел) присутс твие человека. Конечно, телеология как таковая «по-видимому» свойственна живому, так же как цель, пускай и нетематизированная, незафиксированная цель. Но там, где есть человек, всегда есть цель и смысл. Можно образно сказать, что то, к чему «прикасается рука человека», сразу инфицируется целью и смыслом. Мы вообще не можем существовать в бессмысленности. Не случайно Фр. Ницше особо оговаривал, что «шкалой силы воли может служить то, как долго мы в состоянии обойтись без смысла в вещах, как долго мы можем выдер- Глава I. Сознание 47 жать жизнь в бессмысленном мире…» 1. Только самые сильные способны перенести мир, лишенный осмысленности, только они могут взглянуть в пустые зрачки лишенного смысла мира, посмотреть на него объективно. Объективно – это та ситуация, когда меня нет, когда я умер. Остальные определения объективности – ложны. Объективность – это и есть бессмысленность и бесцельность, которые человеческое сознание выдерживает разве что в гомеопатических дозах, да и то речь чаще всего идет об «абстрактном рассуждении», т.е. рассуждении, лишенном жизненной укорененности. А потому смысл и цель – исходные экзистенциалы, согласно которым выстраивается наша забота. Та забота, которая конституирует наш мiр, а «потом» наше «я» и внешний, по отношению к «я», мир действительности. Именно потому что дело касается самого фундаментальнейшего, мы и «заражаем» смыслом и целью все, что «апостериори» может тематизировать наше сознание так устроено (вопросы «кем» и «чем» оставим без ответа ввиду того, что мы так устроены, что не можем теперь уже, когда спрашиваем, освободиться от сознания и дистанцироваться от него вовне), что сознания разных индивидов не могут быть объединены. Если они и понимаются в некоей взаимосвязи, то это – взаимосвязь разного; взаимосвязь, построенная на разрывах. Если сознание и случается, то мы сталкиваемся с ним целиком и сразу, т.е. в полной мере, или не сталкиваемся с ним вовсе. Узнавание и опознание сознания к самому сознанию имеет то же отношение, что и фигура человека к его тени, т.е. отношение копии. Мы узнаем сознание как нечто уже нам известное, и это парадоксально как парадокс-прыжок отчаяния у Киркегора, когда мы осознаем не только свое отчаяние, но и то, что вся наша жизнь была в прогрессии в прошлое причастна этому отчаянию. Так и сознание предстает внезапно как то, что есть, и показывает, что вся наша жизнь до того была причастна этому сознанию. Причем настолько причастна, что мы не можем уже сказать, 1 Ницше Фр. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей. М., «REFLbook», 1994 С. 277. 48 Разрыв повседневности когда его не было, пробрасывая его присутствие вплоть до самых ранних наших воспоминаний детства. И тогда сознание предстает как неустранимое, оно постоян но, странность чего всегда присутствует при таком опознании. Вероятно, опознание сознания происходит в момент, когда оно побудило нас к познанию, но уже нас «произвело» и… оставило. Не удивительно поэтому, что, втягиваясь в жизнь и в намерения в ней как-то состояться и устроиться, мы отстраняемся от сознания, стремясь прибегать к нему от случая к случаю, но в действительности нам не удается и этого. Сознание не терпит потребительского отношения: в этом случае мы из него выпадаем или, точнее сказать, от него отпадаем. Устраиваясь в жизни, мы сознания избегаем. «Превращение» фактов жизни в факты сознания позволяет нам, напротив, как-то устроиться в сознании, оставляя жизненные перипетии. Понятно, каждый из нас как-то устраивается в своей жизни, но здесь надо особо выделить то, что такое «устроение» важно, если речь идет не о самой жизни вообще, а именно о своей – осознаваемой самим человеком – жизни. Посредством сознания жизнь рассматривается не только по линии ее «течения», но и в иных ракурсах и в иных перспективах. Важно понимать, что сам выбор жить сугубо своим, с позиции социума, может быть объявлен глупостью, тогда как принесение в жертву своего способно восприниматься нормой. Здесь мы сталкиваемся с противоречием субъективности и объективности, посредством которого реализуется двойственность нашей жизни, когда без сознания наша жизнь не может стать жизнью и распадается на хаотический конгломерат бесчисленных составляющих. И если объективное не встречает никакого препятствия на пути своего развития в виде субъективности, то маховик существования раскручивается все быстрее и быстрее, а в жизни человека исчезает своѐ. Иными словами, человек отчуждается от себя. Однако, с другой стороны, если мы живем сугубо своим, замыкаясь в себе, то основания для формирования социального – общего с другими людьми – поля нет. Вот человек и становится ареной борьбы двух начал – борьбы субъективности и объективности, когда, выбирая только одно из начал и отказываясь от другого, он Глава I. Сознание 49 рискует многим. Иначе говоря, каждый человек периодически отмечает в себе того, кого он не может принять в качестве своего, и сталкивается с присутствием в себе другого, который с ним не совпадает. Отказавшись от двойственности и сосредоточиваясь исключительно на одном полюсе своей сущности, человек закрывает себе путь к другой своей «половине». Другое в себе можно открыть, отказываясь от состоятельности себя в прошлом. Мириться же с отказом от прошлого способен не каждый, ведь здесь неизбежно испытание разочарованием, которое может испугать не только неискушенного, но и опытного. Снятие чар – всегда больная процедура об-устройства, как настроенность настроением, но если второе про-исходит как экзистенциал, настраивая настроением «тональность» нашего мiра, делая мiр захваченным нашим настроением, то об-устроенность выстраивается, т.е. предстает перед нами как вполне временной процесс. Настроенный настроением мiр переменчив, как переменчиво настроение. Обустройство этого переменчивого мiра, меня как задающего меру и дрейф этой переменчивости, нахождение себя и своего, демаркация чужого и должного… Это постоянный процесс: процедуры обустройства уже не просто «раскрашивают» данности, но пытаются их изменить, подстроить себя под окружение, а окружение под себя. Прервать этот процесс невозможно сказать, что возможны два направления внутреннего движения: уход человека в себя и уход его от себя, причем для каждого из них характерна своя логика и своя идеология. В себя человек попадает, отвлекаясь от того, что к нему непосредственного отношения не имеет. С таким, обретшим свое место и свое время, человеком не просто совладать путем социального давления. Но если все социальные институты дают сбои и человек не может на них опираться, а на себя опереться оказывается не способным, он начинает бежать от себя «со всех ног», ввязываясь «с головой» в любые действия. Он полагает, что таким образом сбежит от себя, но, конечно, не сбегает, а только утомляется, однако от усталости и растрат он не умнеет. 50 Разрыв повседневности Здесь к месту будет заметить, что двойственность жизни проявляет себя во всем: любое дело, как и любая мысль, сразу же «обрастают» своими двойниками. Но если из дела как такового и из мысли как таковой человек «выбирается» всегда сам, на свой страх и риск, то из двойников выбраться почти невозможно по причине их онтологической несамостоятельности и несостоятельности. Связывая себя с двойниками мыслей и дел, мы запутываемся в себе, становясь дезориентированы внутренне. Очень трудно принять принципиальную двойственность нашей жизни, допуская самостоятельность разных начал. Всегда как-то хочется все спрямить и исправить; хочется свести двойственность только к одному началу и расположить жизнь в параметрах не исчезающей ясности знания. Дело не в том, что жизнь наша не познаваема и не понимаема. Напротив человек принципиально может познавать и понимать себя. Однако понимание и познание не могут быть однозначными, и в этом смысле некоторая чуждость человека себе не может исчезнуть. Иначе говоря, мы способны познавать себя, однако ввиду невозможности пережить себя, мы не можем познать себя полностью и всецело. Все дело в том, насколько мы готовы соотнести себя с разным и готовы ли мы признать своѐ в разном. Обычно отношения с одним из начал нашей жизни воспринимаются в качестве определяющего. Трудно бывает удержаться от намерения отождествить все с одним основанием и фактически отстраниться от другого. И если мы идем на это, то получаем – в ответ на наши намерения – «двойника» выбранного нами начала. По мере дальнейшего развития мы сталкиваемся еще и с возрастанием количества двойников: по отношению к душе таким двойником становится тело; к сознанию – жизнь; к индивидуальному – социальное; к субъективному – объективное. По-видимому, от двойственности и не нужно избавляться, а стоит открыть себя ей. Целое, с которым мы сталкиваемся, требует от нас целостного к себе отношения. Мы же всегда пребываем в частичном освоении целого, когда относимся к двойственности нашего существа на основании игнорирования одной его части. Добавим, что целое сохраняет себя до тех пор, пока сохраняется баланс внутренних противодействий. Глава I. Сознание 51 Надо понять, что столкновение с целым мы испытываем постоянно, хотя не замечаем этого. Чтобы впустить целое, человеку приходится отказываться от частного, причем идти на последовательный и постоянный отказ от этого. Наше обычное отношение с целым выстраивается на основе указания на него как на нечто, стоящее за конкретным. Целое, таким образом, понимается в качестве некоего мыслительного горизонта или мыслительной перспективы, в результате чего создается иллюзия возможности замкнуть такой горизонт или перспективу, выразив в качестве определенного понятия или совокупности понятий. С одной стороны, в ситуации взаимодействия с отдельным человек привыкает относиться к целому как к некоторому качеству отдельного «жизненного» количества, если только ему не удается реально пережить опыт столкновения с качеством как таковым. Однако, с другой стороны, следует заметить, что человек не может обойтись без стадии фиксации целого и только потом, утрудняя свой взгляд и слух и усложняя свои осязание, обоняние и вкус, выделяет в целом особенное. Мы принципиально можем воспринимать мир только «порционно», т.е. сталкиваться с ним не иначе, нежели как с не расчленяемыми единствами целого. Иначе говоря, то нам «много» целого, то нам его «мало». И в результате то мы организуемся, связывая себя с анализом целого путем его расчленения и сочленения по нашим собственным правилам, то, напротив, принимаем целое, ослабляя свою организационную хватку. Двойственность проявляет себя в том, что человек вдруг теряет свой мир, когда начинает выстраивать свои с ним отношения на основе принципиальной возможности его освоения посредством, например, обращения к технике. В этом контексте свой мир понимается уже несамостоятельной силой, которую человек может использовать в своих интересах. Будучи субъектом такого освоения, он последовательно относится к своему миру как к источнику получения таких дивидендов, как энергия, ресурсы, информация – «брэнд» современности. Сколько было сказано и – о, ужас – будет сказано об информации! Информационные потоки, информационное общество, информационные системы, средства массовой информации… и т.д. и т.п. Наверное, в «частотном словаре» со- 52 Разрыв повседневности временности лидером как раз и будет слово «информация». Скажу прямо: не люблю (это я мягко выразился) это словечко. И не только по причине его массированного присутствия в современности. Конечно, довольно широкое распространение показательно. Но то, что выпячивается в массовом и бездумном употреблении, проясняет ли суть дела? Скорее всего, нет. Сущностно то, что прячется и не проговаривается. А потому говорить об информации в этой бездумности можно сколько угодно долго, не проясняя сути проблемы, и этот разговор свидетельствует в большей мере о том, что подлинный разговор об информации как раз еще не состоялся. Согласно определению Норберта Винера, информация есть везде, где наличествует различие. «А=А» – не информация, тогда как «А есть В», где объем понятия А не совпадает с объемом понятия В, является информацией. Теперь подумаем, а есть ли что-либо в этом мире, что не было бы информацией? По большому счету, даже неинформационное по причине своей тавтологичности «А=А» в постоянно изменяющемся мире способно включиться в информационный контекст и стать, соответственно, информацией. Это же касается чегонибудь неизменного, что в своем постоянстве выпадает из «информационного поля»: в изменяющемся мире неизменность также изменяется, поскольку включается «новыми сцепками» в изменяющийся контекст. Сделаем один шаг в сторону, чтобы легче было понять ситуацию с тотальным «прессингом информации». Как проще всего сделать так, чтобы уничтожить миллионеров? Отнюдь не революцией или экспроприацией. Нужна просто стремительная инфляция, в результате которой все станут миллионерами, а возможно, даже миллиардерами. Немногим больше десятка лет назад в России этот процесс был налицо. Но и сейчас в некоторых странах есть триллиардеры, влачащие нищенское существование. Миллионер – как символ – должен быть «редкой птицей», но когда их тысячи, то миллионер как символ-знак упразднен. Так и с информацией. Тотальность информации уничтожает информацию. Если все – информация, то информация – ничто. Любое сущее в своей определенности нуждается – а тем более информация, «играющая» на дифференции, – в ином. Но если иного нет, то сущее, лишенное грани-границы, как таковое уп- Глава I. Сознание 53 раздняется. Это прекрасно понимала античная мысль, для которой космос – ограниченный, т.е. определенный, «вформованный» в свои границы-грани хаос. Мир, в котором царствует информация, – это мир, где позиционируется отсутствие феноменальности как таковой. Поясню. Информация «в идеале» – это нечто «объективное», т.е. то, что существует вне зависимости от меня, более того, она, информация, должна быть тождественной как в моем присутствии, так и при моем отсутствии или в присутствии моей уже свершившейся смерти. Информация – объективна, а потому она всегда там, где я ничего не значу, где меня нет. Именно по этой причине не надо обольщаться: если слоган «Информация – это все» верен для нашего мира, то это относится к тому миру, в котором для меня места нет, т.е. меня попросту нет. Есть лишь риторика и машины, которые форматируют меня под информационные потоки. В этом информационном мире акты конституирования, осуществляемые нашим сознанием, заменяются потоком информации, т.е. информационным потоком, выстроенным с помощью бинарного кода. Как системе «чистых» различий, информации наиболее адекватен именно бинарный код, используемый в современных компьютерных технологиях. А потому использование бинарного кода в современных компьютерных программах – не просто «технологическое удобство»; оно сущностно. Как раз данная бинарная кодировка – «безчеловечна», и именно поэтому я говорю, что в выстраиваемом современностью информационном пространстве место человека, «человеческого, слишком человеческого», оказывается под сильным нигилирующим воздействием. Рассмотрим простой пример, который покажет нам «отсутствие» фигуры человека в современном информационном пространстве. Возьмем простое предложение «Поток нулей и единиц – не более» и посмотрим, как оно выглядит в «информационном виде», т.е. записанное не с помощью «обычных слов», бережно хранящих человеческое присутствие, но в кодировке, скажем, windows-1251. Указанное предложение будет выглядеть следующим образом: 1100111111101110111100101110111011101010001000001110110111 1100111110101111100101111010010010000011101000001000001110 0101111001001110100011101101111010001111011000100000100101 54 Разрыв повседневности 1000100000111011011110010100100000111000011110111011101011 11100101111001010000110100001010 Не будем сейчас задаваться вопросом о числе, которое используется в этой системе, ибо в тех «математиках», где нуля не существовало, такой «кодировки» в принципе быть не могло, например в античной геометрии и алгебре. Просто посмотрим на поток нулей и единиц: вот она, «чистая» информация, информация в чистом виде. Не нужно углубляться в суть вопроса об информации, чтобы на основании даже приведенного примера понять, что она как таковая, в своем «чистом» виде, «неперевариваема» для человека. Нужны процедуры конвертации и перевода на «человеческий язык». Иначе говоря, нужны определенного рода «интерпретационные» механизмы, способные передать «объективный» смысл предельно «субъективному» человеку. Причем сам процесс «перекодировки»/ интерпретации – дело всегда сомнительное, поскольку указанная последовательность единиц и нулей может быть проинтерпретирована по-разному. Приведенный только что пример – это пример кодировки предложения в windows-1251251. Но мы знаем: в компьютерном мире существует несколько кодировок. И то, что в указанной кодировке windows-1251251 данный поток нулей и единиц может быть интерпретирован как предложение «Поток нулей и единиц – не более», в другой кодировке может означать бессмысленный набор символов, фрагмент музыкальной фразы или фотографии. Наконец, самый простой вариант – может просто репрезентировать самого себя, т.е. поток нулей и единиц… Но вот в чем еще загвоздка: переформатированное в бинарный вид уже невозможно «перекодировать» обратно, разве что в режиме симуляции. Прекрасной иллюстрацией этого служит любая оцифрованная картина. Даже при «бесконечно» скрупулезном и мельчайшем разрешении «аналога» на мониторе, мы все равно не получим ту же самую картину, но лишь ее симуляцию … Об информации можно говорить много… очень много… И действительно, о ней много говорят… Но что это означает? Если мне постоянно и ежечасно пытаются повторить что-то, то я начинаю подозревать, что используется давно испытанный прием: ложь, повторенная тысячу раз, пытается стать правдой. Глава I. Сознание 55 Повторенный и перепетый на тысячи ладов и голосов разговор об информации утаивает то, что о сути информации не сказано ничего. Нет анализа той процедуры подсчета, которая запускает уравнения бинарного потока, нет размышления о том статусе и смысле различий, которые служат основаниями для разбиения реальности на мельчайшие блоки, подлежащие впоследствии «конвертации» в бинарный вид… А что в этих разговорах присутствует? В них мы видим лишь риторику веры, безосновной и, возможно, беспочвенной веры в то, что все так просто и однозначно, что можно представить мир в системе уравнений и классификаций… В этих разговорах находит свое алиби вера в прогресс, в науку, в современный тип политики, в человека, в субъективность, в буржуазную свободу. Иными словами, в этих разговорах просвечивает лишь вера во все те «игрушки», в которые играет современное «информационное» общество… Но от того, что в современном мире стала править определенного типа рациональность и подсчет – т.н. «магия белого человека», – наш мир не стал более прозрачным и подчиненным контролю. Мир таинственен и непредсказуем, несмотря на все усилия, все повторы и риторические заклинания, которые прикрывают, возможно, наши беспомощность и ужас перед подлинной реальностью. Той реальностью, с которой мы пытаемся совладать, прибегая к потоку слов и риторическим возгласам, тиражируемым массовой культурой. А он, наш мир, не стал от этих научных и информационных заклинаний менее таинственным, менее непонятым остается то, что, наряду с явным, есть и неявное. Не понято то, что, помимо содержания энергии, ресурсов и информации, есть и сам мир, в это «содержание» не помещающийся. Техника в этом контексте понимается в качестве своеобразной замены и подмены, когда в стратегии освоения своего мира человек сталкивается уже не с ним, а с техникой, позволяющей ему брать, 56 Разрыв повседневности изымать и удерживать различные содержания мира. Точнее, он сталкивается с перманентным несовершенством техники и необходимостью соответствия ее своим задачам. Двойственность оказывает на каждого из нас устрашающее воздействие, но страх, обнажающий бездну целого, может позволить нам впустить целое в себя. И тогда он, возможно, сменится покоем – покоем мира. Страх перед целым, которое вдруг становится явным и предстает вдруг смотрящим на нас, понятен. Однако понятно и то, что пока человек не преодолеет свой страх перед двойственностью реальности, то обязательно будет стремиться ее как-то организовывать, навязывая ей некие концептуальные «развороты». Человек испытывает страх перед распадом подконтрольной себе территории и подконтрольного себе времени, когда размеренность его отношений с миром и с самим собой вдруг оказывается под вопросом. Стремясь вытеснить или хотя бы оттеснить непонятные ему части мира и своего существа, человек непременно обращается к знаемому. Это совсем не значит, что таким путем можно избавиться от своего – себе же непонятного: скорее, его можно оттеснить в некий «дальний» угол. Но угол-то этот – это часть нас самих со всеми вытекающими отсюда последствиями! Непонятое нами не исчезает: оно «живет» странной жизнью, которая смутно напоминает нам о себе в захватывающих нас настроениях, проявляющихся как в сумбуре чувств и переживаний, так и в хаосе мыслей, связанных с резкой сменой настроения. Человек воспринимает целое по частям и стремится связать непонятную ему природу целого узлами разных построений, однако надо приучить себя к тому, чтобы хотя бы иногда оставлять странность странностью. Человек сегодня запутан, и запутан так, что ему трудно распознать своѐ. Трудно разобраться в себе, остановиться, пережить опыт одиночества и попасть в себя, ибо он сталкивается с десятками чужих настроений, которые пытается к себе примерить и применить. Настроение всегда открывает нечто, задавая перспективу отношения человека к миру. Даже не осознавая в полной мере, но предчувствуя и предвосхищая понимание того, что все настоящее – то, что стоит и можно понимать всерьез, – связано с самодостаточностью, Глава I. Сознание 57 которая только и способна придать ему силы, человек пытается опереться на то, что его самого захватывает и превышает. Мы и относимся к миру, исходя из овладевающего нами настроения: когда нам плохо, то белый свет не мил; когда же хорошо, то и мир мы воспринимаем как дар, т.е. как то, что нам что-то способно дарить и ждать возврата дара – наш наивный прагматизм, пропахивающий издревле то пространство, которое можно маркировать как культура. Система «дар-отдаривание» означает один из самых мощных и важнейших «архетипов» человеческого сознания. Подобно тому как мы «размещаем» чувственные даты в пространстве и времени (И. Кант), мы выстраиваем наш мир как «подчиняющийся» системе уравниваний. Если есть причина, то есть ее действие и следствие этой причины, если есть поступок, то есть его возмещение-воздаяние, мир как система кармы и т.д. и т.п. На основе этого «архетипа» осуществляются не только попытки описать универсум с помощью математического уравнения, но и разбиение и удержание социального пространства: мораль, религия, наконец, философские системы… Можно упомянуть два довольно ранних фрагмента, где тематизируется этот «архетип». Первый пример взят из наиболее известной части Махабхараты, а именно «Бхагаватгиты» в переводе. Перевод с санскрита С. Липкина. «Приняв эти жертвы в небесном чертоге, За них наградят вас довольные боги, – Иначе предстанут пред вами ворами, Когда на дары не ответят дарами!»1 Сошлемся и на другой, не менее значимый текст, правда, он ценен, скорее, для нашей европейской традиции. Речь идет о знаменитом изречении Анаксимандра: «А из каких [начал] вещам рожденье, в те же самые и гибель совершается по роковой задолженности, ибо они выплачивают друг 1 Бхагавад-Гита (избранное). Стих 3.12 Самиздат, 2007. С. 16. 58 Разрыв повседневности другу правозаконное возмещение неправды [ущерба] в назначенный срок времени»1. Я не буду сейчас проводить текстологический анализ приведенных фрагментов или заниматься их толкованием. Многие это сделали и сделают гораздо лучше: одна интерпретация М. Хайдеггера чего стоит! Для меня сейчас важно следующее: и в первом, и во втором текстах мы видим фиксацию указанного «архетипа», причем в предельно ясном и тематизированном виде. Правда, тематизирован этот «архетип» и в первом, и во втором случаях как космологический принцип. Даже боги вынуждены соблюдать принцип отдаривания, хотя, как известно, богам человеческий закон – не императив для их поступков. Во фрагменте Анаксимандра, уже в менее теологическом виде (и не случайно именно с него европейская философия начинает свою биографию), принцип «отдаривания» выступает как сущностный принцип бытийствования любого сущего. Система дара и отдаривания, иначе говоря, система равновесия и уравнения/уравнивания, – это форматирующая структура, выстраивающая наш мир. Именно в согласии с этим «архетипом» мы ждем и предчувствуем равновесие и равнодействие в мире, обнаруживаем порядок, систему в универсуме, надеемся на воздаяние по заслугам и опасаемся мести возмездия и т.п. Но эти ожидания не базируются на том, что смысл и порядок, уравнение и постоянство и т.п. присутствуют в мире самом по себе, но только на том, что мы изначально, в «момент» первичного конституирования мiра в наш мiр и «вложили». Нет, увы, нет в мире этого уравнения, особенно в той его части, которая относится к нашей солнечной системе, где, скорее, есть изначальный безвозмездный дар, чем «рефлекс» дар-отдаривания. Усомниться в этом равновесии, равенстве – это не столько «научная» гипотеза, что, понятно, дело особенно в наше время вполне допустимое, но отказ от всей системы человеческих координат, аморализм в высшем своем звучании. В самом деле: почему я должен отвечать за свои поступки? На основании какого «закона» действует принцип возмездия в правосудии? Если мы сомневаемся в данной системе координат, то отсюда, конечно, следует: «Все возможно». Но и, одновременно, из этого усомнения следует и то, что все – бессмысленно, ибо наша реальность, привычная и осмысленная, была инфицирована тем смыслом, который изначально размечен «архетипом» возмездности, воздаяния, уравнения… 1 Фрагменты ранних греческих философов. Часть I. С.127. Глава I. Сознание 59 И то, что подлецы торжествуют, убийцы становятся церковными иерархами, что чаще богатство и слава приходят не к достойным, а скорее, «наоборот», нас возмущает не по причине торжества «нигилизма» или «аморализма», а потому, что мы в бессилии прозреваем, что все «несколько не так» в нашем мире, как это рисует и приукрашивает нами же «созданный» способ видения и выстраивания нашего мира… Мы не познали еще, не приручили и не уговорили, наконец, то, чем сама по себе является реальность воздействия настроений проявляется в невозможности индивида, будь то человек или народ, существенно им сопротивляться, когда он независимо от себя может вдруг увлечься другими настроениями. В таком увлечении он идет на такие траты себя, которые грозят ему даже уничтожением и смертью, и нередко не считается с такими тратами. Возникая и увлекая человека за собой, одно настроение не позволяет ему увидеть и осознать нечто другое, ибо человек всегда в каком-то настроении, но всегда в одном. Если он вдруг и замечает иное, то это открывается ему в ином настроении. Стоит признать, что любое настроение, т.е. то, что мы испытываем в качестве как-то настраивающей нас силы (а не испытываемого и не переживаемого нами настроения мы как такового не признаем и признать не сможем), всегда способно увлечь нас за собой. Вот почему проблема выявления своего непроста и требует внутреннего сосредоточения. Человек пытается найти себя в ситуации, когда в пространстве и времени его жизни всегда дуют ветры разных настроений, каждое из которых способно подхватить и увлечь его за собой. Это – исторические настроения наций и народов, настроения эпохи, настроения близких и далеких нам людей. Вполне возможно, что многие из них, будучи примеряемы нами на себя, скорее, скроют от нас своѐ, но не откроют нас ему. Предельная собранность, т.е. собранность человека в себе, в этом случае замещается собранностью его в ином структурном поле. От такого – не своего – настроения стоило бы скорее избавиться, ибо оно собирает нас не в своей определенности, а за пределами себя. 60 Разрыв повседневности Вышесказанное можно попробовать осмыслить и в ином ключе. Проблема двойственности нашей жизни непреодолима по причине того, что дело осознания себя нам никогда не удается закончить. Сознание – вещь принципиально не снимаемая: оно всегда заканчивается только под давлением жизненных обстоятельств, т.е. извне самого сознания. Двойник – это всегда производная нашего сознания, помещаемая нами в жизнь: сначала есть мысль, а только уже потом возникает ее двойник. Двойственность выявляет себя в ситуации «пересечения» фактов сознания с фактами жизни, когда первые располагаются человекам внутри области его жизни. Следы такой двойственности повсеместны. Одним из них становится наполнение своей жизни артефактами, которые образованы именно не жизнью, а ее осознанием. Вот почему без двойников обойтись трудно, однако сделать это необходимо. Занимая себя заботами по обеспечению условий существования, оказываешься в ситуации явного расширения места своего обитания при не менее явном сужении времени своей жизни. Причем при росте забот, связанных с обустройством мест существования, расплакиваешься не только уменьшением своего времени, но и утратой своего внутреннего места. Человек может к себе и не вернуться. Многие, впрочем, и не возвращаются. В случае ухода от себя человек оставляет своѐ и «с головой» погружается в работу и процессы, строящиеся не на его собственных, а на социальных основаниях. Вернуться к себе становится все труднее, ибо такой человек легко управляем извне себя: без чужого он не может, а своего не знает. Значимо отношение человека к себе: именно в его нехватке и незнании себя суть дела. Мы можем соединять факты сознания, прибегая к жизни. Обычно мы так и поступаем. Поступая так, мы все еще находимся в плену забот, которые предваряют работу сознания. Однако можно попробовать сопоставлять факты сознания на основе отнесения их к самому сознанию. И в этом случае это будет другая реальность. Причем история соединения фактов сознания на основе их переведения к жизненным ситуациям будет радикально отличаться от истории соединения фактов сознания на основе сознания. В первом случае над человеком довлеет жизнь, и он, испытывая такое давление, приучается к потребительскому отношению к сознанию, а то, что Глава I. Сознание 61 понимается под историей, сильно детерминировано жизнью. Во втором случае он не может не считаться с сознанием и, принимая его силу, начинает размышлять о прямом воздействии сознания на свою жизнь, прибегая, например, к образу судьбы. Тому, кто стремится жить вне сознания, этот образ неизвестен. Разумеется, уже потом – после того, как, прибегая к силе сознания, человек апеллирует к образу судьбы, – его отношение к судьбе может меняться. Так, выстраивая свои отношения с сознанием, человек открывает свою судьбу: при продвижении по пути сознания и восприятии фактов жизни исключительно в качестве трамплина и основания для того, чтобы перейти к фактам сознания, человек оказывается вне судьбы. Теперь уже, когда он преимущественно живет сознанием и для сознания, ему этот образ не нужен. При расположении в фактичности сознания и если и не в полном освобождении от влияния житейских забот, то в получении «передышки» путем попадания в место и время, которые с этими заботами явно не связаны, человек приобщается к полноте сознания и его избыточности. Это позволяет ему пройти процедуру своеобразного «очищения» и попасть в то, что связывает разные – по своему генезису – содержания существования в события одной – именно своей – жизни. Сознание соотносит разное в настоящем. Оно связывает все в одном, включая наши поиски настоящего и наши попытки борьбы с ним. Можно сказать и по-другому. Появляясь в некоем месте, мы не знаем, чьим – до нашего в нем появления – такое место было, как и не знаем, что мы в это место привносим. Но если прибегаешь к процедурам, привносящим в это место силу иного места – силу сознания, то место «очищается» от того, что было до нас; до нашего присутствия в этом месте. Сознание можно уподобить «механизму», который осуществляет переведение субъективного в объективное. Это можно проследить на примере отношения человека к прошлому – довольно запутанная «история». С одной стороны, обращенность к прошлому, его удержание в памятовании – то, что обеспечивает не только любую мысль и рассуждение, но и идентичность «я». Не случайно А. Шопенгауэр определял тупость как не- 62 Разрыв повседневности достаток памятования, удержания прошлого в настоящем: без обращенности к прошлому, без его постоянного воскрешения было бы невозможно мышление. А об удержании идентичности без памятования себя в прошлом – вообще пришлось бы «забыть». Но, с другой стороны, сохраненное и застывшее прошлое, оказывающееся в настоящем, обращенность в прошлое – ставят не меньше проблем. Запутанная история… История, кстати, всегда о прошлом, и одновременно, о настоящем и будущем. И это тоже запутанный сюжет… И дело, конечно, не в том, что «здесь помним, здесь не помним». Мы все находимся в ситуации относительной амнезии. Но и в отношении «адекватности» удержанного в воспоминании прошлого – не менее запутанный сюжет. Мы, «вроде», в ответе за свое прошлое, ибо в нем «вольно или невольно» принимали решения, действовали, уклонялись от действия и этим действовали еще решительнее… Однако при всей своей связке, сцепке с прошлым, в котором мы были, мы ощущаем груз, нестерпимый груз прошлого и прошлой ответственности, и даже некоторую несправедливость того, что должны нести за него ответственность. Прошлое – тяготит, ибо всегда из горизонта настоящего мы поступили бы лучше, пошли по другому пути, не ошибались и т.п. Но оно, это прошлое, цепко держит нас в «объятьях», предрешая наше будущее, захватывая в свои уже «умершие конечности» нашу свободу, свободу быть иным, даже по отношению к своему прошлому. А потому так сладко не «вспомнить все», а лучше «забыть все», чтобы, возможно, начать с чистого листа. Но не тут-то было… Горизонт возможностей с годами, с нарастанием прожитого, т.е. прошлого, сужается. И то, что прошлое все сильнее и сильнее держит нас в своих руках, можно почувствовать на той все сильнее и сильнее сужающейся возможности нового, которая усиливается в прямой корреляции с прожитыми годами. Если перед каждым в юности открыт бесконечный горизонт «кем быть», то с годами «свобода маневра» все меньше и меньше… Долг перед прошлым – долг перед неизменным. И разве я – 10 лет назад – это «я»? Я – результат довольно прихотливой сборки. Она, эта сборка, – постоянно «действующий механизм». Нельзя «собрать» «я» раз и навсегда. Несовпадение с собой и, как следст- Глава I. Сознание 63 вие, ситуация самообмана (Ж.-П. Сартр) – лишь иллюстрация «перманентности» процесса. Но почему это каждый раз собираемое «я» отождествляется и несет ответственность за то прошлое «я», которое не менее иллюзорно здесь и сейчас, чем мираж в пустыне? И вот мы, здесь и теперь, постоянно боремся. Боремся «за» прошлое, чтобы удержать свою идентичность и иметь возможность мыслить… И, одновременно, боремся «против» прошлого, ибо выстраиваемая на основе прошлого застывшая идентичность – это та фактичность, которой обладает «неживое», труп… И независимо от того, хотим мы этого или нет, эту «борьбу» ведет каждый из нас живет своими случившимися ранее переживаниями и их както для себя объективирует, стремясь в них разобраться. Когда же речь идет об общих воспоминаниях нескольких или многих людей, то происходит конвертация разных субъективностей в некие объективные конструкции, становящиеся основаниями разных субъективностей – например, в опыт эпохи. Отходя «в сторону» от таких объективных конструкций, человек теряет свою субъективность ввиду того, что она связана с этими построениями. Теперь он вынужден «определяться» в вопросах «взаимодействия» со своей субъективностью самостоятельно. В случае положительного результата и определения новой субъективности возникает уже и новая история: у субъекта формируются новые воспоминания, необходимые именно ему. Готовность принять сознание связана с возможностью сдвига и отстранения человека от ситуаций и обстоятельств жизни, внутри которых он пребывает, когда жизненные содержания перерабатываются в некий текст, становящийся опорой сознательного отношения к жизни, и правила восприятия ее принципиально изменяются. В этом смысле любой текст – это текст сознания. Любой жест – это текст сознания. Любой предмет – это текст сознания. Любая картина – это текст сознания. Любая страсть – это текст сознания. Любая жизнь – это текст сознания. 64 Разрыв повседневности Мы погружены в тотальность герменевтического проекта, расшифровывая и интерпретирую все и вся, и, прежде всего, самих себя. Ибо любое «я» – это текст сознания. С одним, пожалуй, уточнением: все эти «тексты» пишутся «символами», знаками – лишь периодически мы попадаем в ситуацию, когда видим, что некто не понимает, казалось бы, очевидных вещей. Однако по мере объяснения осознаем, что он не примет наше понимание, а если и примет, то только частично, чем наше понимание разом извратится или переродится. Для того чтобы принять нечто от другого, надо иметь третью точку или третье основание, которое не было бы ни твоим, ни его. Таким основанием собственно и становится текст, пусть и тобой созданный, но – по мере его завершения и прочтения другим – перестающий иметь к тебе прямое отношение. Текст этот – такой же твой, как и не твой. В качестве такого – текстового – основания может пониматься любая дисциплинарная матрица, сформированная на основе определенной региональной онтологии, помогающая понять нечто любому, кто в нее входит. Без текста, как ни пытайся, не обо йтись. Образ, посредством которого воспринимает человек, предшествует восприятию. Такой образ практически не изменяется в качественном отношении, если восприятие удовлетворяет человека. Важно обратить внимание на способы – предельной в своей сжатости и относительной разбалансированности – связи воспринимающего с воспринимаемым, когда дистанция между ними то сходит на нет, то увеличивается. В первом случае обязательно появляются дополнительные процедуры и могут возникнуть новые образы, закрепляющие такую близость трудна для рефлексии. То, что вблизи, – не видно. Самое существенное прячется вблизи, и доступ к нему оказывается закрыт. Близкое – как привычное – удалено в своей близи. Отсюда и парадоксальность близости: чтобы приблизить, нужно отдалить, а чтобы отдалить, нужно приблизить. Именно потому самые близ- Глава I. Сознание 65 кие ближе, когда удалены: постоянное присутствие близких способно разрушить близость. Нужно хоть иногда отдаление, заставляющее близкое стать близким. Но вот как, если следовать этому парадоксу, приблизить самого себя? Возможно, это приближение самого себя достижимо, если встать в рефлексивную позицию в отношении самого себя. И тогда, благодаря возникшей дистанции от самого себя, мы сами себе становимся ближе. Но именно так мы и поступаем, когда обращаемся к жизни сознания, изолировав свое уникальное, сингулярное сознание от нас самих, нашей жизни, «переведя» его в статус отделенной, а потому чуждой, «абстракции» – сознания меня как сознания вообще. Укажем на еще один способ удаления-приближения. Речь пойдет об удалении-приближении через отождествление себя с тотальностью истории, когда индивид стремится не собрать свою биографию и свою ситуацию в единстве своего эмпирического «я», но вписать ее как часть в универсальную историю, для которой, как говорилС. Киркегор, индивид – это скандал, который нарушает ее течение своей сингулярной непредсказуемостью. Ибо на самом деле история и индивид, помещенный в эту всеобщую историю, – «параллельны». Действительно, что мне от того, что исторический процесс течет по своим законам, ведь эти законы не определяют – может, самое важное для меня в конкретный момент времени, – кончились ли сигареты в соседнем ларьке или нет… Так же, как ничего не скажет о конкретном индивидуальном будущем статистика, «говорящая», что средний возраст жизни мужчины в России – 57 лет, человеку, которому эти 57 лет исполнятся завтра… Что же ему, имениннику, саван заказывать, руководствуясь «объективными данными»? Индивидуальное и всеобщее, их соотношение – тоже запутанная, крайне запутанная история, будь то история жизни, история чувства или история мысли, – это всегда реконструкция, когда разным элементам придается единый логический план. Он предстает в качестве единого горизонта понимания, связывающего разные элементы вместе и придающего им характер события путем их осознания и выделения – посредством 66 Разрыв повседневности этого – из среды жизни. Такой логический план помогает нам выстроить объективную картину мира, где субъективность отделяется от нас сознанием и размещается теперь перед нашим внутренним взором, изменяя свое качество. История начинается с намерения описать что-либо в качестве объективного процесса. Другое дело, реализуется ли такое намерение и возможно ли оно в принципе. История связана с процедурой придания субъективному характера события, т.е. осознания субъективного и превращения его в объективность сознания. Содержания жизни – благодаря их осознанию – выступают в качестве событий. Событие «образуется» или «вспыхивает» там и тогда, где и когда факт вырывается из плена жизни за счет его осмысления и в таком «вырванном» из контекста жизни состоянии связывается именно с нами. Этим решается обоюдная задача осмысления жизни и рождения нашей субъективности (проблема «второго рождения). Важным признаком события является его уникальность. Человек прерывает многократность повторяемости жизненных ситуаций и основывает новое их понимание путем обращения к фактам сознания. Событие неповторяемо, и если заходит речь о повторяемости каких-либо событий, то она возможна исключительно за пределами самого события. Акцентируем внимание на том, что состояния сознания фиксируют в себе некую «непереводимость» и «неконвертируемость» как в отношении к другим состояниям того же человека, так и в отношении к состояниям сознания других людей. Однако эти состояния могут быть связаны с определенными фактами сознания, которые, в свою очередь, могут сопоставляться друг с другом ввиду придания этим состояниям сознания объективированной формы. Для этого необходимо обособить состояния сознания от того, кто их испытывал. Это можно сделать, например, в тексте. Понятно, что любая попытка сопоставления сознания отдельных людей не может не быть связанной с отказом от внутренней деятельности, присущей субъективности и выражаемой в попадании ее в отдельные состояния сознания, от которых можно перейти к фактам сознания, но можно и, наоборот, вернуться к фактам жизни. Если что-либо и становится фактом нашего сознания, то такой факт не является исторически необходимым ни для кого другого. Он – сугубо индивидуален, хотя мы можем сообщать о нем и претендо- Глава I. Сознание 67 вать на принятие его другими. Можно сказать и по-иному: посредством факта сознания наше состояние сознания отстраняется от нас, ибо этим мы его от себя обособили и перешли к другому состоянию сознания. Однако выстоять под напором жизненных ситуаций трудно, и человек нередко отказывается от своего в угоду иному. Так, индивидуальные факты сознания подчиняются безличным схематическим конструктам, смоделированным по типу «мы» и «наше», а своѐ приносится в жертву. Вместо своих – индивидуальных – фактов сознания человек начинает доверять квазиструктурам внутри нас не сложно, ибо любая социальная инстанция – это и суперструктура, и, одновременно, квазиструктура. Одно от другого отличает лишь, как говаривал, правда по другому поводу, Гегель, «мнение». «Мне-ние» – это то, что мнится, и то, что сугубо мое, индивидуальное. Ну и конечно, одно от другого «отличает» лишь исторический контекст употребления. Везде своя «цветовая дифференциация штанов» (Кин-дза-дза): то, что в одном культурном контексте опознается как суперструктура, в другом оказывается квазиструктурой. Но, в любом случае, речь идет о внутреннем и фанатичном рабстве. И огромное число людей – рабы, даже если формально они – вполне респектабельные и либеральные господа, обладающие большим личным состоянием. Раб – это категория выбора и ответственности за сделанный выбор. Раб – это тот, кто не способен на самостоятельный выбор, кто отказался от него, а потому за него этот выбор делает Господин. Легко бунтовать против «внешнего рабства», гораздо сложнее «убить» раба «внутри» себя самого. Трудно воевать не за внешние «атрибуты», а за внутреннее особенное способно восприниматься человеком вне его индивидуальной сознательной работы: с одной стороны, в виде «особенных людей», «особенных народов», «особенных социальных групп», а с другой – в образе как «нашей», но не моей истории, так и в образе «нашей», но не моей судьбы. При этом такие структуры сознания предшествуют любому индивидуальному опыту сознания, посредством чего наше инди- 68 Разрыв повседневности видуальное сознание в существенном смысле перестает быть реально «нашим», т.е. своим для нас самих. Речь идет о формировании у сознания определенной установки. Следствиями такого установления положения дел становится отказ не только от индивидуального чувства, индивидуальной судьбы, индивидуального мышления, но и от индивидуального рождения и индивидуальной смерти. Глобализм, собственно, и связан такой установкой сознания человека, благодаря которой не обращается внимание на особенное, т.е. на тот признак, который отличает одно от другого. Глобализм не интересует внутреннее и вещное. В этом отношении глобальные построения всегда принципиально схематичны: благодаря этому сознание получает возможность охватывать все новые и новые пространства, не обращая внимания ни на что отдельное. Отличительной чертой такого охвата становится его быстрота и нарастание скорости. При такой установке сознания определяющим становится его способность объять собой все, что бы то ни было, которая к тому же фактически ничем не сдерживается. Такой охват совершается через отказ от уникальности вещей, т.е. посредством неявного перехода к безличному. Это происходит до тех пор, пока безличность, заполняющая человека, ни приводит его к внутреннему опустошению, и он, тяготясь этим, разворачивается лицом к особенному. Важно найти способ блокирования установок сознания: найти то, что способно приостанавливать действие предвзятого отношения к чемулибо. Приостановить развитие установки сознания можно путем обращение к особенному – к особо выделенным вещам и действиям, к особому времени и пространству, меняющим эту установку. Может быть, присущая нашей жизни «мешанина» и является следствием неумения расчленять фактичность жизни и фактичность сознания, когда мы путаемся в целях, которые ставим себе как живущим, так и сознающим. Неспособность связать себя с сознанием вне жизни оборачивается желанием увидеть его встроенным в жизнь. В результате, когда есть потребность действовать, человек начинает сознавать, а когда надо сознавать – действует, а потому задачи существования все последовательнее мыслятся им в качестве вызова жизни, понуждающего к непременному их осознанию. Глава I. Сознание 69 Человек полагает, что если он «приложит» к жизни ее осознание, то все вдруг исправится или выправится само собой. Так, в жизни и в сознании одновременно появляются некие ментальные конструкции и схемы, связываемые с присущей – народу, нации, стране – коллективной судьбой. Если человек действует без оглядки на себя, то в какой-то момент он настолько привыкает пренебрегать собой, что уже себя не замечает, а если вдруг и цепляется за свое присутствие, то оно начинает его явно тяготить. Такое существо, собственно, и именуется «сознательным» человеком, который легко отказывается от своего в угоду общему, становясь основой формирования масс, массового сознания и массовой культуры. Втягиваясь в действия масс, сознательный человек стремится уже покончить с любыми проявлениями своего; стремится добить своѐ. «Массовый» человек в своем не нуждается, тогда как человек сознания, если только он осознанно не отказывается от потребности сознавать, не может стать «сознательным» человеком. Люди сильно отличаются друг от друга в зависимости от того, как они относятся к своей истории. Одни стремятся привлечь к ней внимание других, будучи сами не в силах от нее отвлечься. Другие могут периодически отвлекаться от своей истории, но иногда испытывают потребность припадать к ней. Но есть и третьи, кто всегда воспринимает свою историю именно как свою, не позволяя ей становиться частью другой истории. Отказаться от своей истории трудно, и обычно она мешает принять историю другого. Понятно, что в любой истории действует некая направленность, без которой истории нет: в своей истории – это направленность своей жизни, в другой истории – направленность другой жизни. Вектор любой истории несколько приглушается и может сойти на «нет», когда история помещается в континуум более значимого, чем она сама история – это размерность нашего сознания, не более. Согласно этой размерности, которая и определяет, что и под каким углом следует рассматривать, и развертывается вся интрига событий, вся канва исторического 70 Разрыв повседневности повествования. Особенно показательно выражение «жизнь заела», когда жизненные факты без осознания их в качестве фактов сознания начинают нас не только «заедать», но и «съедать». Существенная интеграция человека в проблемы жизни не дает ему встать в некое принципиально незаинтересованное отношение к жизни, не позволяя выстроить некую экстерриториальность для своей субъективности. И в результате жизнь занимает всего человека. Теперь уже, когда это произошло, до всех всем есть дело, но никому нет дела до себя. Мест, где до тебя не было бы никому дела, всегда мало. И это – во-первых. К тому же, и это – во-вторых, количество таких мест сегодня, похоже, сокращается. Личностное отношение все последовательнее связывается с отношением каждого к каждому, но только не к себе самому. Чего не находится, так это выстраданного безразличия к каким-либо фактам жизни – как к своим, так и к чужим, что явно могло помочь человеку освободиться от повышенного давления на него проблем жизни и выстроить осознанное – к ней – отношение. Именно с осознанности особого отношения к чему бы то ни было мысль только и начинается. И начинается она, в первую очередь, с осознанного отношения к себе. Если понимаешь себя, то будешь понимать и другого – весь вопрос только за «малым»: понять самого себя… И здесь бесконечно много «подводных» камней. Понять – это не только раскрыться и «пропитаться» чем-либо, но и превзойти (Ж.-П. Сартра). Хотя и с первым – «пропитаться» и раскрыться – не столь уж просто. Раскрыться для самого себя: для этого необходимо отдалить себя от себя самого, чтобы потом, став «другим-для-себя», этим же «другим-для-самого-себя» «пропитаться». А уж затем раскрыться навстречу себе самому как другому. Однако со вторым сюжетом еще сложнее: превзойти самого себя, оставаясь самим собой же… Разве что здесь поможет то, что тот же Сартр зафиксировал как изначальное «несовпадение» с самим собой, порождающее фигуру самообмана… Но тогда, понимая самого себя, я погружаюсь в стихию самообмана и бесконечно его мультиплицирую. Поистине парадоксальное существо человек: для понимания самого себя необходимо встать в позицию Глава I. Сознание 71 самообмана и еще, к тому же, отдалиться от себя самого, чтобы все же иметь шанс дойти до самого себя… И если это вообще достижимо – рационально и рефлексивно, а не интуитивно, – то процедура познания другого – просто «детская считалка», с которой совладает любой ребенок относительно легко переходит от фактов жизни к фактам сознания, хотя об осознании этого обстоятельства говорить сложно. Это хорошо видно по играм, когда дети примеривают к себе разные социальные роли: «давай, ты будешь тем-то, а я – тем-то», и вот разворачивается действие игры – представления, когда он живет другой жизнью. Однако, взрослея, человек приучается – через «прививку» социальных отождествлений – к цензурированию своих восприятий, благодаря чему воздействие на него фактов жизни, по сравнению с фактами сознания, усиливается. Располагаясь в поле социальных идентификаций, человек утрачивает способность задавать себе вопросы относительно себя и приучается к существованию в форме коллективных идентичностей. В границах общественных отождествлений сначала появляется, а затем все более укрепляется отказ от познания себя и открытие в себе себя незнакомого. В немаловажной степени именно с этим связываются «умение жить» и «знание жизни». Фактически речь идет об отказе от свободы; заметим, отказе даже не принудительном, а добровольном. В определенные исторические эпохи социальное давление становится настолько сильным, что человек уже не просто не живет своим, но практически утрачивает об этом всякое представление. Формирование индивидуально-личностного основания жизни происходит в этом случае только через «встраивание» в социум и вынесение социального «приговора», а личностное напрямую связывается с общественным. Жертвуя своим, человек приучается цензурировать себя и идти на социальные компромиссы. А что еще делать? Увы, социальные суперструктуры (квазиструктуры) действуют «по-крупному», и мы – смиряемся. Всегда и везде ими ставится перед нами, причем довольно жестко, всего 72 Разрыв повседневности лишь один незамысловатый вопрос. Причем он ставится постоянно, он вырастает изнутри нас как навязчивый и непрестанный выбор. Гениальное наблюдение, которое я постоянно вспоминаю. Ж. Бодрийяр как-то на страницах своей работы «Символический обмен и смерть» бросил одну замечательную фразу, которая и раскрывает, по моему мнению, «интригу» действия социальности. Фраза такова: «Каждый раз, когда звонит будильник, я делаю выбор. Выбор между жизнью и смертью». Это означает, что каждый раз, когда звонит будильник, я выбираю между тем, чтобы вписаться в социальный ритм или из него выпасть. Альтернатива довольно проста и незамысловата: если я проигнорирую сигнал, то, в конечном итоге (выстроить последующий маршрут биографии довольно не сложно), выбираю «социальную» смерть, которая совпадает с физической. Понятно, что я постараюсь выбрать жизнь, и такой выбор ставится перед нами постоянно, в любой ситуации, при любом нашем действии: мы соизмеряем принятое решение с социальными последствиями, а потому всегда выбираем жизнь, т.е. фактически «рабство» в плену у социальных инстанций. И на этот прессинг социальности и, соответственно, на невозможность «выпасть» из социального принудительного порядка хоть иногда стоит обратить внимание на то, что при обращении к мировым религиям, которые преодолевают родовые и племенные пристрастия, крайне важным становится положение, согласно которому каждый человек сам принимает завет, связывающий его с Богом. На этом – первоначальном – действии и выстраиваются личные отношения человека с Богом: Бог не отрекается от человека и в минуты его слабости, но все начинается именно с личного завета человека. И здесь не может быть речи о том, что часть этой ответственности за себя можно переложить на кого-то другого. Слабость начинает проявляться там и тогда, где и когда человек снимает с себя ответственность за свои действия или свое бездействие. В конце концов, дело обстоит так: безответственность, всегда проистекающая от слабости, не связана с безответственностью других людей. Личная позиция – не заменима потому, что она не может быть отменена. И даже тогда, когда кажется, что сил нет и истощение такое, что не за что зацепиться, надо делать то же самое – трудиться. Трудиться уже не просто в меру сил, а Глава I. Сознание 73 через «не могу». Надо понимать, что за нас самих личное никто не выстроит. Без личного отношения к своей жизни мы проживаем чужую жизнь, а до своей жизни можем и не добраться. До собственной жизни еще нужно дожить. И не каждый доживает до свой жизни, проживая чужую жизнь. Я – не то, я – не это… но где же «я», где моя собственная жизнь, где мое собственное? Собственное – это то, на что распространяется моя мощь как мощь Единственного (М. Штирнер)? Или то, что освоено в режиме аутентичного проживания (М. Хайдеггер)? Может быть, тогда, когда «вопреки» и «назло», мы ускользаем от действия дисциплинарных, социальных, культурных, идеологических и т.п. машин, когда восстаем против того собственного «я», которое живет чужой жизнью, проживая свою? Много, ох как много дорог к себе и от себя! Путей к своему «я», как и путей к Богу, не счесть, и они, пока мы еще живы, есть еще один аспект проблемы внутренней свободы. Наш современник приучается рассматривать себя преимущественно внутри контекста своей реализации. Возможность реализации связывается им с «нужностью» человека и умением ее находить. «Прилив крови» ощущает именно тот, кто становится необходим другим: не осознавая своей необходимости, связанной с социальной потребностью, человек начинает чахнуть. Иначе говоря, то, что подразумевается в качестве значимого, обязательно должно получить социальную оценку и социальное одобрение. В этом кроется парадокс: с необходимостью себя человек сталкивается вне себя – в обществе. Нужность человека определяется не им самим: она обретается по мере его вхождения в социальные связи. Отсюда не далеко до утверждения, что вне социума человек себя не знает и знать не может, но тогда вопрос о свободе для каждого из нас может пониматься только в связи с возможностью интеграции в общество. С самим собой – напрямую и вне общества – человек свободу не связывает, а значит, способен пожертвовать своим, отказаться от него. Событие отказа от внутренней свободы становится симптомом жизни подавляющего количества наших современников. 74 Разрыв повседневности Облегченное, если не сказать примитивное, отношение к свободе соотносится с тем, что человек не считает нужным платить за нее собой, т.е. своим напряжением. Однако за все надо платить: свобода, как и все, за что мы не расплачиваемся, нами не ценится и не может быть воспринята как нечто значимое. Обратим внимание и на то, что нужность кого-либо по преимуществу определяется, исходя из некоторой перспективы нужды и заботы, когда все понимается не само по себе, но только в своей опосредованности и обусловленности. Говорить о самоценности этого «некто» в этом случае не приходится. В этом контексте свобода – вещь не самоценная. Сама по себе свобода прячется и уклоняется от схватывания и удержания. Она, как Протей, вечно изменяет свой облик. Ее облик – постоянная смена облика. Но без нее – нет человека, а есть лишь социальный механизм. Свобода – это то, что, счищая с нас «коросту» необходимости и рабства, позволяет хоть на миг стать собой, вопреки тому рабству, которое мы выстраиваем внутри и вне себя, которое сладко в своем бессилии. Свобода – как Ничто – внутри нас, разрывая редуты повторов и обязанностей, нисколько не обременительна, ибо ее полезность рассчитать невозможно. Свобода как таковая никому не интересна и не нужна. Мы к ней уже отнесены любым своим выбором. Ее нужно просто принять. Однако ввиду того, что о свободе как таковой размышлять крайне трудно, рассуждают о ней, прибегая к ее содержательному наполнению: о ней говорят как о свободе (от) «кого-то» или о свободе (от) «чего-то». СВОЁ Если человек в себе, то он вне истории, так же как и кантовская «вещь в себе» – вне природы. Если человек живет сугубо собой и отдает себе отчет в этом, то участвовать в истории он не может. В историю попадает тот, кто не может и не хочет попасть в себя или хочет из себя выпасть. Выстраивание истории из своей жизни – в форме рассказа, биографии и мемуаров – связано с отказом от себя в угоду чему угодно; например, времени и культуре, нации и государству; словом, всему тому, что человек готов принять в качестве своего начала вне себя. Участвующий в истории человек стремится отождествить себя с некоторой группой, пытаясь таким образом обрести своѐ начало. В такой квазипредметности он получает временную историческую передышку и возможность нахождения «своих» людей. Явное большинство втянутых в историю людей, втянутых в нее своим отказом от своей субъективности не только не живут своей жизнью, но и не считают возможным стремиться к этому, а если это и происходит, то это воспринимается ими в качестве «атак паники» и фобий. Без последствий отказ от себя не обходится. Без последствий отказ от себя Найти «себя» и «свое» и ускользнуть. Весь вопрос о «своем» и о «себе» в том, «кто» отдает приказ. В этом же вопросе инфицировано ускользание. Кто этот «кто» и где найти в уходящей в бесконечность череде отсылок этого «кто»? Бесконечность отсылок: каждый шаг, каждое движение отражения и отскока – это все тот «кто», который одновременно и «я», и «не-я». А по- 76 Разрыв повседневности тому и задача: ускользнуть от «не-я», взломав и распылив ту его личину, которая принимает вид «я», вид «своего». Ускользнуть от власти социальных машин, различного рода инстанций и институций, прячущихся в облике «я». Без различия, выстраиваются они изнутри, как, например, «наше» желание или стремление, или извне – как включенность в общественный или культурный институт, национальность, классовость и т.п. не обходится. Человек периодически испытывает на себе воздействие желания сбиваться в группы. Вероятно, это происходит по причине того, что он является существом, организованным множеством привходящих и исходящих потоков. И потому он может рассматривать себя в качестве элемента другой среды, т.е. как элемент социального континуума, где отдельные части как-то «прилажены» к другим частям ввиду испытываемого ими обоюдного влечения. И потому человек может рассматривать себя в качестве элемента другой среды, т.е. как элемент социального континуума, винтик в машине, винтик в механизме, а значит, существует лишь приоритет механизма; приоритет целого. И именно из этого иногда мягкого, а подчас и довольно сурового, рабства пытается ускользнуть то «Свое», которое бережет свободу. Ускользнуть из сетей разного калибра структур, действующих как извне, так и внутри нас. Нет, конечно, это вовсе не означает, что человек ускользает в тотальное одиночество и замкнутость: важно в режиме аутентичности выстроить «Свое». Как говорил М. Штирнер в своей апологии «Единственного»: речь вовсе не о том, что не существует любви, дружбы, но о том, чтобы понять, твое ли это чувство, вырастает ли оно изнутри твоей самости или все это внушенное нам как наше, как свое. Речь идет об ускользании от включенности в суперструктуры, в «машины по производству и форматированию» нас и через нас нашей реальности, нашего мiра. Речь идет об ускользании от постоянной, но не всегда заметной в своей постоянности процедуры сборки. Социальная суперструктура, без различия, действует она изнутри или извне, не оставляет нам «своего», в лучшем случае – то свое, которое обеспечивает слаженность общего механизма, а Глава II. Свое 77 потому – не свое вовсе; не собственное свое. Для нормального, а потому внедряемого под различными соусами и личинами функционирования целостности более подходит режим das Man, но не режим аутентичного усвоения, а потому любые попытки выпасть из постоянных процедур дрессуры и «мягких репрессий» не оченьто приветствуются социальным пространством и социальными машинами. «Винтик» в механизме должен, прежде всего, выполнять свою функцию, а не задаваться вопросом о себе. В крайнем случае, ему позволят озадачиться вопросом о собственном месте в общем, выведенном за пределы любого сомнения механизме, т.е. о его месте и судьбе в общем организме целого. где отдельные части как-то «прилажены» к другим частям ввиду испытываемого ими обоюдного влечения. Если такая социальная среда сформировалась и определилась, то, помимо частных интересов, человек стремится к исполнению интересов коллективного тела, принося своѐ в жертву коллективу. Понятно, что такая установка блокирует идею индивидуального отношения к жизни и идею отдельного вообще. Надо заметить, что есть общества, которые гордятся тем, что, отрицая прошлое или сильно ослабляя влияние истории, они за счет этого, вроде бы, пребывают в настоящем. Думается, однако, что в этом случае речь идет не о настоящем, а о сегодняшнем дне, с окончанием которого все сразу исчезает из внимания живущих. Такое общество просто не может обходиться без новостей, где новость – своим появлением – отменяет все предыдущее. Новость воспринимается сегодня как нечто принципиально позитивное. Это связано действием установки, согласно которой прогресс понимается более приемлемым явлением, по сравнению с традицией. Новость выступает как сила, способная скомпрометировать и смести все, что угодно. Новость Довольно прихотливо действие механизмов включения в общие структуры, когда оно происходит как своеобразное паразитирование на базовых, онтических диспозитивах. Прекрасный пример этому – современная новость. В принципе, новость как таковая вполне вписывается в основные параметры информационной парадигмы современности. Информация, которую Н. Винер определял 78 Разрыв повседневности как чистое различие, как раз и есть по преимуществу новость. Но не это обстоятельство обеспечивает «живучесть» того внутреннего зуда, который материализуется в бесконечных вариациях новостного ряда. Новость «вырастает» изнутри, вернее – она требуется изнутри тем существом, которое ориентировано не на самоусвоение, но на потребление уже «прожеванного», прожитого и прочувствованного (das Man) другими. Это существо, которое чаще всего и именуется гордым именем «человек вообще», конечно, чисто биологически принадлежит к виду «человек», но никак не является масштабом, с помощью которого должно мериться и на каковой должны равняться все другие, столь же «прямоходящие, двуногие и, конечно, без перьев» (Платоновский человек). Человек начинается там, где кончается биология и физиология. И в этом отношении тот подвид человека, который требует и выращивает «новости», на самом деле довольно незначителен по месту и времени своего существования. Этот подвид человека – человек новоевропейской культурной традиции. Именно это существо и опирается в своем стремлении на новостной ряд и требует его как своего даже не наркотика, а воздуха для своего дыхания. А потому новость – но еще раз оговорим: лишь в формате этой самой новоевропейской культуры – важный конститутив. «Хлеба и зрелищ» требовали парии Рима, но никак не постоянно щекочущих нервы новостей. Скорее, новостей боялись и опасались, что слышится еще в известной английской поговорке: «нет новостей – уже хорошая новость». Поясню сказанное. На первый взгляд, новость в современном ее «формате» не приходит изнутри, ибо она часть общего «в той или иной мере» медийного пространства. Новости нам «доносятся» из газет, телевидения, радио, Интернета и т.п. Новость – чаще всего не наша новость, она приходит извне как система различий внешнего мира, где является неотъемлемой частью процесса коммуникации-завлечения-развлечения. Соответственно, характеристики новости как «части» внешнего, прежде всего выкроенного по лекалам медийного мира, его стиль и динамика, суть характеристики внешнего нам, но, конечно, тесно с нами связанного современного мира, нормативно внедряющиеся в нас этим самым внешним миром. Глава II. Свое 79 Вроде, все ясно и прозрачно. Но, во-первых, внешний мир – это и мой мiр, который я конституирую, а потому он с необходимостью отражает не только чисто «внешние даты», но и меня самого, обживающего этот мир. Во-вторых, сам процесс внедрения «новости» довольно любопытен и проявляет, скорее, не внешний аспект новости как таковой, а то, как она вырастает из нас самих. А потому не только мы форматируемся новостью, но и сама новость – есть способ нашего внутреннего бытийствования. Мы требуем новостей, и дело не только в том, что подобный императив – это стилистика «оживляжа» нашей скуки. Хотя, конечно, и это есть, что греха таить: новость развлекает и отвлекает. Но самое существенное в новости – это то, что наркотик новостного ряда, являющийся необходимой динамикой внешнего медийного мира, вырастает, паразитирует и выстраивается важнейшим новоевропейским онтическим конститутивом. Этот конститутив выражается в том, как новоевропейский «вид» человека определяет сам себя. Для новоевропейца человек – не статичное и навеки определенное живое существо, человек для него – это сущее, которое выходит за пределы самого себя, постоянно и неизменно взламывая любую свою форму. Конечно, подобную динамику превосхождения можно свести к общей характеристике живого существа вообще или, по крайней мере, приписать ее свойствам человека вообще. О том, что подобная динамика свойственна живому вообще, говорил еще в девятнадцатом веке А. Бергсон, отмечая, что живое постоянно творит новые формы, а эволюционный процесс, в который погружено все живое, как раз и демонстрирует подобную динамику взламывания границ и превосхождения (т.н. «творческая эволюция»). Довольно подробно о том, что человек – существо, разрывающее границы, а потому упразднение любых ограничений является характерной особенностью человека, говорили представители философской антропологии (Шелер или Плеснер), отмечая т.н. эксцентричность человека. Она заключается не в том, что он постоянно «выделывает разные неожиданные коленца, а это – экс-центричность, т.е. процесс постоянного помещения своего центра вне себя самого. Помысленный в этом ключе человек обретает свою определенность именно в результате постоянного взламывания любых заданных и зафиксированных границ. Таким образом, в том, как новоевропейская культура определяет человека, речь фактически идет об инфицировании постоянной 80 Разрыв повседневности новации, т.е. о постоянном стремлении к превосхождению данного; о том внутреннем беспокойстве, которое неизменно выталкивает человека из любой фиксированной данности. Я не склонен полагать, что указанный импульс, эк-статичность – некий онтологический принцип живого или человека вообще: в разных культурных образованиях бывает по-разному. Приведу лишь одну цитату из работы «Миф машины» Л. Мэмфорда: «Традиция была гораздо ценнее изобретений. Удержать и закрепить самый маленький успех значило больше, нежели добиться новых, с риском забыть или потерять старые»1. Но вот то, что подобный императив, а именно – императив постоянного беспокойства, неопределенности и новации, является конститутивом новоевропейской культуры, мне кажется несомненным. И в этом ракурсе новость как таковая вполне вписывается в подобную динамику развертывания существа человека с позиции европейской культуры. Она, новость, без сомнения согласуется с той внутренней «силой», с «ритмом сердца», с напряженной нацеленностью на взламывания прошлого и данности, которые характерны для самоопределения современного европейца. Мы вписаны в мир новостей потому, что их ритм согласуется с нашим «пульсом» культуры, потому, что новость вырастает как настоятельная потребность все убыстряющегося темпа нашей внутренней динамики… А то, что она становится вполне внятным императивом медийного мира и мы «тоскуем» в ситуации отсутствия новостей и требуем их, как требует «идейная блондинка» постоянной смены фасонов моды, – это дело десятое, если не двадцатое в культуронтической перспективе… воспринимается силой, способной скомпрометировать и смести все, что угодно. Новость «устроена» так, что в сознании человека, к ней обращающегося, последнее по счету отождествляется с последним по важности, т.е. с чем-то наиважнейшим и самоценным. В момент появления новости она всемогуща; правда, только до следующей новости. Новостей ждут, и в ответ на такие ожидания 1 Мэмфорд Л. Миф машины. Техника и развитие человечества. М.: Логос. 2001. С. 135. Глава II. Свое 81 возникает целая индустрия производства и доставки новостей до потребителя. В таком обществе затруднительно говорить о какой-то бы то ни было реальной связи между прошлым и новым. В ситуации, когда момент отрицания более важен, чем момент преемственности, настоящим не живут. Все «настоящее» сосредоточено на острие стрелы времени, забегающей в будущее и устраняющей настоящее, а человек учится размещать свое существование в разрыве между настоящим и будущим, собирая себя в ускользании и преодолении того, что есть. Движение жизни, сориентированное на свой конец, с которым, собственно, и связывается появление новости, приводит, конечно, не к развитию, а, скорее, к распаду. В ситуации отказа от «продления» настоящего за рамками момента выстроить какую-либо преемственность действий и, тем более, мыслей и обдуманных решений – в виде систематической работы – просто невозможно. К тому же все это накладывает негативный отпечаток на любую традицию и социальные институты, ее продолжающие. Не будет большим преувеличением сказать, что феномен новости подрывает устои социальных институтов. Такой гиперпрогрессистский взгляд на развитие рвет нити, связывающие человека со своим прошлым, к которому не приложить ни сил, ни умений. Человеку не за что зацепиться, ибо отсутствует трение между вниманием человека, в которое он весь целиком вместился, и жизнью. Ввиду того что он не может сосредоточиться ни на чем – ни на своем, ни на чужом, – все предельно фрагментизируется. Ввиду того что он не может сосредоточиться ни на чем – ни на своем, ни на чужом, – мир уже гиперкосмополитичен. Но это не означает, что происходит взаимообогащение, что культуры становятся «пестрее», вбирая в себя чужое, включая его в себя как свое собственное. Как не означает это, что каждый становится повсюду дома… Вроде, так оно и случается… Мы путешествуем по миру и видим далекие страны…Но, странствуя по миру, мы заходим в одинаковые аэропорты, проходя в целом идентичные процедуры перемещения границ, садимся в самолеты, преимущественно Boeing с одинаковыми 82 Разрыв повседневности рядами кресел, останавливаемся в одинаковых до «неприличия» гостиницах, где на завтрак нас ждет привычный йогурт, яичница и тостер с беконом… Вроде, так оно и складывается… Мы обустраиваем свои дома-скорлупки в согласии с нашим индивидуальным желанием и иногда – вкусом... Но дома у нас всех единый стандартный набор удобств от холодильника и стиральной машины до мониторов телевизоров и планшетников… Оказываемся ли мы при этом вне дома, глядя на мир из автобуса с затененными стеклами и кондиционером? Не перекодирует ли то чуждое и иное, которое «глядит» на нас через «броню» глянцастекла, современная незримая медиальная среда стекла в привычно-близкое? Не кастрируется ли его сущностная и враждебная для нас вирулентность? Не переформатируется ли в этом случае тотальная инаковость в средство для разгона скуки? А та гостиница, в которую мы без промедления ныряем из автобуса с «утвержденным перечнем» удобств и набором возможностей для релакса, становясь на несколько часов нашим спальным местом, дом ли это? Вопросы, на которые так не сложно ответить: нет… Но тогда где свое, в мире гиперреализма и гиперкосмополитизма? Чужое не становится своим, скорее, наоборот – свое становится не своим, пройдя процедуры обязательной перекодировки. Дом как символическая укорененность и даже таинственность выворачивается наизнанку и оказывается предельной зримостью и номадностью. Движение, которое охватывает мир, – это не движение обогащения опытом другого, а ликвидация другого и, соответственно, ликвидация самого себя, своей укорененности и идентификации. В нашем современном мире мы постоянно сталкиваемся с «атакой» на прежние идентификационные регламенты, причем не со спланированной «агрессией» по модели рационально тематизированного «заговора» перекодировки, а с вторжением, происходящим как-то очень незаметно и даже буднично. По сути, речь идет об атаке на идентификационные модели прежней сборки реальности и человека. Причем у нас нет возможности избегнуть ее, ибо она – повсюду. То есть мы сталкиваемся с неотвратимостью вторжения в самое сокровенное и будничное, поскольку происходящее фундируется на онтических процессах. Эта атака направлена как на нас самих, так и на наш мир. Прежде всего – на вещность вещей, окружающих нас и являющихся «оплотом» и «союзником» челове- Глава II. Свое 83 ка. В результате этой атаки все сущее – и человек, и его окружение – просто рассыпается на фрагменты, не обладающие уже идентифицирующе схватываемым «раствором» целостности. Наш мiр рассыпается на кластеры-фрагменты, обладающие лишь сиюминутной, мгновенной спаянностью, которая ситуационна и тут же снова может распасться, ибо век жизни кластера – мгновение «передачного» усилия. Но усилия не по сборке новой целостности, а по постоянной разборке любой целостности как таковой…Нет усилия, которое удерживает мириады сингулярных блоков, кластеров, пространств, сообществ и т.п. – и нет кластера… а только череда чистых различий, моды и новостей… все предельно фрагментизируется. Констатируем, что новость оказывается удобным способом отказа от сложности жизни, и в первую очередь – сложности своей жизни, ибо жизненная ситуация, замкнутая в параметры новости, изымается из условий ее протекания, когда обрубаются все ее многообразные и многоплановые связи с другими ситуациями. Новость ставит жизнь в «новостной» контекст протекания, где жизни придается характер момента. Существенной приметой эпохи новостей становится спешка, когда скорости установления наших отношений с другими людьми и с явлениями жизни все возрастают и возрастают. Человека занимает все, что угодно, только не он сам. Вот он и занят всем чем угодно, но только не собой; только не своим. Похоже, что наши занятия во многом направлены на то, чтобы как раз не устанавливать с собой отношения, а, напротив, сбегать от себя. Все существо человека оказывается сосредоточенным между тем, что его интересовало чуть ранее, и тем, что привлекает его внимание ныне. Любая остановка в спешке, задаваемой новостью, грозит человеку «выпадением» в тираж, когда становишься никому не интересным. Интересы же обретаются именно «на бегу». Ориентация человека на последнюю новость, отменяющую предыдущую, которая сама будет оттеснена завтрашней новостью, показательна. Вроде бы, стоит порадоваться представившейся возможности, обратить на себя внимание, ввиду того что ты вдруг стал никому не интересен, и обратиться именно к себе самому. Однако стать новостью для себя довольно трудно. 84 Разрыв повседневности Однако стать новостью для себя Стать новостью для самого себя, увидеть в себе «ростки нового» или «смерть старого» – большая редкость и, наверное, большая удача. Конечно, дело не в том, что мы не способны вдруг увидеть в себе какие-то изменения и отрефлексировать произошедшее. С этим все, как правило, в порядке: пробивающаяся седина или все больше блестящая лысина, скрип в суставах, синяки под глазами после «бурного» веселья – все это постоянно нам подтверждает не очень «простую» мысль Ж.-П. Сартра, что человек – это то сущее, которое не совпадает с самим собой. Ибо совпадает с самим собой лишь то, что уже не является человеком, например предмет или труп. С этим, повторим, ощущением изменения, а значит, с постоянной рефлексией над некоей новацией, отражающей дрейф нашей биографии, все, как правило, у огромного большинства живущих «в порядке». Как раз не «в порядке» бывает тогда, когда человек не видит изменений и не отдает себе в этом отчет, хотя, конечно, и эта «инфантильность» случается. Проблема несколько в другом. Поясню. Я всегда считал за большое счастье, когда, прочитав – не очень этим увлекаюсь, но приходилось – какой-нибудь свой текст, я приходил к мысли: «Какой я глупый или наивный был тогда, когда писал этот текст!». Причем тогда, когда я его «творил», был в принципе доволен и уровнем, и теми мыслями, переживаниями, которые в него вложил. Ощутить себя «идиотом» многого стоит: именно это ощущение способно подтолкнуть к дальнейшему движению, к дальнейшим, более углубленным размышлениям. А потому так важна, по моему разумению, способность «ощущать» в себе самом ограниченность и смертность прошлого, уже пройденного и прожитого, а также ценность нового, которое способно кардинально разорвать с прошлым, а не быть лишь его «послушным» следствием-слугой. Преемственность по отношению к прошлому, конечно, «прекрасна», но не менее «прекрасен» разрыв, отстояние от прошлого. Мы изменяемся, как и изменяется тот мир, который наш окружает и который мы создаем. Но подлинное изменение – в четкой фиксации того, что наше прошлое и мы в прошлом уже не ценны, а даже в чем-то ущербны. Наверное, это – то, к чему следует обратить свои душевные силы. Глава II. Свое 85 Но не только. Стать новостью для самого себя может означать и не совсем приятное. Новость как «экзистенциал» das Man, новость как свойство «последнего человека» (Фр. Ницше) – не самое лучшее, и на нее не следует ориентироваться, ибо через телос, который помещен в горизонт «последнего человека», и das Man мы и становимся этими не совсем мне симпатичными «персонажами». Однако всегда велик шанс, что в погоне за открытым будущим и превосхождением мы сделаем из себя ту новость, которая штампует в нас и из нас придаток «новостного ряда», погружая нас в стихии безмыслия и бездумия. И тогда цель социальных машин, старающихся смонтировать из нас бесшумный, без трения и издержек винтик социального организма, вполне реализована. Именно такова стратегия моды: именно через погружение в стихию моды я буду постоянно изменяться, день за днем вписываясь в постоянную череду одного, а потом другого модного и броскокричащего безмыслия. И тогда я оказываюсь новостью для самого себя, неким ходячим журналом с модными видами (от одежды и машин до стиля поведения и соответствующего лексикона). К этому ли жесту, протекающему под эгидой новизны, стоит стремиться? Стать обычной новостью, перекодировать себя в новостной ряд и тем лишить себя шанса «достучаться» до себя? Не уверен, что стоит стремиться вписаться в подобный «новостной ряд», хотя, конечно, «поиграть» с рефлексией, которая выстраивается между мной и мной-как-новостью, мной-какновостью и мной-как-ставшим-другим и т.п., наверное, интересно в формате философской рефлексии. Тем более что маршрут, выстраиваемый в этих рефлексивных прыжках, может напомнить прихотливую «диалектику» чужого у Сартра. Однако если мы вспомним сейчас, что есть и иная Новость, которая не очень вписывается в ряд «новостного ряда» современности, или будем все же удерживать в нашем размышлении новость, четко обозначая ее вирулетный характер, прорисовывающий мир das Man и «последнего человека», при этом не поглощаясь этим миром несобственности, то, скорее всего, стоит… А потому пройдем кратко эти два маршрута… Я схватываю себя как новость, т.е. как то «сущее», которое не обладает собственной аутентичностью, как то «сущее», которое вписывается в современный социальный ритм чистых различий 86 Разрыв повседневности (мода). Но если я в силах увидеть в себе действие этих механизмов, заражающих меня логикой «последнего человека», заставляющих конституировать мой мiр как мiр das Man, если я могу посредством моего мышления дистанцироваться от них, то этим жестом я прекращаю действие механизма, который рассчитан лишь на «безмыслие» и «инстинктивное» включение в пространство средств массового «бытийствования». Осознание в себе отстраненности от новостного ряда, даже когда мы, вроде как, «не непосредственно» включаемся в него, например, проводя рефлексию о своей включенности: вот что я учудил и собрал тысячу лайков в соцсетях(!), осознание в себе тотальной дистанцированности от этого пространства, может быть, даже ироническое отстранение от включенности в эту стилистику современности – такое осознание новостного ряда ликвидирует сладкое рабство подчинения общему дрейфу постоянно играющих различий динамики моды современного «последнего человека». Однако возможна и другая ситуация: новость не как новостной ряд, а как подлинная весть, как то, что случается редко, как то, что способно поразить, потрясти и – как минимум – заставить задуматься. И это, я думаю, тот случай, когда новость становится Новостью, тем, что способно привести меня самого к себе самому. Ибо в этом случае я вдруг обнаруживаю в себе то, что не видел раньше, что потрясает и заставляет размышлять о том, кто я, кто я был в прошлом, куда я шел и иду, чем я стал и становлюсь, наконец, о том, где я и кто я тогда, когда я постоянно исчезаю, изменяюсь, ускользаю или внезапно являюсь в облике чужого перед своим собственным взглядом… довольно трудно. Без сформированных навыков рефлексии это можно сделать, разве что впадая в экстравагантность и искусственное одурачивание себя самого. «Новостной», т.е. перманентно новый, человек приучается сосредоточиваться сугубо вовне себя – в среде чужого. Чужие чувства, чужие страсти, чужие действия, чужие произволения – вот то, что становится интересно такому существу. Человек последовательно и без остановки начинает занимать себя чужим, желая быть занятым и занятным. Он и объединяется с другими по принципу своих занятий, своей занятости и своей занятности. Глава II. Свое 87 Непроясненность своего толкает такого человека к отождествлению своего поведения с групповым поведением и выталкивает его к компаниям. Без компаний и компанейщины ему теперь просто не обойтись. Если их вдруг не находится, то человек впадает в уныние, а попадая в компанию, вдруг оживает. Именно атрофия своего понуждает с легкостью и радостью поддерживать любую компанию. Нетрудно понять, что такое незнание себя и нежелание заниматься этим легко может использоваться извне в корыстных интересах. Развиваясь, любой человек вынужден отличать себя от других и отличаться от себя – прежнего. Иначе говоря, он не может не идти на различение себя. Солидаризируясь, человек объединяется с другими людьми, когда возникновение социальной идентификации позволяет ему – на какое-то время – не изменяться и избегать внутренних трансформаций. Однако признаем, что, не изменяясь, трудно полагать, что знаешь именно своѐ: можно ошибиться в знании того, что своѐ, а что – нет. Дело в том, что человек склонен примеривать к себе разные социальные «одежды» и «роли», однако, наряду с теми одежками и ролями, которые мы примериваем, всегда есть еще и другое. Дело в том, что человек склонен примеривать к себе разные социальные «одежды» и «роли». Социальные роли и одежды – это мера нашей включенности в социальный механизм, причем та мера, которую можно избегнуть и которая лишь безучастно «немым» укором «стоит в стороне», а то, что штампует нас даже тогда, когда мы об этом не думаем и не догадываемся. Социальные роли – это та инфекция, которая вызывает сущностную мутацию нашей самости. Старая сказкамиф про Прокруста и его ложе как иллюстрация действия подобных «одеяний» – лишь отчасти описывает их действие: у кого-то отрезают ноги, а кому-то растягивают сухожилия. Социальная роль и одежда, во-первых, не тот «прикид», который можно просто и без последствий сбросить или заменить на другой, ибо речь идет о постоянно действующем «Прокрусте», изменяющем нас, «вытягивающем» или «уменьшающем» нашу социальную «телесность». Как и любая длительно практикуемая асана, социальная роль форматирует по своему образу и подобию любого, кто ее принимает. А постоянное, хотя иногда и незаметное присутствие другого, взгляда другого, который инкорпорирован в наше «зре- 88 Разрыв повседневности ние», делает этот процесс перманентным. Нам не удается остаться наедине с самим собой, даже если рядом никого нет: мы прекрасно научились «создавать» Прокруста везде, где находимся. Не случайно мы испытываем почти те же «фобии» и соблюдаем те же «табу» как тогда, когда находимся в социально зримом сегменте, так и тогда, когда вдруг оказываемся в «слепом» для социуме поле. Свой социум и свою культуру мы всегда «носим» с собой. Причем действие социальных машин затрагивает нас целиком, вторгаясь в «физиологию». Например, многих из европейцев «вывернет наизнанку» от съеденного таракана как в присутствии своих близких, так и в полном одиночестве. Хотя представители некоторых азиатских народов преспокойно уминают их в жареном виде как «семечки» на людях и наедине с самим собой. Социальная одежда одевается изнутри нас. Социальная роль не играется: она проживает в нас свою жизнь. Социальная роль иногда почти буквально трансформирует даже нашу телесность: осанка властности, сгорбленный «позвоночник» подчиненного … перечисления можно продолжить… Социальная роль задает ритм нашего сердца и дыхания… Не говоря уже о том, что и роль, проживающая нас, и одежка, одеваемая нами, постоянно через телос нашего экзистирования, выстраивая определенный стиль и вид нашей заботы, создают и мир, нас окружающий нас, и, в первую очередь, нас самих… Ибо телос – то, что формует нас. А потому бесконечно был прав Аристотель, как раз и выделивший как одну из причин приведения сущего к своему бытийствованию цель (телос), или, как говорит сам Аристотель, «то, ради чего»… …Именно через цель, телос, запускается, продолжает запускаться механизм нашего «вписывания», нашего «включения» в общий социальный механизм. Именно цель «включает рубильник» механизма, который внедрен в нас социальными инстанциями и институтами, заботливо и непрестанно подправляемый в своем функционировании как нами самими, так и самим механизмом. А потому и роли, даже если они меняются с немыслимой быстротой, и социальные одежды, постоянно обновляемые механизмом «социальной моды», ничего не меняют. Как в эпоху новостного драйва нет новостей, и только лишь лакуна в новостном ряде способна стать подлинной новостью, так и постоянная смена социальных Глава II. Свое 89 асан, ролей, одежд не меняет то, по сути одно единственное, «платье», которое мы осуждены носить. Нет, конечно, можно сделать яркий и вызывающий жест: снять одежду. Но вот в чем «грусть» подобного жеста: с одеждой придется содрать нашу кожу, которая уже давно стала нашей одеждой. Да и результат этого жеста может озадачить: под кожей-то ничего нет… Нет, конечно, можно сделать не менее шокирующий жест: отказаться от роли. Но вот в чем «грусть» подобного жеста: вместе с ролью мы удалим и нашу жизнь. Да и результат этого жеста может озадачить: а жизни-то никогда и не было, если под жизнью не понимать «шорох» информационных потоков или – другая традиция – скандх… однако, наряду с теми одежками и ролями, которые мы примериваем, всегда есть еще и другое. Есть иные «роли» и иные «одежды», но есть и сам человек, т.е. мы как таковые, и это ко многому обязывает. Похоже, что у многих наших современников выработан рефлекс на сенсацию, связанную с разоблачением, неважно кого оно касается, и сформирована потребность «подпитывать» себя такого рода информацией. Рост разоблачений и резкое снижение потребности защитить разоблачаемого человека, связанной с принятием на себя части социального удара, конечно, взаимосвязаны. Заметим, что на единичные факты подобной защиты общество реагирует с раздражением; уже не с глухим, а именно с нескрываемым раздражением, переходящим в агрессию по отношению к тому, кто способен на такой поступок. Знающему группы и компании не нужны, и потому само существование всевозможных групп и компаний его не трогает, тогда как незнающий без них себя не видит. Попадание в группу и периодическое к ней приобщение позволяет, видимо, откладывать встречу с самим собой на «потом» и «позже». Своѐ в группе обретается исключительно путем сравнения с другими людьми. Находясь во власти заблуждения по поводу знания себя, такой «групповой» человек искренне полагает, что он знает нечто особенное, дающее ему 90 Разрыв повседневности право на экстраполяцию своего отношения к жизни – в отсутствие знания себя – на жизнь других людей. Полагая, что он посвящен в тайну, подпитываемую сюжетами группы, он упорствует в том, чтобы поучать людей: именно не учить другого, а поучать его. Дело в том, что знание требует самозабвения и систематического, т.е. последовательного, отношения к другому человеку и образу человека вообще, а потому способно иногда привести того, кто учит, к самому себе, от чего избавлен поучающий. Заметим, что можно учить тому, что сам знаешь, но не считаешь сугубо своим, но можно учить и своему. В первом случае не так уж важно, кого ты учишь, во втором же знание будет передаваться тобой немногим и даже единственным, ибо это – твоѐ знание, и отдавать его, походя, ты просто не сможешь. Сегодня человек стремится соответствовать публичным ожиданиям. Вероятно, в существенной мере это происходит потому, что он не уверен в себе и испытывает страх перед неожиданной встречей с собой, если она не санкционирована социумом. Вот он и связывает себя со средой различных ток-шоу и социальных сетей. Вот он и связывает себя со средой различных ток-шоу и Цитата из мультфильма «Трое из Простоквашино» – «С ума поодиночке сходят. Это только гриппом все вместе болеют» – полностью опровергнута современностью: социальные сети, сериалы, ток-шоу и т.п. демонстрируют тотальное и всеобщее безумие… Посмотрим, для начала, на ту «заразу», которая транслируется с экранов в виде сериалов для разношерстной, или, как говорят, широчайшей, аудитории. Конечно, к сериалам наш современник уже как-то давно «приспособился» и даже как-то с ними сжился; засасывающий, а вернее, «всасывающий» характер современного оболванивания все же настораживает. В феномене сериала мы сталкиваемся с реально осуществленным в нашей жизни сюжетом, который в «451 градусе по Фаренгейту» Рея Бредбери. Напомню, что в романе Бредбери среди домашней обстановки обывателя неотъемлемой частью интерьера значились т.н. «соседи», или постоянно транслирующийся «сериал из жизни». Когда-то лет 40 назад в тогда еще социалистической реальности подобный сюжет воспринимался как фантастический. Наверное, не только тогда, когда я прочитал этот текст, но и во времена написания романа современникам Глава II. Свое 91 прозорливого фантаста не очень верилось в то, что градус отказа от своей жизни и включения в однообразный ритм и сюжет сериалов будет просто «зашкаливать». Но сериал не возникает на пустом месте: наркотизм сериалов (иначе это не назовешь) культурно, а значит – культуронтически укоренен, как столь же основательно укоренен другой «наркотик современности», а именно – тотальная и постоянная включенность в новостной ряд, о которой мы уже говорили. В чем-то сериал – это идеальная, а потому идиотическая, новость, т.е. идеальный идиотизм динамики чистых различий новостного ряда, доведенный до своей «кристальной чистоты»: в сериалах при бесконечных перипетиях, «трагических» и «комических» переменах ничего не происходит. Сериал застывает на месте, бесконечно проигрывая свою «изюминку», «сгенерированную», заточенную под определенный кластер аудитории, которая как раз и зацепляет эту аудиторию и не дает соскочить с наркотической иглы включенности в то, что и так уже давно этой аудитории известно. Конечно, сериал – ибо речь идет о массовом, а значит, дорогостоящем продукте массмедиа – экономически оправдано сочетает как свое алиби два момента: детскую тоску по одной и той же сказке и юношескую тягу к постоянным новациям и изменениям, чередуя их между собой. Таким образом, сериал как таковой связан с бесконечно изменяющимся, но неизменным status quo; с бесконечной вариативностью неизменного. Однако «место жизни» сериала – телеэкран и диван перед «ящиком». Но к сериальности телевидения современность добавляет и другие, скроенные по тем же параметрам, феномены. Более нов и еще не очень освоен другой сериальный, по своей сути, «наркотик» – т.н. социальные сети. Прежде всего, это – Facebook и его аналоги в России: Вконтакте и Одноклассники. «Декларативно» и на уровне риторики, призванной успокоить потребителей данного продукта, позиционирующих себя как более независимые, чем пассивные, потребители телевизионных шоу, социальные сети представляют собой попытку превратить преимущественно коммуникативное пространство Интернета в зону индивидуального проживания. В результате вроде происходит своеобразное массовое обживание Интернета, когда уже каждый желающий, не владеющий возможностью создавать собственные сайты-дома в Интернете и не знакомый с программированием, может довольно просто получить вожделенный в эпоху виртуальной реальности статус «существующего». Ибо, что ни говори, поговорка «кого нет в Интернете, того вообще нет» «давит на подсознание» мил- 92 Разрыв повседневности лионов ныне живущих. Но, в отличие от торговли, производства, государственных структур и т.д., которым сейчас подчас нормативно вменено присутствие в сетях виртуальной реальности, само население пока преспокойно обходится без жесткой фиксации своего присутствия в Интернете, довольствуясь той «инфраструктурой», которая создана при их минимальном участии. Во многом именно благодаря всеобщей массовой пассивности и тотальной компьютерной «безграмотности» индивидуальный топос-сайт долгое время оставался практически недоступным топосом для основной массы пользователей. В этом отношении Интернет оставался зоной, в которой «резвились» различного рода суперструктуры, торговля, государственные институты и инстанции, но никак не обыватель-пользователь. Конечно, уже достаточно давно среднестатистический европеец пользовался в своей повседневной жизни и работе электронной почтой, утолял жажду новостей не из печатных изданий, а преимущественно на сайтах новостных агентств, покупал продукты и товары, используя ресурсы виртуального мира, но это вхождение в виртуальный мир было довольно пассивным и «однонаправленным». Иными словами, вход во всемирную паутину Интернета среднестатистической «индивидуальности» был довольно долго закрыт, исключая тех немногих «счастливчиков», которые имели возможность создать собственный топос; собственное сайт-место, каковых, собственно говоря, было довольно немного: продвинутые пользователи, знаменитости, журналисты. Ситуация резко меняется тогда, когда появляются т.н. социальные сети. Отныне, обладая не очень сложными навыками работы с компьютером, любой желающий может «родиться» в Интернет-пространстве, зафиксировать свое «Я есть» в мире высоких технологий и в мире не вполне реального времени. Можно сказать, что простой обыватель, наконец, застолбил себе собственное пространство в виртуальном мире и стал его обживать, перестав быть лишь сторонним наблюдателем или пользователем виртуальной реальности. Он, обыватель, коротко говоря, получил свой шанс включить свою обезличенность в число действующих «игроков» Интернета. А потому – стремительный взлет числа пользователей т.н. социальных сетей, а в некотором смысле – полноправных жителей виртуальных «государств» Facebook, Twitter, Вконтакте, которыми отмечено последнее десятилетие. Das Man начал обживать виртуальное пространство виртуального мира. В этом отношении Интернет потихоньку становится в чем-то «человечнее», ибо Глава II. Свое 93 обживание его происходит уже в бытовой форме и в массовом порядке. Все это, конечно, не так уж плохо, ибо изначально заточенное на «чистую» коммуникацию и коммерцию виртуальное пространство, вроде бы, приобретает черты вполне человечной «кухни», «спальни», «гостиной» и т.п. Бесчеловечно технологичный Интернет все больше и больше «перекодируется» суетливостью человеческого присутствия. Вместе с тем не стоит слишком оптимистично смотреть на процедуры очеловечивания и обживания Интернет-реальности современности, ибо здесь все не так однозначно и позитивно. Не будем забывать, что социальная сеть – это все же Интернет- пространство, а потому именно технологии виртуального мира задают модель нашего доступа в это пространство, а также контролируют меру нашего в нем присутствия и возможных действий. Прежде чем «заселить» свой виртуальный топос, мы «пропускаемся» через «сито» условий, параметров, требуемых асан и т.п., которые ограничивают «человечность» нашего присутствия и экзистирования в этом мире. Нам предлагается определенный и довольно ограниченный набор функций и действий, которые мы можем совершать в этом мире, выкроенный с оглядкой на «среднестатистического» человека: нам предлагают разместить в нем свои оцифрованные фотографии, музыкальные произведения, обменяться письмами и т.п. Мы присутствуем и обживаем это пространство не «в живую», но так, как предписано «грамматикой и синтаксисом» этого мира. Это – во-первых. Во- вторых, сам способ такого обживания выстроен таким образом, что он стремится захватить всю нашу реальность целиком. И это довольно прозрачно в случае т.н. социальных сетей: социальная сеть «засасывает», но захват нашего внимания и нашего времени осуществляется «с креном» на те сюжеты, которые лишь спорадически – например, сериалы, новости – присутствуют в реальном мире. В обживаемом виртуальном мире, который выстраивается в социальных сетях, данный сегмент нашей активности уже присутствует в гипертрофированном и концентрированном виде. И если в повседневности мы хоть иногда имеем возможность хотя бы чисто формально выпасть из-под действия форматирующих социальных машин, то в мире социальных сетей Ин- 94 Разрыв повседневности тернета такой возможности у нас просто нет, ибо сам этот мир скроен по новостному и сериальному сценарию. И это – довольно заразительно: «вирус» новой реальности заражает через социальные сети сначала миллионы, а скоро – и миллиарды пользователей, «прельщенных» «частным владением» и «зоной личности», из которых теперь уже невозможно вырваться и выпасть… Наконец, сама структура и способы обживания социальных сетей Интернета – это все же «логика» и «диалектика» виртуального мира, которые деструктивно действуют на любые «архаические» модели сборки индивида. И не надо обольщаться: «клубы по интересам», различные объединения и группы в этом мире могут лишь «симулировать» прежние конститутивы традиционалистской сборки, таковыми, по сути, не являясь. В этом мире все другое: «группа», собранная, например, по «национальному» признаку – это, конечно, не нация, ибо здесь нет кровно-ощущаемого и в чем-то «тактильного» родства и общности культурных корней, которые проживаются, а не выстраиваются сетью гиперссылок. Подобная группа столь же эфемерна, сколь и группировка любителей виноделия или поклонников какой-нибудь поп-дивы. Интернет-пространство социальных сетей не собирает, но разбирает предыдущие конституты, кластеризуя не только реальность, но и сознание включенных в нее «пользователей». Именно поэтому социальные сети так легко становятся ареной игры различных социальных инстанций и институтов – от вполне «невинных» и законопослушных до спецслужб и террористических организаций. Подобное возможно не только потому, что социальные сети легко использовать, мгновенно и без больших затрат преодолевая те препятствия, которые с необходимостью выстраивались бы в реальности, но и потому, что сознание их пользователей уже расщеплено, а потому легко захватывается и «порабощается» «архаическими» импульсами ненависти и страха путем «намагничивания» сегментов разобранного на кластеры сознания индивидов. Социальная сеть, предлагая доступ в зону личности и «псевдоличного» владения жестом «алаверды», деструктурирует сознание того, кто становится частью этой социальной сети, и, соответственно, тот мiр, который пользователь конституирует, выключив компьютер и вступив в тот мир, который уже не реальность, а реал… Глава II. Свое 95 социальных сетей, Людей, которым в деле устроения индивидуально-личностного основания не нужна публичная санкция, становится все меньше и меньше. Похоже, что происходит становление нового существа человека, без такой санкции никак не обходящегося. Диктат публичности повсеместно заявляет о себе через вопросы «как поймут?», «что подумают?», «примут ли?», которые придавливают в нас своѐ и выжимают его вовне. Разумеется, в границах публичного поля своѐ всегда пребывает в несколько деформированном состоянии, однако характерной чертой современности, кажется, становится принуждение человека к отождествлению своего с социальным, и именно с публичным. «Выживание» не терпит сознания, и человек безоговорочно выбирает жизнь, тогда как для сознания не находится никакой опоры. Дело в том, что сознание всегда связано с развитием самосознания и осознанием человеком того, что имеет к нему прямое отношение, а что нет. Напротив, в ситуации перманентного публичного фильтра проявления своего максимально минимизируются и связаны с принятием человеком характерных черт группового поведения в качестве своих. В первую очередь, речь идет о групповых интересах и определенном отказе человека от себя. Место самосознания и осознания занимается идеологией, где черное может выдаваться за белое, а слабость человека уже может интерпретироваться как сила; в частности, как общественная сила, в угоду которой человек отказывается от себя. Разобраться в таком «коктейле» построений, пронизанных извращенным пониманием ввиду совершающегося отчуждения человека от себя, практически невозможно. Идеология опасна тем, что всегда создает несколько штампов и стереотипов, упрощающих отношение к действительности и замещающих отсутствие нашего собственного понимания, в параметрах которых, как предполагается, мы можем не думать. Идеология опасна тем, что всегда создает несколько штампов и стереотипов, упрощающих отношение к действительности и замещающих отсутствие нашего собственного понимания. 96 Разрыв повседневности Идеология – архаичная модель социального воздействия, манипулирования, сборки. Можно даже «проверить» на соответствие современному сознанию властвующую элиту того или иного государства по тому, пытается она использовать идеологическое воздействие или нет. На Западе нет идеологии, и в этом отношении российская власть, продолжающая использовать идеологические процедуры и аппарат воздействия, бесконечно архаична и, что самое главное, не очень результативна в современном мире, проигрывая виртуальные войны различного масштаба. В мэйнстриме современности государство или бизнес не используют идеологическую модель воздействия, хотя некоторые жесты могут прочитываться именно так. Речь идет, скорее, не об идеологии, а о симуляции, когда все остается на уровне лозунгов, «священных», а потому ничего не значащих мантр, и т.п. Идеология и ее инструментарий, конечно, могут оказать некое влияние, прежде всего на ту часть мира, которая до сих пор обладает «архаическим» сознанием. Но для того чтобы оказать воздействие на более «продвинутую« аудиторию, идеологические асаны должны быть перекодированы, «переведены» на современный язык социального воздействия, что, собственно, ликвидирует саму модель идеологии. В противном случае идеология недейственна, ибо она есть нечто, параллельное современной реальности медиакультуры. Однако в том мире, где существует архаика в различных вариациях, она вполне продуктивна: достаточно посмотреть на ее результативность и тотальное господство в Северной Корее. в параметрах которых, как предполагается, мы можем не думать. Такие схемы позволяют не обращаться к осознанию своей жизни именно как своей: события жизни – с собой – человеком принципиально не связываются. Предлагаемые идеологией правила восприятия жизни являются, по существу, правилами ее непонимания, а человек получает оправдание своего существования за счет отказа от своего сознания. Его жизнь теперь осознается не им, а другими. Без оправдания жить трудно, ибо сознание норовит о себе напомнить и заставляет с собой считаться. Именно интегрируясь в дело сознания, т.е. принимая на себя труд осознания своей жизни, человек уходит от необходимости оправдываться: его оправдывает то, что он сознает. Оправдывает дело сознание. Глава II. Свое 97 Если же жизнь человека предоставлена сама себе и игнорирует сознание, то без идеологических стереотипов не обойтись. Своей жизнью такой человек не живет: он всегда только собирается жить. Встречается много людей, которые всегда только готовятся жить своей жизнью, т.е. жить индивидуально, но обычно умирают, так и не познав этого. Причем иногда люди принуждают себя к тому, чтобы даже умирать не индивидуально, а коллективно. Вся сила такого – сугубо действующего – человека направлена на победу жизни над сознанием: он живет и умирает, всецело борясь за жизнь, но, ввиду собственного отказа от сознания, не понимает ее связи с собою. Индивидуальное сознание способно подменяться коллективным сознанием, формирующимся всегда на основе когда-то случившегося индивидуального акта сознания, который теперь стал основанием для некоего штампа. Однако в ситуациях отказа от осознания себя и осознания своей жизни именно как своей никакое знание о выполненных кем-то, где-то и когда-то актах сознания помочь не в состоянии. В контексте социального соответствия субъективность человека структурируется всегда определенным образом, а именно – по подобию и сходству с другими людьми, когда особенные и уникальные черты индивидуальности человека связываются с его умением интегрироваться в социальной связи. Иначе говоря, субъективность в этой ситуации определяется не самим человеком, а коллективом, устанавливающим планку его общественной нужности и востребованности. В этом случае ответственность человека за самого себя уступает место социальной ответственности, когда человек стремится найти своѐ место и своѐ время в контексте обретения своей социальной роли, приучаясь рассматривать свое поведение с позиций социализации. Он все меньше связывает свое сознание с индивидуальностью своей личности, утрачивая, вместе с тем, представление о своей индивидуальной воле, своей индивидуальной мысли и своей индивидуальной судьбе. Теперь его «несут» общественные потоки и движения, которыми он не только не управляет, но и не способен им противостоять. Будучи социально «несомым», он легко идет «вразнос». Интерес человека к себе как к индивидуальности неуклонно снижается, и если не пропадает вовсе, то практически не осознается. Со- 98 Разрыв повседневности бой человек не интересуется; себе – не интересен: его интересует теперь все что угодно, но только не он сам. Интерес к себе ограничивается сферой выработки тех качеств своей личности, которые могут стать полезными и пригодиться в ситуации интегрирования его в социум: в детский сад, школу, вуз, трудовой коллектив, тусовку, семью. Такой изменившийся, т.е. изменивший самому себе, человек готов говорить уже о коллективной воле, коллективном разуме и о коллективной судьбе. Однако понятно, что потребность в своей судьбе, своей воле и своем разуме у каждого человека никуда не исчезает: не будучи воспринятой, она не осознается. В силу явного доминирования общественного над индивидуальным, эти потребности не реализуются и вынуждены выявлять себя маргинальным и антикультурным образом. Важно обратить внимание, что при таком раскладе личное связывается не с самим человеком, а именно с обществом, т.е. с возможностью человека не только быть частью общественного организма, но и осознавать себя таковым. Человек отказывается от своего: если частная жизнь, частные интересы и частная собственность еще както и где-то могут допускаться, то частной мыслью, частной оценкой и частным мнением можно полностью пренебречь. Человек отказывается от своего: если частная жизнь, частные интересы и частная собственность еще как-то и где-то могут допускаться, то частной мыслью, Две ремарки к сказанному только что Андреем. Первая: Насколько мы вообще обладаем частной собственностью здесь в России? Вопреки декларациям и западной риторике, которая подхватывается и тиражируется в России, мы можем без труда разглядеть некую линию преемства на уровне терминологии, которая стремится воссоздать коллективистский архетип, свойственный нашему далекому и не очень далекому прошлому. Напомню, что в эпоху социализма не было понятия частной собственности, была – личная собственность. При всем том, что фактически и личной-то не было, хотя попытки упразднить институт наследования не прижились, но любой ветерок в линии партии или очередная чистка в рядах сограждан, не говоря уже о катаклизмах Великой Отечественной войны, делали из личной собственности довольно эфемерную и мгновенно отчуждаемую собственность. Так что само понятие социалистической личной соб- Глава II. Свое 99 ственности, в особенности в его сравнении с понятием частной собственности, показывает ее предельную «не-собственность». Само различение частной и личной собственности и приоритет личной собственности в ситуации господства коллективистской марксистской идеологии, конечно, в чем-то парадоксально. Ибо само понятие «частная собственность» этимологически происходит от «части». Часть же никогда не бывает частью самой по себе, но частью целого. В то время как «личная собственность» «базируется» на личности. В этом отношении в титуле «частная собственность», по сути, заключено указание на то «коллективистское», «общинное» сознание, которое нашло благодатную почву в коммунистической России. Но – и в этом ирония-парадокс – марксистский лексикон отдает приоритет не титулу «частная собственность», а именно «личной собственности», которая как раз более соответствует не духу строителей бесклассового общества, а как раз «акулам капитализма». Напомню, что в Европе (например, в Великобритании) титул «частная собственность» – это private property, т.е. никак не часть, сочлененная с целым, но именно индивидуальная, личная собственность, определяющаяся не как часть некоего целого, а как отделенная непереходимой и защищаемой законом границей от любых попыток объединения и вторжения властных инстанций. В этом отношении то, что терминологически закрепляет титул «приватная собственность», – это отделеннность, независимость, может быть, даже предельная сингулярность. В свою очередь то, что сходным образом фиксируется в русском «эквиваленте» – титуле «частная собственность», – это включенность части в целое, связанная с доминированием целого, но никак не части. Часть получает свою значимость от целого и в нем обретает свое основание и свою истину. А потому и частное владение – это то, что «конституируется» в диалоге с целым, а по сути – в «монологе целого», и обладает значимостью лишь в этом целом. Само же целое чаще всего номинируется государством или социальными инстанциями. Соответственно, сам режим функционирования «частного обладания», испытывая сильное влияние из символических структур языка, обретает свое алиби в социальных инстанциях. Ибо никто еще не «упразднил» ту логику «языка аналогии», которая, подобно архетипам, выливается в любые рациональные схемы и любые формы языкового означивания. 100 Разрыв повседневности В этом отношении то, что выстраивается как ассоциативный ряд в русском термине «частная собственность», изначально задает горизонт и подкрепляет коллективизм архаического сознания, а то, что фиксируется в английском титуле «private property», выстраивается в иных ассоциативных рядах, опирающихся на приоритет личностного. Поистине – может быть, правы Древние китайцы: нужно начинать с исправления имен… Вторая ремарка. Много, ох как много, сказано и будет еще сказано о том, что частная собственность – гарант свободы индивида, что именно она ограждает нас от своеволия государственных инстанций и т.п. Но и без этих лозунгов все как-то стремятся к этой частной собственности, к владению теми или иными материальными или нематериальными активами… Но вот чего мало, слишком мало в нашей современности, так это попыток отстаивания частного и приватного мнений, частной и личной мысли… Хотя все прекрасно осведомлены, что не во владении активами или имуществом может запечатлеваться наше «я». В самом деле, чем различить «я», владеющее 1 млн. долларов, и «я», владеющее 1,01 млн. долларов? Или «я», которое «резвится» на вилле в 1 000 кв. м на Лазурном Берегу Франции, и «я», столь же тупо, но бесконечно «счастливо» проводящее время в особняке в 1 005 кв. м на берегу Тихого Океана? Ничем. На уровне нашего «предметного» владения наше «я» никак не различимо и не отличимо от других таких же «я»… Что, понятно, не скажешь о «частной мысли» написанной нами поэмы или нарисованной картины. Именно в них проступают черты этого «я». Но за эти, ничем не различающие, по сути, нас, маркеры владения собственностью многие, ох как многие, жертвуют единственным, что дается им «вопреки» социальным и государственным инстанциям – своей личной, частной, никем не прожитой и прочувствованной Мыслью… частной оценкой и частным мнением можно полностью пренебречь. Глава II. Свое 101 Более того, необходимость осознания подменяется потреблением знания, связывается человеком с потребностью в информации, т.е. принципиально не индивидуального, но социализированного знания; знания, входящего в состав общества. В случае, когда с индивидуальным не удается совладать путем социальной фильтрации, оно дискредитируется и просто не замечается. Но главное изменение состоит в том, что сам человек внутренне готов отказаться от себя. Будучи неинтересен себе самому, он, отказываясь от индивидуального сознания, идет на социальную «обработку» и «переработку» индивидуального, легко впускает в себя безличное и полагает возможным – для себя – жить им. Теперь уже он не только не связан с глубиной своего внутреннего мира и размахом своей души, но даже не способен осознать этого. Будучи сплющенным и размазанным по поверхности существования, своѐ человеком просто не замечается и не схватывается. В сугубо социальной перспективе восприятия очертания индивидуального либо утрачиваются полностью, либо существенно искажаются. Дело в том, что, не зная себя, человек не может узнать и другого: он не способен отделять своѐ от другого и не может схватывать разницу между собой и другим. Для поддержания социального запроса в сознании человека устанавливаются многочисленные правила, которые оказывают выравнивающее воздействие на разных людей. Путь уравнивания людей, а фактически – выравнивания их внутренних миров, связанный с принятием сознанием определенных стандартов жизни в виде стандартов потребления, стандартов восприятия жизни и стандартов ее оценивания, накладывает мощнейший отпечаток как на сознание человека, так и на отношение его к сознанию. Наиболее показательным явлением в процессе выравнивания и придания жизни одномерности становится намерение демократизировать буквально все сферы жизнедеятельности. Наиболее показательным явлением в процессе выравнивания и придания жизни одномерности становится намерение демократизировать Нет ничего тоталитарнее демократии. По крайней мере, человечество еще не «изобрело» более властного механизма по штамповке «индивидов», которые таковыми как раз и не явля- 102 Разрыв повседневности ются, а скорее, являются винтиками в социальной машине. Если, конечно, мы не припишем статус индивидуальности тому, что основывается лишь на основании пространственной раздельности или, еще вариант, на том, что на эту т.н. «индивидуальность» надето. Демократия действует как внутренний императив – что было, как известно, прекрасно использовано протестантизмом, – т.е. изнутри, не давая возможности индивиду сохранить и сберечь свое «я» в неприкосновенности. Конечно, сохранить свое, свое «я» под прессингом внешних сил трудно, но не невозможно, чего не скажешь о той ситуации, когда прессинг идет изнутри: себя не обманешь и от себя не спрячешься. Шпион внутри – самый результативный доносчик, карающий приступами совести или фобиями различных мастей. Именно потому шествие демократических инстанций дублируется развертыванием психоаналитического дискурса, в том числе помогающего «договориться» с доносчиком внутри нас, разобрать нас по модели декартовского метода на ясные и отчетливые фрагменты. Тайна внутри нас? – Да это скандал! Все должно быть зримо, доступно и подвергнуто тотальному выравниванию. Ибо все должно быть одинаково и единообразно как вне нас, так и внутри нашей психики… А как быть с тем, что «бог нас создал» неравными: одних ущербными, других – гениальными? И они тоже уравнены в своих правах и возможностях? Но это – лишь ханжество, ибо такого никогда не было и не будет… Мы ведь даже дышим каждый по-своему, т.е. не очень демократично… Демократия никогда не была и не будет властью народа, разве что в формате небольшого сообщества. Да и то – как показывает демократия в античности – «в работу» сразу же вступают механизмы «отбора» этой власти у народа, передачи этой самой власти в выборные инстанции. Демократия – это легальный способ отъема и отрешения власти от народа. Но на уровне риторики все, конечно, ОК: равноправие и свобода торжествуют, а власть подконтрольна и «трепещет». Однако огромное количество нарушений т.н. демократических принципов говорит нам о том, что демократия даже в своем «лозунговом», а не реальном воплощении, какого не наблюдалось до сих пор, может существовать лишь при ежеминутном ее нарушении; причем нарушении уже не на уровне лозунгов, а вполне реально и «иллегально», т.е. жизненно. Глава II. Свое 103 буквально все сферы жизнедеятельности Демократизация как тенденция уравнивания всех не только затрагивает повседневную жизнедеятельность современного общества, но и пронизывает уже те области жизни, сознания и языка, которые еще недавно требовали особенного к себе отношения: науку, образование, искусство, военное дело. Основание обвинения кого-либо в недемократичности все последовательнее связывается с апологией уникального. Особенное еще как-то сохраняет себя в элитарном сознании в виде искусственно выстроенных сфер жизнедеятельности, например в спорте. Однако стоит заметить, что образование любых элит, какими бы они не были, связано именно с социальным, а не с индивидуальным их характером: спорт сегодня прочно интегрирован в систему современного общества. Обратной стороной отказа человека от своей индивидуальности является его безответственность за себя. Ответственность за свои мысли, свою волю и проявления своих чувств, а точнее – за свое безмыслие, свое безволие и свое бесчувствие планомерно перекладывается каждым человеком на общество. Существенно то, что человек получает от общества своеобразную индульгенцию не отвечать за самого себя в обмен на отказ от самостояния и отказ от своего собственного. В ситуации внутренней готовности к отказу от своего и отказу от особенного и индивидуального в угоду всеобщему и типическому человек привыкает воспринимать себя опосредованно, в первую очередь – опосредованно социальным. Он приучается последовательно относиться к себе и другому как к посредственности. В принципе человек готов принять на себя фактически любую социальную роль, если только это позволяет ему интегрироваться в социальное поле. Возникает парадоксальная ситуация, когда человек, сам не зная себя как индивидуальность, готов принимать и познавать себя в качестве элемента любого социального поля, т.е. готов примерять к себе совершенно разные социальные концепты и конструкции. Он оказывается готовым относиться к себе не напрямую, а опосредованно: он не терпит прямую речь и прямой взгляд, сторонится прямой мысли и прямого чувства, избегает ситуаций, связанных с необходимостью совершения поступка. Заметим и то, что, прибегая к 104 Разрыв повседневности опосредованной речи и опосредованному взгляду, человек сохраняет себя именно в отделении и обособленности от Другого: его способность относиться к чему бы то ни было и к кому бы то ни было непосредственным образом атрофируется. Добавим: поступок – всегда настоящее и «располагается» в настоящем. В этом смысле поступок предельно не историчен. Этика не нужна там, где все действует само собой, т.е. автоматически. Она начинается с невозможного: для поступка нет никаких оснований в области существующего. В этом смысле поступок есть действие превосхождения существующего, что обязательно связано с выхождением за его пределы, лимиты и границы. В каком-то существенном смысле поступок есть то, что невозможно переделать или подправить. По большому счету, поступок – это не спрягаемое и не спрямляемое, не выпрямляемое и не корректируемое действие. Он не отменим и не обратим. И сама возможность совершения поступка, если она чем-то и обусловливается, то – только способностью человека ориентироваться на целое и взаимодействовать с ним. Вот эта-то ориентация на целое, проявляемая в поступке, оказывает на поступающего выпрямляющее действие. Отказ от знания себя самого – при готовности приложить и применить по отношению к себе практически любое «внешнее» знание – чрезвычайно показателен и может пониматься в различных аспектах. Собственное неприсутствие человека становится основанием для какой угодно социальной идентификации, тогда как незнание им своего места и своего времени подразумевает возможность любого общественного их замещения, как и допускает любое общественное времяпрепровождение. Не живущий своим человек принципиально закрыт, ибо применение по отношению к себе внешних – социальных – критериев, связанных с обретением социального статуса и социального положения, решает иные задачи, нежели способствует проявлению своего. Следовательно, императивы жить «своим разумом» или стремиться стоять «на своих ногах» оказываются в действительности только риторическими построениями, присущими речи. Постоянство утверждений типа «я ему (ей, им) сказал (ответил, заявил)» в современной жизни показывает, что область самосознания связывается именно с речевым пространством. Можно констатировать, что в речи человек еще не обходится без себя, хотя и Глава II. Свое 105 здесь нарастает давление социума, выражающееся в замене индивидуальных речевых конструкций структурами «мы» и «они» и в нарастании удельного веса перформативных лексических конструкций. Человек не может быть не связанным с должным; с тем, что должно быть. Ему непременно надо быть. И должное, т.е. то, что должно быть, определяет нам выбор внутри того, что есть. Должное – это критерий приобщения к бытию, тогда как недолжное есть указание на то, что мы в чем-то отпадаем и отделяемся от бытия. Человек осознает то, что есть, уже после того, как оно есть, и осознает это, исходя из того, как должно быть. Вот мы и ориентируемся на должное, внутренне понимая, что без связи наших действий с должным жизнь перестает иметь какой-то смысл. Однако в направленности на должное мы ориентируемся преимущественно то на себя, то на других. Происходит кардинальное изменение отношения к этике, когда этические долженствования, обращенные непосредственно к человеку и к его внутреннему началу – этосу, голосу совести, чести и достоинству, заменяются социальной – корпоративной, прикладной, групповой – этикой. Итак, знаком современности становится отказ человека от своей жизни и от своего сознания: и в жизни, и в сознании человек приучается руководствоваться логикой извне и все последовательнее опирается на построения, которые к нему самому прямого отношения не имеют. Вот почему так актуальна задача возвращения человека к самому себе, возможно даже, путем его принуждения к этому. Речь идет о необходимости самосознания, ибо для того, чтобы чтолибо стало своим, оно должно непременно стать элементом сознательной жизни человека. Несмотря ни на что, даже попадая в провал себя и предельно объективируясь, индивидуальное периодически напоминает человеку о себе и своей нерешенности. Индивидуально-личностное измерение человека никогда и никуда не исчезает и исчезнуть принципиально не может. Оказываясь в маргинальном положении и в жизни, и в сознании, оно все равно заставляет и понуждает нас с собой считаться. Каждый из нас принципиально может развернуться в свою сторону, т.е. в сторону самого себя, если только готов заплатить за это определенным отказом от чужого. В данном случае это связано с приданием внутреннему и индиви- 106 Разрыв повседневности дуальному онтологических преференций, по сравнению с внешним и социальным. Скомпрометировать полную интегрированность человека в публичное можно, пожалуй, только путем введения символа смерти, когда смесь действий и – исходящих из идеологии – осознаний таких действий распадается на отдельные составляющие по причине их связанности с человеком. Принимая смерть, человек может осознать нечто в качестве своего, отличая его от того, что к нему самому отношения не имеет, и внести в свое сознание некий порядок, который мог бы быть привнесенным в жизнь, если бы только это стало возможным. Принимая смерть, человек может осознать нечто в качестве своего, отличая его от того, что к нему самому отношения не имеет, Человек, наверное, становится человеком перед своей конечностью, перед смертью. Животное не знает – даже если предчувствует – смерти. Смерть – которая хоть и всегда своя, но которой мы «учимся» на примере других, уже ушедших – всегда рядом, а не где-то за горизонтом реальности и доступности. Смерть напоминает о своем присутствии не только воспоминаниями о тех горестных мгновениях, когда мы провожаем близких или оказываемся рядом с умирающим, но и тем, что относится лично к нам в момент боли, сна и когда мы вспоминаем о количестве прожитых лет. Два сюжета, которые как-то символически сочленяются у меня в сознании, когда на уровне философской рефлексии обращаешься к теме смерти. Первый – М. Хайдеггер: лишь решимость перед лицом всегда собственной смерти позволяет обрести аутентичность собственного бытийствования. Второй – З. Фрейд: целью всякой жизни является стремление любой ценой умереть собственной смертью. Смерть – в горизонте мышления начала ХХ века – проясняет зону собственности, аутентичности. В смерти важно то, что «воображаемое» переживание и обращение к собственной смерти – ибо уже античность говорила о том, что опыт собственной смерти недоступен: когда я жив, смерти нет, а когда я мертв, то меня нет – является путем к самому себе. Смерть, которая всегда – и вот это-то и задевает до «скрежета зубов» – своя Глава II. Свое 107 смерть, одновременно, исцеление и освобождение. Причем не столько освобождение – «мертвые сраму не имают» – от любых социальных и культурных пут, которое можно достичь лишь тогда, когда, собственно говоря, уже ничего из этого не нужно, сколько освобождение, которое восстанавливает и выстраивает нашу аутентичность. Оно, конечно, «чисто по бытовому» понятно: перед лицом собственной смерти, как и перед лицом смерти другого, которая говорит и о нашей смерти, можно несколько иначе взглянуть и на свои хлопотливые заботы, и на те цели, которые как раз и сбываются через эту суету. Твоя собственная смерть, не имеющая иного облика, как отсутствие любого облика, как зияние полного ничтожения, возникая вдруг перед тобой «во весь свой зловещий рост», и то небытие, которое скрывается за ее спиной, заставляют нас переоценить многое из того, чему мы с таким рвением и страстью предаемся. Именно «присутствие» смерти стирает лишнее, сохраняя то, что представляется действительно важнейшим и главным. Смерть, которая всегда есть собственная смерть, способна изъять даже самого «закоренелого» конформиста из рядов социального механизма: ведь умирать придется самому, даже если умираешь в кругу своих близких или в ритуализированном пространстве медицинских учреждений. Но вот в чем «пакость» ситуации смерти, если, конечно, речь не идет о ее философской рефлексии, которая, как и всякая рефлексия, изменяет объект своей рефлексии. «Опыт» смерти насильно изгоняется современным социальным пространством, несмотря на то что, казалось бы, все свидетельствует об обратном: сохраняемые места погребения, ритуализированные действия в общении с «ушедшими», наконец, постоянное мелькание фигуры смерти в художественных творениях, в продукции массовой культуры и т.п. Можно сказать, что смерти слишком много, а потому ее вообще нет. Ибо в этой череде обликов смерти не запечатлен облик своего собственного небытия. В этом отношении современное социальное пространство «подыгрывает» нашей в чем-то «инфантильной» утрате собственной смерти, позволяя человеку заместить свою собственную смерть, которая проглядывает в момент встречи с чужой смертью, эрзацем смерти и, может быть, эйдосом смерти, т.е. смертью вообще. Социальное пространство заставляет «вписать» собственную смерть в порядки жизни путем ритуализации пространства, связанного с моментом собственной смерти. Смерть же, как всегда собственная смерть, не вписыва- 108 Разрыв повседневности ется в пространства жизни, она их «по определению» разрушает, можно сказать, просто испаряет. А потому мы живем подчас как вечные и бессмертные, т.е. без оглядки на то, что есть наша собственная смерть, а не смерть вообще, не смерть, смотрящая на нас, как смотрит другой или социальная инстанция, а смерть как отсутствие любого взгляда, и прежде всего нашего взгляда. Более того, даже тогда, когда мы постепенно подступаем к тому возрасту, когда она вот-вот должна наступить или когда она напоминает о своем ничтожении в череде болезней и телесного угасания, мы все равно мало озабочены тем, чтобы взглянуть в лицо своей собственной смерти. А те «напоминания» о смерти, которые маркерами разбросаны в нашей жизни – от кладбищ, которые приходится посещать по той или иной причине до присутствия смерти на экранах телевидения, – скорее, затемняют понимание того, что смерть – это не смерть вообще, а своя собственная смерть, ибо заставляют нас привыкать к ней как к пространству повседневности. Ситуация в чем-то напоминает невосприимчивость к смерти работников морга, хосписов или больниц, относящихся к смерти как к факту работы или повседневности. Современность утрачивает, притупляет или перекодирует ту «интимную жуть смерти», которая, возможно, только одна и способна поставить перед das Man вопрос о собственной смерти… Меня всегда поражала предельная «нагруженность» обязательными ритуалами в ситуации похорон. Не счесть целой череды асан, которые сопровождали и сопровождают до сих пор смерть родственников в т.н. «традиционных» анклавах культуры, например в сельской местности глубинки России. Создается впечатление, что огромное количество обязательных, прежде всего для родственников, действий просто не оставляет времени на то, чтобы остаться наедине со своим горем. Конечно, подобный насыщенный «сценарий» похоронных обрядов можно объяснить вполне понятным стремлением дать возможность травмированного психического аппарата людей, которые только что потеряли своего близкого, пережить горечь и шок утраты близкого им человека. Нужно время, чтобы унять боль и сжиться с утратой. Это, конечно, верно. Однако благодаря тому, что у близких «отнимается» возможность остаться наедине со своим горем, у них, одновременно, изымается и возможность оказаться лицом к лицу с Глава II. Свое 109 собственной смертью, которая проступает в своей жути в смерти близкого. Социальный мир изымает, замещает, ритуализирует, ослабляет и, по сути, стремится ликвидировать момент нашего предельно личного диалога со своей собственной смертью. В современной же ситуации – и об этом довольно интересно говорит Ж. Бодрийяр в своей работе «Символический обмен и смерть» – смерть попросту изгоняется даже в том усеченном ритуалом виде. Мертвые изгоняются из порядков живых, а потому не способны напомнить нам о нашей собственной смерти. Как и везде в современном коммерциализированном мире, родственникам умершего нужна лишь определенная сумма наличности, и поставленная на поток машина похоронного бизнеса без трения и травматических коннотаций избавляет нас от любых «непосредственных» контактов со смертью близкого тебе человека. Эта «машина похорон» четко отводит выверенное время на прощание, погребение, соблюдение социальных формальностей, обеспечивая человеку минимум «совместности со смертью» и теми, кто выступает ее посланниками в социальном пространстве. Прирученная, а потому лишенная своей жути, смерть другого (через ритуальность поз, изгнание «непосредственных» контактов или, наоборот, но с тем же результатом – постоянное мелькание в новостном ряду катастроф, аварий, расстрелов и терактов) уже не способна напомнить нам о собственной смерти. А ведь только подлинная, «без посредников», встреча со смертью, которая, напомню «в сотый раз», всегда связана с собственной смертью, способна привести нас к самим себе. И иногда лишь великий художник способен ликвидировать «зону отчуждения», которую так старательно выстраивает социальное пространство в постоянных прорывах смерти. И тогда мы прозреваем подлинный лик смерти, а нее ее прирученный и «кастрированный» эрзац в «Пьете» Микеланджело или средневековых фигурах «Танца смерти». И лишь тогда, благодаря необъяснимой истине искусства, то, что по сути нас должно было оградить от присутствия смерти, становится ее, смерти, непосредственным взглядом, который вдруг оказывается и нашим взглядом. Тем взглядом, который, распыляя стройно сжатые регистры и шеренги социального мира, способен привести нас к самим себе. 110 Разрыв повседневности Встреча со своей смертью и смертью другого как со своей смертью – вне любого диалога, вне слова. Это – то внутреннее, которое никогда не может быть овнешнено и включено в схватываемую и удерживаемую оппозицию. Это – то, что, как Ничто, как Свобода, может вдруг без какого-либо «усилия» разрушить любые цепи социальной реальности… А это нужно социальной реальности? и внести в свое сознание некий порядок, который мог бы быть привнесенным в жизнь, если бы только это стало возможным. Вот почему целесообразно периодически смотреть на свою жизнь и на то, как мы живем, с позиций ее конца. Приходится, правда, признать, что встречаются и те, кто даже под знаком «конца» норовит уцепиться за идеологию, испытывая страх перед встречей с собой и возможностью переосмысления прошлого, в действительности оказывающегося тем, где и когда ты собой не был. Такой человек испытывает страх перед открывающимся ему пониманием своей жизни как бессмысленной, ввиду ее безличности и отчужденности от него самого. Именно такой человек не может существовать без идеологии: отставляя своѐ в сторону и обособляя его от себя, он оказывается теперь уже способным стать разрушительной силой и в отношении любого другого. В «посиделках» и «разговорах по душам» нас объединяет стремление выйти из себя и осознанности своей жизни, когда нам начинает вдруг не хватать фактов жизни. В таких ситуациях становится трудно вынести тяжесть сознания, вот человек и пытается во что бы то ни стало избавиться от своей субъективности путем интегрирования того, что от него осталось, в факты жизни. Испытывающий такое внутреннее падение человек пытается теперь уже говорить о жизни, исходя из жизни и от имени жизни, но не прибегая к своему сознанию. Попутно отметим, что рост конформизма связан как раз с победой мотиваций, исходящих от жизни, и провалом осознанного к ним отношения, когда очередная «жизненная необходимость» обязательно отыскивается и недостатка в ней не бывает. Непременным условием «разговоров по душам» становится интуитивное выстраивание их участниками собственных биографий на Глава II. Свое 111 основе случаев «из жизни». Основанием таких биографических конструкций являются именно факты жизни, осознанность которых всегда откладывается на «потом» и на будущее, до чего впоследствии дело никогда не доходит. Биография – это превращенная форма нашего самосознания, его притесняющая и блокирующая. Биография – это превращенная форма нашего самосознания, О какой биографии стоит вести речь? Ведь биографий как видов жизнеописания и фиксации событий индивида много… Но вот в чем другой вопрос: что и кто фиксируется в биографии? Не так все это однозначно и просто… Поясню. То, что может «формально» подпасть под рубрику «биография», биографией, собственно говоря, и не является. Так, «Одиссея» Гомера – это не биография много- и хитромудрого любимца Афины Одиссея, а «История моих бедствий» – не автобиография П. Абеляра. Равно как и «Исповедь» Бл. Августина лишь с очень «большого расстояния» покажется биографией Блаженного. Хотя в каждом из указанных текстов – да и мириаде неуказанных – можно обнаружить описание перипетий одного персонажа. Биография – в современном ее значении – curricullum vitae, бюрократическое прокрустово ложе, в которое предлагают «возлечь» в соответствующих бюрократических обстоятельствах моему странствию в этой земной жизни. В этом виде биографического описания происходят фиксация и селекция по определенным, заданным бюрократической ситуацией, параметрам. Год рождения, скупые данные о семье, поступление и окончание различного рода образовательных учреждений, полученные специальности, места жительства и работы, семейный статус и т.п. – вот те позиции, согласно которым происходит выборка. По сути, мы имеем перед собой тест, перекодирующий реальную жизнь того или иного индивида по заданным унифицированным рубрикам. И как тест, данный «вид» биографии – модель подчинения и вписывания в жестко заданные параметры и, соответственно, внедрение этих параметров как значимых ориентиров в нашу жизнь. В этом смысле биография – вычленение из потока нашего существования тех опорных пунктов, по которым нас ранжируют и оценивают и, соответственно, вписывают в установленную иерархию ценностей и регламентов. То, что указанные ценности не соответствуют реальным индивидуальным ценностным установкам, телосам, направляющим течение нашей жизни, нашему самопредставлению о том, 112 Разрыв повседневности что и как мы лично оцениваем для себя как важнейшее и т.п., – мало кого волнует. Ибо речь идет не о нашей самооценке и выстраивании согласно нашим параметрам индивидуальных приоритетов, но о модели подчинения ценностям социальных инстанций, которые, кстати, через подобную фиксацию и нормативное внедрение навязчиво транслируют эти ценности на уровень индивидуальности, стремясь представить их как ценности личности. В другом своем значении био-графия – описание жизни, собственно говоря, может состояться лишь после того, как расставлены все точки над «i». А вот это расставление точек осуществляется уже не из горизонта сегодняшнего дня, и даже – как полагали древние греки – не тогда, когда уйдет из жизни последний из детей того, чью биографию следует написать. Расстановка же осуществляется всегда как процедура вмонтирования в некий контекст. В наше время биография – и такова оптика универсальноисторического сознания – вмонтирована в исторический горизонт, который как раз и задает сетку координат того, что в каждом конкретном случае должно быть зафиксировано в тексте, повествующем о событиях жизни того или иного персонажа. Наконец, именно эта сетка координат определяет, стоит ли вообще тот или иной персонаж того, чтобы «удостоиться» биографии. В этом случае биография предстает перед нами как шаблон, который находится в полном соответствии с исторической размерностью нашего сознания, поскольку именно на уровне историзма (который, кстати, каждая культурная традиция выстраивает по-разному) решается, что и каким образом должно попасть в текст и, главное, каковые смысловые акценты нужно расставить в том или ином жизнеописании. В подобной матрице биографического повествования также присутствует модель «перекодировки» смысла прожитого того или иного исторического персонажа и задаются параметры и инструментальный набор позиций, в который вписана конкретная жизнь исторического актора. Соответственно, через подобного рода биографическое описание происходят трансляция культурных и социальных детерминант и, соответственно, дрессура читателя текста-биографии согласно императивам социального пространства. Подобным образом мы учимся оценивать, осуждать, стремиться к чему-то определенному, наконец, выстраивать собственную жизнь и поступки, «с оглядкой» на нормативные смыслы, ценности и «ритуальные жесты», принятые в конкретном культурном горизонте. Глава II. Свое 113 Итак, биография – это определенный формат, связанный либо с бюрократическими процедурами, либо с выстраиванием исторического целого. В любом случае – это модели перекодировки смысла, внедрение определенных социальных параметров и императивов в сознание индивида. Биография и призвана показать, что эта личностная зона обретает свой смысл лишь как часть социального или культурно целого, а потому биография описывает не то, что та или иная личность есть – ибо не забудем, что ведь речь идет о том, как мы бытийствуем, – а то, какой личности следует быть, как ей оценивать себя и выстраивать течение своей жизни. его притесняющая и блокирующая. Слова в этом случае не обеспечены сознанием и расходуются довольно безответственно. Можно даже сказать, что стремление человека выстраивать биографию свидетельствует об отказе его от сознания или о попытках рассуждения о нем путем его намеренного связывания с жизненными обстоятельствами. И надо признать, что с позиции жизни избавление от нужды по осознанию фактов жизни понятно: в этом случае человек держится жизни и за жизнь, тогда как уколы сознания разрушают и его жизненную целостность, и состоятельность его жизни. Само желание выстраивать биографию свидетельствует о том, что человек пытается связать свое сознание с ситуациями жизни. Сначала он связывает сознание с фактами жизни, а потом ему приходится уже считаться с этим и идти на поводу у прошлого. Отделенная и обособленная от сознания жизнь оказывается предоставленной сама себе. В ситуации, когда мы перестаем осознавать жизнь, она распадается на бесконечное количество составляющих, все более и более дробится и множится, в результате чего отдельные жизненные ситуации не могут быть связанными между собой, атомизируются и противостоят друг другу. Это положение можно сформулировать так: это – война всех против всех, где «всем» являются любые жизненные реалии. Из-за нерешенности вопроса о целостности себя ставить вопрос о целостности жизни в этом состоянии не получается: частности захватывают пространство и время нашей жизни. 114 Разрыв повседневности Тому же, кто в сознании, биографии не нужны. Если он и строит их, то только для маскировки: для того, чтобы его – сознающего – оставили в покое. Мысль может оставляться сознающим «про запас», и тогда, даже будучи втянутым в разговор, он не вкладывает себя в слово полностью. Понятно, что разговор разговору рознь. Есть люди, стремящиеся выстроить в разговоре коммуникацию с самим собой, мало заботящиеся о том, реальны их речевые коммуникации с собеседниками или нет. В таких разговорах собеседники пытаются каким-либо образом подтвердить и не потерять найденную однажды идентичность, по отношению к которой они как-то «устроились». Переставая слушать себя – настоящего, человек все последовательнее связывает себя с определенным своим образом, который им, как он полагает, был раз и навсегда когда-то найден. Такой отказ от зова настоящего не может не обернуться внутренним опустошением. Обратим внимание на то, что важнейшую роль в нашем языке играет молчание. Мы выговариваем и проговариваем далеко не все. Далеко не всем своим мы готовы делиться, а если делимся, то не со всеми, не всегда и не во всем. Молчание позволяет нам взаимодействовать со своим языком сугубо избирательно. Мы «дозируем» языковое общение и устанавливаем определенные лимиты языкового сообщения, в результате чего отдельные «кусочки» сущего оставляем за собой, припрятывая их для себя. Этим мы определяем некую среду для своего собственного присутствия. Особо следует заметить, что любое присутствие человека, основанное на его способности молчания (умолчания, замалчивания, умолкания, замолкания) и этой способностью поддерживаемое, может истончаться. Особо следует заметить, что любое присутствие человека, основанное на его способности молчания (умолчания, замалчивания, умолкания, замолкания) Как говорят, поистине близкий нам лишь тот человек, с которым можно молчать. Это, отнюдь, не означает, что молчать можно только в ситуации близости. Молчат – когда сказать уже нечего, когда говорить бесполезно, когда нужно вслушаться, всмотреться, сконцентрироваться… Сюжетов «инкорпорирования» фигуры Глава II. Свое 115 молчания не счесть. Можно проанализировать язык молчания, фигуру умолчания, даже выстроить целую онтологию молчания, в которой обретут свое – уже «причесанное» рефлексией место – и молчание-обдумывание, и молчание пробела между строчек и букв, и молчание Будды… И лишь человек – то сущее, которое может осуществить прерывание вечной суеты коммуникативных потоков и разорвать цепь причинно-следственных сцепок реальности. А потому лишь то сущее, каковым является человек, способно замолчать, инфицируя плотность бытия разрывами Ничто. Молчание – как «крик» Ничто – постоянно вторгается в неразделенную плотность сущего. Мы «берем паузу», даем простор тому, что А. Бергсон именовал зоной индетерминизма, чтобы обрести Свою Свободу. Собственно говоря, молчание никогда не «до» разговора, шума и т.п. Молчание возникает как прерывание коммуникативных путей и является зоной негации, зияния в плотности собеседующих, действующих, любых отношений как с другим, так и с любым сущим или событийствующим сущим. Молчание – это зона прерывания сплошности бытия, вторжение Ничто, прорывающегося в реальность и делающего бесчеловечную реальность реальностью человека. Остановка молчания – это никак не время, которое необходимо для выбора «реакции», как то мыслилось А. Бергсону, совершенно справедливо тематизировавшему зону индетерминизма как зону живого. Выбор уже всегда совершен, и об этом прекрасно говорит Ж.- П. Сартр, а потому в ситуации выбора нет рационального «перебора», «перечисления» возможных действий (хотя в рефлексии, которая запаздывает, которая будет «потом» пытаться проанализировать ситуацию выбора, все дело будет обстоять именно таким образом). Ибо рефлексия всегда изменяет «первичную» данность. Хотя, конечно, и такое бывает «на поверхности» акта выбора. Время приостановки, время молчания – это, скорее, не время обдумывания и калькуляции, а время Себя и Своей Свободы, время внезапной агрессии и вторжения Ничто, заявляющих свои права на эту реальность. Свобода и Ничто как божественное Fiat вторгаются и разламывают строгий детерминизм и сплавленную плотность бытия, заявляя свои претензии на процесс бытийствования, перекодируя бытийствование и расчленяя его на «блоки», разделенные и переформатированные Ничто. Именно таким образом Ничто и Свобода разрезают, перекодируют, форматируют плотность бытия. 116 Разрыв повседневности Просто зададим себе вопрос, который заставит проявиться эту зону Ничто: чем одно бытие сущего отличается от другого бытия? Да сущностно, Ничем. Именно Ничто разрезает по своему усмотрению этот плотный, «тошнотворный» в своей чуждости нам, поток бытийствования. И то молчание – по различным уже указанным и, конечно, неуказанным поводам – разрыхляет и расщепляет этот непрекращающийся и недифферинцированный поток, инфицирует его Свободой. Той Свободой, которая, вопреки своему молчаливому отсутствию, способна привести нас к нам самим. и этой способностью поддерживаемое, может истончаться. Сосредоточение человека в себе теснится и вытесняется его включением в коммуникации. Говорение – оно от избытка внутреннего, когда человек не выдерживает его натиска и стремится если и не сбросить его с себя на собеседника, то, по крайней мере, ослабить этот натиск. Правда и здесь налицо риск – риск избавиться от себя, превращая свое присутствие – посредством речи – в свою противоположность. Но есть и другие разговоры, когда говорящие втягиваются в поиск себя; по крайней мере, втягиваются в поиск себя такого, кого они не знают. Незнающий мало считается с тем, чем живет знающий. Ему разговор нужен для того, чтобы себя «сделать» или «доделать». Бывают ситуации, когда незнание становится более значимо, нежели знание. Человек может настолько связать себя со своим знанием, что уже не нуждается ни в какой открытости и даже чурается ее. Обратим внимание, что человек может не только знать, что он говорит, но и знать, что нужно сказать. Но тогда разговор, в котором он участвует, не индуцирует его вхождение в сознание. Сознание – в знаемом – не содержится; оно в него не помещается. Если оно и случается, то только на пределе знания, когда человеку знаемого не хватает, а он способен открыться новому и связать себя с незнаемым. Здесь целесообразно будет заметить, что, согласно теореме Гѐделя, всегда есть некий «остаток» значения, который никак не выводим из списка аксиом и процедур, каким бы емким он ни был, и не объясним, исходя из этого списка. Упрощая, можно сказать: всегда есть нечто неосмысленное, что связано с новым. Глава II. Свое 117 В этом контексте человек принципиально способен превышать свои пределы и выходить за границы себя: «так» в связи с этим способно стать «вот так» и «этак». Как раз потому, что он может изменяться, он способен столкнуться с другим. В этом контексте человек принципиально способен превышать свои пределы выходить за границы себя: «так» в связи с этим способно стать «вот так» и «этак». Справедливо говорит Сартр о том, что плотность бытия сколь бесконечна, столь же и тошнотворна. Лишь вторжение Ничто, которое инфицируется в плотность бытия человеком, способно не только заразить мир Свободой, но и, в принципе, поставить вопрос о границах. Граница сущего, перекодирующая хаос в ограненный космос, налагается на сущее человеком, несущим в себе саму эту границу как то, что отрезает посредством Ничто любое сущее от другого. Но, подобно тому, как Ничто приходит в этот мир через человека и его реальность, так и граница полагается человеком и через человека. Положенность же границ человеком может быть лишь тогда, когда он сам в своей сути заражен границей. В границе раскрывается самое сущностное в человеке, а сама граница, таким образом, – это то, без чего невозможно схватить то сущее, каковым является человек. Подобное же возможно лишь тогда, когда человек в своем бытийствовании не только налагает границы, но и постоянно и неизбывно их нарушает, ибо граница как таковая всегда полагается вместе с ее нарушением, с ее взломом. Именно поэтому в философской антропологии был поставлен вопрос об эк-центричности человека, а в экзистенциальной аналитике Хайдеггера – об эк-зистировании человека как изначальном «векторе» его бытийствования. Лишь постоянно взламывая границы, которыми человек, прежде всего, окружает себя изнутри себя самого, человек становится человеком. При этом сущностно, чтобы этот процесс налагания и преодоления границ не останавливался, ибо, подобно езде на велосипеде, остановка равносильна провалу. Не забудем, что сказал о человеке Фр. Ницше: «Человек – это канат между животным и сверхчеловеком, натянутый над пропастью», т.е. постоянный путь, прерывания которого бросает его в пропасть небытия. Предельная опасность остановки на долгом пути – если не к сверхчеловеку, то к самому себе – это обрыв в пропасть, когда ты срываешься с тонкой линии каната не назад к животному, но в манящую и завораживающую пропасть… Только так… И можно лишь спросить 118 Разрыв повседневности себя, а сколько людей останавливаются в своем движении? Ведь остановка – это полет в пропасть?! И этих падений в пропасть небытийствования человеком – не случайно сей титул использует М. Хайдеггер – не счесть: падение в суету, падение в обыденность, падение в заботы… И, конечно, в этой зоне перманентного падения мы можем «встретить» другого, но лишь как соучастника нашего падения, как свидетеля «изнутри» и «извне», но не того другого, который как враг вытащит нас на гребень каната и заставит – иногда вопреки нам – идти вперед, к самим себе… Как раз потому, что он может изменяться, он способен столкнуться с другим. Без идентификации себя, конечно, не обойтись, ибо взаимодействие с чистой субъективностью, т.е. с самим собой, удел не каждого. Дело в том, что самоидентификация смягчает силу мысли тем, что направляет ее от самого человека вовне, в результате чего мысль рассматривается уже в качестве способа познания внешнего мира. В обществах, где мышление хотят приструнить и утихомирить, как раз и уповают на разные формы индивидуального и коллективного отождествления. Следующим шагом становится отказ от сознания в пользу жизни. Действующий человек – он весь в действии без какого-либо остатка, тогда как осознающий свое действие человек понимает, что между ним и им же действующим есть существенное расхождение, связанное с двойной идентификацией себя: с отождествлением себя и с действием, и с осознанием действия. Причем переход от одной идентичности к другой, совершаемый под напором жизненной необходимости, осуществляется на основе осознания человеком единства самого себя. И если он перестает осознавать единство себя по причине, например, усталости или отсутствия интереса, то утрачивает способность связывать разные идентичности, застревая в одной из них. Человек всегда выстраивает себя на «надо» и «не надо», на «беру» и «не беру», на «принимаю» и «не принимаю». Всю его жизнь можно уподобить маятнику, движения которого определяют его жизненный мир. Язык и есть, в первую очередь, устройство такого «собирания» человеком себя и своего мира. Язык человека может Глава II. Свое 119 соединять и соотносить между собой все, что угодно, так же как и человек – посредством этого – способен связать себя с чем угодно и идентифицировать себя с чем угодно. Язык человека может соединять и соотносить между собой все, что угодно, Не только язык способен соединять все со всем и этим даровать возможность любой идентификационной процедуры человеку, пользующемуся этим языком. Подобная «всеядность» языка, дающая простор для соединения любого сущего с другим сущим, с любым феноменом, событием и т.п., базируется на изначальной парадоксальности нашего мышления. Мышление парадоксально и нелогично, и в этой нелогичности бесконечно креативно. В самом деле, именно в нашем мыслящем сознании мы способны не только выстраивать любые таксономии и схемы, но и думать, нарушая законы формальной логики. Например, я прекрасно могу удерживать в своем сознании, не разрушая «хваленое» единство самосознания, противоречащие друг другу предикаты, которые относятся к любому предмету или сущему. Я могу мыслить этот вот мобильный телефон, лежащий рядом с клавиатурой компьютера одновременно как черный и как не черный в одном и том же временном фрагменте его существования. Представить на уровне чувственности подобное, конечно, сложновато, но вот мыслить – да без проблем! И эту операцию может осуществить любой самый строгий логик, не переставая в своем сознании удерживать вдобавок «закон исключенного третьего», который запрещает подобное мышление как алогичное. Сознание паралогично и иррационально по своей сути, и язык в своем «узусе» следует указанной внутренней парадоксальности нашего мышления и сознания. Логика поэтому – лишь принуждение, репрессия определенной модели мышления, которая предписывает один горизонт мышления и запрещает другой; в этом смысле логика – не более, чем определенная «грамматика», некий «диалект» нашего мышления, который, кстати, вовсе не обязательно приводит к тому результату, на который нацелен, а именно – к пониманию. Ибо понимание выходит за пределы любой нормативно закрепленной логической процедуры, любого правила игры. А потому и процедуры идентификации, «собирающие» столь противоречиво мыслящее живое существо, которым является человек, в том числе «приходящие» из социального пространства, мо- 120 Разрыв повседневности гут быть абсолютно любыми. Человек может быть собран и как родственник тотемного животного, и как раб, и как геймер, и как француз, и как …думающий в рамках определенной парадигмы о сознании … Человек – не только то, что мы едим, но, в большей степени, то, о чем мы думаем… А думаем мы иррационально и поразному. А потому идентификационные процедуры, которые протекают в нашем сознании, используют и режим логики, и режим, основанный на алогичности. Выделение и преференции лишь одного режима – не более, чем «ментальная» фобия… А они, фобии, бывают разные… Так же, как разнятся языки этих фобий и механизмы, их запускающие, поддерживающие. Но – вот в чем загвоздка – эти фобии нуждаются в постоянном проговаривании. А потому социальное пространство (в том числе та его «часть», что действует изнутри нас) постоянно «говорит», не умолкая, постоянно выбалтывая и закрепляя в своем проговоре те грамматику и логику, которые как раз и обеспечивают постоянную сборку, идентификацию индивида по определенному и заданному традицией режиму. И даже тогда, когда идет «молчаливый разговор души с самой собой, звучат одни и те же «мелодии» и «слова», призванные через дрессуру и ритуальные асаны мысли поддерживать status quo. Ибо – как говорят физики – для творения мира и его поддержания нужно одинаковое количество энергии… Так и здесь: нужно не только первоначальное «слово творения», а постоянный приказ, корректирующий и подправляющий течение дел… Кстати: откуда они, физики, пришли к мысли о том, что поддержание и творение мира требуют одинаковое количество энергии? Я думаю, не столько через размышление об Универсуме или через математические расчеты… Скорее всего, в этой не очень прихотливой и оригинальной мысли проговаривается модель функционирования (конечно, спонсируемых социальными инстанциями) фобий нашего сознания, как раз обеспечивающих сборку индивида… А потому, по сути, все эти разговоры-фобии – асаны, подправляющие и обучающие процедурам перманентной сборки по определенному сценарию… так же, как и человек – посредством этого – способен связать себя с чем угодно и идентифицировать себя с чем угодно. Глава II. Свое 121 В деле «выстраивания» каких угодно идентичностей мы не встречаем сущностных препятствий. Если это и происходит, то такие затруднения объясняются нашим внутренним нежеланием связывать себя с чем-либо. Онтология же наша такова, что человек может отождествить себя со всем. Извне полемический разговор предстает в качестве некоего спарринга субъективностей, хотя сами собеседники воспринимают себя субъектами (акторами) собственных – в том числе и речевых – действий. В частности, разговор обычно строится так, что речь идет о том, что всем помнится, хотя важным является и то, кто об этом вспоминает и побеждает в своеобразном споре воспоминаний об этом при явном забвении другого, а может быть, и в деле утаивания третьего. Объективность внутри разговора невозможна: она возникает только там и тогда, где и когда исчезает субъективность, т.е. появляется иной субъект, не связанный с сутью разговора, а его описывающий. Каждый из разговаривающих основывает свою речь на своих состояниях и фактах сознания, разумеется, не совпадающих с состояниями и фактами сознания собеседника. Объективность сознания участвующих в разговоре возникает с его описанием; в описании фактичность сознания отделяется от остального содержания говоримого, к сознанию не относящегося. Когда все сказано, а точнее – высказано, разговор доходит до логического своего завершения и может возобновиться только тогда, когда люди обнаруживают логическую связь между фактами их сознания. В этом случае они становятся собеседниками. Реальный разговор сообщает нам нечто не только и не столько о фактах жизни, сколько о фактах сознания, которые к первым могут относиться только косвенно, а то и не относиться вовсе. В реальном разговоре происходит обмен фактами сознания, т.е. возникает некая его циркуляция. И если целостность жизни из жизни не видна и не явлена, то в ситуации реального разговора – через сообщения о фактах своего сознания – становятся понятны отдельные целостности жизни и жизнь в целом. Здесь важно обратить внимание именно на то, что жизнь – в разговоре – начинает пониматься и становится осмысленной. Правда, мы можем иметь разное отношение к тому, что говорит наш собеседник. С одной стороны, можем исходить из принципи- 122 Разрыв повседневности ального открытого отношения и принимать всерьез любое его высказывание, если и не с позиции содержания высказывания, что явно невозможно, то, по крайней мере, с позиции приятия формы высказываемого. Но даже если мы занимаем позицию отстраненного отношения к собеседнику, когда уже заранее и независимо от того, что он говорит, аналитически расчленяем говоримое, а наблюдаем в основном за своим к нему отношением, то даже в этом случае участвуем в процессе осознания. Ввиду распространенности разговоров в нашей жизни мы обычно склонны обращать внимание на содержательную сторону их протекания, но не на саму форму разговора и не на то, что, участвуя в нем и втягиваясь в него, человек говорит не об обстоятельствах своей жизни, а об их и ее понимании. Разговор позволяет обмениваться фактами сознания между его участниками каждого из них с самим собой. Причем поток сознания, внутри которого как-то пересекаются разные факты сознания, может не совпадать ни с потоком жизни говорящих, ни с теми жизненными фактами, которыми они заняты в решении проблем существования. Точнее, может как совпадать, так и нет; тут все зависит от способностей человека и его умения разводить факты сознания от фактов жизни. Но если это – эпизодически или периодически – все-таки происходит, то разговор предстает как «устройство» воспроизводства сознания, обеспечивающего для нас возможность включения в него и участия в его работе. Но если речь идет о реальном разговоре, то он строится таким образом, что говорящий, скорее всего, сообщает собеседнику о том, что ему самому не понятно по причине сращенности с ним этого «непонятного». Но если речь идет о реальном разговоре, то он строится таким образом, что говорящий, скорее всего, Скорее всего… Реальный разговор – это, чаще всего, разговор не о чем: нет предмета-объекта разговора, нет собеседования, нет мысли, нет понимания, нет внятной цели, нет ничего… просто поток слов… сам себя развлекающий и разве что «покрывающий» очень нужную зону нашей «невербальной совместности»… Ибо: Глава II. Свое 123 1. В обычной беседе, которую ведут люди, чаще всего нет подлинного «объекта» разговора: Конечно, вроде, все наоборот: мы постоянно говорим о чем-то, сообщая это что-то другому, нашему собеседнику. Но, во-первых, чаще всего (а потому сущностно) беседа – это беседа о том, что уже давно всем известно, и связана она, обычная беседа, скорее, с ритуальными процедурами поддержки уже знакомого и уже известного, с позой «подчинения» этому известному и дрессурой определенных поз поддержки уже известного. Огромный массив наших разговоров – это разговоры для того, чтобы разговор, собственно говоря, состоялся, разговор ни о чем. Что может вам нового сообщить ваш близкий, ведущий беседу с вами на кухне за обеденным столом? Ничего, ибо, как правило, сюжеты уже давно проговорены, а сама беседа часто напоминает «поток» постоянных и привычных воспоминаний и не менее привычных рассуждений. Как раз именно в подобном режиме происходит большинство наших бесед. И наоборот, тогда, когда мы встречаем, например, человека, которого давно не видели и который может рассказать нам много «нового» и неведомого нам, и кому мы, алаверды, можем поведать нечто из неизвестной ему «фактологии», то нам, как правило, ему сказать-то оказывается нечего… Разговор быстро затухает, и мы «внутри» себя радуемся, что вот приехал, наконец, автобус и прервал внезапную встречу на остановке. Разговоры, чаще всего, – это зона «экзистенциальной совместности», в которой не говорится ничего существенного, но, скорее, топос, в котором просто нужно с помощью «потока слов» зафиксировать эту зону совместности. Так, в обычной беседе, которую мы, например, ведем, покуривая перед входом на работу или попивая кофе в обеденный перерыв, то, что, вроде бы, может претендовать на предмет разговора, по сути, реальным предметом обсуждения не является. Ибо чаще всего то, о чем говорится, либо что-то уже всем известное, либо уже «прожеванное» тысячу раз… То есть говорим ни о чем… 2. В обычном разговоре иногда нет подлинного собеседования: Собеседование – это взаимная беседа, когда не просто слушают, но вслушиваются. Беседа, которая чаще всего происходит в повседневности – а горизонт повседневности, как я уже отмечал, сущностен и именно в нем развертывается «эйдос» реальной беседы, – 124 Разрыв повседневности это два иногда не пересекающихся монолога, а не диалог. В лучшем случае, беседующие, в большей мере, ищут «топос», для того чтобы «элегантно» развернуть собственный монолог, который, конечно, также прерывается лишь для того, чтобы уступить место монологу другого. Подобный режим – это не режим «совместности», разве что экзистенциальной совместности. Но в этом режиме, собственно говоря, все равно, о чем говорится, но сущностно – с кем говорится. Прекрасный образец подобной диалогичности – знаменитые диалоги Платона, где роль собеседника Сократа – ни в коей мере не роль реального равноценного участника, фиксирующего свой голос. Сами реплики оппонентов Сократа, разнообразящие «унылый ландшафт» его монолога самого с собой, сводятся, по сути, к «одобрям-с». 3. В обыденной беседе отсутствует подлинная мысль: Не открою никакой «научной» тайны, если скажу, что самый распространенный предмет разговора – о погоде. Всем прекрасно известен тот факт, что девяносто процентов разговоров связаны с рассуждениями о погоде. Такую беседу, при всех «формальных» признаках мысли (что-то ведь «шевелится в сером веществе мозга»), только с известной долей и сарказмом можно полагать както связанной с мыслью. В подобных разговорах мы не мыслим, но, скорее, речь идет о том, что я бы предпочел назвать «мыслительной жвачкой» – постоянный пересказ уже рассказанного и т.н. общих мест, а также обсуждение того, что «в принципе» не может быть мыслью. Типичный, среднестатистический разговор – это своеобразная игра в «пинг-понг», когда существует лишь одно правило: для того чтобы разговор не прекращался, мы должны постоянно перебрасывать друг другу «мяч» реплик-монологов. 4. В обыденной беседе отсутствует подлинное понимание как другого, так и того, что сказано: Если, конечно, дело не идет о понимании самого себя и сказанного самим собой... Подобно тому, как никто никогда никого не переубедит, но лишь отточит орудие своих возражений и доводов, так и в отношении разговора, происходящего как обычное времяпрепровождение, т.е. как «звуковое» сопровождение зоны экзистенциальной совместности, собеседники в меньшей мере нацелены на понимание. Конечно, мы понимаем собеседника, но это, скорее, происходит потому, что понимание, как говорил М. Хайдеггер, Глава II. Свое 125 исходный экзистенциал того сущего, которое есть Dasein. Но наше понимание того, что говорит собеседник, «сильно разнится» с тем, что наш визави хотел бы донести до нас. Мы настроены на понимание, но происходит это отнюдь не потому, что в процессе разговоров мы нацелены на то, что зафиксировал Ж.-П. Сартр, а именно – на самопревосхождение, позволяющее «подняться» на уровень Другого. Скорее, Другой наших бесед – это не «механизм», включающий понимание, а, наоборот, это то, что помогает человеку оставаться в несколько ином режиме понимания, а именно – в режиме того, что М. Хайдеггер фиксировал как толки, т.е. понимание развертывается не как преодоление, а как выстраивание зоны толков. 5. В обыденной беседе отсутствует цель: Если, опять же не говорить о том, что единственной целью является поддержание самой беседы и жизненной совместности. Конечно, можно заявить о том, что телос разговора помещен внутрь самого разговора, а потому мы имеем «прихотливую» структуру самообоснования, «порочного круга» герменевтического круга понимания… Но, честное слово, это не та ситуация, о которой говорил М. Хайдеггер в «Истоке художественного творения»: «Итак, мы до конца должны пройти по кругу. И это не вынужденный выход из положения и не недочет. Сила мысли в том, чтобы вступить на этот путь, и торжество мысли в том, чтобы не свернуть с этого пути…»1 Как наоборот: Сила мысли как раз в том, чтобы свернуть с этого пути… пути обычного разговора Ибо в нем нет ничего… И если есть «ничто», то это отнюдь не то Ничто, которое, разламывая плотную шеренгу коммуникаций, действий, «разговоров по душам» и т.п., инфицирует мир Свободой, но то Ничто, о котором-то и сказать-то нечего, а вернее, о котором и говорить ничего не стоит… сообщает собеседнику о том, что ему самому не понятно по причине сращенности с ним этого «непонятного». 1 Хайдеггер М. Исток художественного творения / Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. М.: «Гнозис», 1993. С. 52. 126 Разрыв повседневности В силу предельного вовлечения в ситуацию говорящий не может сам собраться в себе, но может сделать это в процессе и в результате разговора. Дело в том, что собеседник не настолько интегрирован в ситуацию, которая так мучительна для говорящего и он – за счет соблюдения определенной дистанции от содержания ситуации – получает возможность увидеть ее «изнаночную» сторону и столкнуться не только с протеканием действий, но и с их закономерностями. Вместе с тем собеседник хочет понять и себя самого, однако не может этого сделать по той же причине вовлеченности в свою жизнь и связанными с ней ситуациями, если только не обращается к разговору и полагается на его структуру. Разговаривая, человек стремится, насколько возможно, отойти от своих проблем в сторону, что достигается путем намеренного вовлечения в проблемы собеседника. Важно обратить внимание на то, что и тот отводит свою душу от своих забот и проблем путем обращения к проблемам другого. В результате каждый обретает возможность увидеть своѐ с другой – новой – точки зрения. Все это, правда, срабатывает, если беседа не сбивается на нытье и не становится трепом. Здесь к месту будет добавить, что разговаривающим многое понятно и приемлемо друг в друге потому, что они опираются на общие слова, но если один из них начинает говорить о «своем», возникает непонимание. Постепенно до человека начинает доходить, что в нем самом и в его собеседнике, который еще недавно мог восприниматься как свой, много другого. Другой понуждает нас обратить внимание на того в себе, кого мы – без этого «понуждения» – не знали. Вероятно, новое, которое теснит в нас то, что мы о себе знаем, формируется тогда, когда мы кому-то становимся интересны, в том числе – интересны как собеседники. Остается вопросом, удается ли нам сохранить то, что мы благодаря разговору в себе открыли, когда разговор заканчивается, и собеседник пропадает. Как вопросом остается также и то, что нас больше занимает в разговоре: то, что мы в себе знаем, или то, что мы в себе не знаем, т.е. способны ли мы принять изменения своего и другого в нас. Иначе говоря, человек справляется со своей субъективностью путем ее частичной объективации, тогда когда не понимает, но хочет понять себя: он обращается к себе через другого. В этой связи раз- Глава II. Свое 127 говор важен не только сам по себе, но и своими последствиями. Вот почему стоит после его окончания снова и снова обращаться к нему, пока это нас интересует, т.е. пока устройство разговора срабатывает и как-то резонирует случившееся понимание. Мы принимаем нечто за утрату потому, что мы в это «нечто» уже как-то вложились: вложились всем своим существом; своими чувствами и впечатлениями. Впечатления связывают разное в одно – в один узел, и чем сильнее впечатление, тем крепче узел. Некоторые из этих узлов нам не развязать ввиду силы этих впечатлений, а построения, основывающиеся на таких впечатлениях, могут быть демонтированы только после смерти человека. Для изъятия себя из того, во что мы «с головой» погрузились, необходим труд; труд «доставания» своей субъективности через ее объективацию. Обычно результатом такой объективации становится текст разговора, продумывание которого позволяет разжать тиски страдания и освободить из них своѐ. Разговор помогает осознать то, что ты можешь знать, но не осознавать этого. Осознание требует труда, направленного на смещение человека за пределы знаемого и отождествление человека с тем, что он знает. Такое смещение необходимо для любого понимания; смещение хотя бы на один уровень (ранг) в сторону от того тождества, которое мы хотим понять, собственно, и происходит в разговоре. И даже если человек, вроде бы, приходит к осознанию сам, то в действительности он обязательно прибегает к разговору с самим собой. Устройство разговора помогает человеку, во-первых, воспринимать себя; во-вторых, знать, что он себя воспринимает; и, втретьих, понимать, что он знает себя действующего. К тому же разбираясь в этом, он перестает путать это и в своем собеседнике. Разговор позволяет актуализировать и привести в действие присущее нашему сознанию диалогическое устройство, позволяющее каждому из нас вести беседу с самим собой через обращение к собеседнику, т.е. к другому. Другой, а точнее – его речь, разбалансирует поток внутренней речи и однонаправленность нашего сознания, позволяя ему собираться в процессе разговора уже на иных основаниях. Состоявшийся разговор важен обоим, ибо каждый понимает себя через другого, и потому важны открытость разговора и настрой принять все, что внутри него определяется именно на свой счет. 128 Разрыв повседневности Дело в том, что мы все уже как-то настроены: настроены жизнью и ее заботами, когда вынуждены ежедневно решать массу проблем, связанных со своим существованием. Мы уже настроены ритмом жизни; настроены ритмом «биологических часов», разнообразными физиологическими ритмами и ритмами социальной жизни. Они уже нас ведут, уже тащат за собой, уже поглощают. К тому же человек не только иногда, т.е. периодически, захватывается теми или иными потоками жизни, он уже весь и сразу охвачен жизнью. В нашем организме развиваются сотни, если не тысячи, процессов, наше тело растет и изменяется независимо от наших коррекций. И вырваться из всего этого многоголосого ритмического поля, нас уже захватившего и охватившего, в самого себя невероятно трудно. К тому же попадание в себя связано если и не с полной остановкой, то, по крайней мере, с приостановкой многих ритмов. Необходима смена настроения; нужны своеобразное перемещение настроя и сосредоточенность на целостности себя. Ритм не дает пережить полноту себя. Это происходит потому, что, приобщаясь к ритму, мы отвлекаемся от себя в сторону жизни. Вот здесь то и важно обратиться к настроению разговора, важно ему поддаться. Но если можешь настроиться на разговор и способен это сделать, то сможешь многое понять в себе. Сможешь осознать себя. Сможешь, например, разобраться в том, что соотносишь с собой и обычно принимаешь на свой счет, потому что не думаешь. Жизнь самодостаточна. Она мотивирована запросами нашего существования, и к нам – без разговора – может не иметь прямого отношения; может никак к нам самим не относиться. Благодаря разговору то, что мы, не думая, считали своим и соотносили с собой потому, что оно было отнесено к нам жизнью, ее случаями и ситуациями, перестает представать таковым. Входящее в нас само по себе и без нашего ведома, т.е. без нашего осознания, нас самих укреплять, конечно, не может. Оно нас, скорее, разрушит; растащит и разбалансирует. На фоне сознания неосознанные жизненные содержания, взятые сами по себе, должны восприниматься как контрабанда и беззаконие. На фоне сознания неосознанные жизненные содержания, взятые сами по себе, должны восприниматься как контрабанда Неосознанное – это контрабанда par exellence. Продумаем сейчас, что такое контрабанда… Не буду, впрочем, «играть» в деконст- Глава II. Свое 129 руктивизм, хотя и напомню, что Ж. Деррида советовал помыслить контрабанду как contre-bande, т.е. исходя из ресурсов данного термина, разделив предварительно его на две части. Правда, я уже и не помню, где и когда это советовал Ж. Деррида, может быть, во время его первой лекции, которую он прочитал в Москве и на которой мне посчастливилось побывать. Но все же вслушаемся в разделенную дефисом «контра-банду»: в этой раздельности слышны различные голоса-значения: «против», «связка», лента, связующая «оппонентов», и т.п. Нет, конечно, я осведомлен об итальянских корнях термина «контрабанда» (contrabbando, от contra – против и bando – правительственный указ). И в этом значении то, что включается в нас против нашей воли, минуя наши пограничные, заградительные для самости, рубежи, является контрабандой. Теперь вопрос: что чаще всего, минуя все кордоны рациональности, поставляется «внутрь» «суверенного государства» нашей самости? Скорее всего, не столько разговоры или «беседы ни о чем», которые не очень затрагивают нас, сколько «приказы» и «указы» социального пространства. Социальные императивы, проскользнув «внутрь», пронеся мимо зримых и контролируемых рубежей рациональности свой «товар» и реализовав его на «внутреннем рынке» нашей самости, получают взамен власть над этими самыми пограничными редутами нашей самости. Но сейчас я не хочу рассуждать о роли социальных инстанций, а рассмотрю ситуации контрабанды, которая всегда возникает при выстраивании любых рубежей. Как правило, предметом контрабанды оказывается самое нужное и самое ценное, причем то ценное и нужное, которое в зримом, «открытом» режиме не может быть перемещено через границу. Но что, по сути, является тем ценным, что можно перемещать контрабандой через «колючую проволоку» и заградительные рвы нашей самости? Ответ очевиден: ее саму, эту самость, т.е. свою аутентичность и свое «я». Сама же граница как раз и устанавливается не по модели отношений Я/не-Я, а как постоянное курсирование этой самости, устанавливающей саму себя в режиме постоянной контрабанды, т.е. сокрытия и утаивания себя от себя же. Без указанной постоянной процедуры контрабандного перемещения «я» само «я» невозможно установить как нечто подвижное, ускользающее, а потому сохраняющее Ничто внутри тотального детерминизма нацеленных на самость социальных машин и инстанций. Причем история-биография сборки самости – довольно «потешная» и прихотливая история, а 130 Разрыв повседневности маршрут, прокладываемый «контрабандистами» – они же «представители» и самости, и, одновременно, инстанций, стремящихся подчинить эту самость, – демонстрирует, что в этом пространстве есть лишь один закон: закон отсутствия любого закона. Зона нашей самости – это зона постоянной перекодировки, мимикрии, обмана и самообмана, экивоков, демонстраций намерений и силы… и постоянной контрабанды, которая протаскивает не что иное, как ее саму – контрабанду как таковую; контрабанду без какоголибо «товара», контрабанду Ничто. Мы, таким образом, имеем процесс ради постоянного процесса, процедуры сборки, которые есть не что иное, как процедуры ускользания от сборки, и т.д. В результате этих прихотливых контрабандных «па» и рождается самость, Ничто, становящееся Нечто, властно утверждающая свое Ничто как Нечто… Но эта динамика – не только динамика утверждения нашей самости: такова стилистика самоудостоверения, которая свойственна любой власти, в том числе и власти самой самости… А потому эту стилистику конституирования можно обнаружить, если пристально присмотреться к процессу утверждения и создания властных социальных инстанций… Правда, чтобы разглядеть эту динамику «контрабанды», нужно не идти тропами риторики и историй, рассказываемых самими этими инстанциями и их научными проповедниками и «прозелитами»… А потому расскажу одну историю, которая произошла со мной несколько лет тому назад. Волею судьбы меня занесло в Президентскую библиотеку, которая расположена на Сенатской площади в моем родном Питере. Событие, на котором я должен был присутствовать (направили-попросили) и тем – вкупе со многими другими участниками – его, собственно, и удостоверять (ибо иного алиби у него, как я подозреваю, и не было), было посвящено какой-то дате, связанной с жизнью и деятельностью бывшего президента всея Руси Б. Ельцина. Простите, что запамятовал, чему именно было посвящено мероприятие, участником которого я стал, но не суть. На нем выступали «замшелые» и уже никому не интересные персоны типа бывшего президента Белоруси С. Шушкевича, некогда жителя политического олимпа Г. Бурбулиса и т.п. Вышеназванные и вышедшие в политический тираж деятели выступали преимущественно перед молодежью, «приглашенной» на данное мероприятие. Мероприятие в целом никому не нужное, раз- Глава II. Свое 131 ве что упомянутым former-политикам, наивно полагающим, что их идеи найдут приверженцев в рядах «делегированных» рядом вузов студентов. Но не об этом мероприятии, почти сразу же канувшем в лету, я хотел бы рассказать, но о самой Президентской библиотеке. Надо сказать, что доступ в оное помещение чрезвычайно затруднителен и, по сравнению с ним, то, что происходило при «предполетном» досмотре пассажиров того времени, – «детские шалости». На входе не сильно улыбчивые, но при полном осознании величия своей важнейшей работы секьюрити «шмонали» профессорско-преподавательский состав и студентов на предмет «недозволенных» к проносу вещей. Справедливости ради отмечу, что в этот день они усердствовали не сильно, ибо, видимо, понимали, что публика, которую «согнали» на сие мероприятие при «чрезвычайной» враждебности с их стороны, просто «сделает ноги» и проводить мероприятие придется при пустом зале, а это явно в расчет его организаторов не входило. Прошел сию процедуру досмотра и я. Не скажу, что это породило во мне душевный трепет и уважение к стенам сего заведения. Для тех, кто успешно прошел «допинг- контроль» неприветливых работников, явно видящих во всех и вся злокозненных вредителей и вражеских агентов, организаторами мероприятия, видимо, в качестве компенсации за «душевные издержки», была предложена беглая экскурсия по части помещений данного заведения. Скажу честно, не очень меня порадовал интерьер Президентской библиотеки, где меня особо удручил не столько безвкусный новодел, сколько галерея написанных маслом портретов, художественная ценность которых была, по моему разумению, гораздо ниже тех «шедевров», которые продаются на Невском проспекте «ничего не смыслящим в искусстве туристам». Но святая святых любой библиотеки – это ее читальный зал. Естественно, нас туда и повели. К своему удивлению (а я заранее не прочитал, что это такое, Президентская библиотека), я там обнаружил лишь столы с уныло потухшими мониторами и… НИКОГО. Ни одного читателя. «Экскурсантам» пояснили, что, собственно говоря, библиотеки в обычном ее значении здесь как раз и нет. Есть «компьютеры», с помощью которых можно «лицезреть» отсканированные документы и книги, хранящиеся вне стенах данного здания в специальном хранилище. 132 Разрыв повседневности Конечно, при таком спектре «услуг», вкупе с секьюрити на входе, желающих воспользоваться услугой данной библиотеки было не то чтобы немного… их не было совсем. Зачем получать то, что, в принципе, можно скачать на свой компьютер, не выходя из дома в Интернете, в стенах не очень приветливого, по крайней мере, на входе, помещения? Я спросил тогда у «джентльмена», проводящего экскурсию, почему же такая «страшная» охрана сего пространства, если нет «драгоценных фолиантов» или более или менее ценных художественных шедевров? Ответом было упоминание о том, что в этом здании есть кабинет, в котором может работать сам Президент России. На вопрос же о том, был ли хоть один случай, когда Президент работал здесь, я получил вполне ожидаемый мною отрицательный ответ. Тогда зачем все эти кордоны? Зачем недружелюбная и явно не с самыми низкими зарплатами охрана? Зачем весь этот «цирк»? И тут я понял: передо мною – прекрасная и емкая иллюстрация того, как Ничто «материализуется», как Оно становится чемто… Зоны контроля, кордоны, выстроенные вокруг Ничто, ибо ничего в этом пространстве библиотеки нет, более того, этот сгруппированный вокруг Ничто «мир», мироокружье Ничто, лишь на уровне предельной нелепой риторики сохраняет свою опору, алиби своего существования. Но если мы сделаем совсем небольшой шажок в сторону от самообмана риторики, то она рассыпается, как трухлявый гриб: ни посетители, ни работники библиотеки не верят в возможное присутствие первого лица нашего государства, т.е. даже в риторическое алиби вменяемости и оправданности данной библиотеки. Это пространство, как и многие другие социальные и государственные инстанции, выстраивают, конечно, риторику своего обоснования, ссылаясь в данном случае на возможность (невероятную во всех отношениях) работы в библиотеке Президента, на возможность «инфицирования» «несанкционированными» предметами, которые могут занести в него незадачливые случайные посетители, и т.п. Весь этот огромный штат различного рода рабочих – от уборщицы до охранников – обеспечивает лишь сохранность и жизненность «совершенно пустого» пространства, выстраивая как свою динамику лишь стилистику курсирования и охранения Нечто, изначально являющегося Ничем. И все ради того, чтобы установить кордоны и этим не только оправдать Ничто, Глава II. Свое 133 но и породить, как контр-алиби своего существования, контрабанду. И не важно, что контрабанды, по сути, нет, она есть лишь как чистая и никогда не реализуемая возможность, но сами режимы охраны Ничто от несуществующей контрабанды не только обеспечивают конституирование этого Ничто как Нечто, но и призваны обеспечивать бытийственность тому Ничто-событию, состоявшемуся в этом царстве Ничто, свидетелем которого я и стал… Конечно, это, как говорят теперь, мое личное мнение, мое видение… Но мое личное мнение и мое видение случившегося не столь уж ситуационно и сингулярно, ибо рассмотренная стилистика обустройства – это стилистика конституирования прежде всего нашей самости… Именно поэтому рассказанный случай (и само событие, и библиотека как зона пребывания и развертывания Ничто) и возможен, ибо подобный сценарий, его возможность, положен на онтическом уровне, т.е. является онтическим сценарием, онтической матрицей. А потому в различных социальных инстанциях, имя которым легион, мы можем наблюдать динамику выстраивания и обустройства, призванную гарантировать не только собственную, весьма сомнительную вменяемость, но и вменяемость нашей – как это ни грустно – самости… Где, повторю, единственным режимом установления в пограничном пространстве контрабанды является один закон: тотальное отсутствие любого закона… и беззаконие. Свой человек – это человек удобный и устраивающий. Он таков потому, что у него не проявлено – и в первую очередь им самим – своѐ начало. Как раз по причине отсутствия у него своего собственного ядра он и способен становиться «своим» для другого. Наш человек возникает в ситуации, когда речь идет уже не столько о другом, сколько о других – о «мы». Думается, что здесь падение еще более очевидно: не делая радикального шага, от «мы» к «я» не вернуться. Если по отношению к «своему» человеку еще можно задать вопрос, относительно кого он является «своим», то в отношении к «наше- 134 Разрыв повседневности му» человеку делать это практически бессмысленно, ибо выход к его субъективности как таковой потерян. В перспективе «своих» и «наших» людей человеку трудно поставить вопрос о сугубо своем этосе. И если человеку совестно и стыдно за «своих» и «не своих», за «наших» и «не наших», то это не значит, что ему стыдно и совестно за себя. Отношение к себе в проеме таких построений не формируется по причине отсутствия мысли о своей субъективности, ведь я только прилагаю к себе все эти «мерки», но себя-то я не знаю. Действительное знание всегда предельно индивидуально и личностно. Уйти от обязанности быть тем, кем являешься для других, трудно, однако надо понимать, что такая обязанность существенно отличается от обязанности быть собой. Столкновение человека со своей – не знаемой им ранее – волей не всегда ведет его к своему освобождению. Дело в том, что, не зная воли и столкнувшись с ней, человек стремится ею насытиться и испить ее до «конца», что невозможно, и потому – легко впадает в произвол. Он подчиняется тому, что его несет и заносит. В произволе невозможно найти ни своего, ни другого, ни чужого: особенность человека в произволе не заметна; она не замечается. Только проникая в суть свободы, человек сталкивается со своим и способен отличить себя от другого и чужого. Произвол же проявляется в отрыве человека от самого себя, когда он заходится, не знает и не помнит себя, как это случается в разгуле. Втягиваясь в произвол, человек теряет себя и свои человеческие очертания. Нуждаясь в приостановке траты себя, он может отяготиться произволом, однако незнание им себя устремляет его к внешнему порядку по отношению к самому себе. Произвол обнажает в человеке, в него втянутом, отсутствие или недостаток полноты. Пытаясь побороть свой произвол, он тянется к тому, чтобы подчинить себя внешней силе. Причем обоснование отказа от свободы – как в отношении себя, так и в отношении любого другого – осуществляется именно в форме произвола. Даже столкнувшись со свободой, несвободный человек будет полагать, что здесь он сталкивается с произволом других, таких как он сам несвободных людей, а значит, будет полагать, что он сталкивается только с демонстрацией и имитацией свободы. Глава II. Свое 135 Свобода наполняет человека собой: будучи собой, человек переживает состояние, когда способен сделать все, в какую бы сторону не двинулся, ведь с ним – в эту сторону – движется вся полнота его присутствия. Поэтому-то свободой может воспользоваться только тот, кто уже свободен в том, что он есть до всякого предоставления ему какого-либо права извне и до его освобождения другим. Свобода наполняет человека собой: будучи собой, человек переживает состояние, когда способен сделать все, в какую бы сторону ни двинулся, ведь с ним – в эту сторону – движется вся полнота его присутствия. Свобода – «скульптор» Человека, она отсекает все лишнее, оставляя только то, чем мы стремимся быть. Свобода приходит из Будущего как бесконечный горизонт наших возможностей, тех возможностей, которые приводят нас к самим себе. Именно потому, что Свобода приходит из Будущего, она неуловима и разрушительна. Она разрушает ставшее, оживляя своей непредсказуемостью брутальный детерминизм и разрывая плотные шеренги неумолимой данности… Ни в коем случае – не осознанная необходимость… Свобода – то, что, по крайней мере для меня, постоянно раскрывает бесконечность возможностей, которые с годами кажутся все уже и уже… Опыт Свободы – у каждого свой, у каждого – своя Свобода, как и своя смерть… Мой опыт Свободы шел от Свободы – как негации и Свободы – как неуловимого для рефлексии «ощущения» Свободы… И – протест. Протест вопреки, вопреки даже себе и собственной прагматике. Свобода – не тотальность, но «нечто» предельно личное, сингулярное, можно даже сказать – непередаваемое и невыразимое до конца… Об этом опыте, предельно личном и до конца не поддающемся словам, созданным выражать лишь типичное и поверхностное (а потому бесконечно был прав Хайдеггер, говоря о том, что в базовых сферах реальности у нас нет слов для передачи того, 136 Разрыв повседневности что там происходит: язык буксует), сказать бесконечно трудно, если вообще не невозможно… А потому: немного о том личном, которое раскрывало для меня горизонт Свободы. Хорошо помню тот неуловимый вкус и флер Свободы, который возникал тогда, когда, вопреки собственным интересам, требованиям окружающих регламентов и правил, я все же решался на тот жест, который давал ощущение Свобода. Причем этот жест развертывался не только против тех социальных инстанций и институций, которые, конечно, постоянно посягают на нашу Свободу, но, скорее, против того внутреннего цензора, который обеспечивал внедрение этих социальных инстанций. И – чаще всего тогда, когда за «жест против», за «местный бунт», за нарушение установленных регламентов приходилось в ближайшем будущем нести ответственность, т.е. ответ за свою Свободу, за свое неприятие устоявшегося и принудительного. Иными словами, ощущение Свободы возникало не столько при нарушении «социально-внутреннего» детерминизма, сколько при осознании негативных последствий свободного поступка и решимости нести эту ответственность. И это был для меня первый и хорошо осознанный и опознанный в своей фиксации миг Свободы. Именно этот мой личный изначальный опыт Свободы на уровне «физиологии» заставлял полностью не принимать то понимание Свободы как осознанной необходимости, которое внедрялось во времена моей молодости марксистской идеологической машиной. Альтернатива, которая инициировалась личным экзистенциальным опытом Свободы, выстраивалась довольно простая: либо необходимость, либо Свобода, ибо осознанная необходимость никогда не станет Свободой, а Свобода – осознанной необходимостью. Понимание Свободы как осознанной необходимости могло, по моему разумению, выстроиться разве что в сознании такого «певца государственности», коим был Г. В. Ф. Гегель. И это опыт Свободы, который, я полагаю, у каждого свой. Я полагаю, что Свобода, как и «Комната № 101» в романе Дж. Оруэлла, – всегда предельно индивидуальный путь. Именно изначальное понимание Свободы, которая всегда и везде против любой личины необходимости, раскрыл для меня то, что Свобода, первоначально данная как негация, как отрицание, разрывает не Глава II. Свое 137 только те путы, которые на нас налагает социальное пространство, но и то, что идет изнутри нас самих. Свобода – не только против «вовне», но и против того, что «внутри» нас. Она отсекает от нас и то, что не наше, и то, что мы опознаем как «наше», «собственное» и предельно лично значимое. Именно она, Свобода, ставит их под вопрос «на предмет» их истинности, истинностидля-нас. Вопрос, на который нет однозначного ответа, который нас подвешивает в неизвестности и заставляет «попробовать на прочность» любые наши привязанности, обязанности, ценности. Она, Свобода, как «глоток» неизвестного и Будущего, неуловима для сетей внятной и прирученной рефлексии. Именно она понуждает нас поставить под вопрос нас и нашу обжитую и привычную окрестность, заставляя обратиться в этом вопрошании к нам как к сингулярной и не связанной ни с чем целостности, причем целостности в каждой нашей «клеточке» и в каждом нашем «чувстве». Но происходит это чаще всего внезапно, как испуг, как то, что способно «пробить» плотные редуты любых форм необходимости и действия социальных машин тотализации. И это внезапное и ничем не мотивированное вторжение Свобода застает врасплох выстроенную и застывшую в своей непогрешимой уверенности рациональность. А потому Свобода – то «средство», которое приводит нас к самим себе, очищая от всего «ненашего», «внушенного» и уже давно плотно «приклеенного» к нашей самости. Приклеенного настолько плотно, что мы полагаем внушенные и выдрессированные асаны нашей самости нашим и своим и что оторвать от себя оказывается бесконечно болезненной и иногда просто невозможной процедурой… Наверное, в этой не очень «комфортно» экзистенциальной ситуации вторжения Свободы мы «интуитивно» опасаемся, что за теми одежками, которые мы носим, просто нет ничего… Может, конечно, под ними нет ничего, но, если очень «постараться», под ними можно найти Ничто… Не забудем: чешуи Дракона, на которых было написано «Ты должен» (Фр. Ницше «Так говорил Заратустра»), – не рубашка, надетая на тело Дракона. Они, эти чешуйки, – и броня от внешнего, и, одновременно, то, что вырастает изнутри… А потому борьба за свою Свободу – это не столько борьба с внешним, но, в большей степени, это борьба с самим собой за себя самого. Бесконечный путь к самому себе, где путеводной нитью может быть лишь одна Свобода… и ничто иное… 138 Разрыв повседневности И Ничто… Которое, меняясь местами со Свободой, приводит нас к Иному, т.е. к самим Себе… Поэтому-то свободой может воспользоваться только тот, кто уже свободен в том, что он есть до всякого предоставления ему какого-либо права извне и до его освобождения другим. Само право свободы мало что дает или, точнее, не может дать ничего, если до его введения уже не находится свободного человека. Скорее, даже, если такого – свободного – человека нет, то предоставление такого права грозит обернуться произволом, вносящим хаос и не позволяющим человеку собраться в себе. Иногда важно, чтобы то, к чему ты готовился, не состоялось. Возможно, именно это захлебнувшееся желание действовать станет своеобразным провалом в налаженном ожидании существующего, помогая тебе сдвигаться и разворачиваться в сторону сознания. Это позволит тебе, пусть на время, но отгородиться от чужого, давая шанс приблизиться к себе. Да и у не пришедших, но ожидаемых тобой людей появится шанс обратиться к самим себе, отстранившись от облика и образа, выстроенных по лекалам твоих ожиданий. Любой уход и любой отход от ожиданий нельзя понимать однозначно, что обыкновенно мы и делаем, стремясь поддерживать собственность территории своего существования. Обычно мы полагаем, что некто уходит от нас обязательно к другому, и если он не соответствует нашим представлениям, то значит он начал связывать себя с представлениями других людей. Но другого может и не найтись ввиду разворота этого человека к себе самому. Действия человека могут в действительности оказаться поступками, т.е. такими действиями, которые совершаются на основе собственных взглядов человека и его воли, что «со стороны» всегда будет восприниматься по-другому. Как и любое «своѐ», поступок извне топологического поля, внутри которого он совершается и уместен, понимается иным образом: например, в параметрах социального пространства он может быть неуместен ввиду объективности своего рассмотрения, когда все субъективное просто не воспринимается и – этим – не допускается к бытию. Необходимо научиться смотреть на действия человека в контексте опоры совершающего их на самого себя. Вне связи с собой и фактами его сознания они могут восприниматься нами в качестве нелепости и глупости. Здесь Глава II. Свое 139 исключительно важно понять то, из каких побуждений исходит человек – из себя или из представлений кого-то другого. Разумеется, все это может оцениваться совершенно по-разному, однако понятно, что опирающийся на себя человек вовсе не обязательно, отказываясь от ожидаемого тобой образа, который в твоих глазах был близким, родным и своим, уходит от тебя к другому. Понятно, что тот, кто давал поводы и подавал знаки к тому, чтобы его считали своим, может восприниматься нами ненадежным. Но, вместе с тем, это может представать таковым и потому, что мы полагаем, что ему непременно надо соответствовать нашим о нем представлениям. Мы не учитываем, что человек может измениться, и тогда его ненадежность – это обратная сторона его внутреннего самостояния и опоры его на себя. И то, что выступает для нас как неоправданное действие, в действительности может оказаться поступком. Налицо столкновение представлений о человеке, которое подкрепляется опытом прошлого и собственно на нем же основывается и настоящего, которое из прошлого не видится. И потому для выявления полной и многосторонней картины реального положения дел необходимо допускать изменение любой ситуации, изменение любого человека и изменение самого себя. В этой связи заметим, что измены влекут человека потому, что посредством их он как-то изменяется; способен измениться. Измена связана со стремлением человека преодолеть границу, отделяющую его – в его верности кому-то – от себя самого, когда он может сосредоточиться в себе и на себе, отделяя себя от всего того, к чему он привязан и что, вероятно, теснит и сжимает его. При воспоминании об изменах и превращении их в факты сознания, человек изменяется и становится способен поменять сложившееся было положение дел в осознании себя. И потому измена может пониматься двояко: и как факт жизни, и как факт сознания, которые могут совпадать, но могут и никак между собой не соотноситься. Осознать настоящее в качестве того, что есть в единении и охвате всех моментов тебя, включая не только того, кто и как ты есть, но и такого, кем и как ты был, с того момента, как осознал себя и понял, что это был и есть ты, трудно. Здесь мы сталкиваемся с такой странностью настоящего, когда оно длится и выходит за границы данного момента. К тому же рассуждать о настоящем трудно по причине априорности чувственных форм «пространства», «време- 140 Разрыв повседневности ни» и «причины». В итоге настоящее человека оказывается распределено и разложено в пространстве и времени, а также связано разнообразными причинно-следственными отношениями. Здесь мы сталкиваемся с такой странностью настоящего, когда оно длится и выходит за границы данного момента. К тому же рассуждать о настоящем трудно по причине априорности чувственных форм «пространства», «времени» и «причины». Не забудем: бытие – это временение. А потому и задавать вопрос о том, что такое бытие, – не совсем корректно. Это все равно как спросить, что такое «бежать» и «бег». Бытие, грубо и очень неуклюже, – это процесс бытийствования, т.е. не то, что «погружает» нас во временной поток, но, скорее, то, как «временится» то или иное сущее. Конечно, можно задавать любые, самые нелепые вопросы, но не надо забывать, что сам вопрос – даже если он не ориентирует на однозначный ответ – уже изначально «перекодирует» вопрошаемое, ибо предписывает двигаться в ответствовании в определенном русле, т.е. раскрашивает его в опредленные «цвета» и «оттенки». Вопрос о любом сущем, а уж тем более о бытии сущего, о бытии «самом по себе», не «безразличен» самому бытию. И мы должны со всею тщательностью остерегаться задавать его так, чтобы задать неверное направление ответствования. А потому мы и настаиваем, что вопрос, заданный в том стиле, в котором вопрошают «сущее» на предмет что оно такое, не применим к вопросу о бытии. Вопрос о бытии, ориентирующий движение ответа «в сторону» что, порождает определенную «субстантивацию» бытия, заставляет «процессуальность», дление бытия исчезнуть или остановиться. Корректнее было бы вопрошать о бытии не что оно такое, а, скорее, как оно такое. Удержим, таким образом, временной «окрас» бытия, чтобы посмотреть, как про-исходит временение. Временение, которое и раскрывает смысл бытийствования, т.е. бытия. Ключевой позицией в вопросе о времени мы возьмем сейчас не позицию И. Канта или М. Хайдеггера, но бл. Августина. «Расшаркавшись» «во первых строках» одиннадцатой книги «Исповеди», как и положено религиозному мыслителю, в отношении вечности Бога, непостижимости времени и слабости несовершенного человеческого разумения, бл. Августин фиксирует то, что Глава II. Свое 141 станет отныне той позицией, с которой – явно или неявно – согласуется дальнейшая рефлексия о времени: «Совершенно ясно теперь одно: ни будущего, ни прошлого нет, и неправильно говорить о существовании трех времен: прошлого, настоящего и будущего. Правильнее было бы, пожалуй, говорить так: есть три времени – настоящее прошедшего, настоящее настоящего и настоящее будущего. Некие три времени эти существуют в нашей душе, и нигде в другом месте я их не вижу: настоящее прошедшего – это память; настоящее настоящего – его непосредственное созерцание; настоящее будущего – его ожидание»1. Выделим существенные моменты сказанного бл. Августином в этом отрывке: время – нечто внутреннее, т.е. то, что свойственно лишь нашей душе. Временное течение – это не простая положенность каждого по отдельности трех времен, но возникает как зияние в отношении «настоящего», положенного в нашей душе, и экзистенциального вектора, направленного в будущее, прошлое и настоящее: память вкупе с положенностью настоящего «вытягивает» прошлое, ожидание в настоящем полагает будущее, а настоящее, обращенное на самое себя в непосредственном созерцании, фиксирует само себя. Конечно, душа – как и ум – архаичные «конструкты», а потому сказанное бл. Августином несколько старомодно. Сейчас, конечно, предпочитают, если речь не идет о метафорике поэтического дискурса, говорить о сознании, а не о душе. Но если мы «переведем» титул «душа» более современным – «сознание», то сказанное Августином Аврелием безусловно задает верное направление рефлексии о времени. И это подтверждается теми пассажами у И. Канта и М. Хайдеггера, где они рассуждают о времени. Напомню, что согласно И. Канту, время – субъективная априорная форма чувственности, т.е. то, что «задается» нами, а не то, что заимствуется извне. М. Хайдеггер в своей экзистенциальной аналитике недвусмысленно раскрывает горизонт временения через экзистенциалы. Иными словами, и И. Кант, и М. Хайдеггер следуют в фарватере медитаций о времени, продолженном святым (католическая традиция) или блаженным (православная традиция) Августином. Сделаем и мы несколько шагов в этом направлении… 1 Августин Аврелий. Исповедь. М.: Ranaissance, 1991. С.297. 142 Разрыв повседневности Августин Аврелий выделяет сочлененность с «настоящим» временем любой временной положенности. Это осуществляется по одной простой причине: время проживается нами в нашей душе (сознании), полагающей, прежде всего, наше созерцание как основу временения. Не будем придираться к тому, что у Августина временение «привязывается» к созерцанию, а сфокусируемся на другом моменте, который прорисован бл. Августином. Речь пойдет о той «структуре» временения, которая «нащупана» представителем «патристики», а именно – о связке любого положенного времени с другим временем. Конечно, у бл. Августина выстраимваемая связка временения всегда связана с настоящим временем. Как я полагаю, реальное время, т.е. то символически инфицированное время, которое мы проживаем и которое, по выражению Анри Бергсона, оставляет следы своих зубов на том, что погружено в длительность временения, демонстрирует более широкую сетку экзистенциальных и временных отсылок. Это не только настоящее настоящего, настоящее прошлого и настоящее будущего, но и прошлое будущего, прошлое настоящего, будущее прошлого, будущее будущего и т.п. Не случайно – кстати – в ряде европейских языков (но не только в них) временной ряд закрепляется не с помощью трех времен, как в русском языке, но в более прихотливой и потому трудной для изучения русскоговорящему сеткой времен: Ближайшее Прошлое, Совершенное Прошлое, Длительное Прошлое, Будущее Прошлое и т.п. Это, во-первых. Во-вторых, экзистенциальная положенность времени, о которой заявляет бл. Августин, а именно – «настоящее прошедшего», – это память; настоящее настоящего – его непосредственное созерцание; настоящее будущего – его ожидание»1, гораздо шире, чем указанные моменты у христианского мыслителя. Хотя мы можем обнаружить некое указание, намек на то, что экзистенциальность временения нужно понимать не только в привязке с памятью (прошлое), непосредственным созерцанием (настоящее) и ожиданием (будущее), но более расширенно. Об этом бл. Августин также говорит в одиннадцатой книге «Исповеди», где он вводит еще одно «измерение» временения, а именно – длительность временения: «Длительно не будущее время – его нет; длительное будущее – это длительное ожидание будущего. Длительно не про- 1 Там же. С. 297. Глава II. Свое 143 шлое, которого нет; длительное прошлое – это длительная память о прошлом»1. Но на этом, собственно говоря, бл. Августин и останавливается. Однако экзистенциальная положенность нащупанной бл. Августином «сетки» времен гораздо прихотливее. Временение не только длительно, оно – что, конечно, бесконечно важно для понимания как временения – обладает символической и индивидуальной «окраской». Так, наше ожидание будущего раскрывается не просто ожиданием, но ожиданием, в котором отражаются тревога, надежда, радость, страх и т.п. В этом конкретном ожидании заключаются и те, которые мы уже проживали, и то, что значит в данный момент для нас ожидаемое. Не последнюю роль в конкретном экзистенциальном ожидании играют социальные и культурные инстанции, заставляющие нас принимать определенные асаны, и т.п. Так же и горизонт будущего может открываться и проживаться в ненависти, скуке и т.п., что, понятно, по-иному заставляет протекать то настоящее, которое обнаруживает это будущее, не говоря уже о том, как это будущее оказывается инкорпорированным в наше настоящее, прошлое и… само будущее… И здесь также можно обнаружить целое «гнездо» отсылок, высвечивающих бесконечность различных инстанций и горизонтов, заключенных в иногда длящееся мгновение ожидания… В итоге настоящее человека оказывается распределено и разложено в пространстве и времени, а также связано разнообразными причинно-следственными отношениями. Причем для нас важно то, что воспринимаем этого человека именно мы, и это выражено одним образом. Тогда как сам человек, которого мы воспринимаем, имеет собственное восприятие себя, которое мы можем и знать, и не знать. «Своими» для человека являются его условия жизни. Сознание же – оно не своѐ, поэтому к нему и невозможно подготовиться, а когда оно случается, то случается сразу. И мы констатируем, что оно есть. 1 Там же. С.306. 144 Разрыв повседневности «Своим» сознание можно считать только в том отношении, что оно с нами случается; случается как «случай» и «случка». Вот человек и констатирует, что случившееся – с ним – сознание – это как его случай, так и случай самого сознания. Однако этот случай никак не может стать «своим» для других: с появлением фактов жизни и фактов сознания другого человека случится обязательно другое, что только схематически может походить на мой случай, т.е. на «свой» случай для меня. К слову сказать, истина, добро и прекрасное, так же как и ложь, зло и безобразное, не могут быть нам, как и другим, своими. Они – абсолютны. К слову сказать, истина, добро и прекрасное, так же как и ложь, зло и безобразное, не могут быть нам, как и другим, своими. Не знаю, не знаю… Может, они и не свои, может быть, они и абсолютны – с чем я абсолютно не согласен, – но пути к ним уж очень разнятся. А путь – это «все» в этом вопросе. Хотя в ситуации «плюральности» истины говорить об универсальности и абсолютности указанных «персонажей» если не сложно, то, по крайней мере, не очень «постмодерно». Ушло время «единого сценария», «единого движения» и «единой, универсальной» истины. Причем ушло – как и должно уходить, – просто както не совсем заметно «состарившись», «став немощным», «рассыпавшись в прах»… Наверное, остаются тоска, ностальгия по утраченному раю «абсолютных ценностей» и «вечных целей». Но только тоска, только ностальгия… Реальность современного гуманитарного дискурса, следуя в фарватере тотальной кластеризации реальности, перекодирует любые научные, в том числе философские, диспозитивы, претендующие на универсальность, в сиюминутные модели для сборки… такие же эфемерные, как и все в этом рассыпавшемся на фрагменты мире… Без истины, без истории, без книги, без добра… Можно, конечно, сожалеть об этом, но такова «брутальность» данного «здесь и сейчас»… «Хрупкий абсолют» – и не только как название книги Славоя Жижека, но и как титул современности… Они – абсолютны. Глава II. Свое 145 Именно поэтому совершенно разные люди, с присущими им разными фактами жизни и фактами смерти, могут на них опираться. Но если человек отказывается от размышления об истине, добре и прекрасном, переставая связывать и соотносить себя с эти абсолютными – вечными – вопросами, то теряет всякое представление об относительном и самом себе. Не утрудняя своего взгляда, своего восприятия и своей мысли путем обращения к открытости вечных вопросов и тем, человек не может проникнуть в существо жизни: его чувства и мысли вязнут в мелочах забот о существовании. Следом складываются представления об абсолютности полуправды (русской «кривды», практической правды, правды жизни) – этакой «мешанины», или «смеси», на которую начинает ориентироваться человек. Он падает в омут бесчисленных обстоятельств и случаев жизни, полагая, что это и есть она сама. Человек напрямую связывает себя с жизненными ситуациями и приучается считать обременения существования в качестве сути жизни, если теряет представление об абсолютном и относительном. При утрате критериев отношения к жизни все смешивается и перевирается, а жизнь, замыкаясь на себя, не позволяет сознанию проникать внутрь себя. Без открытости сознание в жизни человека появиться не может. Отказ от утруднения и усложнения своей жизни оборачивается упрощением, когда рассуждения о простоте жизни, простоте мысли и простом человеке размывают все. Здесь нужно сменить угол зрения и изменить язык: нужно говорить и размышлять не о простоте жизни и простоте мысли, а о риске, связанном с принятием открытой жизни и открытой мысли. Нужно говорить и размышлять не о простом человеке, а о каждом из нас и о своѐм. И здесь сталкиваешься с трудностью языка, объясняемой тем, что язык стремится описать то, что лежит в его – языка – основании, т.е. ему как-то предшествует, но описывать изначальное или не получается, или получается с большим трудом, т.е. буквально посредством труда. Нужно говорить и размышлять не о простом человеке, а о каждом из нас и о своѐм. И здесь сталкиваешься с трудностью языка, объясняемой тем, что он стремится описать то, что лежит в его – языка – основании, т.е. ему как-то предшествует, но описывать изначальное или не получается, или получается с большим трудом, 146 Разрыв повседневности Я уже отмечал, говоря о Свободе, что язык довольно неуютно – из-за своей неспособности – «чувствует себя», когда пытается выразить глубинный опыт постижения реальности. Используя выражение М. Хайдеггера, можно сказать, что язык «буксует», когда пытается помыслить то, с чем он не привык иметь дело. Язык «заточен» на повседневность, и с этим нужно считаться. А потому то, что выходит за рамки повседневности, оказывается довольно трудным для схватывания с помощью языковых средств. Но это – не единственная «проблема» языка. Язык не очень способен выразить нечто личное, сингулярное, т.е. то, что мы переживаем внутри нас самих. Оттенки наших чувств – уникальных и ни кем иным не переживаемых, а также наши индивидуальные ощущения, страхи, ожидания, короче – то, что протекает внутри нас или что «развертывается» изнутри нашей самости, оказывается тем, о чем язык повествует с изрядной долей «косноязычия». Запинаясь и разводя в бессилии руками, мы с трудом можем рассказать о чем-то личном и сокровенном. А тогда, когда все – «формально» – нормально, когда речь «льется ручьем», мы чувствуем определенную «фальшь» в сказанном, что оно – лишь риторика, не особенно имеющая отношение к нашей внутренней реальности. В первом случае, а именно – когда мы пытаемся с помощью языка отразить глубинные процессы реальности, описать то, что происходит в онтике, все, вроде, понятно и объяснимо: язык не создан и не используется в этих сферах. Но вот во втором случае, а именно – когда мы с помощью языка пытаемся передать внутренний опыт и переживания, подобное объяснение вряд ли применимо: слишком часто, если не постоянно, мы пытаемся рассказать о нашем сокровенном, о наших чувствах, о наших переживаниях и т.п. И несмотря на то, что мы постоянно пытаемся с помощью языка рассказать о сокровенном, он, язык, «принципиально» не обучается этому. Язык, можно сказать, постоянно и неизменно саботирует возможность как сказать самим себе о чем-то предельно личном, так и раскрыть другим зону нашей предельной сингулярности. Почему это происходит или зачем это происходит? Почему язык, несмотря на постоянную вовлеченность в зону личностного выражения, оказывается в затруднительном положении? Зачем и Глава II. Свое 147 «кому» нужно, чтобы язык не был приспособлен к той личностной зоне, в которой он постоянно «работает»? Вариантов ответов много…. Укажем лишь несколько… Известный факт наличия уникальных имен у различных «примитивных» племен, тех имен, которые остаются, как правило, неизвестными большинству сородичей. Объяснения антропологов, конечно, иногда задающих те вопросы, которые не столько спрашивают, сколько предписывают изначальный, уже заложенный в вопросе ответ, примерно следующие: раскрытие человеком своего уникального имени опасно, ибо после того, как все узнают «личностное имя», тот, кто это имя носит, становится беззащитным. Тому, кто узнал «подлинное» имя, безразлично, другой это человек или какая-нибудь «божественная» инстанция: он получает власть над ним. Уникальное – не чета нашим, «стандартным» – имя обозначает предельно личное и сокровенное, т.е. то, во что «впускать» кого-либо стоит с большой осторожностью и осмотрительностью. А лучше всего не впускать никого, даже своего ближнего, ибо, как говорит немецкая пословица, «что знает второй, то знает и свинья». Конечно, культурный горизонт подобной практики именования – это горизонт мифологического сознания с его «несколько» иным способом обустройства и конституирования реальности. Мы не будем сейчас проводить «герменевтику» подобной практики, что, конечно, довольно занятное дело. Но то, что фиксируется в этом «антропологическом сюжете», может прояснить ситуацию, которая складывается с «хронической неуспеваемостью» языка в сфере передачи личностного. Личностное, сингулярное, – зона, в которую не может быть доступа никаким социальным или культурным инстанциям. По крайней мере, данная зона сингулярности должна все же сохранять некую непроницаемость для социальных и культурных институтов, одним из которых, без сомнения, является язык. Иначе говоря, языку вход в личностное пространство «заказан», прежде всего, самой личностью, стремящейся постоянно оберегать себя от любых вторжений. Личность как личность может сохраняться лишь в зоне непроницаемости для любых социальных инстанций, стремящихся «просветить рентгеном» языка эту сферу и поставить ее под контроль. Язык отступает и буксует 148 Разрыв повседневности тогда, когда пытается «работать» с личностной зоной, потому что эта зона его опознает как орудие вторжения, а потому отвергает. В конце концов, должно же быть в нас что-то действительно свое. Язык – это средство не столько межличностной коммуникации и выражения личностного, сколько средство подчинения социальным суперструктурам. Личность – «дело» для социальных и культурных суперструктур «хлопотное», с которым, скорее, приходится мириться, ибо приходится поневоле считаться с тем своеволием и норовом, которыми данная зона предельно инфицирована. А потому попытка постоянной изоляции, которая осуществляется через ее маргинализацию и лишения в буквальном значении «права голоса», вполне вписывается в постоянный процесс подчинения и дрессуры во имя «суперструктур». Зона личности – это зона тотального безмолвия, затруднительной коммуникации. Это – зона, границы которой можно преодолеть лишь путем контрабанды. Или выпустить «одобренный социальной редколлегией путеводитель», рассказывающий и пересказывающий «прекрасную и гладкую» историю о том, что должно происходить в этой «мутной» для социальных инстанций зоне. Но эта гладкая и политесная история, поскольку дело касается каждого из нас, довольно просто опознается нами как фальшь и риторика социальных инстанций, а не подлинный голос личности. А потому так трудно сказать о себе, ибо это – бесконечная работа по расчистке пути, пути к самому себе… т.е. буквально посредством труда. Заметим, что все, к чему бы мы ни прикоснулись, получает языковую форму выражения, т.е. оказывается маркировано языком. Более того, и в отношении с самими собой мы опираемся на язык, и потому внимание к сугубо своему языку предполагает различение его. Человек идет на изменение непосредственного отношения к языку, когда ранее не замечает его в своем использовании, но все последовательнее связывает его с собой по мере своего освоения в нем. Иначе говоря, он реализует свои собственные языковые амбиции путем перехода от непосредственности в отношении с языком к его рефлексивному отношению. В результате он начинает обращать внимание не только на язык других людей и другие языки, но и на внутреннюю форму языка, понимая, что соотношение с ней Глава II. Свое 149 позволяет ему – при соответствии его разным мыслительным позывам – всегда быть разным. Вообще язык, если только начинаешь о нем думать, это – вещь странная. Показательно, что человек сталкивается с множеством языков, хотя не всегда способен дать себе в этом отчет и даже часто не может признаться себе в этом. Есть язык музыки и живописи, язык света и тени, язык тишины и крика, язык камня и пространства, язык линий и поверхностей, язык тона и смены тонов, язык цвета, язык тела и многие-многие другие языки. Есть язык музыки и живописи, язык света и тени, язык тишины и крика, язык камня и пространства, язык линий и поверхностей, язык тона и смены тонов, Язык тела и живописи, язык линий и поверхностей… Язык – Фердинанд де Соссюр and Company – это система различий, т.е. разбивка на различия и удержание различий. Можно даже сказать, язык – это фиксация и гипертрофирование различий. Язык – это сказать что-то как инфицированное различием, причем как зараженное совершенно другим различием, чем то, с помощью которого выговаривается в языке сам высказываемый феномен. Выстраиваются, таким образом, две несовпадающие системы различий: та, что отличает, выделяет, структурирует, оформляет сам феномен, и та, что организует язык, в котором заявляет о себе феномен… Таким образом, в языке инфицирована еще одна система различения, а именно – различение различий… Это первое, что хотелось бы добавить к бесчисленным проблемам языка… И второе: язык тишины. Где мы можем обнаружить систему различий тишины? Вопрос не случайный, ибо тишина вплетена в говор языка как пауза, переход, как «знак препинания», как остановка и разрыв. Тишина в своем неприсутствии присутствует в любом языке. Более того, любой – и прежде всего «устный» язык – больше молчит, чем говорит. Просто посмотрим на любой текст и убедимся в этом: «шеренга слов» сиротлива, по сравнению с белизной бумаги, на которой эта шеренга проступает… Итак, как быть с тишиной, как быть с голосом тишины и где различить различие в пустоте тишины? Прерывая любой звук, любую речь, любую надпись и любой жест, тишина выступает истоком, 150 Разрыв повседневности ибо дает простор самому «пространству», «фону» языка, букв и звука речи, вырывая из своей бесконечной пустоты «голос» языка, тогда как сам этот простор пустоты тишины не может надстраиваться и вырастать на «звуке». Скажу по-другому – возможно, более ясно, а может, и нет: на листе бумаги не составит большого труда написать буквы и слова, разрывая «тишину» и «пустоту» чернилами «языка», экспрессией звучания… Но вот сделать из букв и слов «бумагу», на которой написана пустота молчания тишины – не как огранка звучания и межа прорисованного и выгравированного текста – бесконечно трудно, если не невозможно. У пустоты нет оппозиции, у тишины нет оппозиции, у молчания нет оппозиции… Или – это не то молчание, о котором поистине можно только молчать. Невозможно умолчать о молчании, можно умолчать только о сказанном или – лишь симулировать, через «фигуру умолчания», молчание, которое уже не есть тишина и молчание, но оппозиция. Но сама оппозиция, которую избегает молчание… что оппозиционного в ней? Ведь вопрос об оппозиционности любой оппозиции развертывается так же, как и вопрос о тишине… Возможно, и только возможно, но никак не наверняка, забыть о речи и тогда, когда произошла эрозия слова, когда слова истлели или испарились, услышать тишину… вернее, опять же, но никак не наверняка – поселиться в тишине, предаться ей… Хотя, наверное, все это – только наверное, ибо нас со всех сторон теснят многочисленные «языки»: языки тела и поверхностей, языки тонов и действий… язык цвета, язык тела и многие-многие другие языки. язык цвета, язык тела и многие-многие другие языки. Даже беглое перечисление языков должно, вроде бы, наталкивать нас на мысль о повсеместности языка и окруженности нас им, какими бы мы ни были, где бы мы ни были и когда бы мы ни были. Но если этого не происходит, то, видимо, мы слепы и глухи, а наши чувства спят. Вероятно, в фундаментальной предполагаемости языка нам – независимо от того, кто мы есть и что мы есть, – стоит попытаться понять, что язык располагается уже до того, как мы начинаем ощущать что-либо. В таком «предощущении», или «предчувствии», Глава II. Свое 151 человек тоже сталкивается с языком, хотя может не знать и даже не хотеть знать об этом. По-видимому, именно такое положение дел и обеспечивает возможность коммуникации человека с собой, а также возможность установления потенциальных контактов его с кем угодно и чем угодно. Язык – это нечто принципиально открытое и постоянно присутствующее, с чем человек сталкивается сразу же с момента своего появления. Размерность языка такова, что наше существование развивается в явном превышении языка над нами, тогда как существо наше реализуется за счет нашего «вхождения» и «попадания» в язык путем реализации присущих нам языковых способностей. Думается, что современный человек не то чтобы не замечает этого, но, скорее, боится себе в этом признаться, ибо не знает себя и страшится приблизиться к себе. Вот он и отметает любую возможность непосредственного – к себе – отношения, которая, конечно, связана с языком и только на его основании может быть реализована. Наш современник уповает на то, чтобы, отстранившись от себя, попытаться овладеть всеми доступными ему языковыми средствами, обеспечивающими ему возможность коммуникации с другими людьми, что понимается им в связи с обретением своей внешней состоятельности, позволяющей заблокировать любое отношение его с самим собой. Вместе с тем можно предположить, что в разные эпохи развиваются разные формы языка, когда развитие и первенство одних языков связано с угасанием других. Исходя из нашей онтологической обеспеченности языком, следует также предположить, что возвращение человека к любому языку в принципе является возможным. Язык обнаруживается везде, где есть человек. Но более того, обнаруживается и язык языка, язык языка языка… т.е. уходящая в бесконечность серия оснований и отсылок, могущая свести с ума любого лингвиста… В языке звучат разные языки, в нем сказывается не только тот язык, который есть наша «членораздельная речь». И не только потому, что «не всяко слово в строку пишется», как сказал отец Варлаам в ПушкиноМусоргском «Борисе Годунове». Хотя, конечно, «неисповедимы пути» инкорпорирования неписанных в строку слов в ткань и порядок сказанных слов. Наш обычный язык – в большей мере символическая структура, пересекаемая, перекодируемая, инфицируемая и 152 Разрыв повседневности т.п. огромным роем других не менее выразительных и экспрессивных языков… Поясню… Фигура Фр. Ницше и его тексты прекрасно раскрывают следующий тезис: не всегда важно, «что» сказано, а важно, «как» это «что» сказано. Вопрос стиля, тембра, напора, уверенности и т.п. Если сказанное хочет «проникнуть» через наши «уши» в наше сознание, в нашу душу, оно должно быть сказано особым «услышибельным» способом. Несколько простых примеров. Сказанное шепотом может быть как неуслышанным, так и раздаться как оглушающий звук грома, который заглушит любой грохочущий железнодорожный состав, проходящий рядом. Язык «шепота» способен насытить тембром «заговора», «мистики», «многосмысленности» любую обрывочную фразу. Представим себе донельзя простой пример. Кто-то сказал несколько слов или какую-нибудь фразу… Что она означает, что она несет для нас? Мы можем маркировать и размечать сказанное и через эту разметку попытаться прорваться к смыслу сказанного: порядок речи, связки означающего-означаемого, денотата и т.п. маркеры, которыми пользуются лингвистика, семантика, семиология и пр., конечно, нам многое скажут, но отнюдь не обязательно приведут к смыслу сказанного… Но вот несколько уточнений. Сказанное сказано тем, кого принято величать «великим человеком»... Изменился ли от этого обстоятельства смысл сказанного? Я думаю – да. Сам был не раз свидетелем того, как банальность в устах «значительной» персоны приобретала смысл откровения… Сказанное было сказано шепотом… Отлично ли сказанное шепотом от того, что сказано с надрывом, и как это влияет на смысл сказанного? Сказанное было сопровождено бурной жестикуляцией… И вовсе не обязательно быть «гениальным интерпретатором», чтобы понять, что сопровождение жестами способно в корне трансформировать смысл, который «доносится» до нас в том, что сказано. Глава II. Свое 153 Или сказанное, которое монотонно пробубнено или, наоборот, продекламировано с выражением и пафосом. Разница, полагаю, существенна и очевидна… Сказанное с пафосом и с выражением, если оно сказано в неподобающей обстановке, может быть прочитано и как издевательство, и как сущностное непонимание ситуации, в которой, например, требуется не рассуждение о действии, а мгновенная реакция… Или еще пример, вполне житейский. Если я скажу своему коту Филиппу очень ласково не самые «приятные для него» слова, то он будет доволен и полностью убежден, что хозяин его любит и, может быть, им восхищается. Наоборот, любой комплимент – конечно, не только моему коту Филиппу, но и моей кошке Соне , – сказанный с ожесточением и агрессией, перестает быть таковым, а мгновенно «перекодирует» буквальный смысл в его противоположность. Интонация сказанного – это другая речь, которая, пронизывая и перекодируя сказанное, способна изменить значение речи до «формально» противоположного. Примеры можно множить: их если не бесконечное количество, то, во всяком случае, довольно много. Много того, что может быть оценено в качестве языков, хотя и не кодифицированных как обычная речь, т.е. относительно жестко не закрепленных в правилах «артикуляции», не прошедших процедуры «грамматизации»… И мы все этими языками владеем в разной степени, так же как в разной степени, например, владеем словарным запасом единого русского языка. Некоторые подобные языки опознаются и тематически фиксируются, им даже пытаются научить в формате профессиональной дрессуры, например в различного рода школах ораторского искусства, где обучают не только правильно и красочно говорить, но и убеждать, прибегая к иным, «внеязыковым» горизонтам, которые, на самом деле, – тоже горизонт, правда, других языков. Эти языки подчас гораздо летучее и неуловимее, чем человеческий голос, но именно они иногда доносят до нас то, что обычная речь выразить не в состоянии, то, что самое невыразимое. Эти языки, надстраиваясь над «обыденной речью» постоянно «звучащей» и сущностной коннотацией, не менее значимы, чем тот язык, который, по сути, перекодируется ими. Еще несколько примеров… 154 Разрыв повседневности Пауза. Сколь она значима для солидности сказанного! Человек «тараторящий» не будет ни услышан, ни понят, даже если он будет говорить предельно важные и глубокие «вещи». Степенность сказанного придает ему солидность и основательность, а паузы передают время работы мысли, даже если это не так. Можно привести в пример паузы Ельцина: сколько значительности они придавали его не очень глубокой и проницательной речи! Хотя, наверное, у многих закрадывалось «сильное подозрение», что эти паузы, отмеряющие величие сказанного, на самом деле вызваны простым обстоятельством: косноязычием, отсутствием мысли, судорожным подбором нужных слов… Не в последнюю очередь на смысл сказанного оказывает влияние т.н. «обаяние» великого человека. Наверное, я впервые о нем задумался, слушая лекцию известного герменевта Поля Рикера в Петербурге. Прочитанная лекция П. Рикера – вполне добротная, но ничем особым не привлекательная речь. Но то, что передо мной довольно знаменитая персона, придавало сказанному французским мыслителем ауру величия и глубины мысли. Те банальности, которые в устах у наших друзей мы просто не заметили, приобретали особый вес предельных и глубоких откровений. По этой же причине то, что говорится, например, молодым исследователем, – изначально оценивается как малозначительное и незрелое, и эта предустановка мешает услышать глубину мысли, если, конечно, она есть. «Социальная грамматика» и «социальный язык», надстраиваясь над сказанным, способны сделать из банальности гениальность, а гениальность перекодировать в бред или сомнительную банальность. Этот «язык» – язык социального пространства – вторгается и в другие языки, например языки искусства, где «принадлежность» перу известного мастера способна сделать из ничего не значащего фрагмента шедевр, который, неся на себе печать гениальности своего создателя, будет прекрасно и с большим доходом реализован на аукционах «Сотбис» или «Кристи». Более того, ничего не значащий сам по себе набросок, принадлежащий перу великого творца, может породить целую череду исследований, интерпретаций, дополнений в эстетическом и искусствоведческом дискурсе, которые также являются языками в языке… Мы не «в тюрьме языка» («prison-house of language»), как сказал Фредерик Джеймисон, а, скорее, в прихотливом и уходящем в бес- Глава II. Свое 155 конечность лабиринте «тюрем языков» («prison-houses of languages»), из которых не способна нас изъять даже тишина … Но мы узнаем об этом, узнавая язык, причем узнавая его всегда в определенной форме. С открытостью и избыточностью языка мы сталкиваемся посредством наложения на него ограничения, связанного с нашей конечностью. Если хочешь соответствовать сознанию, то надо принять две вещи. Во-первых, принять чуждость и инаковость сознания по отношению к жизни, а во-вторых, принять принципиальную возможность нашей в него включенности. При попадании в ситуацию сознания обязательно необходимо отстранять себя и от жизни, и от сознания, т.е. научиться покидать эти потоки и выходить в своѐ, выделяя его из потока как нечто особенное. Оставляя свою интегрированность в жизненные проблемы и входя в сознание, являющееся чужим по отношению к жизни, начинаешь понимать, что чуждость сознания вдруг оборачивается попаданием в своѐ, тогда как казавшееся своим вдруг раскрывается в качестве того, что к тебе отношения не имеет. Надо также понять и принять, что своѐ сознание является таковым только тогда, когда ты наедине с собой: за пределами тебя сознание может оказаться своим для других и многих. Одни люди могут входить в сознание независимо от того, какое место в жизни они занимают и в какое время живут, тогда как другие могут делать это, только попадая в привилегированные места и особое – выделенное жизнью – время, а обычно этого не случается. Одни могут отказываться от собственности, блокируя в себе потребность превращения жизненного в своѐ, т.е. отказываясь от присвоения сразу же после того, как это «своѐ» определилось, и занимают по отношению к своему позицию внешнего наблюдателя. В этом смысле они принимают неместный и безвременный характер сознания. Другие же могут отдаваться сознанию частично, ибо сохраняют связь со своим местом и своим временем. Они любят жизнь и любят жить и полагают, что сознание – призрачно. Принуждаясь к сознанию обстоятельствами жизни, они делают это нехотя, с оговорками и «из-под палки». Привычно, что когда человек действует, он не склонен к наблюдению: случаи – когда человек способен и действовать, и наблюдать, оказываясь точкой пересечения сферы жизни и сферы сознания, – крайне редки. Такое положение непривычно потому, что не может 156 Разрыв повседневности не разносить человека на «разное» ввиду разности и того, чем приходится заниматься, и разности «устройства» этих сфер. Действуешь всегда в параметрах определенной локализации и хронологии, тогда как наблюдаешь, исходя из топологии и внутреннего времени. И одно непременно стремится вытеснить другое. Сам наблюдающий должен быть открыт любому месту и любому времени, в которые он попадает по жизненным обстоятельствам. Чистота наблюдения связана с принятием наблюдающим установки, согласно которой ни одно содержание жизни – по возможности – не должно становиться его собственным содержанием. Он полностью и целиком располагается в наблюдении, которое становится для него всем, а значит, может легко относиться к любому месту – и своей, и чужой – жизни: перемена мест жизни его не задевает, ибо свое – всегда с ним. Перемещаясь по эпохам, он ни одну из них не связывает с собой, но благодаря этому может воспринимать разные времена как одно время. Наблюдение не может не стремиться к тому, чтобы сосредоточиться на формальном моменте происходящего, в отличие от существования, намеренно связывающего себя с содержательной стороной действительности. И нам, чтобы быть, а не только жить, надо стремиться развивать в себе наблюдателя, ибо существование всегда напомнит о себе независимо от нас. И еще. Человек опирается на наблюдение, привыкая доверять увиденному, потому что помещает увиденное – посредством его соединения с неким принципом – в перспективу понимания. Он располагает свое существование внутри подконтрольных ему областей, которые сами по себе образованы проекцией наблюдаемого за его пределы. Предполагается, что наблюдать можно все, и для наблюдения нет преград. Однако любое наблюдение неизбежно останавливается и прерывается. И хотя такие «остановки» воспринимаются, исходя из самого процесса наблюдения, как досадные промахи, в действительности они указывают, что, помимо наблюдаемого, есть и нечто, не входящее в наблюдение. За наблюдением стоит сознание, а за ненаблюдаемым – жизнь. Без наблюдения действующий себя понять не может, как и наблюдающий не может без действующего. Даже если человек наблюдает за собой, то за собой таким, кто действует. И, с другой стороны, Глава II. Свое 157 действующий, который начинает относиться к себе как к наблюдающему, попадает в нулевую размерность действия, т.е. выпадает из него. Мы обычно обращаем внимание именно на действия и деятельность, ими порожденную. И даже если рядом с действующими находились те, кто только наблюдал и оказывался «выключенным» из действия, то мы можем зафиксировать их присутствие только тогда, когда столкнемся с текстами, порожденными этими наблюдающими, зафиксировавшими некоторую рефлексию по отношению к действующим. Иначе говоря, с наблюдающими можно столкнуться только там, где о себе заявит некое рефлексивное отношение, выраженное в тексте. А потому необходимо, хотя это трудно, отличать и обособлять друг от друга действие и отношение к этому действию. Так, например, под «историей» принято понимать совокупность действий и их результатов, которые, в первую очередь, связываются с действователями. Отношение же к этим результатам связано с приданием разрозненному – единства, что достигается формированием особой – текстовой – среды, внутри которой разное превращается в единое целое. Причем наблюдающий внутри самой среды действий и результатов себя не проявляет и себя от нее принципиально отделяет. Обратной стороной образа человека, «с головой» уходящего в работу, является бегство от себя и от своего внутреннего мира. Есть рецепт в этой ситуации, но не каждого он устроит, особенно «человека мысли», философа, несмотря на то, что этот рецепт высказан человеком, который, хотя и не чужд был мысли, но более всего был предан другому делу – делу спасения. Рецепт был высказан С. Киркегором, датским философом и теологом. Киркегор (или Кьеркегор, Киркегаард – кому что «по вкусу») ведет речь о т.н. диалектике отчаяния, высшей ступенью которой является ситуация, когда человек вообще не знает и не предается отчаянию. Диалектика отчаяния выстраивается именно как диалектика, когда все происходит как «игра оппозиций», оппозиций отчаяния. Упомяну лишь один сюжет отчаяния, который я вспомнил, читая то, что написал Андрей. Речь идет об отчаянии, возникающем, когда есть недостаток бесконечного и конечного и, одновременно – ибо речь идет о диалектике, – конечного и превалирования бесконечного. Вначале пре- 158 Разрыв повседневности доставим слово самому С. Киркегору… Прошу прощение за длинные цитаты: «1. Отчаяние бесконечного, или недостаток конечного (mangle Endelighed) Все это относится к диалектике синтеза Я, где ни одна из составляющих не перестает быть собственной своей противоположностью. Невозможно дать прямого (недиалектического) определения ни одной из форм отчаяния; всегда нужно, чтобы форма эта отражала свою противоположность. Можно описать без всякой диалектики состояние отчаявшегося, находящегося в отчаянии, как это делают поэты, позволяя отчаянию говорить самому по себе. Однако отчаяние не определяется иначе, как через собственную противоположность; а для того чтобы такое определение имело ценность, искусство выражения должно все же иметь среди своих красок как бы диалектический отблеск противоположного. Стало быть, во всей человеческой жизни, которая верит, что она уже бесконечна или же желает быть таковой, каждое мгновение является отчаянием. Ибо Я – это синтез конечного, которое ограничивает, и бесконечного, которое делает безграничным. Отчаяние, которое теряется в бесконечном, все же воображаемо, ущербно; ибо при этом Я нездорово и неискренне в своем отчаянии, – ведь только отчаявшись и став прозрачным для себя, это Я погружается в Бога. <…> И когда одна из способностей этого Я, т.е. воля, знание или чувство, погрязает в бесконечном, все мое Я в конечном счете рискует оказаться втянутым в бесконечное или же, по мере того как оно все более уходит туда из себя самого, все больше увлекается туда посторонней силой; в обоих случаях оно остается ответственным за это. Так ведут воображаемое существование, уходя в бесконечное или же замыкаясь в абстрактном, все так же лишаясь своего Я, от которого все более удаляются. Рассмотрим теперь, что же происходит в религиозной области. Ориентация на Бога наделяет Я бесконечностью, однако в упомянутых случаях бесконечное, возникающее, когда воображаемое полностью поглотило Я, увлекает человека лишь к пустому опьянению. <…> Глава II. Свое 159 2. Отчаяние конечного, или недостаток бесконечного (mangle Uendelighed) <…> Узость здесь, где отчаиваются, – это недостаток простоты, или же то, что человек обобран, у него выхолощена духовность. По сути, наша изначальная структура всегда организована как некое Я, задача которого – становление самого себя; и, будучи таковым, Я никогда не лишено углов; отсюда, однако же, следует лишь то, что эти углы следует укреплять, а не смягчать; это Я никоим образом не должно из страха перед другими отказываться быть собою или же опасаться быть собою полностью, во всей своей особенности (даже со всеми своими углами), – той особенности, в которой являешься действительно собою для самого себя. Однако помимо того отчаяния, которое вслепую углубляется в бесконечное, вплоть до потери Я, существует и другой вид отчаяния, который позволяет как бы незаконно лишать себя своего Я другим. Увидев вокруг себя столько людей, взвалив на свои плечи столько человеческих забот, попытавшись уяснить, каким образом идет мирская жизнь, такой отчаявшийся забывает о себе самом, забывает свое божественное имя, не осмеливается в себя верить и считает слишком дерзким быть собою, а потому полагает, что проще и надежнее походить на других, быть воплощенным обезьянничаньем, одним из номеров, поглощенных стадом. <…> Таково отчаяние конечного. Человек вполне может, а по сути, может тем лучше, чем забывает об этом, вести в нем временную жизнь, человеческую по виду, с похвалами других, почестями, уважением и стремлением ко всевозможным земным целям. Ибо век этот, как говорят, наполнен как раз людьми такого рода, в целом преданными миру, умеющими применять свои таланты, накопляющими деньги, уже достигшими успеха или же собирающимися преуспеть и т. д. Их имя, возможно, и останется в истории, но были ли они поистине собою? Нет, ибо в духовном они были лишены Я, без Я, ради которого стоит всем рискнуть, абсолютно без Я перед Богом... – какими бы эгоистами они ни были в остальном»1. 1 Кьеркегор С. Болезнь к смерти / Кьеркегор С. Страх и трепет. М.: «Республика», 1993. Сс.268-272. 160 Разрыв повседневности Теперь позволю себе несколько комментариев-разъяснений сказанного датским мыслителем. Структура человека у С. Киркегора – не стабильная структура. Эта нестабильность определяется тем, что человеческое «я» дается не просто как синтез конечного и бесконечного, возможного и невозможного и т.п., т.е. не как «простое» отношение между оппозициями, но более прихотливо: человек – это отношение, относящее себя к себе самому. Или, как об этом говорит С. Киркегор (поломал я в юности голову над этой его фразой, скажу честно): «Человек есть дух. Но что же такое дух? Это Я. Но тогда – что же такое Я? Я – это отношение, относящее себя к себе самому, – иначе говоря, оно находится в отношении внутренней ориентации такого отношения, то есть Я – это не отношение, но возвращение отношения к себе самому. Человек – это синтез бесконечного и конечного, временного и вечного, свободы и необходимости, короче говоря, синтез. Синтез – это отношение (Forhold) двух членов. С этой точки зрения Я еще не существует. В отношении между двумя членами само отношение выступает как нечто третье (det Tredie) в качестве негативной части, а два эти члена относятся к отношению, существуя каждый в своем отношении к отношению; тогда для того, кто рассматривает так душу, отношение души и тела составляет простое отношение. Если же, напротив, отношение относится к себе самому, это последнее отношение выступает как положительная третья часть, и мы имеем Я. Подобное отношение, относящееся к себе самому, это Я, не может быть положено иначе, как через себя самое или же через другого (et Andet). Если же такое отношение, которое относится к себе самому, было положено через другого, такое отношение, конечно же, является чем-то третьим, но это третье одновременно само является отношением, иначе говоря, оно относится к тому, кто и положил все это отношение» 1. Иначе говоря, «я» – предельно нестабильная структура, положить ее как устойчивую, особенно с позиции рациональности, довольно трудно, если не сказать, невозможно. Это не просто отношение 1 Там же. С. 255. Глава II. Свое 161 между двумя оппозиционными локусами, но возвратное отношение самого отношения к самому себе, что «по определению» не может «опереться» на оппозиции, между которыми оно «возникает». К этой нестабильности добавляется еще один существенный нюанс. Человек – творение Бога, а потому фигура Бога – «внутренний» участник всего замысловатого и прихотливого процесса. Бог, по словам С. Киркегора, «творя из человека это отношение, как бы отпускает его затем из своих рук, так что, начиная с этого момента, такое отношение должно само направлять себя»1. Нестабильность данной структуры на экзистенциальном уровне опознается через присутствие отчаяния. Иными словами, отчаяние – маркер неопределенности и нестабильности того сущего, каковым является человек. И диалектика отчаяния – это дескрипция ситуации человека, когда он пытается добиться стабильности, но делает это всегда «невпопад», ибо всегда не соблюдает ту божественную меру, которая обеспечивает индивидуальное спасение2 и позволяет «маркировать» человека, который «интуитивно» ее придерживается как «рыцаря веры». Однако достижение этой позиции, когда «и волки сыты, и овцы целы», когда свобода и необходимость, возможность и невозможность и т.п., оказывается в неуловимом равновесии, невозможно на путях рацио. Эта позиция «нащупывается» сверхрационально и относится к делам веры, а никак не через рефлексию философа, выстраивающего чисто рациональные схемы и системы, не способные добиться стабильности в нестабильном, по своей сути, сущем, каковым является человек. … Теперь вернемся к ситуации, о которой говорит Андрей. Еще раз воспроизведу сказанное: «Обратной стороной образа человека, “с головой” уходящего в работу, является бегство от себя и от своего внутреннего мира»… Ситуация напоминает своей диалектичностью то, что я пытался «вычленить» у С. Киркегора: обращение в одну сторону, например 1 Там же. С. 257. Не забудем, что С. Киркегор – протестантский мыслитель, для которого спасение, как и диалог с Богом, всегда предельно личностны. 2 162 Разрыв повседневности погруженность в работу, деятельность, преданность проблемам повседневности и т.п., с необходимостью вызывает крен в другой стороне, а именно – происходит своеобразное бегство от себя самого. Но, учитывая сказанное С. Киркегором, вполне резонно предположить, что и погруженность в мысль, в свое собственное, также не вполне «продуктивно», ибо происходит – опять же – диалектический крен в одну из оппозиционных позиций. Нет, конечно, симпатии – лично у меня – не на стороне погруженных в повседневность обывателей, утрачивающих свое «я» в заботах о несущественном. Но все… все же… Даст ли нам предельная погруженность в себя искомое? Приведет ли оно к нашему «я»? В перспективе религиозного сознания, которым инфицирована прихотливая и предельно метафизичная мысль С. Киркегора, ответ однозначен: нет. Но кто знает? В ситуации, когда Бог умер уже очень давно, а потому и греха уже нет – ибо нет отделения от Бога, возможно кардинальное изменение в структурах нашего «я» и, соответственно, в путях достижения собственного, подлинного «я»… Может быть, может быть … Как это сказано в одной древнеиндийской поэме (цитату помню, а вот название подзабыл, но текст довольно известный, склероз ), «Боги знают это на высшем небе. А если не знают?» А если не знаем? Глубина внутреннего на такой территории не видится и, естественно, не оценивается. Потребность в глубине атрофируется. Сталкиваясь с засильем деятельных и развиваясь в парадигме ими выстроенного социума, когда наблюдение допускается только как момент деятельности и некий ее «перебив», но никак ее не опровергает и не отрицает, наиболее проницательные из наблюдающих испытывают желание замаскироваться. Глава II. Свое 163 Между тем эпохи меняются, как бы долго ни тянулось время. И вот ныне с деятелями совсем туго: их не найти «днем с огнем». Разумеется, те, кто всегда рассматривал действие в качестве своего кредо и образа своей жизни, к таким потерям не готовы, но не о них речь. По мере изменения эпохи и движения маятника общественного движения в обратную сторону появляются наблюдающие, суть дела которых – наблюдать со стороны. Однако по мере нарастания удельного веса наблюдающих обнаруживается общественный недостаток в действующих и растет социальный запрос на тех, кто способен к действию. Тогда же возникает непреодолимый страх действия, консолидируемый в социальные фобии по отношению к действию и действующим, что теперь уже непременно связывается с ответственностью. Точнее – с отказом от ответственности, ибо держать ответ и отвечать человек, видимо, не только не хочет, но и не может. Видимо, благодаря свершившейся рецепции наблюдения в действие стало понятным, что действие ответственно и действующий должен теперь принимать это. Действующий, будучи вне наблюдения, далеко не в той же степени был склонен к рассуждению об ответственности, нежели тот, кто, столкнувшись с процедурой наблюдения, испытал ее влияние на себе. И еще. Есть действие, а есть и иное – это отношение к действию. Иными словами, можно видеть действие, но не заметить и не замечать отношение к этому действию кого-либо. Вместе с тем действие, рассматриваемое в связанности с отношением, позволяет увидеть отложенную на действии «жизнь» сознания. В «объятиях» сознания действие способно пониматься уже как событие. Следует признать, что необходимость интегрированности наблюдения в действие и приоритет деятельности, в сравнении с наблюдением, отстаивается практически в любом обществе. Эпохи, для которых характерно благосклонное отношение к наблюдающим, – это, скорее, исключение, чем правило. Дело в том, что человеку трудно принять и допустить возможность быть открытым для внешнего наблюдения, даже если оно компенсирует недостаток его собственной саморефлексии. Нам трудно узаконить интеллектуальный шпионаж в масштабах своего существования и, тем более, в границах социума. Вот наблюдатели и оказываются «ни ко двору, и ни ко времени» любой эпохе, что совсем не отменяет возможности некоторого исторического послабления. Важно понять, что наблю- 164 Разрыв повседневности дение, не вмещающееся в жизнь, раскрывает то, что оно – не от жизни. Оно – от сознания, и приручить его невозможно. Обзаводясь своим местом, человек себя без него уже не воспринимает, как и, связывая себя с определенным временем (эпохой), человек не хочет и не может видеть себя в изменившемся времени. Проблема своего непроста для понимания ввиду того, что в своѐ попадаешь исключительно за счет перманентного сохранения по отношению к нему некоторой дистанции, что позволяет не связывать своѐ с определенными его воплощениями; в том числе пространственными и временными воплощениями. Человеку трудно примириться с тем, что время и место его жизни вдруг стали ему чужими. Вынести это может далеко не каждый, у многих не хватает сил для того, чтобы быть в ладах с собой, со временем и местом своей жизни. Всегда что-то не удовлетворяет, не дает успокоиться. И знание того, что ты страдаешь от нарастания чуждости места и времени твоему существованию, не спасает. Спасти может только понимание того, что своѐ может как сочетаться с отдельными местами и временами, так и не совпадать с ними. Мы так «устроены», что не можем обходиться без ожиданий. Иначе говоря, мы воспринимаем свою жизнь расширительно и в большей – чем существование – проекции. Когда случается так, что мы не можем вдруг охватывать жизнь и видеть ее в целостном виде и с явным ее превышением; т.е. с превышением текущего момента и места жизни, то сталкиваемся с распадом своей жизни на несвязанные и даже противостоящие друг другу отдельные частности. Впадая в отчаяние, его необходимо пережить: именно пережить и выстрадать, т.е. выйти из страдания другим. Это связано с осознанием того, что распад целостности жизни становится возможен изза отсутствия скрепляющего основания. Во-первых, надо отдать себе отчет в отсутствии принципа единения и согласования частностей, а во-вторых, понять, «почему» исчезла вдруг соединяющая элементы жизни форма. Страдание присуще каждому из нас. Само по себе, т.е. воспринимаемое в своей монотонности, оно мало что значит. Страдание надо именно осознать; осознать в качестве некоего рубежа, который необходимо перейти. Страдание связано с незнанием нами себя и с Глава II. Свое 165 не замечаемым нами распадом нашего существа под воздействием обстоятельств жизни; страдание – оно от жизни; от нашей (твоей, моей, его, ее, их) жизни. И справиться со страданием способен не каждый, ведь надо принять происходящий с тобой распад; принять его как реальность. Если это происходит, то понимание жизни связывается человеком с поиском новых ее оснований: он будет искать новые принципы – основания, которые смогли бы собрать воедино элементы его существования, от него, по большому счету, не зависимые. Дело в том, что элементы эти – из разных мест и разных времен жизни, но собрать их надо как части именно своей жизни. И если человек способен организовать ансамбль из элементов своей жизни, то страдание преодолевается и становится прошлым, продолженным в настоящем. Значит, разорвать круг страдания можно посредством внесения в единство каким-то образом связанных элементов жизни нового к ней отношения. Само переживание страдания должно побуждать к поиску нового принципа соединения элементов жизни, обретение которого приведет к установлению фактически нового человека, ведь разные элементы в этом случае будут собраны на ином – по отношению к прошлому – основании. Новая форма «пересоберет» и «пересортирует» жизненные составляющие в новой комбинации, но ее нужно найти, ее нужно выстрадать. Сознание позволяет нам преобразовать себя путем введения в наше существование присущего нам, но либо не знаемого, либо утрачиваемого нами образа, дополняя частный характер существования. Но боязнь новизны – новизны себя и новизны мира, ибо это непременно связано с открытостью – гасит в человеке его способность откликаться на новое. Попадая в отчаяние, и не осмысливая его, человек не может из него выйти. Исходящий из отчаяния человек все происходящее будет связывать именно с отчаянием, но не с самим собой. Незнание человеком себя оборачивается нахождением себя повсюду и отождествлением себя с кем угодно и с чем угодно. Ему представляется, что решительно все имеет к нему прямое отношение. В этом смысле отчаявшийся – это больной, у которого сбиты «прицелы» его восприятия ввиду его неосознанности. Мысли его в этом случае сродни «оторванным» построениям, которые довольно легко трансформируются в помыслы и измышления. Для отчаявшегося 166 Разрыв повседневности человека, находящегося в сумерках своего, нет преград для экстраполяции своего воображения на все, что угодно. Если человек не в состоянии войти в свое отчаяние и, погрузившись в него, его пережить, то не осознаваемый им распад жизни загоняется вовнутрь, многократно умножаясь именно по причине своей неосознанности. Теоретически он не может, конечно, продолжаться бесконечно, хотя практически способен превзойти границы существования любого индивида, включая человека, народ или культуру. Важно понять неподрасчетность страдания и сострадания. Они – вне расчета и не аналитичны: страдание и сострадание связаны с внутренним отношением к жизни, которое невозможно задать извне. Не зная человека, мы не можем с точностью заявлять о том, страдает он или нет. Он может еще не страдать, ибо еще не «вляпался» в жизнь, и потому не имеет устойчивого отношения к жизни. Он может уже не страдать, ибо выстрадал новое отношение к своей – теперь уже прошлой – жизни, тем самым преодолел ее, став другим и проживая другую жизнь. Интересно не само страдание, а возможность извлечения из него уроков, интересна возможность его преодоления. Можно констатировать: либо человек верен сознанию, но тогда не связывает себя со страданием и способен его преодолевать, либо он не верен сознанию, и тогда не может выйти из своего страдания, свыкается с ним и не может без него обходиться. Человек всегда совершает переход от одного к другому, переступая через некий качественный разрыв между ними, и устанавливает такую связь, только идя на риск. Если составляющие его движения принадлежат одной качественной среде и являются элементами одного тематического континуума, то риск минимален. Однако нам нередко приходится перемещаться в совершенно иную качественную среду, нежели та, с которой мы были связаны прежде, когда у нас нет и не может быть никаких оснований для «плавного» перемещения. Это происходит там и тогда, где и когда никакой связи между средами в содержательном отношении не обнаруживается. Иными словами, если человек уже не может соотносить себя всецело с содержанием одной среды, в границах которой он Глава II. Свое 167 находится, а содержания другой среды он не знает, потому что еще в нее не попал, то он вынуждается к риску. Такие ситуации не могут обойтись без нашего поступка. В поступке бытие связано со «становлением» и «установлением»: здесь есть лишь то, что устанавливается. Выбор человека, осуществляющийся в поступке, позволяет связать разные области его жизни. Но в этом всегда есть риск, ибо сам переход через разрыв между одним и другим континуумами ничем иным – кроме выбора самого человека – не обеспечен. И если такая содержательная связь – уже после того, как поступок совершен – обнаруживается, то она всегда носит сугубо гипотетический характер. Наш выбор – и только он связывает в действительности разные континуумы. Совершая поступок и выбирая, человек способен выходить из одних континуумов своей жизни и переходить к иным континуумам. Иначе говоря, мы сами способны определять то, что относится к нам, а что нет. Правда, для этого необходимо непременно совершить поступок. Выбор и поступок позволяют соединять между собой разные среды потому, что посредством их человек способен соотносить себя с неким принципом, который и обеспечивает переход через разрыв одной среды с другой. Будучи за пределами ситуаций, принципы не связаны с их содержанием. Поэтому-то, предельно связывая себя с ними, человек способен разрывать свою содержательную связь с одной средой и перемещаться в иную среду. С одной такой областью он уже разрывает все отношения, а с другой он еще ни в какие отношения не вступил. Как раз ввиду этого никакой содержательной связи того, что соотносится между собой благодаря выбору, проследить не удается. Для развития человеку всегда мало одного содержания, с которым он как-то связан: ему необходимо видеть перспективу развития этого содержания. Но это значит, что необходимо иметь какой-то иной ракурс рассмотрения ситуации, что становится возможным, если индивиду удается соотнести себя с неким принципом. Поступок собственно и связывает человека с безусловным принципом. 168 Разрыв повседневности Замечено, что потребность в безусловном является неустранимым условием развития индивида, а если этого не происходит, то его существо распадается. Люди и народы, терявшие такую связь, были не способны идти на поступок и исчезали в реке времени. Без связи с безусловным – как реальной проверке и выверке присущих индивиду возможностей – существование утрачивало свою определенность. Существование человека выстраивается на основе размеренного отношения и связано с возможностью его анализа, расчета и контроля. Риск здесь, если и не вытеснен полностью, то существенно потеснен. В захваченности тем, что явно превышает человека, он не может не идти на риск. Дело в том, что в этом случае он «перешагивает» через свою индивидуальность. Связывая себя с принципом, человек фактически совершает невозможное, ибо покидает себя и сжигает «все мосты» достигнутых, было, высот в выстраивании своей идентичности, не зная, сможет ли он обрести себя в «прыжке» вне себя и отказа от себя – состоявшегося. Риск становится формой самореализации человека, когда он, ориентируясь на невозможное, стремится его преодолеть. В указании на невозможное начинает проявляться иное. Такое «иное» не имеет предела: скорее, оно – само себе предел, и с ним любое знание, направленное на установление пределов и контроль предельного, способно взаимодействовать только отчасти. Дело поступка. И он, поступок, – ой как труден и редок. Речь, естественно, идет о том неуловимом для графического написания – разве что, написать слово «Поступок» с большой буквы – Поступке как некоем уникальном, предельно личностном и даже в чем-то героическом деянии. Не о том, понятно, поступке, который мы постоянно совершаем, отмеряя поступь своего земного существования. Поступок как Жест. Он, Поступок, с одной стороны, всегда уникален, ибо его может совершить только индивидуальность, заявляющая о себе как о сингулярности в решительности этого поступка. Впрочем, в Поступке может быть заявлена и некая «общая воля», может звучать «голос» нации, государства, общества и т.п. Но даже в этом случае, т.е. когда в Поступке реализуется некая суперструктура, в нем всегда сквозит героичность. Поступок как героизм всегда развертывается как выбор возможности перед лицом предельного риска, и даже риска смерти. По- Глава II. Свое 169 ступок совершается чаще всего в экстремальной ситуации, например на войне. Он совершается перед лицом смерти, когда выбирают риск гибели: например принимают решение бросится на амбразуру, а не отсидеться в окопе или спрятаться за спинами боевых товарищей. Индивид выбирает риск смерти и через этот риск утверждает свою предельную индивидуальность, хотя, конечно, его действия могут привести эту самую индивидуальность к ее гибели. Лишь та индивидуальность, которая выбирает риск своей собственной смерти, своего собственного ничтожения, через этот выбор получает алиби своей индивидуальности. С другой стороны, Поступок может выступать и против своей же индивидуальности, вернее, против того, что можно определить, как «прошлую, застывшую в неизменности индивидуальность». Не будет Поступком тот героический жест, который совершается постоянно. Не является истинным Поступком действие, которое не ставит саму индивидуальность перед выбором и риском коренной трансформации и превосхождения. Поступок в этом отношении – это то, что изменяет индивидуальность. Это – прыжок, которого никто, по большому счету, не ждет и не ожидает. Поступок – это то, что изменяет горизонт уже устоявшейся индивидуальности во имя новой, пока еще не обретенной, но зарождающейся индивидуальности. А потому он – нелогичен, если смотреть из горизонта уже определенных возможностей и путей поступания. Тропа Поступка выпадает из проторенных путей. Но именно в этой измене своей прошлой индивидуальности, как это ни «прискорбно», и лежат возможность сохранения этой самой индивидуальности, проективное ее преодоление и возвышение. Можно сказать, что Поступок демонстрирует логику гегелевского Aufhebung (в ужасном русском переводе – это термин «снятие»), когда сущее одновременно превосходит (aufheben), сохраняя (aufheben) истину предыдущего момента и упраздняя (aufheben) ложность предыдущей ступени. С одной лишь оговоркой: в Поступке, в отличие от логики гегелевского Aufhebung, нет жесткой машинерии гегелевской диалектики. Здесь, скорее, проявляется то, что Андрей зафиксировал титулом «риск». Риск, ибо нет никакой гарантии, нет никакой «моральной поддержки», нет уверенности, нет социальной индульгенции, а есть лишь один прыжок, возможно, прыжок в неизвестность… 170 Разрыв повседневности Такой Поступок – дело редкое и, можно прямо сказать, дело «болезненное». Ибо в рискованном прыжке ты бросаешься в неизвестность. Но не это самое страшное, наверное, в Поступке-какброске-в-неизвестность. В момент этого отчаянного прыжка во многом утрачивается свое прошлое, свое Своѐ, которым так дорожат и которое так долго взращивают, возможно, в мучениях и обособленности от соблазнов подчинения суете и приказам социальной дрессуры. Все так плавно и гладко текло… и вот на тебе! – прыжок. Бросок в пропасть неизвестного и безопорного, в которой еще не виднеются очертания Своего, но – неведомого, а потому ужасающего… А впереди только устрашающее и рискованное будущее, а все прошлое позади, прошлое уже кончилось. И это прошлое, которое опознается как Свое, причем иногда довольно болезненно завоеванное, то, что представлялось базисом своей уникальности: биография, привычный ритм, прошлые заслуги и достижения, – все это уже не имеет своей значимости, своей «терапевтической» силы и поддержки… А потому с годами решиться на подобный Поступок все тяжелее и тяжелее: гнет прошлого неумолимо и все сильнее давит… Хотя бывают и исключения: последнее бегство графа Толстого… Да, это – Поступок, возможно, единственный и, к сожалению, последний поступок в его жизни. Толстой рискнул… и, сорвавшись в пропасть Свободы, убегал от своего, предельно уникального и индивидуального, предельно ценного для окружающих его близких и тех, кто читал и читает его произведения, собственного «я», … Но риск есть риск… И не всегда все оканчивается «театральным» и «киношным» happy end’ом… И казус Толстого – лишь одна из иллюстраций последствий риска, риска подлинного Поступка…. Своѐ характеризуется пространственной и временной ненаходимостью, ведь если своѐ связывается человеком с определенными местами и временами его жизни, то речь идет не о своѐм, а о своей жизни и отождествлениях своего с конкретными содержаниями места и времени. В деле поддержания таких идентификаций важно обратить внимание на отношение к человеку окружающих и близких, которые на- Глава II. Свое 171 меренно и пристрастно связывают жизнь человека именно с такими конкретными местами и такими конкретными временами. В результате вне такой связи жизнь человека никак не воспринимается. Интересно, что сознанию в таких – жизненных – проекциях рассмотрения никакого места и никакого времени не находится. Понятно, что трудно обойтись без отождествлений себя с конкретными местами и временными интервалами жизни. Вот человек и обзаводится удобными для него пространственными или временными идентичностями, от которых весьма трудно освободиться, тащит на себе груз когда-либо и где-либо сложившихся идентификаций, свыкаясь с ними как с некими одеждами себя самого. Большая часть из них в процессе жизнедеятельности рассеивается, но некоторые из них оказывают на нас сильное «остаточное» воздействие. Важно обратить внимание, что связанность себя с определенным местом вытесняет возможность отождествления себя с неким временем и, наоборот, соотнесение себя с важным для тебя временем не позволяет связывать себя с конкретным местом. Человек приучается рассматривать не только свою жизнь, но и жизнь окружающих в призме характерных для него идентичностей. Утрата дорогого для него места или выпадение из близкого ему времени рассматривается в этом случае как катастрофа. Способность отстранения себя от пространственных и временных отождествлений встречается редко. Возможно, это возрастное и пасссионарное: способность кардинально изменять свои идентификационные маркеры, в том числе и пространственно-временные привязки. Конечно, не существует «стерильного» и объективно-внешнего временения и выстраивания пространства. Пространство и время – даже если мы воспользуемся как стартовой позицией в разговоре о них «матрицей» И. Канта, говорящего, что это априорные формы чувственности, т.е. то, что мы «от себя» вносим в феномен, то и в этом случае, я полагаю, мы имеем дело не с так называемой чистой априорностью, но с культурной априорностью, насыщенной и инфицированной символическими коннотациями. Поясню сказанное, чтобы затем обратить свой анализ на сложность, если не сказать, почти невозможность изменения идентификационных маркеров, идентификационных привязок в консти- 172 Разрыв повседневности туирования реальности и нас самих, конституирующих эту реальность как свой мiр. Кантовская схема, объясняющая конституирование, сборку реальности на уровне чувственности, предусматривает наличие двух т.н. форм чувственности, носящих, по мнению немецкого мыслителя, априорный, т.е. доопытный характер. Априорные формы чувственности – это формы, с помощью которых мы оформляем чувственный феномен, внося в него то, что предмету самому по себе не принадлежит. Канту эти формы чувственности, каковых, он полагал, существует только две, а именно – форма пространства и форма чувственности, представляются как универсальные и неизменные, поскольку они априорны, ибо та всеобщность, которую мы можем зафиксировать в отношении пространства и времени, не может быть заимствована из опыта. Таково мнение И. Канта. Пойдем немного дальше. Я полагаю, что априорные формы, с помощью которых мы размещаем чувственные данные нашего опыта, культурно фундированы и довольно сильно символически инфицированы. Они не «бесцветные», «метрически-отстраненные» формы, но живые, постоянно изменяющиеся1 формы, с помощью которых мы, образно говоря, смотрим, слушаем, обоняем и т.п. этот мир, преобразуя мир-сампо-себе в мир-для-нас. Или, в терминологии А. Шопенгауэра, превращаем мир как воля в мир как представление. Таким образом, априорные формы нашей чувственности – не «вневременные» формы, они зависят от культурной традиции, которая их создает по своему «формату» и в своем «стиле». А потому в каждую такую форму уже изначально инфицирован культурный контент, который уже на уровне чувственности помещает символический коннотативный ряд той или иной культуры. Однако символический горизонт, который монтируется в эти формы, не «стерилен» и не «универсален» прежде всего потому, что это не знаковая «система», а система «символа». Я полагаю, что символ, в отличие от знака, – не безындивидуальная «схема», каковой может быть знак, но он всегда насыщен личностными, индивидуальными коннотациями, связками, отсылками и т.п. А потому формы чувственности, инфицированные символизмом, содержат и мар1 Конечно, речь идет о несколько иных временных масштабах, нежели масштаб человеческой жизни; как раз в этом масштабе они более или менее стабильны. Глава II. Свое 173 керы, и следы общекультурного горизонта, но и той или иной личности, того или иного конкретного человека, отпечатки прожитых лет, событий, биографий, страстей, темперамента и т.п. Иными словами, то, что мы видим, уже символически и индивидуально преобразовано. Причем каждое «использование» наших (почти в полном значении этого слова) форм чувственности, что, понятно, происходит постоянно, ежесекундно, даже ежемгновенно, закрепляет благодаря этому постоянному узусу status quo указанных форм, делает их все более и более неизменными и прочными. Ибо даже для того, чтобы попытаться взглянуть по-иному, мы все равно используем ресурсы и «оптику» того же самого, а попытка внедрения новации всегда будет некоей корректировкой – не более того – чувственного аппарата, который мы рационально пытаемся «модернизировать» или превзойти. Итак, формы пространства и времени, с помощью которых мы осуществляем на уровне чувственности сборку феномена, сборку любого объекта реальности, инфицированы символизмом определенной культурной традиции и «оттенками», характеристиками нашей личности. Образно говоря, мы смотрим на мир через тот «оптический» аппарат, который не является, в полном смысле этого слова, нашим аппаратом. Но он – и это существенно – не биологический «оптический» аппарат, который дан нам, как животному. Мы инфицируем его символизмом культуры и личности, которые кардинально преобразуют этот аппарат. Поскольку же через этот аппарат смотрим именно мы, культурные константы «мгновенно» инфицируют любой феномен, ибо при конституировании феномена уже на уровне чувственности мы используем весь «символический» арсенал, т.е. «перекодируем» реальность в «нашу реальность» …. А теперь вернемся немного назад и посмотрим на проблему, которая возникла, а именно – на возможность отстранения себя от «пространственно-временных отождествлений». Конечно, на уровне желания – кто ж не хочет посмотреть на мир по- иному – и на уровне пожеланий все, вроде, нормально. Вот я, такой-то, мне надоели моя жизнь, моя асана, мои привязанности, мой взгляд на мир и т.п., и было бы не плохо все изменить, если не к лучшему, то, по крайней мере, к иному… 174 Разрыв повседневности Но вот ведь что происходит. Даже если мы внятно тематизируем наше желание и предпримем вполне реальные шаги для изменения нашей установки по отношению к реальности или – что экзистенциально продуктивнее – поставим себя в новую ситуацию, сменим образ жизни, профессию, уйдем из семьи, скажем правду всем и вся и тем ликвидируем привычный горизонт своего бытийствования и т.п., изменится ли что-то кардинально в нашей установке и в нашем видении мира и реальности? Я думаю, увы… Даже в этом случае мы не изменим форм нашей чувственности и той символической и индивидуальной инфицированности, которые содержатся в «плоти и крови» нашего рецептивного аппарата. И это – на уровне чувственности! А что говорить о более «высоких» сферах, где символизм как таковой безраздельно царствует, не очень обращая внимание на «брутальную данность» внешнего мира, например в сфере эстетического или этического? Даже протестуя, говоря «нет», мы все равно будем утверждать «да», ибо протест будет вестись из тех же позиций, что и конформистский «одобрям-с». И чем старше мы становимся (и именно с этого я начал свою очередную врезку в ткань текста Андрея, определяя эту проблему как проблему возраста), – тем более заскорузлыми и более закостенелыми по причине постоянного употребления оказываются наши чувства, с помощью которых мы символически раскрашиваем мир. И тем, соответственно, меньше шансов на то, чтобы взломать старую «оптику» чувственности. Ибо в процессе перманентного узуса формы, которые мы используем для конституирования любого феномена нашей реальности, постоянно «подтверждаются» благодаря этому постоянному использованию. Эти формы, к тому же, постоянно насыщаются нашими «традиционными» асанами, поступками, мыслями, действиями и т.п., что в принципе делает теоретически невозможной кардинальную трансформацию. И это – на уровне самом «примитивном», на уровне чувственности. Конечно, данный уровень, условно изолируемый мной сейчас в рефлексии, является самым стабильным, но, одновременно, он как горизонт повседневности оказывает на все другие уровни довольно значительное, если не сказать фатальное, воздействие. Можно, конечно, тешиться той мыслью, что на уровне рацио все гораздо свободнее. Да и И. Кант, когда обращается к уровню ра- Глава II. Свое 175 зума, фиксирует более нестабильные поля – антиномии, паралогизмы разума. Спору нет: в сфере разума все не так однозначно и неприхотливо, как на уровне чувственности. Динамика разума более непредсказуема, чем динамика конституирования реальности на уровне чувственности. Но и инфицированность символизмом на этом уровне еще больше, чем на уровне чувственности, а потому то, что может показаться как менее «инертное» образование, а именно – таковы наши мысли, сфера воображения, наши волевые устремления, – еще менее способно к трансформации, чем это возможно на базовом уровне чувственности. Символизм, вмонтированный в функционирования сознания, грубо говоря, давит. Его трудно, если не невозможно, отбросить или заменить. Да и индивидуальность «я», которая «правит балом» в этих сферах как своеобразный неизживаемый акцент, как индивидуальный тембр, как индивидуальное «заикание», не столь уж проективно и нацелено на новацию. Индивидуальность «я» – это результат, т.е. то, что уже собрано, уже сделано, уже прожито, уже прочувствовано… А потому индивидуальность «я» – довольно костная структура, которая, «по определению», тормозит любые попытки новации. И это торможение с годами только возрастает… И второе, что я пометил как проблему: пассионарное. Возможно, только возможно, что особая жизненная асана – например номадность – способна спонсировать трансформации… Но и в номадстве есть своя неизменность. Как говорил – по-моему, Ж. Делез, но могу ошибаться: номад носит свой дом и свою почву с собой, т.е. номадность как таковая – это не тот выдуманный «фантом» номада, которого измышляет себе оседлый житель, возможно, как свой никогда не реализуемый идеал. Summary: Так ничего невозможно поделать? Не думаю, вернее: не верю (как, шутливо добавляют, говорил Станиславский)… Конечно, возможно все… И это вопрос не только веры, хотя и веры тоже. Это вопрос Свободы. Если все так неизменно, то и Свобода рушится, следствием чего, как это ни парадоксально, является тотальная деструкция необходимости… 176 Разрыв повседневности И скорее всего: вопрос не столько рациональной установки, но предельного желания, экзистенциального напряжения… Если нет возможности на путях разума достичь чего-то, то это отнюдь не означает, что этого достичь невозможно… И это – банальность… Что может достичь наш разум сам по себе? Да ничего, он ведь «без рук» или «зубов, языка и дыхания» не сможет даже заявить о себе… Каждый наш реальный шаг – это шаг за пределы разума… А потому, то, что выстраивается как рациональный тупик, вовсе не означает реальный тупик… Наверное, нужно простое: нужно действовать, но не просто действовать. Нужно то, что я в «предыдущей врезке» определял (да и не я только) как Поступок… А потому не все решено, но возможно – возможно все… В том числе реальная, а не только мыслительная, работа с пространственно-временными идентичностями… Необходимо научиться работать с пространственными и временными идентичностями. Научиться либо расставаться с ними, либо находить им место и время в хронотопе своей души. Приемлемым способом такой «работы» могло бы стать преобразование пространственной идентичности в идентичность времени, а временной идентичности в идентичность пространственную, что, возможно, пусть и отчасти помогало бы отстраниться от напора прошлого и занять в отношении него позицию рефлексии. Не извлекая уроков из прошлого, не сможешь понять настоящее. Не сможешь этого сделать именно потому, что непонятое, когда ты на него обопрешься, прогнется независимо от тебя и исказит собой все. С прошлым человек связан своим знанием и увязает в нем своими помыслами и чувствами. Он обречен на интерпретацию такого знания. У незнающего есть преимущество, связанное с тем, что он не обременен прошлым и может действовать как бы с «чис- Глава II. Свое 177 того» листа: он может занять любую позицию в отношении того, что он не знает, в том числе и в отношении прошлого. Другой вопрос: может ли такая позиция как-то сочетаться с реальным положением дел, и как тогда относиться к «реальности» чего бы то ни было, если она связана с тем, кто ее удостоверяет, исходя при этом из своего знания прошлого?! Незнающий – он чужой по отношению к прошлому. Чужое нас и влечет потому, что облегчает наше отношение к прошлому: ведь оно (чужое) с нами не связано. В каком-то смысле встреча с чужим облегчает наше положение до тех пор, пока она сама не становится частью нашего прошлого, т.е. вмещается – для нас – в своѐ, а потому и отягощает, и утяжеляет… Несколько отступая от основной канвы рассуждений, заметим, что тот, кто живет своим временем, скорее всего, будет не в ладах со временем других людей и временем эпохи. Устроиться в жизни легче удается тому, кто живет временем других людей и временем общества, хотя понятно, что в этом случае он живет, в общем-то, не своей, а чужой жизнью. Вместе с тем всегда находятся те, кто настолько входят в себя и свою жизнь, что превращают ее в сугубо свою собственность, вступать на территорию которой не дано никому. Понятно, что остальные не могут принять такое положение дел и реагируют на такие неприступные бастионы довольно обостренно. Они вдруг сталкиваются с собственной «ненужностью», что могло бы стать, если бы они начали думать, точкой поворота в деле обращения внимания на то, где и как пребывает их «своѐ», и есть ли оно. Добавим, что с хронологическим временем человек устанавливает отношения только через призму отношения его со своим или чужим временем. Вместе с тем живущие своим не борются за власть. Среда их внутреннего обитания совершенно не схожа с территорией обитания тех, кто не мыслит себя вне такой борьбы. Дистанцирующийся от своего человек нуждается во власти, и даже если сам не преуспевает в деле борьбы за власть, то воспринимает памятники и бюсты преуспевшим в этом деле в качестве нормы своего существования. Для одних условия существования – это альфа и омега их жизни. Вся деятельность таких людей направлена на поддержание условий их существования. Любые изменения условий жизни, которые както нарушают привычный ход жизни, воспринимаются ими «в шты- 178 Разрыв повседневности ки». Они не умеют рассматривать изменение условий своего существование в качестве приглашения к осознанию своего положения дел. Это происходит потому, что своей жизнью они считают прошлое, а в изменении своей жизни склонны видеть только утрату. Они не могут осознать, что их собственную жизнь за них никто не выстроит; ведь тот, кто что-либо строит, живет своей жизнью. Такие люди всегда только собираются жить, откладывая ее на будущее. Но есть и другие – те, кто полагает, что все происходящее является только поводом для осознания, тогда как действия своего осознания сосредоточивают их в себе. Обслуживая ситуации жизни, сознание некоторым образом изменяет своей природе. Отказ от сознания всегда самостоятелен и доброволен. Он связан с желанием жить, точнее – желанием выжить. Выживание же обусловлено внутренним отказом от самостояния и признанием действия в отношении тебя более значимой, чем ты сам, силы. Речь идет о силе природы, противостоящей сознанию, и только в топосе такого противостояния определяется выбор человеком своего поведения. Природа действует сама и с сознанием человека не считается. Если только человек оказывается не в силах существенно потеснить природу, то она способна захватить его, вбросив в ярость, буйство и даже безумие, способна довести его даже до одичания. Сохранение возможности одичания и отказа человека, как и целых народов, от сознания независимо от того, какого бы высокого уровня оно ни достигало, особенно проявляется в периодическом впадении в войны. Человек – уникальное существо, ибо именно он может «скатиться на скотский уровень», стать «животным». И дело, конечно, не в регрессивном падении, когда, например, по причине инфаркта или болезни Альцгеймера, или еще по какой-то чисто «физиологической напасти», человек – причем такая грустная судьба может ожидать даже самого выдающегося человека, и печальной иллюстрацией этого стали последние годы Маргарет Тэтчер – может стать даже не животным, а «ниже» – стать «овощем». Сейчас речь о несколько другом сюжете, ибо ситуация «одичания» человека, когда он теряет «человеческий облик», – совершенно иная, не связанная с физиологической деградацией, торпедирующей мен- Глава II. Свое 179 тальную деградацию. Человек, пока речь о человеке, т.е. о сущем, которое надстраивается над физиологией, не может вернуться на животный уровень: невозможно возвратиться (кроме указанных чисто соматических ситуаций) в «эдем» животного мира и состояние «невинности» зверей. Даже согласно Библии, человек теряет невинность, которая суть неведение, раз и навсегда. Можно спастись, но не стать невинным, раз уж мы – люди. «Озверение» человека совершенно иной природы. Здесь встает вопрос о человеке и его ответственности: вопрос об ответственности, ответственности за себя, за свою позицию, за свои поступки, даже за свой облик. Человек – бесконечно прав был Фрейд – «внутри» себя, в своей «бессознательности» – довольно «мерзкое» существо: импульсы насилия и похоть торжествуют в нашем бессознательном. Даже больше: лень, инерция, слабость, страх – да всего не перечислишь – постоянно «гнездятся» и населяют нашу изнанку. Это – реальность того, что «внутри» нас, ибо мы не столь «белые и пушистые», но скорее, «грязно-черные и агрессивносадистические». Но не это нас, собственно говоря, делает людьми. Мы становимся людьми в «момент» преодоления этой темной изнанки, темных страстей и желаний, которые постоянно и неизменно сопровождают нашу жизнь, наши мысли, наши поступки. Лишь тогда мы становимся людьми, когда говорим внятное и недвусмысленное «нет» этой «темной стороне», постоянно живущей в нас самих… *** Как иллюстрацию ситуации позволю себе вспомнить одну историю, которую я сейчас поведаю не совсем точно и адекватно, но смысл которой для меня однозначен, и именно в нем все дело. История про И. Канта, вернее, про один случай, который произошел с ним уже в последние дни его жизни. Однажды к уже умирающему И. Канту пришел его врач для осмотра. Он приподнялся с постели и «выполнил» все положенные по этикету «реверансы» приветствия знахарю. Врач был потрясен, ибо Кант, обладая, как говорят, астеническим телосложением, тогда вообще был подобен тени живого существа и, по-русски говоря, у него еле-еле душа держалась в теле. На выраженное пришедшим эскулапом удивление, смешанное с восхищением, немецкий философ ответил: «Тело мое может умирать, но душа, душа…». 180 Разрыв повседневности Не знаю, насколько эта история соответствует реальности, но она красива, а потому – истинна… Даже если подобного и не случилось, она – как «идеал» – может и должна быть рассказана. Как пример для подражания, как иллюстрация преодоления духом телесной немощности или, наоборот, телесной силы, порожденной силой кантовского духа… *** Мы, наверное, всегда делаем выбор: выбор между тем, чтобы быть человеком, и тем, чтобы им перестать быть… Но никак не выбор между человеком и животным... Невозможно пойти вспять… можно только постоянно выбирать. И даже если это выбор – выбор между политесом и преданностью социальным стандартам, то и здесь у нас есть шанс не впасть в «животность» или погрузиться во тьму «зверства», которое, на самом деле, не зверство, а гораздо страшнее… И – постоянный бег, в котором мы постоянно делаем выбор, постоянно рискуем и ставим на кон самого себя для того, чтобы хотя бы остаться на месте, оказаться в топосе человека... Отшатываясь от сознания, человек и народ именно срываются в дикость, падают в необузданность и безумие, как в омут «с головой». В дикости в нас побеждает природа. Это показывает, что человеку необходимо постоянно напрягаться и участвовать в деле вытеснения из себя природного или его внутреннего ограничения. Само собой, т.е. независимо от того, напрягаемся мы или нет, сознание явно не передается. Заметим, что сознание не возникает в момент рождения индивида и им не наследуется, как и не является следствием развития природы. Даже если индивид, будь то человек или народ, идет на осознанное «впадение» в природу, выделяя особые места и особое время, где и когда он может себе это позволить, это можно расценивать как ответ на ее зов. Но, заметим: ответ осознанный. Правда, стоит заметить, что, утрачивая дикость и выигрывая в деле осознания себя, индивид оказывается ограниченным в свободе жизни. Дело в том, что в этом случае организует свою жизнь не он Глава II. Свое 181 сам: организует жизнь человека его природа, от которой он в каком-то сущностном смысле отказался. Точнее было бы сказать, что природа сама себя организует и сама себя устраивает, в том числе «устраивает» себя в человеке, помимо его самого. Свобода сознания оказывается фундаментально противостоящей по отношению к свободе жизни. Это показывает, что живое, включая и человека, не может поступиться своей дикостью. Вероятно, поэтому человек не способен полностью вытеснить ее из себя (даже если это иногда стоит ему жизни), хотя и идет на то, чтобы полностью вытеснить дикость из своего сознания. Поэтому же безумие присутствует и участвует в жизни. Жизнь без него не обходится. Здесь, правда, необходимо оговорить два момента. Во-первых, стоит обратить внимание на сам размах современного безумия, подтверждающийся способностью нашей – к нему – адаптации, а вовторых, и на то, что современное безумие – это не только обратная сторона жизни: дело в том, что безумие сегодня технически организуется и организовывается. Дикость – это способ «внутреннего» преодоления живым себя, позволяющий ему развиваться. Живое не может не изменяться и, одновременно входя в себя и реализуя свое изменение, непременно чем-то или кем-то – запредельным по отношению к себе – влечется. Вместе с тем, принимая для себя позицию выживания, человек в каком-то существенном смысле сдается: он внутренне сдает себя, т.е. жертвует своим в угоду внешнему. Выживая, человек приспосабливается к обстоятельствам существования, стремясь сохранить себя на содержательном уровне, но явно ужимая спектр возможностей реализации своей жизни. Уже потом, выжив, будучи наедине с собою, человек может испытывать приступы тошноты: ему становится трудно выносить себя – выжившего – выносить. Существо человека сморщивается, ибо полнота жизни теперь концентрируется вне его. Будучи внутренне скованным частным и находясь в раздвоенном сознании, он обращается вовне, пытаясь найти жизненные причины своего «провала» и «прогиба» вне себя. Традиционной формой такого «бегства» от себя становится поиск врагов, которые, конечно, находятся. Дело в том, что человек пытается обрести опору себя вне себя, что заведомо провально. Тем не менее, само событие отказа человека от соз- 182 Разрыв повседневности нания позволяет понимать его в качестве иного – по отношению к жизни – начала. В выживании человек себя не понимает: не понимает потому, что не способен видеть свое существование в иных ракурсах и иных перспективах развития. Не будучи в силах выйти за пределы существования, он не может понять, что каждая точка его существования «плавает» в море, или даже в океане, возможностей. Суммируя, заметим, что курс на выживание не позволяет человеку столкнуться ни с полнотой мира, ни с полнотой себя. Его жизнь, сознание и язык оказываются в «недореализованном» состоянии; в состоянии «разорванности» и «раздвоенности». Встреча с полнотой, напротив, связана с переживанием им нового настроения, когда старых – накопленных ранее – запасов жизни, сознания и языка не хватает. И если выживание обречено на повторение, то переживание полноты – при встрече с новым – оказывает на человека расширительное воздействие. Надо принять, что есть ситуации, угрожающие успешности нашей жизни, но есть и иные ситуации – те, которые разрушают условия мышления. И потому каждому человеку, если он намерен развернуться к мысли, нужно совершить усилие, тогда как разворот к жизни совершается как-то сам по себе. Заботы жизни – ввиду того, что человек оставляет сознание – овладевают им независимо от него самого. Существование побуждает к тому, чтобы быть занятым жизнью. Вот занятия жизнью и вытесняют в таком человеке все, что к ним не относится. И понятно, что озабоченный жизнью человек к сознанию не расположен: все его побуждения мотивированы в таком случае существованием, а мысль, если она случается, может опознаваться в качестве таковой только в связи с существованием. Будучи втянутым в заботы существования, человек принципиально не замечает присутствия идей, чем еще больше замыкает себя в круг забот, выйти из которого не может. Новые идеи оказываются всегда иным началом по отношению к уже принятым – индивидом – установкам. Здесь важно зафиксировать образ изначальности, когда одно начало способно пониматься в связи с другим и иным началом, т.е. фактически пониматься в качестве их предпосылки, хотя в действительности это – беспредпосылочное начало. Глава II. Свое 183 Нас ведут идеи: именно не заботы о существовании, хотя мы на них и откликаемся, а идеи. Человек – существо ведомое, кем и чем бы он, увлекаясь, не влекся; собой или кем-то другим. … уже как-то мелькал вскользь этот сюжет… но только вскользь… Самая «загадочная» причина у Аристотеля. И – самая человечная причина… Речь пойдет о телосе, цели, или, как определяет ее сам Аристотель, «то, ради чего». Сам Аристотель не особо выделяет статус финальной причины, она не стоит особняком в ряду других причин, приводящих сущее к его бытийствованию. Но то, что Аристотель все же ее фиксирует и тематизирует, – дело немаловажное. Итак, телос, цель. Воспроизведу классическую цитату из 3 главы Первой книги «Метафизики» Аристотеля: «А о причинах говорится в четырех значениях: одной такой причиной мы считаем сущность, или суть бытия вещи (ведь каждое “почему” сводится, в конечном счете, к определению вещи, а первое “почему” и есть причина и начало); другой причиной мы считаем материю, или субстрат [hypokeimenon]; третьей-то, откуда начало движения; четвертой – причину, противолежащую последней, а именно “то, ради чего”, или благо [ибо благо есть цель всякого возникновения и движения]»1. По правде говоря, у Аристотеля с «причиной-причинами-началами» не так, чтобы все было прозрачно и однозначно. И лишь усилиями комментаторов (от арабов и схоластов до историков-философов нашего времени) учение о причине принимает относительно законченный логический вид. Но не суть… Главное для нас сейчас то, что Аристотель выделяет телос как одну из причин. Правда, делает он это безотносительно того, к какому сущему эта причина может быть применена: «то, ради чего» одинаково сказывается и о неодушевленном, и о живом. Причем особую «пикантность» придает этому безразличию уточнение телоса, высказанное Аристотелем: «…то, ради чего”, или бла1 Аристотель. Метафизика / Аристотель. Собр.соч. в 4 томах. Т.1. М.: «Мысль», 1976. С.70. 184 Разрыв повседневности го [ибо благо есть цель всякого возникновения и движения]»1. В этой перспективе и неживое, и живое вписываются в единое стремление к благу. Конечно, неживое сущее, через ту или иную причастность к человеку, может «окраситься» стремлением к благу. Однако подобная мысль в нашем горизонте культуры звучит довольно странно. Мы не склонны, к примеру, усматривать в изменении или пребывании булыжника, водоема, облаков на небе их стремление к благу. Однако подобный ход размышления вполне вписывается в канву мифологического сознания, от которого отталкивался и которым, без сомнения, обладал Аристотель. В принципе, можно даже выстроить оправдание подобного смешения живого и неживого в отношении телоса: сущее для Аристотеля через причастность форме, ибо любое конкретное сущее есть оформленное, а не бесформенное сущее, «одушевлено» и принадлежит к единому континууму, опирающемуся на божественное (перводвигатель и форма форм) основание. А потому и причина, которую наше сознание «применяет» для постижения не любого сущего, а для одушевленного сущего, для античного сознания, могла быть помыслена как исток существования любого сущего, как одушевленного, так и нет. Таким образом, современное сознание сразу отвергает возможность телоса у того сущего, которое не является живым, поскольку приписывание телоса любому сущему прямо указывает на наличие разума, предопределения и т.п. и в этом сущем, и в природе вообще, что, с точки зрения современной ментальности, крайне сомнительно. По нашему разумению, неживые сущие должны либо подчиняться жестким природным законам, либо – что также не очень симпатично современному сознанию, но все же лучше, чем разумность неживого, – быть погруженными в стихию хаоса непредсказуемости. Неживое – не причастно телосу, а если и причастно, то лишь тогда, когда оно, неживое, включается «в зону живого», или «перекодируется» разумом. Газовая плита или компьютер, на котором я сейчас печатаю этот текст, неживое, однако обладают телосом как причиной своего бытийствования как раз потому, что они вписаны в круг присутствия человека и им «инфицируются» смыслом и телосом. Кроме того, мы не склонны в этом случае (как и в других сходных ситуациях) вписывать телос в структуры блага, 1 Там же. С.70. Глава II. Свое 185 как это мыслил Аристотель, разве что в формате индивидуальной пользы или выгоды и т.п. Таким образом, если мы фиксируем некую целевую причину существования какого-либо сущего, то делаем это лишь потому, что это сущее включено в круг живого по тем или иным причинам и основаниям. В этом отношении то, что говорит Аристотель о другой причине, а именно – о начальной причине, также может свидетельствовать о вписанности сущего в горизонт живого, ибо «то, откуда движение» может указывать на творца, который полагает свою волю основанием возникновения того или иного сущего 1. Но, в отличие от финальной причины, «то, откуда движение» не может однозначно указывать для современного сознания на наличие одушевленности, мастера, живого и т.п.: начальной причиной движения бильярдного шара может быть другой бильярдный шар или толчки землетрясения, а камнепад может быть вызван как рукотворным взрывом, так и просто пронесшимся ураганом. Итак, телос, в отличие от других причин, однозначно и неукоснительно указывает на «одушевленность» сущего, или «вписанность» его в круг живого, что в корне отличает его от всех других выделенных Аристотелем причин бытийствования сущего. Но этим «загадочность» телоса не исчерпывается. Дело в том, что телос не только вносит определенную «разумность» и «одушевленность» в сущее, раз уж он мыслится как причина этого сущего, но и «разрывает» мгновенность существования этого сущего. Цель – она всегда «впереди», в будущем. Даже если цель мгновенно и реализуется, то все равно она, через присутствие в ней связки настоящего и будущего, вносит континуальность и длительность во временение этого сущего. «То, ради чего», конечно, может быть «отделено» от самого сущего по времени и может даже не быть осуществленным вообще, но как проект заключается в этом сущем и «перекодирует» его, помещая в горизонт будущего. Например, утюг служит для глажения белья и через этот телос он и производится на фабрике, но, одновременно, он может так и остаться на полке магазина или не быть востребованным. Но, в любом случае, «то, ради чего», или цель, а именно – возможность с помощью утюга выгладить белье, всегда 1 Там же. С.70. 186 Разрыв повседневности отделено от момента его создания как в ситуации востребованности этим предметом, так и тогда, когда он пылится на полке супермаркета. Сущее, таким образом, телосом пробрасывается в горизонт временения, полагая в настоящее зияние будущего. Иными словами, то временение, которое полагается телосом, полагает в это сущее в горизонте будущего. Сущее через телос оказывается «беременным» будущим и несет его как в момент своего создания, так и в своем бытийствовании, которое и поддерживает настоящее этого сущего. Упомянутый утюг будет лежать на полке магазина и не будет выброшен до тех пор, пока остается возможность его продать тому, кто будет гладить с его помощью белье. Добавим, через телос в сущее полагается не только временение, но и событийность этого сущего. Со-бытийность: сущее сочленяется в своем бытийствовании с другим сущим, ради которого оно и пребывает в своем бытийствовании, ради которого оно сделано и существует. Так, утюг существует и создан лишь потому, что есть то, что он будет «гладить», т.е. рубашки, брюки, юбки, постельное белье и т.п. Если таковых не будет, то и нужда в подобном предмете отпадет и, соответственно, он не будет произведен. А потому сущее включается в горизонт культуры через телос, ибо то «второе» сущее, которое сочленяется с «первым» сущим через его цель, – это человек, вписывающий это сущее в горизонт своего присутствия. Стоит, конечно, упомянуть, что есть и другая причина, а именно – начальная причина, «то, откуда движение», которая разрывает горизонт настоящего любого сущего, ибо вносит прошлое временение во временной горизонт существования сущего, но не о этой причине мы ведем сейчас речь… Итак, телос как одна из выделенных Аристотелем причин существования сущего стоит особняком среди других причин, указывая на то, что сущее, которое мыслится как имеющее цель, им сущее – живое сущее погружено в горизонт будущего и связывает это сущее с другими сущими, которые оказываются событийствующими с этим сущим… Телос таким является той причиной, посредством которой происходит не только создание предметного мира, но и перекодирование любого сущего в сущее, которое вписано в горизонт присутст- Глава II. Свое 187 вия человека. А потому и сущее, инфицированное телосом, бытийствует, следуя в фарватере бытийствования человека, вовлекая это сущее в проективность будущего… Человек всегда влечется и всегда себя ведет. Но ведет в ответ на то, чем или кем увлечен. В уничижительном смысле такая зависимость фиксируется выражением «Повѐлся!». Так что без того, что мы влекомы и ведомы, не обойтись. Надо разобраться, что заставляет нас поступать так-то, но не наоборот. Идеи как раз и организуют разнообразное содержание нашего существования и выступают в качестве предлагаемых – нашему существованию – целей, которые организуют и преобразуют существующее в определенный состав существа. Благодаря цели человек предстает в качестве некоего целого. Так, механизм целеполагания оказывается удобным и приемлемым средством для установления и поддержания контактов человека с предельным. Пребывание в кругу забот, когда человек не взаимодействует с идеями, делает его слепым. В этом отношении он ослеплен собой и пониманием себя только в размерности своего существования. Здесь он знает себя сугубо частным образом и не может не воспринимать себя частностью, а весь мир как совокупность частностей. Это хорошо видно, когда к такому – «загнанному» заботами – человеку (точнее, загнавшему себя в угол человеку) подходит не обремененный заботами и потому открытый идеям ребенок. Но если усилие по развороту в сознание все-таки осуществляется, то мыслим мы независимо от того, есть для этого условия в жизни или нет. Сознание в этом случае захватывает все наше существо и ни с какими условиями не считается. Легкость, если она и появляется в нашей жизни, – она не от жизни, ибо жизнь непременно утяжеляет и обременяет нас при нашем – в нее – погружении. Легкость связана с умением отстраняться от проблем жизни и способностью перерабатывать факты жизни в факты сознания. Причем надо попробовать исхитриться сделать так, чтобы все думали, что ты живешь фактами жизни, тогда как ты в действительности живешь фактами сознания. 188 Разрыв повседневности При отсутствии легкости тебя не спасут более удобные или приятные условия жизни; само изменение условий жизни может облегчить жизнь, но не наше положение сознающих, а точнее, в данном случае, – отсутствующих в сознании. Легкость связана со свободным отношением к фактам жизни; с нашей способностью перехода от фактов жизни к фактам сознания и умением держаться измерения фактов сознания. Если этого не происходит, то наша субъективность качественно перерождается и зависит от улучшения или ухудшения условий существования, но все меньше и меньше зависит от нас самих. При таком сужении и уменьшении себя до точки – точки приложения жизненных сил – нам становится все более тяжело переносить свою жизнь и выносить себя из своей жизни. Становится тошно вынести себя и свою жизнь. Разумеется, мы все испытываем давление груза (веса) жизни – груза лет, груза забот, груза опыта, груза ответственности. Освободиться от этого, будучи в жизни, трудно, ибо, встраиваясь в жизнь, человек обзаводится грузом жизни и приобретает определенную состоятельность, которая заставляет с собой считаться. «Вес» и «груз» не только ощущаемы: их можно измерить и оценить. Легкость же не измеришь и не оценишь. Свою легкость трудно соотнести с легкостью другого. У каждого она – своя. Общим является переживание легкости: она освобождает. Легкость и есть свобода. Легкий человек с трудом соотносим с тем, кто что-то значит и что-то весит, тогда как тот, кто ничего не весит в социальном отношении, тот собственно ничего и не значит, а потому и мало кому интересен. Обретающий легкость человек отлетает от себя прежнего, т.е. прощается с весом различных общественных самоотождествлений и даже перестает заботиться о своем социальном положении. В данном случае побеждает забота о сознании; забота о том, с чем он не был связан и с чем не мог взаимодействовать напрямую ранее. Следует, правда, признать, что большинство людей явно не готовы принять сознание в качестве почвы и места для своего преимущественного обитания. До того момента, пока мы не осознали факт жизни, мы втянуты в среду существования, что бы нам при этом ни представлялось и ни казалось. Когда выбираешь жизнь, но не сознание, начинаешь дорожить именно существованием. И здесь уже не до сознания: оно кажется человеку чем-то лишним. Найти себя в сознании трудно из-за того, что для этого придется расстаться с той «встроенно- Глава II. Свое 189 стью» в жизнь, которая от тебя самого уже мало зависит и не тобой определяется. В жизни определяешься жизнью и «знанием» жизни, которое к пониманию не относится. Вот жизнь и начинает управлять и заведовать нами, причем делать это с такой интенсивностью, что нам уж не до ее понимания: лишь бы уцелеть и сохраниться, что, правда, сделать оказывается уже невозможно. Теперь уже, когда ты выбрал жизнь, тобой управляет выбор жизни, предварительно расставляющий указатели и знаки жизни. Знак адресован тому, кто уже знает, ведь незнающему он не скажет ничего. Знаки ориентированы на тех, кто уже сделал свой выбор, в отличие от символа, несущего в себе нечто нами не знаемое. И если через символы мы, познавая незнаемое, узнаем себя как тех, кого в себе не знаем, и можем, познавая – в себе – непознанное, изменяться, развиваться и быть свободными, то посредством своей соотнесенности со знаками мы не заинтересованы в своем познании, как и в изменении и в освобождении себя. Знак связывает нас только с областью необходимости, пусть и «осознаваемой» необходимости, какая уж тут свобода?! И тот, кто выбрал жизнь и познание жизни, не только готов принять знаки; он ждет и жаждет появления знаков своей, как и любой другой, жизни. Знаки – это примета фактов жизни, без которых, не будучи в сознании, не обойтись. Сознающему, который рассматривает факты жизни только в качестве средства для образования фактов сознания, знаки не нужны. Но знаков мало и тому, кто хочет жить, себя как-то осознавая и познавая. Желание уйти от себя неизменного и себе знакомого, т.е. того, кто вписан в знаки, говорит о потребности столкнуться с новым. Без другого – нового и необычного – человек закисает и прокисает, а его попытки выйти из хандры путем экзальтации своих чувств, разумеется, будут безуспешны. Ложь – она от отсутствия силы. Во лжи человек опирается на то, что к нему самому не имеет прямого отношения. И потому, когда он прибегает ко лжи, то фактически отрицает себя по причине своей слабости, чем еще более ослабляет себя. Ложь связана с отстаиванием себя в борьбе с другими, когда человек пытается найти своѐ вне себя. Когда я в себе и для себя, то причин для лжи просто нет. Но если у человека не хватает сил для того, чтобы быть, то ему ничего не остается, как быть за счет другого; за счет того, что есть, но есть вне его самого. 190 Разрыв повседневности Попутно заметим, что причинность определяется в том, что себя уже как-то кажет (показало и сказало), но до этого причинность может себя и не обнаруживать. Причинность управляет там, где настоящее ушло, а человек столкнулся с прошлым. Вот он и связывает то, что есть, с тем, что уже состоялось. Для понимания прошлого необходимо опереться на иную причинность и иной язык, нежели причинность и язык, благодаря которым «делалось» прошлое. Исследователь прошлого собственно и опирается на иной язык и иную причинность. Такая «разница» дает ему шанс для объективного понимания. Также поступаем и мы, если хотим понять кого-либо, включая себя: понимания не будет, если мы не обопремся на иной язык и иную причинность. Введением иной артикуляции значений и иной детерминации вбивается «клин» в связанность того, что мы хотим понять, ибо предполагается, что оно (то, что нами понимается) само себя не понимает. Мы вводим в понимаемое нами, но непонимающее себя, иное время и связываем его с иными местами, надеясь с ним как-то совладать. Однако надежда эта оправдывается только отчасти, ибо такое понимание индивидуально, и, наряду с ним, может возникнуть другое понимание, связанное с другим языком и другим принципом детерминации. Здесь небесполезно будет отметить, что применительная практика группового языка явно уже, нежели у нормативного языка, именно ввиду социального отягощения. Безличная форма нормативного языка позволяет любому индивиду выразить себя и говорить на своем собственном языке. И если от безличной культурной нормы бегут как «от огня», то это связано с нехваткой себя, когда своѐ человеку – еще или уже – непонятно. А потому он и прибегает к тем языкам, которые манят его возможностью предстать личностью. В результате возникает иллюзорная ситуация индивидуально-личностной состоятельности человека за счет социума. Обращение к социальному языку в существенной мере связано с недостатком в понимании нами себя, что, конечно, замечаемо со стороны, но не ясно нам самим. Вся культура держится на выделении и отделении от остального неких черт вещи, явления или процесса, помеченных особым – к ним – отношением человека. В своем отличии от другого фиксируется некий акцент нашего отношения, т.е. акцент сознания, который затем может наделяться иными – добавочными – значениями и Глава II. Свое 191 потому принимать гипертрофированную форму, в сравнении с тем, что было ранее. К слову сказать, одна из основных функций сознания и связана с выделением: сознание позволяет нам акцентировать внимание на одном, не акцентируя его на другом. Причем человек это «выделенное» связывает именно и только с собой. Понятно, что в процессе жизни мы выделяем разное, но всегда то, что для нас наиболее значимо и нас, соответственно, занимает; то, что к нам ближе и нам дороже. Это то, с чем мы находимся в теснейшем и, можно даже сказать, интимнейшем отношении. Речь идет о том, что акцентированная черта, помеченная сознанием человека, значит теперь для него больше, чем все то, что сознанием не отмечено. На основе выделенных сознанием значений формируется новая среда жизнедеятельности. Таким образом, культура возникает не только посредством отличения чего-либо от того, что есть, но и за счет выявления некоей разницы между тем, что человек с собой не отождествляет, и тем, что он склонен с собой связывать в качестве чего-то особенного и своего. В результате формируется противопоставление своего и чужого, в зависимости от которого теперь уже, когда это случилось, поляризуются все содержания жизни, сознания и языка индивида. Теперь уже многое определяется противопоставлением тенденций своего и чужого. Всем знакам внутри такой полярности – посредством формы, связывающей различные значения, – придается определенная направленность восприятия. Сила и мощь «культурных» индивидов обретаются благодаря их вхождению в образовавшиеся замкнутые области, внутри которых действует тенденциозно направленное движение взаимосвязанных между собой значений. Энергия культуры объясняется именно такой направленностью, позволяющей индивиду, замыкаясь на себя, пребывать в цепи тока культуры. Опыт проживания внутри такой цепи является культурным опытом, хотя это, как правило, и не сопровождается опытом «переживания» культуры с выявлением рефлексивного к ней отношения. Своя культура всегда воспринимается как нечто особенное: она всегда – либо лучшая, либо худшая, но никогда не безразличная. Она – всегда «самая-самая», «ни на кого и ни на что не похожая». Выработать некий надкультурный рефлекс, связанный с опреде- 192 Разрыв повседневности ленным отстранением от культуры, когда в отношении культуры занимается положение постороннего наблюдателя, здесь принципиально не удается. Культура собственно и строится на отличии своего от всего остального, включая и различия в отношении ко всем другим культурам. На такой основе создается определенный обряд культурной идентификации и строится культурная идеология. К слову заметим, что в параметрах своего – в отличие его от чужого – все то, что находится внутри культуры, воспринимается с позиций культурной идеологии как подвластная культуре территория, где она всегда стремится упрочить себя. Культура намеренно оставляет – на всем внутреннем содержании – свой отпечаток. Поэтому единственным вариантом ее сохранения является повышение внутреннего градуса, что связано с перманентной гипертрофией своего и особенного. От этого может спасти обстоятельство внешней экспансии культуры вовне, когда чужое адаптируется к своему, а содержание чужой культуры перерабатывается путем его «встраивания» в ток культурного движения. Однако такое спасение – всегда временно, ибо культура развивается, не ведая никаких преград только до поры, пока не сталкивается с их непреодолимостью. В таком случае ее развитие становится сконцентрировано исключительно внутри, и она неизбежно «перенагревается». Культура устроена так, что везде и повсюду борется за своѐ и против чужого, чего бы и кого бы это ни касалось: борется с природой, борется с другими культурами. И надо понимать, что формой развития культуры является именно борьба, которая может вестись как в «мягкой» форме скрытого захвата, адаптации чужого к своему и его освоения, так и в «жесткой» форме явной агрессии, связанной с уничтожением чужого. Через борьбу с чужим за своѐ осуществляется определенная унификация недовольства и ненависти, когда агрессии разных индивидов придается общая форма движения. Фронт такой борьбы фактически повсеместен, и с ним можно столкнуться даже там, где никак и никогда не ожидаешь. Здесь принципиально стоит оговориться. Ненависть съедает ненавидящего изнутри, а потому с ним, как с ненавидящим, бороться не надо. Он сам себя съест, сам загрызет себя изнутри. Правда, это не Глава II. Свое 193 отменяет потребности бороться с агрессией ненавидящего на своей собственной территории. Установлением границ своего и чужого в культуре создается определенное напряжение, аккумулирующее энергию ее носителей. Именно в борьбе за свое и против чужого культура предстает в своей целостности и завершенности, когда формальная, т.е. начальная, причина оказывается в то же время конечной ее причиной, т.е. целью. В границе, отделяющей свое от чужого, т.е. на краю культуры, ее суть сконцентрирована максимально. Такая крайность культуры проявляется довольно многообразно: в виде крайних – экстремальных – поступков, в предельной мощи натиска культуры, в крайних вариантах идеологии. Можно сказать, что культура по преимуществу раскрывает себя там, где она реализует себя в крайних и радикальных формах. В таких ситуациях все то, что имеет отношение к амбивалентному, рефлексивному и взвешенному отношению, сметается и отметается на обочину. В такие радикальные периоды развития культуры человек, себя с ней отождествляющий, понимает служение идеям культуры в контексте своей готовности к отказу себя от всех проявлений частной жизни. Такой – ангажированный культурой – человек воспринимает буквально все в отсвете именно такой идейной установки. В результате ничто чужое, включая чужие тела, чужие дома, чужую собственность и даже чужие жизни, им в качестве чего-то самоценного и самостоятельного восприниматься не будет. Всему тому, что противостоит своему, надлежит быть уничтоженным или полностью переработанным. Так, крайность и радикализм аккумулируют – посредством борьбы против чужого – всю, присущую человеку или народу энергию путем ее собирания в одной точке; точке фронта в противостоянии своего чужому. Этому сопутствует формирование специфического идейного климата, когда все своѐ принципиально оправдано и оправдано изначально, тогда как чужое изначально дискредитировано. Более того, через оппозицию «свой – чужой» человек не только соотносит себя с предельным, но и полагает возможным считать себя таковым. Война в таком контексте предстает средством доведения предельного до крайности. 194 Разрыв повседневности Фигура чужого, фигура негации. Как и то, что связано с войной, ненавистью, «инстинктом смерти». И с этими не совсем приятными фигурами, а именно – с фигурами чужого и негации, не так чтоб все было очень просто и прозрачно. Поясню. Ничто так не привязывает, как ненависть. Ничему человек так самозабвенно не предается, как войне. Все эти указанные (и, конечно, не прописанные сейчас) образы и фигуры негации притягивают в близь и делают близким Чужого гораздо сильнее, чем Любовь, Дружба и т.п. Не случайно, еще Гераклит говорил, что Полемос (война) – отец всего. Именно в этих ситуациях войны, ненависти, злобы и т.п. Чужой, занимая весь мой горизонт внимания и экзитсенциального напряжения, становится моим телосом. И, как телос, форматирует меня по «своему облику и подобию». Причем речь идет о крайнем напряжении, т.е. том экзистенциальном стремлении, которое заслоняет все в моей жизни. Чужой в этой ситуации – это не просто рациональный конструкт, который можно приручить с помощью различных логик (всегда содержащих оппозиционность), но жизненный предел, который очерчивает и потому о-пределивает (определяет) мою самость. Я захвачен и заточен Другим. А потому Он, Чужой – уже я сам. Даже больше, чем я сам, ибо в борьбе с Ним я готов пожертвовать своим собственным спокойствием, своим собственным временем, более – самой своей жизнью. Но тогда, если Чужой, как моя грань – причем не «нейтральная», статичная грань, которая стискивает мою самость, а подвижная, «зовущая», цель моего существования, – которая не безучастно схлопывает пространственно, временно и экзистенциально мою самость, но страстно выбрасывает меня к себе, к бесконечно чуждому Чужому, то тогда Чуждой – это я сам. Более того, Чужой становится моей внутренней самостью, проброшенной в проективность будущего. Именно за Чужого я борюсь, именно им я хочу стать в бесконечном движении преодоления и превосхождения. Чужой – это я сам в будущем, ибо за ним я резервирую через телос будущее, тогда как сам в своей аутентичности остаюсь в прошлом. А потому борьба с Чужим и может захватывать меня целиком и полностью: я борюсь не с Чужим, но с самим собой как будущим, как тем, что еще не утратило будущее, но еще ждет меня. Но вот что удивительно: борьба с Чужим, которая по сути есть Глава II. Свое 195 отождествление с Чужим в проективном будущем, по-иному полагает мое личное будущее. Это не то будущее, которое я запланировал, и его-то я как раз я избегаю в своей борьбе с Чужим. Ибо мое «запланированное» будущее – это всегда смерть, и я об этом всегда хорошо осведомлен, ибо человек во многом и существенно «начинается» тогда, когда он отвечает зову смерти, когда принимает свою собственную смерть как свою необходимую возможность (М. Хайдеггер). То будущее, которое выстраивается с помощью фигуры Чужого, – это внезапное будущее, будущее незапланированное, не отформатированное моим проектом полностью и окончательно. Это будущее неизвестно, неопределенно, а потому и ужасает в своей неопределенности. Я не знаю, что ждать от будущего, – таково непредсказуемое, а потому и истинное будущее. В этом отношении даже фигура смерти, которая неизбежна, а потому, вроде как, должна быть предсказуема и которую я ожидаю, ужасает не в своей «запланированности» и схваченности, но в том, что выходит за предел моего проекта и представимости. Как разъяснение: представим себе то будущее, которое будет после моей смерти. Оно выстраивается мной таким образом, как будто я продолжаю присутствовать в ситуации моего отсутствия. Несмотря на то что меня уже нет, мир продолжает выстраиваться из моей позиции, даже если такая позиция – воображаемая позиция. Воображаемая позиция моего «послесмертия» – это как раз и есть «запланированное», прирученное будущее. Но ведь в том-то все и дело, что ее – воображаемой позиции – нет, ибо меня уже тогда не будет. И тогда: каков мир, когда меня нет и нет тех форм, с помощью которых мир конституируется в мой мир? Мир как воля? Не случайно Шопенгауэр говорит, что до того, как возник «первый глаз», конституирующий реальность в формате представления (т.е. использующий пространство, время и причинность), есть лишь непредставимая и безосновная воля… И после моей смерти, когда исчезает мой «глаз», исчезает и мир как представление, рассыпая космос в хаос бесчеловечной и безосновной воли… Как раз это беспокойство, неуверенность и хрупкость проекта как такового мы и чувствуем в «фигуре собственной смерти» – 196 Разрыв повседневности предчувствуем незримое, но вполне ужасающее присутствие моего отсутствия и моего мира… Именно эта непредсказуемость, которая царит внутри нас и нашего проекта, «сквозит» в облике Чужого, отнесенного в качестве моей собственной и внутренней цели в неприрученное будущее. А потому в этом предельном напряжении с Чужим, как со своим собственным нерешенным и никогда не определимым проектом, мы способны рискнуть всем. Мы способны рискнуть своей собственной жизнью, своим благополучием и своим предсказуемым будущим. Можно сказать, мы боремся с тем хаосом, который выстраивается в нас и нами, который нас ограничивает и манит. Это тот хаос, который постоянно открывается внутри нас бездонной пропастью нас самих. И над этой бездонной пропастью (можно вспомнить Ницше: человек – канат, натянутый над пропастью) мы балансируем и движемся вперед, рискуя самым ценным, что у нас есть, – нашей жизнью и нашей смертью. Ибо нет альтернативы, ибо без этой страшной, непредсказуемой фигуры будущего, которая отливается в лик Врага и Чужого, которые суть наше сокровенное, мы сразу сорвемся в пропасть хаоса. Ибо пути назад нет, а есть только путь в то жуткое, монструозное и непредсказуемое будущее, будущее нашей смерти, нашего Ничто, и нашей самости… Это, конечно, далеко не все, что можно сказать о загадочности фигуры Чужого и Войны… Но и этого достаточно, чтобы зафиксировать одну простую вещь: не все так просто и однозначно в Войне, отбрасывающей нас в «зверинность» инстинктов, и в Чужом, которого мы пытаемся поработить и приручить… Оппозиция «свой – чужой» пронизывает любую культуру, структурируя и организуя все без исключения процессы ее внутреннего развития. И если своѐ человек склонен воспринимать в параметрах определенного упрощения, то чужое всегда понимается им как некое усложнение, побуждающее адептов культуры занимать в отношении чужого непременно воинствующую позицию. Глава II. Свое 197 Позитивная позиция по отношению к «другому», когда оно не только понимается как нечто абсолютно чуждое, но и воспринимается в качестве неотъемлемого элемента культуры, формируется только на поздних этапах становления культуры и связана исключительно с немногочисленными слоями общества. Сегодня такая позиция отождествляется с «интеллектуалами» и, в какой-то мере, – с «интеллигенцией». Однако существенно поколебать представление о своем такая позиция не может. Своѐ предстает формой сохранения культуры, где содержательное изменение своего – путем введения «прививок» чужого как другого – возможно только до тех пор, пока это не угрожает внутреннему ее единству. Иначе говоря, своѐ может осознаваться формальной причиной культуры и восприниматься в качестве формального условия ее существования. Здесь к слову будет заметить, что разделение на «своих» и «чужих» формально, ибо в содержательном смысле «своими» могут стать и принципиально становятся те, кто может не знать ни языка, ни традиций «своих», не говоря уже обо всем остальном. Особенно это показательно в периоды экстремальных периодов развития культуры, связанных, например, с войной или спортивными состязаниями. В таких ситуациях разделение на «своих» и «чужих» осуществляется людьми уже на основе их личного – пусть и невнятного для них самих – приобщения к культуре. Без разделения на своих и чужих не может обойтись ни один человек. Если даже кто-либо выступает за повсеместное приятие чужого, то, будучи носителем определенной культуры, он все равно придерживается базового принципа оппозиции «свой – чужой». В ситуации установления пределов своей неопределенности формальное начало культуры, связанное со «своим», становится для человека намного более важным, нежели содержательный момент культуры. В этом смысле формальное воздействует на формирование «культурного» содержания в качестве его причины, играя роль неотменимого и незаменимого действия. Избавиться от своеобразного «диктата» формального невозможно, ибо отказ от одной формы может быть осуществлен только путем перехода к другой форме, связанной с соответствующим изменением «положения дел» и «правил игры». 198 Разрыв повседневности Акцентируем внимание на том, что если мы и можем пойти на изменение «положения дел» и изменение «правил игры», то можем сделать это только посредством понижения или повышения ранга формализации. Форма, являющаяся нормой культуры, никуда не исчезает, хотя человек привыкает относиться к форме посредством ее содержательного «наполнения». Обретение навыка взаимодействия с формальным как таковым может возникнуть, вероятно, по мере испытания человеком – в процессе его жизни – своей связанности с разными формами. За счет опыта такой соотнесенности с различными формами он испытывает разную степень своего взаимодействия с целым. Нетрудно понять, что предельная соотнесенность человека с целым связана с его приобщением к крупным формам бытия. Констатируем, что на основе культуры человек себя собрать не может, ибо «продукт» культуры не связан напрямую с сознанием, а только с отдельным его состоянием. Стоит обратить пристальное внимание на то, что не только отдельные люди, но и целые народы не могут собрать себя исключительно на культуре. История показывает, что культура, противостоящая природе, не может полностью ее вытеснить и не спасает ни от одичания, ни от впадения в варварство и дикость. Жизни мало культуры: она в нее не помещается. Вместе с тем мало культуры и сознанию. Люди, которые не могут созерцать, – не важно, почему это происходит: по причине их неспособности или из-за нежелания, – гибнут первыми. У нас нет «чистой физиологии» даже на уровне «телесности». Если бы наше здоровье и наш век определялись бы только «физиологией», то мы жили бы лет тридцать-сорок, не больше. Именно столько жил в среднем человек не так уж и давно. И дело не в том, что медицина сейчас «продвинутая» или «тепличные условия» жизни. Я думаю, что как раз тепличные условия современного человека способствуют уменьшению его срока жизни. Мы можем запретить себе и болеть, и даже умирать… Телесность «подстраивается» под сознание. Как-то, после нескольких лет занятия йогой, я осознал одну простую вещь: когда я практиковал йогу, я не столько тренировал свое тело, сколько тренировал свое сознание… Именно оно отдает «приказ», именно оно «обладает» телом. Телесность вписывается в «структуры» сознания, Глава II. Свое 199 при этом само сознание «работает» не с телом, а с символизмом, который «сросся» с нашим телом, ибо для нас, обладающих сознанием, тела как такового нет. А когда оно одно есть – то нас уже нет… Подобное древние говорили о смерти: когда я есть, ее, смерти, нет, но когда она есть – меня уже нет… Не собирающий себя человек находится в перманентном состоянии распада и потому легко впадает в пафос частного, пытаясь вместить в него себя. Однако если это и спасает, то только на время. Понятно, что каждый человек испытывает потребность в частностях как неких «бухточках» собственного успокоения, где он мог бы переждать бури своего существования. Мы испытываем потребность «иметь» своѐ; представлять «своѐ» как «моѐ». Но это «срабатывает» и «работает» только тогда, когда он знает своѐ собственное, т.е. знает свою субъективность, знает то своѐ, что может быть его собственным и потому быть использованным. Однако для того чтобы не заблудиться и не пропасть в частном, человек вынужден неизбежно прибегать к процедурам своего превышения и превосхождения. Например, можно не просто занять себя чем-то, а именно заняться собой и относиться к себе как к кому-то и, узнавая себя, об этом помнить. Тогда в таком знании себя будет сохраняться присутствие сознания. При этом стоит помнить, что присутствие – это одноактное событие. Оно одноактно в том смысле, что каждый присутствует независимо от другого, и потому присутствие замкнуто на себя. Но тогда соприсутствие является собирательным образом, отражающим некое положение дел именно извне. Ввиду бездомности и безвременности присутствия попадание в него переживается именно как «дыра», или «пауза», в своей жизни, попадание в которую бездонно и сродни попаданию в бездну. Присутствуя, ничего другого заметить не сможешь, тем более никак не заметишь присутствие другого и с ним себя не соотнесешь. Собранность требует разрядки, но если в себе мы собираемся постепенно и неспешно, то скорость перехода в противоположное состояние многократно больше. Собирание себя – дело трудное и является результатом большого объема работы человека в отношении самого себя, тогда как в периоды разрядки человек спосо- 200 Разрыв повседневности бен выходить из себя разом и вкладывает себя – в это – целиком и полностью. Стоит добавить еще несколько соображений. Для развития необходимо периодически или изредка, но выходить за пределы достигнутого. Такой – экстатичный и трансцендентальный – характер нашего существа может пониматься разнопланово: и в качестве использования присущих нам способностей трансцендирования при их совершенствовании нами, и как совершение нами отказа в отношении того, что мы имеем; что нажили, скопили и получили. Пребывание внутри постоянства обрекает на повторение, а повторения нам мало и мало всегда. И потому условия, связанные с воспроизводством стабильности, периодически приходится изменять. Каждый из нас сталкивается с необходимостью периодически превосходить границы своего стабильного существования. В этом контексте по-новому «прочитывается» идея бескорыстия. Дело в том, что, превосходя себя и отказываясь от достигнутого, человек входит, по большому счету, в круг совершения чистых и бескорыстных действий, прямо создающих угрозу его существованию. Вероятно, в этом содержится намек на то, что исключительно сохранением и подтверждением своего существования его существо не исчерпывается. Индивид не может не быть сориентирован на избыточное, он не может без этого обойтись. Говаривали в античности, что самое необходимое нам доступно, а потеем мы лишь ради избытка… Не правы они… и не только потому, что в Греции и теплее, и сытнее, а-де в странах с более трудными климатическими условиями необходимое – плод длительных и изнурительных усилий… Человек живет изза излишка, и только излишек, избыточное, делает его человеком… Цель не в необходимом, но в избыточном… Человек – это фабрика избытка… Такая направленность человека на безусловное и избыточное показательна. И нам приходится признать онтологическую связь своего существа с предельным. Оказывается, целостность нашего существования должна не только сохраняться, но и превышать себя. В противном Глава II. Свое 201 случае всегда есть риск срыва в беспредельное, который – ввиду его непонимания – будет восприниматься принципиально как нечто негативное. Мы должны принять, что наше существование имеет смысл только в своем преодолении. И если сам человек или сам народ не узаконят формы, способы и методы своего преодоления, то оно все равно проявит себя, только уже незаконным, т.е. неожидаемым и неожиданным, образом, изламывая на своем пути все. Одни – активны и тратят себя полностью, упиваясь такой растратой себя и растворяясь в ней. Другие – не знают, куда себя деть, не умея ни входить, ни выходить из себя. И ни те, ни другие не могут занимать в отношении себя положение внешнего наблюдателя. И в результате того, что не появляется некое «кто», утрачивается и исчезает «что». А так как и те, и другие не знают себя и познают жизнь исключительно вне себя, то и вспоминать они могут только о том, что было вне себя, т.е. о «что». Вот они и пишут книги, создают мемуары, в которых речь идет о многих «что», внутри которых они укрываются от себя. И на этих «что» пышным цветом расцветают мифы, где нехватка «кто» скрывается, затемняется и извращается. Общество никогда не состоит из сильных людей, оно – разное, и потому не может обойтись без мифов. Без мифов может обойтись только сильный человек, способный отличать себя от своей вовлеченности в действие. Вместе с тем сильный человек, даже будучи всецело сосредоточенным в сознании, не плюет на жизнь, а относится к ней легко. Слабый человек, сталкиваясь с не осознавшей себя жизнью, стремится не только принять ее, но и оправдать свой выбор. В своем оправдании он исходит, конечно, не из сознания, а из своих соображений, т.е. из себя, хотя поворот к жизни лицом стоило бы рассматривать именно как вынужденную реакцию себя на жизнь, т.е. как свою реакцию. Для реализации того, что мучает человека, и для освобождения от неясных – пока еще или уже теперь – желаний, человеку нужен язык, который ему в данный момент неизвестен; язык новый и непривычный. Непривычность языка связана с тем, что в объективной языковой форме необходимо выразить мучащую и изматывающую нас субъективность. Сознание выражает себя в определенном техническом устроении слова, фразы, текста, где и когда 202 Разрыв повседневности субъективность человека обособляется от него самого в процессе осознания. Процесс этот необходим: необходим, возможно, не только для того, кто это совершает, но и для другого – того, кто на этом примере поймет, как собираться в сознании. Каждый из нас сосредоточивается по преимуществу либо в жизни, либо в сознании. Отстраняясь от одной природы – от природы жизни или от природы сознания, человек попадает в зависимость к другой. Под соответствующую стратегию отношения к той или иной природе выстраивается технический инструментарий человека, т.е. инструментарий его отношений и намерений. Таким образом, или мы собираем себя в сознании и своей субъективности, и тогда наши представления, будучи спроецированными на жизнь, предстают невротическими реакциями, или мы «с головой» закапываемся в жизнь и испытываем невроз при любом симптоме исчезновения условий жизни, с которой мы срослись. Вот мы и обзаводимся разными языками в зависимости от обстоятельств и надобностей. Язык человека по преимуществу связан или с сознанием, или с жизнью. При перенесении его в противоположную область он начинает проявлять сопротивление нашим намерениям на него опереться: в этом случае язык теряет свою прозрачность и вдруг субстантивируется независимо от нашего хотения. Языковые конструкции могут связываться не только со случаем жизни, но и со случаем мысли, когда они отделяют от всего остального именно состояния сознания и свидетельствуют о фактичности сознания, придавая им – через собственное и отличное от других значение – характер конкретной определенности. Опираясь на сознание, человек способен выделить некое «нечто» в качестве особенного и отделить его от всего остального. Но тогда существование такого «выделенного» места обеспечивается сознанием человека. Для того чтобы факт сознания мог быть воспринят, он должен быть удостоверен: удостоверен самим действием обращения на него внимания и выделения из остального. Осознанное наделяется значением, которое человек потом может изымать и связывать с собой, тем самым понимая себя и наделяя свое существование неким смыслом. Мир устроен так, что всегда дает нам шанс понять: понять и мир, и себя. Если в языке и культуре не формируется аппарата по «передаче» опыта жизни и выявлению приемлемых способов его транслирова- Глава II. Свое 203 ния, то об опыте, который не в состоянии быть передан другим, никто не знает. Он либо сходит на нет, либо извращается. Но дело в том, что такое «устройство» памяти образуется не само по себе, т.е. не просто поддержанием действий по производству результатов культуры, а исключительно путем обращения к сознанию. По отношению человека – усиленному или ослабленному – к памяти о ком-либо или о чем-либо можно сказать многое. Обращающийся к памяти человек в существенном смысле живет прошлым. Но вполне можно допустить ситуацию, когда человек отказывается от прошлого и полностью сосредоточивается только на настоящем, и тогда сталкиваешься с атрофией памяти. Бывает так, что наша память стирает все упоминания не только о событиях, но и о людях. Для нас они умирают, но может статься, что они живы; ходят, влюбляются, ненавидят, страдают. Однако все это вне нас, нас не трогает и в нашу историю не входит. «Механизм» забвения позволяет заострить внимание человека на одном, ослабляя его по отношению к другому, благодаря чему устанавливается особая – сугубо наша – область жизни, которая нами именно осознана. Выстраивать отношения с живыми трудно, ибо требуется не только взаимодействовать с собой, как с осознающим, но и учитывать изменение осознания, обусловленное тем, что живой – он всегда изменчив, и потому тому, кто сознает, приходится изменять свое осознание живого человека. Чтобы сохранять возможность быть переданным, прошлое должно сохраняться больше чем одно поколение. В противном случае оно рассеивается и исчезает. Если же поколение людей оказывается ввергнутым в перманентные реформации, то аппарат коллективной памяти не срабатывает: воспоминания сжимаются до границ бытования одной личности и охватывают ситуации только индивидуальной жизни. Такая память развивается применительно к жизни самого человека, однако не может быть передана другому. И там, где память не транслируется, начинают править мифы, а одни люди начинают использовать память других, ибо потребность в общественной конвертации жизненного содержания все-таки имеется. Приметой нашей нежизненности, когда мы вне сознания, становится отношение к феномену смерти: она нас не трогает; в лучшем 204 Разрыв повседневности случае – она нас занимает. Причем занимает на время и разве только как некоторое обстоятельство. Видимо, не может сильно «тронуть» то, что уже как-то заранее уместилось, угнездилось и расположилось в тебе. Не может «затронуть» то, что уже внутри тебя и стало частью тебя самого. Трогает иное – непривычное, новое. А это значит, смерть не занимает того, кто уже мертв и уже пуст. Убить мертвого, как и испугать мертвого смертью, – невозможно. Теряя жизнеспособность, человек спокойно реагирует на смерть рядом с собой, принимает ее довольно обыденно. Сталкиваясь со смертью, мы обязательно совершаем – в понимании жизни умершего – определенную редукцию, ибо сводим и стягиваем все события его жизни к точке смерти как к концу жизни. Однозначность в жизни, которую можно рассматривать в качестве области формирования различных значений, обмена ими и их потребления, практически невозможна, а если некие ее варианты иногда и случаются, то только в искусственных и изолированных средах. Однозначность – удел смерти: оканчиваясь, жизнь сводит многообразие к единственному значению – значению кончины. Смерть – тоже инфицирована культурой. И дело не в том, конечно, что вокруг да около смерти развертываются культурнофундированные «Dance macabre»: обряды, места и способы погребения, периодичность поминания-помятования, «посмертный макияж» – бальзамирование, целый эпос, рассказывающий о посмертном существовании, Ад, Рай и т.п. Меня всегда «задевала» и интриговала как вопрос-проблема однозначность, определенность, которую смерть налагает на человека. Мне представляется, что та однозначная и окончательная определенность, которую мы «получаем» в момент смерти – вроде, уже ничего нельзя ни убавить, ни прибавить, – укоренена в нашем европейском «мiре». Именно европейская культура форматирует подобную установку по отношению к смерти. Человек умер – и он выпадает из будущего, он – всегда в прошлом, а потому оказывается возможным «воссоздать» его окончательный и однозначный образ, сведя воедино все нити его существования, поступков, мыслей и т.п. Смерть – предельный определитель, Глава II. Свое 205 который о-пределивает человека. Но это – наш новоевропейский взгляд… Были иные… В античной Греции говорили, что понять, счастлив ли был человек, возможно не тогда, когда он умер, но когда отошли в мир иной его дети: назвать счастливым человеком того, у кого его дети влачат жалкое существование, у древнего грека не «поднималась рука». Собственная смерть для античного времени не была тем окончательным определителем, который все расставляет на свои места. Окончательное определение было отнесено немного на более поздний срок – смерть детей… Античный грек, в этом отношении, не умирал в момент своей смерти, он «откладывал» ее на более поздний срок, срок жизни его детей… Хотя, конечно, не очень удаленную перспективу выстраивал античный грек, отдаляя окончательную определенность человека лет на 30–40… Христианство поступало «круче»… Окончательная определенность человека выстраивалась в христианстве в перспективе «божественной комедии», мистерии спасения. Смерть в этой перспективе не расставляла все точки над «i», не давала простой и однозначный ответ, кто есть такой конкретный человек в момент завершения его жизненного странствия. Вопрос об окончательном определении в христианстве откладывался на «время» Страшного, Последнего Суда. Именно тогда, когда должно произойти воскресение мертвых и должен состояться Последний Суд человечества, должен быть вынесен окончательный вердикт каждому человеку. Индивидуальная смерть как окончательный приговор откладывалась на то время, когда наступит конец времен, когда будет дано окончательное определение всему человечеству… А потому она, эта смерть, не так уж важна в горизонте спасения: Страшный Суд девальвировал ценность и значимость индивидуальности смерти… По-иному выстраивалась фигура смерти в азиатской культуре: смерть вырисовывалась как вполне реальный шанс изменить карму в череде реинкарнаций… В череде перерождений, смертей, в водовороте сансары, смерть оказывается не очень-то внятным критерием в окончательной определенности, скорее – как всего лишь один, правда довольно важный, этап бесконечного странствия… 206 Разрыв повседневности А наша современность? Говорят, сейчас не очень прилично – болеть… Но самое неприличное, можно сказать, вопиюще непристойное – это умереть… Наверное, потому, что именно в «ситуации смерти» заключен самый сильный протест против машины воспроизводства, сметающий любые символические процедуры подавления и дрессуры… Смерть – это тотальное выпадение из машинерии производства, и оно, это производство, ничто не может с ней поделать… Разве что заменить один «винтик» на другой. Наверно, именно поэтому столь важна «стандартизация» человека, прекрасно достигаемая в формате массовой культуры… Каждое из событий жизни «прочитывается» при таком рассмотрении в ином виде из-за загруженности их присутствием этой финальной точки. Ввиду того что действия жизни связываются между собой общим окончанием, они прочитываются как взаимосвязанные, а жизнь понимается законченным процессом. Теперь, когда смерть случилась и пришла, становится недостаточно понимать события исключительно в размерности жизни: эти события лишаются жизненной самостоятельности и своей феноменальной ѐмкости (плотности). Событие жизни развоплощается и «превращается» в явление, легко соединяемое с другими такими же явлениями, тогда как ранее – до события смерти – жизненная событийность заставляла и принуждала с собой считаться. Жизненная событийность отменяется событием смерти в нашей – его – осознанности. Здесь стоит, по-видимому, добавить, что сознательное проникновение в тему смерти и в классические тексты о смерти, фиксирующие отношение к смерти именно не с позиции жизни, а с позиции сознания, может помочь человеку в изменении состояния его сознания, точнее – в переходе от одного состояния сознания к другому. Обычно мы инерционны, однако под воздействием толчка от чтения специфических текстов мы получаем импульс к тому, чтобы измениться и даже поменять свое сознание. И измененное сознание помогает принять положение о том, что умирает не «муж», «сын», «плотник» или «общественный деятель», т.е. значимые для различных контекстов жизни идентичности, а именно человек. Смерть Глава II. Свое 207 акцентирует наше внимание на целой жизни человека во всех ее проявлениях, на целом как таковом. И если принять во внимание, что в момент осознания человек выпадает из жизни, собираясь в себе и вне ее, то тогда образ смерти – трамплин для осознания жизни. Все серьезное, т.е. то, чем мы дорожим, происходит внутри топологических пространств, где все связано с силой сознания. Точнее, в топологическом пространстве все связано именно со мной – и в этом смысле топологическое пространство всегда уникально, в отличие от метрического пространства, которое всеобще и безлично, – и именно я осознаю и способен осознать это. Пребывание в топологическом континууме изменяет человека: его мир собственно и представляет собой не что иное, как топологическую среду, в границах которой объединяющим принципом, связующим разнородные по своему происхождению явления и процессы, становится отношение. Процедура отношения и установление отношения – вот то, что отличает сознание. Свой мир у человека определяется на основе своего – ко всему – отношения. И это отношение, будучи мыслью, которая рождается на основе совершившегося чувственного вложения человека в жизнь и резко отличается от рассудочных и «вялых» мыслей, буквально владеет мной. Это отношение – если оно формируется и есть – у каждого человека именно своѐ; его от себя мы отделить не можем; с ним «не устроишься», им не «овладеешь» и его невозможно «иметь». Скорее, оно «устраивает» нас, «овладевает» нами и «имеет» нас. Предположить человека, у которого не было бы потребности в обнаружении своего, конечно, можно. Однако это будет сугубо теоретическое допущение, исключительно логическая конструкция. Человек без «интереса» невозможен. Топологию надо воспринимать в контексте поиска человеком своей связанности с глубиной жизни. Для того чтобы прикоснуться к глубине, надо преодолеть поверхность, что сделать довольно сложно. Человек, вроде бы, всегда сталкивается только с поверхностью и обречен на взаимодействие с ней. Однако ввиду того что сила трения на поверхности минимальна, человек, будучи на поверхности, вынуждается к тому, чтобы скользить, спешить и падать. Его на поверхности мало что сдерживает. Предполагая же глубину и ориентируясь на нее, он может вы- 208 Разрыв повседневности страивать сугубо свои отношения с поверхностью, воспринимая ее уже как границу и предел глубины. Вероятно, и отстаивание любых границ – границ тела и границ страны, границ своего и границ чужого, границ дозволенного и недозволенного – связано именно с присутствием некоей самостоятельности, которой без глубины быть не может. Если индивид отказывается от сохранения поверхности в ее неприкосновенности, то это – от того, что он захвачен силой глубины. Освобождение человек связывает с попаданием в особые точки избыточности жизни или места ее предельной полноты, что позволяет ему справляться с чувством своей неполноты и прервать рассуждения о том, как его воспринимают другие. Действие свободного человека самоценно и не зависит от оценок и результата этого действия. В этом смысле свободный человек есть сам себе основание. Здесь мы опять же сталкиваемся со странными ситуациями самообоснованности тех вещей, которые чрезвычайно значимы для нас. Сталкиваемся с тем, что все, имеющее наибольшее значение для нас, беспричинно. Оно само творит или, по-другому говоря, производит себя. При встрече с такими – полными – вещами мы освобождаемся от вмещения себя в частности. Вот почему важно воспитывать и в себе, и в других, если только выпадает такая возможность, уважение к полноте человека и возникающим ситуациям его онтологического тождества с собой. Эти редкие случаи не связаны с получением дивидендов, что обеспечивается путем обмена целого на частное. Здесь стоит также отметить, что в социальной интеграции и «врастании» в общество человек связывает себя как раз не с целым, а именно с частным. Целое – самим социумом – отгорожено от человека. И с целым, как таковым, мы встречаемся, если нам это удается, всегда в одиночку. Важно и то, что целое способно нас удивлять: с ним всегда необычно. И если взгляд удивления и ориентации на необычное у нас несколько притупляется, то это происходит, скорее, не по вине целого, а из-за нашего нежелания или неумения соответствовать целому. Дело в нас – в том, что мы уклоняемся от необходимости измениться при встрече с ним. Попутно заметим, что человеку трудно сформировать позицию наблюдения за собой: для этого необходимо отстранить себя – на- Глава II. Свое 209 блюдающего от себя – действующего и различить эти два субъекта, два начала. Трудно ужиться в ситуации, когда действующий, чтобы быть таковым, должен действовать, а наблюдающий должен наблюдать, если только не объявить наблюдение действием и тем самым отождествить их между собой. Вероятно, стоит подумать о наблюдении как процедуре, к которой мы можем обращаться, переходя от одного действия к другому, когда сознание позволяет различить эти действия и сопоставить их между собой. Наблюдение можно считать промежуточным звеном между мной самим и каждым моим действием, и тогда – через наблюдение – каждое наше действие, будучи опосредованно сознанием, может осознаться нами. Без приобщения к процедуре усложнения мы начинаем деградировать. Территория жизни, связываемая человеком с сознанием и именно потому понимаемая в качестве своей, начинает стремительно сокращаться. Фактически речь идет о сокращении пространства личностного «обитания» человека: оно все больше индивидуализируется, т.е. атомизируется, а затем и фрагментируется. Существо человека сжимается: сначала он перестает разделять своѐ с другими; затем перестает делиться – взглядами, настроением, мыслями, чувствами, а впоследствии замыкается в себе и не делится своим даже с собой. Все бы ничего, но тенденция упрощения может становиться доминантой внутреннего общественного устройства. В такой перспективе своѐ понимается большинством как объект социальной атаки с практически предсказуемыми последствиями. Свой голос отметается согласием, рациональное отношение к чему бы то ни было заменяется рассудочным, балом правит консенсус. Эпоха своего оканчивается. Человек приучается жить сначала сугубо одной жизнью, а далее – одним годом, одним днем, одним мигом. На фоне таких реалий подавляющим и даже нормативным отношением людей друг к другу становится уже не недоверие, а агрессия. Если поначалу и существует иллюзия, что агрессию можно как-то канализировать и введением ее в некие рамки придать ей оформленное состояние, то она довольно быстро рассеивается. Утрачивая своѐ место, человек сбивается с толку и в таком – сбитом и извращенном – состоянии теряет свой образ. Время всегда платит такому – искореженному – сознанию тем, что отбрасывает 210 Разрыв повседневности его в безвестность, а неуместную жизнь – в сторону. Понятно, что конец такого общества неизбежен; смяв и отбросив в сторону внутренний объем и глубину жизни, оно просто-напросто не может ни стремиться к концу. Вне сознания вся жизнь, теперь уже предоставленная исключительно себе, стремительно финализируется. Непродуманность своей жизни тащит человека независимо от него самого и обрекает его на то, чтобы он находился внутри потока. Вот почему – вопреки всему – необходимо непрестанно практиковать процедуру усложнения жизни. Особенно там, где сложность уже как-то «встроена» в существование, и для того чтобы просто «выжить», он вынужден идти на серьезное напряжение жизненных сил, уставать и…пропускать мимо то, что имеет отношение именно к нему самому. Когда человек всем своим существом связан с борьбой за существование, отвлечение на сознание и, тем более, само отвлеченное сознание в лучшем случае будут рассматриваться в качестве прихоти и чудачества, а в худшем – восприниматься явно враждебно. Для того чтобы собраться в себе, человек должен научиться отвлекаться от забот существования. Усложнение является способом превосхождения данностей жизни и ее фактического движения вперед. Мы упрощаем и, одновременно, усложняем действительность. В любом случае, мы ее трансформируем, перекодируем. Возьмем простой пример. Я захотел пообедать рыбным супом, а потому, прежде всего, решил изготовить средство для отлова рыбы – удочку. Конечно, это довольно архаичный подход в процедуре приготовления рыбного супа, ибо сейчас мало кто так поступит, предпочтя сходить в магазин и купить все готовое… Тем не менее. Вот я такой «оригинал», а потому иду в ближайшую рощу и выбираю себе ветку или молодое деревце для удилища. Снимаю кору, привязываю леску с крючком и поплавком. В отношении деревца, которое я «загубил», я действую довольно незамысловато: я изолирую то, что мне нужно в конкретной ситуации, а именно – мне нужен длинный и гибкий шест, который мне позволит поймать карася или плотву. Я «использую» не целиком дерево, его возможности, его свойства и т.п., но лишь небольшой фрагмент этого дерева, который способен «откликнуться» на мою потребность, или желание выловить «рыбку из пруда». А потому я упрощаю тот «блок реальности», которым является дерево и который для моего сознания гораздо шире конкретной жизненной необходимо- Глава II. Свое 211 сти в рыболовстве. В результате дерево, после нехитрых движений, предстает как лишенное коры удилище. Это дерево, ставшее удилищем, подверглось не только культурной перекодировке, но и изменило свой прежний облик. Ибо удилище, к которому я привяжу леску и которым буду удить рыбу, уже не дерево, но упрощенный, преобразованный и перекодированный моей потребностью и вмешательством сегмент, фрагмент дерева. Но это – с одной стороны. Данное дерево, над которым я так незамысловато «надругался», переделав его в удилище, перестало быть т.н. «природой», а стало частью культурного пространства и, не в меньшей мере, частью моего мира. Преобразованное в удилище дерево уже несет в себе не только вполне реальные следы действия моих рук, но и инфицировано культурным и индивидуальным символическим контентом. Оно становится символом, в котором запечатлены и мое умение (или моя неловкость), и мое представление о том, как реализовать мое желание порыбачить, мое видение удочки. Наконец, в нем запечатлен тот опыт, который я приобрел в детстве, наблюдая, как другие дети изготовляют орудия лова и т.п. Каждый мой жест и каждое мое желание вбирают в себя целое «осиное» гнездо культурно-исторических коннотативных отсылок… и т.д. и т.п. И все это оказывается мгновенно инфицировано в простую и незамысловатую осинку или березку, ставшую моей удочкой… Так и наше сознание. С одной стороны, оно упрощает действительность. И даже закрепляет это упрощение в формате научного знания. Мы изолируем конкретное живое сущее, упрощаем его, «разрезаем» на фрагменты, вписываем в «формулы» и уравнения. Но сам конкретный предмет вписать, расчленить на фрагменты, не утратив той целостности, которая и есть реальный предмет, в структуры сознания невозможно. Но, с другой стороны, утратив свою индивидуальность, конкретный предмет приобретает черты той культурной традиции и того индивида, который столь «варварски» оперирует с предметом, феноменом и т.п. И тогда он, этот предмет, включается в горизонт культуры, которая предписывает и способы умственной манипуляции с предметом или сущим, накладывает на него наши, человеческие телосы, «пропускает» через наши формы чувственности и формы мышления и т.п. Иными словами, наше сознание перекодирует любое сущее, наделяя его целым набором культурных операторов, символическим значением, коннотативными связками и ссылками… 212 Разрыв повседневности Даже упрощая реальность, мы ее усложняем… И лишь «четкий» ум точного естествознания наивно полагает, что возможно разложить все по мельчайшим полочками, а потом собрать, следуя определенным критериям и правилам, в объективную картину реальности… Что ж тут комментировать: наивность… Можно обмануть другого и обманываться в другом, но невозможно обманывать себя и обманываться в себе. Человек всегда себя знает; знает, что является для него своим. Если мы исходим из того, что человек есть, то принципиально допускаем, что у него есть своѐ, и сам он есть благодаря тому, что есть это «своѐ». Поэтому если где-то и когда-то человек не в состоянии понять и принять себя, он сталкивается со своим пределом; с границей себя. Если мы в сознании и располагаемся в его фактичности, но не в фактичности жизни, то стремимся минимизировать количество случаев необъяснимого. Однако в жизни тайное может существенно теснить явное, когда допускается существование вещей, которые могут действовать независимо от нас самих. В таком случае у человека обнажается потребность прикосновения к тайне. Вероятно, дело в следующем. Предельная осознанность и осознаваемость своей жизни ставит человека в прямые отношения с беспредельностью сознания, результатом чего становится перманентное упрощение и тотальное развоплощение содержательной стороны нашей жизни. Это все больше начинает нас тяготить и побуждать к поиску того, что обладает самодостаточностью и есть вне нас. Тайное не позволяет сознанию «победить» жизнь и потому можно, наверное, сказать, и сказать без особого преувеличения, что человека без тайны нет. Без тайны человека нет. Но тогда, если сейчас тайны нет, а все прозрачно и освещено, то скоро грядет то, что, возможно, подготавливалось с момента появления новоевропейской культуры – катастрофа. И эта катастрофа будет похлеще полпотовского геноцида, который привел Камбоджу к так называемому «0» Глава II. Свое 213 году, страшному году, когда кончился «коммунизм», но еще ничто не началось, и население страны, умудряющееся есть все, что «ползает и растет», оказалось на грани полного исчезновения из-за тотального голода… Но катастрофа, которая произошла в Камбодже во времена красных кхмеров и непосредственно после падения их власти, – внятная, вполне опознаваемая катастрофа, с которой, в принципе, можно совладать: побольше продовольствия, и все, в конце концов, нормализуется. Так же обстоит дело и с другими катаклизмами, типа войны, чумы, природных стихийных бедствий, с которыми человечество уже сталкивалось и – увы – еще столкнется. И потому выработало уже определенный и в чем-то привычный сценарий действия. Чума – пожалуйста, лекарство не действует – в дело вступают другие оборонительные процедуры: изоляция, прививки, наконец «генетически-биологическое» приспособление. И даже СПИД потихоньку отступает. Когда есть внятная, можно сказать, зримая и тематизированная угроза – как-то легче и привычнее. Можно даже вписать – как это сделал Гельдерлин, а за ним Хайдеггер – маршрут спасения: «Где угроза, там и спасительное». А вот как быть с той угрозой, которая не опознается? Именно она-то и является «подлинной» угрозой, ибо когда она (если, конечно, это и произойдет, а ведь может и не произойти, никто не знает ничего о внезапности) опознается, то будет уже поздно. Дело уже сделано, и остаются последние «штрихи к портрету смерти»… А ведь в отношении утраты тайны мы сталкиваемся именно с такой угрозой. Где нет тайны – там нет человека, человека без тайны нет. Но ведь все, что происходит сейчас и что было запущено онтической диспозицией новоевропейской культурной традиции, как раз и направлено на то, чтобы ликвидировать эту самую тайну. Мир все меньше и меньше таинственен, и не надо быть великим метафизиком, чтобы почувствовать и рефлексивно проследить утрату таинственности вне нас и то, что вызвало, «спонсировало» исчезновение таинственности нашего окружения, а именно – угасание таинственности в нас самих. 214 Разрыв повседневности В мире Интернет-папарацци нет тайны: все просвечено и предъявлено. Более того, исчезает последний редут субъективности, связанный с фигурой лжи. Немного остановимся на этих двух сюжетах: просвеченность и прозрачность нашей реальности, а также репрессированная ложь. Вначале: личное наблюдение вечерней Упсалы – шведского города, центра науки и образования. Меня поразило, когда я прогуливался по вечернему городу в целом не очень значительное обстоятельство: освещенные окна домов с раздвинутыми занавесками и редко, скорее случайно, попадающие в эти освещенные пространства обитатели квартир. Поразили контрастом с отечественной традицией, когда у нас стараются как можно плотнее занавесить шторы, храня от чужого взгляда свою личную жизнь. Освещенные комнаты, как будто нарочито выставленные на показ, производили впечатление, скорее, не интимно-личного пространства приватной жизни, каковым, по моему разумению, является личная квартира, но некоей витрины, в которой выставляется если не товар, то, по крайней мере, демонстрируется, что ничего запрещенного в этом интимнейшем месте нашего существования нет. Все – под добровольным надзором, под, опять же, добровольным контролем, ибо я не думаю, что существуют сейчас юридические регламенты, запрещающие в Швеции занавешивать окна домов или, наоборот, предписывающие всегда демонстрировать изнанку личного пространства окружающим. Конечно, культурный смысл, транслируемый подобной практикой, довольно прозрачен и связан с протестантской традицией, которая укоренена в Швеции. И открытые окна – не самый жесткий сценарий цензуры и самоцензуры, запускаемый в этой традиции: достаточно почитать о «нравах» и доносительстве в Швейцарии времени Кальвина, чтобы понять, что это – довольно ослабленный вариант контроля. Но все же, это – контроль, который, несмотря на одновременное сосуществование с противоположными тенденциями, а именно – со стремлением к замкнутости и изолированности зоны субъективности, которые запускаются, кстати, из того же исторического «натюрморта», а именно – протестантской традиции, продолжает выплывать на поверхность нашей жизни в подобном Глава II. Свое 215 достаточно курьезном виде. Эти две по виду противоположные друг другу тенденции, а именно – к замкнутости, непроницаемости и прозрачности, открытости буржуазного, конечно, горизонта, на деле всячески охраняют и замыкают внутреннее пространство индивида. В этом пространстве, кстати, частная собственность, столь трепетно лелеемая и охраняемая всеми инстанциями и институциями социального пространства, является одним из средств ограждения индивидуальности, сбережения ее непроницаемости. Однако не счесть работ, инспирированных идеями о контроле М. Фуко, которые «мусолят» на разные лады превалирование дискурса контроля в современном и не очень европейском культурном пространстве. Именно контроль и подсчет поглощают стремление к обособлению и независимости, выстраивая различные модели подчинения и дрессуры сингулярной индивидуальности, работающие – как и следует из самого духа протестантизма, породившего подобные социальные и культурные практики – изнутри, т.е. делая прозрачными любые инстанции, пытающиеся обособиться. И прекрасный пример этому – система Паноптикума, где достигаются тотальная прозрачность и тотальный контроль. Это стремление к тотальному контролю и прозрачности, без сомнения, отражает сущностную культуронтическую диспозицию, которая, кстати, моложе протестантства или почти ему ровесница. Эта культуронтическая диспозиция – диспозиция той традиции, которую можно условно назвать новоевропейской культурной традицией. Условно, ибо сам титул Новое время в истории резервируется за одним лишь из «этапов» этой традиции. Исток этой традиции, без сомнения, – это эпоха Возрождения, когда как раз и закладывались указанные базовые онтические диспозитивы. Тематизацию основных параметров сборки реальности этой традиции мы можем обнаружить гораздо позднее эпохи Возрождения, а именно – в работах Р. Декарта. Что ж поделать: и в индивидуальном сознании, и, по-видимому, в культурном пространстве рефлексия всегда запаздывает. Выраженная в тезисах о методе (сказанное Картезием нужно понимать не только как императив для построения научного знания, но – шире, как инструкцию по конституированию, сборке феноменов реальности), онтическая диспозиция предусматривает следующие опорные пункты процесса сборки любого феномена реальности: 216 Разрыв повседневности 1) жесткий постоянный контроль процедур допущения сущего к его бытийтствованию; 2) сущее допускается к бытийствованию лишь в определенном виде полной освещенности и зримости; 3) контроль обеспечивается режимом представленности, ясности, тотальной освещенности; 4) если сущее не отвечает и не соответствует этим параметрам, то оно подвергается перекодировке через процедуры разборки до малейших, не обладающих «тенью», а потому полностью подчиненных контролю фрагментов; 5) перекодировка всего сущего по единому, т.е. онтическая преференция реальности, в которой наличествует лишь одно измерение. Указанная онтическая диспозиция так или иначе означивается в нашей реальности, прежде всего потому, что реальность собирается, преобразуется, символически инфицируется тем, кто первым из всех сущих подвергается процедурам перекодирования, а именно – человеком. Феномен, который конституирует, собирает человек – это всегда его феномен, а потому он выстраивается в онтической «грамматике» той культуры, к которой этот человек принадлежит. Соответственно, «грамматика» культуры, ее символический пласт сразу же инфицируются в феномены нашей реальности, а потому указанные диспозиции новоевропейской культуры выстраивают реальность по определенному «шаблону», в определенном стиле «явленности». Таким образом, согласно этой диспозиции сущее, которое может быть допущено к своему бытийствованию и собрано по определенному сценарию, зримо-прозрачно и лишено глубины – другого измерения, или оно, это измерение, онтически подавляется. Особенно явственно репрессия другого измерения начинает проявляться в ХХ в. и получает свое философское обоснование в феноменологии, которая, по выражению Ж.-П. Сартра, ликвидирует любые оппозиции «типа» внутреннее/внешнее, сущность/явление, заменяя их на монизм серии феноменов. А к середине прошлого столетия титулы «одномерный человек», «плоский мир» как характеристики современной конституируемой реальности получили уже статус «само собой разумеющегося». Глава II. Свое 217 Таким образом, любое сущее «по отдельности» и мир целиком, нас окружающий, не в последнюю очередь, наши мысли и поступки «имеют тяготение» (поскольку именно такова онтическая диспозиция) к тому, чтобы все больше и больше лишаться непрозрачности и глубины. Все в этом современном мире прозрачно, ясно, освещено, расположено на одной плоскости, т.е. без глубины. Иными словами, невозможны укромные места, невозможны полупрозрачность, нюансы, потаенность. Если таковое и присутствует до сих пор, то оно испытывает довольно жесткий прессинг от «мэйнстрима», т.е. от тяги к освещенности и ясности. И тогда что делать тайне? Где ей спрятаться? В ситуации постоянного наблюдения и контроля тайна как таковая всегда находится под запретом. А потому не случайно сейчас видеокамеры и мобильные гаджеты, «отслеживающие» наше передвижение и наши «коммуникативные пути», все больше и больше заполоняют и наши улицы, и социальные пространства, вторгаясь иногда в то, что было «святая святых», и куда доступ публичности был закрыт. Все должно быть публичным и открытым, все окна должны быть «распахнуты» и освещены. Чтобы все всѐ знали и все всѐ контролировали, ибо если не будет тотального «доносительства», иногда идущего «изнутри» того, на кого доносят (самодонос), то контроль будет достаточно условный. Хотя, конечно, в эпоху цифровой записи и практик отслеживания вполне реальна ситуация тотального контроля и без «самодоноса»… Но тогда, если нет топоса, где может затаиться Тайна, то и человека, лишенного тайны, нет… В эпоху Интернета и средств тотальной и перманентной коммуникации любой наш жест оказывается потенциально прозрачным, проконтролированным, т.е. фактически тотально прозрачным и подотчетным. Ибо никто не знает, где кончается «действие» видеокамеры, резонно предполагая, что записывается все, но … не сразу и не для всех «достается» из тотальной записи наших поступков и наших перемещений. Тотальный и перманентный контроль, выстраивание плоскостной и без тени пространства реальности связаны и со вторым сюжетом, о котором я хотел бы поговорить, а именно – с фигурой лжи и обмана. 218 Разрыв повседневности Я не буду сейчас рассматривать ситуацию самообмана, инспирированную довольно интересной рефлексией Ж.-П. Сартра, а обращусь несколько к иному сюжету. Я полагаю, что утаивание, обман, введение в заблуждение и т.п., т.е. что имеет своим «архетипом» фигуру лжи, – сущностный момент функционирования нашего сознания. Грубо говоря, мы все, конечно, в разной степени проницательности и т.п., обманываем других. В этом отношении мы достойно «пробрасываем» ситуацию «самообмана», о которой говорил Ж.-П.Сартр, вовне нас самих. Без различия, идет ли речь о лжи во спасение или о корыстным обмане, о вольном или невольном введении в заблуждение окружающих, так или иначе человек обитает в стихии обмана. И, надо сказать, «продуктивно» обитает. Я не хочу (да и не могу по причине ограниченности текстового пространства) проводить скрупулезный анализ значения и фундированности «фигуры» лжи в человеческом сознании. Отмечу только, что обман – необходимая наша модель во взаимоотношении с Другим. Обман не в меньшей степени, чем в социальной сфере собственность, – это один из редутов сбережения нашей интимности, нашей самости. При всем том, что обман постоянно и тотально осуждался и осуждается, он столь же постоянно воспроизводится поколение за поколением. Мы, как это ни прискорбно для «ханжеской морали», в чем-то срослись с обманом, который во многом охраняет в неприкосновенности нашу изнанку и нашу тайну. Ту тайну, которой, возможно, вообще не существует как нечто, что может быть сообщено другому в своей сокровенной непередаваемости… И вот теперь, когда мы видим все нарастающий вал контроля, можно зафиксировать сужение поля обмана, резервирование его места в сфере интерпретации и мнения. Таким образом, любой наш шаг записан, запротоколирован, а потому может быть предъявлен в любой момент в ясном, прозрачном и подотчетном виде. Иными словами, современность подавляет обман, а зона его возможного бытования находится на грани исчезновения… Не уверен, что исчезновение обмана столь уж позитивно, ибо чем станет человек, если исчезают и тайна, и глубина, и обман? По правде говоря, у меня нет ответа на этот вопрос… Глава II. Свое 219 Хотя есть надежда… надежда на «изворотливость» Свободы… которая в очередной раз выскользнет из цепких рук необходимости… Но это – лишь надежда… В реальности – «всевидящее око»… уже даже не Старшего Брата, а … компьютерной программы… Приобщение к тайне вынуждает жить уже иной жизнью. Познавший тайну непременно становится другим. ЖИЗНЬ, СОЗНАНИЕ И ЯЗЫК Для того чтобы размышлять о чем-то, нужно некое средство, с помощью которого человек мог бы схватить и выделить предмет размышления, отличая его от всего остального. Обычно так и происходит, и некое средство, на котором основывается размышление, у человека оказывается «под рукой». Исходя из практического отношения, предмет мышления принципиально может быть разделен человеком на отдельные составляющие, с каждой из которых он «справляется» путем придания этой составляющей тематического «прочтения» и концептуального ее рассмотрения. Однако есть ряд базовых вещей, понимание которых не складывается только на основе задач практического – к ним – отношения. Речь идет о жизни, о сознании и о языке, которые не только предшествуют любой нашей практике, какую бы форму она ни приняла, но и предваряют любое наше отношение. По разным причинам: – может, от усталости или скуки, порожденных довольно длительной и в целом неудачной историей рефлексии о сознании, жизни и языке; – может, от того, что наше время – время цивилизации как последнего старческого этапа нашей новоевропейской культуры (О. Шпенглер), когда время великих систем, великих вопросов ушло, уступив место «дополнениям», «уточнениям», ну и, конечно, бесконечным историческим исследованиям «истории вопроса», ставшим единственным типом гуманитарного научного исследования; Глава III. Жизнь, сознание и язык 221 – может, по причине нарастания значимости и присутствия т.н. «шизоидного», кластерного, расщепленного, децентрализованного от всего и вся (в том числе от структур собственного «я», уже не выступающего как монолит и алиби единства) типажа сознания; – может, по причине всеобщей специализации, когда «Великая Проблема» разбивается на фрагменты (еще согласно методологии Декарта), чтобы можно было хоть что-то выяснить… но попутно, как-то забывается, что не плохо бы потом из раздробленных фрагментов воссоздать общую картину происходящего…; – может, по причине конца Великого Рассказа, Великого нарратива (Лиотар), который свойственен эпохе постмодерна; – может, по каким другим причинам… Ибо интерпретаций происходящих трансформаций можно найти, выдумать, прозорливо усмотреть и т.п. бесконечное множество, в том числе соединив всѐ со всем, ибо, как было отмечено еще в древности, а именно – в физике древнегреческого мыслителя Анаксагора, мир и каждое отдельное сущее состоят из гомеомерий, «семян вещей», причем таким образом, что в любом сущем есть семена любого другого сущего. А потому, если всѐ существует во всем, то и соединять можно всѐ со всем, обнаруживая в любом предмете как его составляющую любое вещество, любую гомеомерию… Но факт есть факт: сейчас предпочитают уже не ставить вопрос о Языке, Сознании, Жизни (ну и конечно, не только о них), ограничиваясь выяснением положения дел относительно различных аспектов того или иного «феномена»… Время такое… Ситуация в целом вырисовывается довольно парадоксальная, прежде всего с точки зрения «формальной логики», ибо, не прояснив нечто базовое и общее, вроде, не гоже приступать к выяснению деталей… Однако все прекрасно обходятся без целостной картины происходящих перемер, без всеобщего «ока», надзирающего над частностями. И даже в мире науки, где, вроде, без «всеобщего» не обойтись, прекрасно живут и что-то исследуют, получают гранты и ученые степени, не утруждая себя выяснением основ… Вроде как не лишне, а может, даже необходимо знать, что такое автомобиль, чтобы понять, что такое его часть, например коле- 222 Разрыв повседневности со… А уж в сфере научного знания осведомленность об основах представлялась достаточно долгое время самым необходимым. Однако реальность современного научного дискурса такова, что прекрасно и бесконечно долго рассуждают о всяких частностях и деталях, о прагматике и сиюминутной востребованности, мало заботясь об общей картине происходящего и не «заморачиваясь» на выяснение причин и истоков происходящего в перспективе более чем «одного дня» … Но именно так и обстоит сейчас с гуманитарным научным знанием… А разговор о Великих Вещах, об Основаниях, о базовых понятиях – в том числе о Языке, Сознании и Жизни (и повторю, не только о них) – опознается и фиксируется как архаичный «спич», архаичный дискурс. И здесь я напомню одну фразу Василия Розанова, которую он мельком бросил, по-моему, в «Опавших листьях»… Розанов – талантливейший русский мыслитель, оригинальнее кого вряд ли еще породит наше Отечество… Итак, вольная и по памяти цитата Розанова. Розанов как-то раз довольно проницательно заметил, что подлинный революционер – а фраза была брошена в неспокойное, насыщенное бунтами и революциями время начала ХХ в. – это не тот, кто убивает царей, вельмож, поднимает мятежи и бунты, шастает по баррикадам и демонстрациям, воюет с охранкой и т.п. Таковых в России того времени было «пруд пруди». Каждый критиковал, кричал, протестовал, по крайней мере… В этом отношении протестующий вписывался в существующий тогда мэйнстрим, т.е. был вполне социально поощряемым и в целом не очень оригинальным… Подлинный революционный поступок – продолжил В. Розанов – это пойти в церковь и отстоять там обедню… … Ибо в это революционное время все протестовали, но никто не смирялся и не шел в церковь… Пойти в церковь в это время – это пойти против мэйнстрима…. Глава III. Жизнь, сознание и язык 223 Революционность – в движении против толпы, против мэйнстрима эпохи, а не за толпой, пусть и революционно инфицированной и экзальтированной. Подлинная революционность обретается не в стремлении влиться в ее ряды революционных полчищ, а как раз обратиться против нее, пойти вспять… … Я вспомнил этот пассаж русского мыслителя и публициста – противоречивого и мятущегося – по следующей причине: Существующий гуманитарный нарратив, ситуация в эпистемологическом пространстве и т.п. «мягко запрещает» нам задавать Великие Вопросы, ставить перед собой Великие Проблемы, создавать Великие Теории и Системы, например, маркируя эту территорию Великого Нарратива как архаическую территорию. Можно сказать, что существует мягкое, ненавязчивое и не всегда проговоренное осуждение тех, кто осмеливается задавать те Великие вопросы, которые ставили перед собой как маяки движения мысли наши предшественники. Задать подобный вопрос – это расписаться в том, что ты не современен, не актуален и т.п. А теперь продумаем, что произойдет, если и мы все же осмелимся быть архаичными и попытаемся вопросить о том, о чем думали и наши предшественники? Окажемся ли мы через это вопрошание на архаической научной территории? Станем ли мы «out of day» мыслителями? Или – не профессионалами, ибо улавливать мэйнстрим – одна из характерных и необходимых интуитивных черт любого подлинного профессионала в любой сфере его деятельности… Я думаю, что здесь-то нам и поможет интуиция Розанова… Подлинный мыслитель – это не тот, кто идет по мэйнстриму… И в этом он схож с подлинным революционером… Задавая Великие Вопросы в наше «мелкое» и «кластерное» время, время постмодерна, – это не архаика… а это… как ни парадоксально прозвучит Супер-модерн, архи-модерн… 224 Разрыв повседневности Это – волевое преодоление постмодерна… …. Хотя… конечно… как всегда… могут быть и другие интерпретации… Тематическое и концептуальное отношение к этим вещам, связанное с учреждением нами особых мест – в виде социальных институтов и особого времени, в виде расписания, – оборачивается промахом в том, что целое этих вещей описывается суженным и частным образом. Дело в том, что каждая из указанных выше трех вещей обладает некоей странностью, связанной с возможностью порождения ими самих себя, тогда как при тематическо-концептуальном – к ним – отношении мы руководствуемся намерением их рассчитывать и контролировать. Здесь имеется в виду то, что производные жизни, сознания и языка ничем не отличаются от того, чем они «произведены» в сущностном или качественном смысле. Важно то, что каждая из таких вещей фактически сохраняет все свои сущностные признаки и характеристики, т.е. фактически сохраняет и воспроизводит себя, как бы она ни делилась. Причем значимо и то, что каждая такая вещь воспроизводит или, точнее, творит саму себя. Жизнь, сознание и язык обладают уникальной способностью бесконечного деления себя без всякого оскудения: в любом «результате» деления каждой такой крупной формы уже потенциально содержатся все их признаки. Жизнь, сознание и язык отдают себя полностью любой своей новой форме и делятся собою со всем. Другое дело, что далеко не каждый новый вид жизни, сознания и языка имеет полную историю своего развития, сопоставимую с историей другого вида. Однако каждая видовая форма жизни, сознания и языка самостоятельна и самоценна. Несколько отступая в сторону, хочется поделиться одним соображением. Щедрый человек, готовый делиться и делится всем, не оскудевает именно потому, что одновременно восполняется силами жизни, сознания и языка. И даже если, на первый взгляд, оскудение его жизни, его сознания и его языка и происходит, то оно, скорее всего, восполняется иными – непривычными для окружающих – Глава III. Жизнь, сознание и язык 225 новыми соками жизни, неожиданными силами сознания и иными видами языка. Щедрый, независимо от того, предчувствует и предполагает он это или нет, оказывается в положении посвященного в тайну бытия: он принял правила игры бытия – эти правила игры покрупному, и потому уже постоянно может себя восполнять. Щедрый нарушает тот «выдуманный» закон, означающий довольно древний архетип – бинарный архетип, архетип «дараотдаривания», архетип «уравнивания» и «уравнения», закон «Талиона» – око за око… Щедрый разбрасывает себя и дарит себя как солнце, которое, истрачиваясь и излучаясь, позволяет всему существовать на этой Земле… Однако со времен Анаксимандра, зафиксировавшего в европейской культуре этот архетип: «А из каких [начал] вещам рождение, в те же самые и гибель свершается по роковой задолженности, ибо они выплачивают друг другу правозаконное возмещение неправды [=ущерба] в назначенный срок времени»1. Конечно, гораздо раньше Анаксимандра, выразившего указанный архетип в «прото-философском» высказывании, безраздельно «царствует» принцип талиона, согласно которому все в этом мире выстраивается как уравнение, в котором скрупулезно подсчитывают «дебит с кредитом», невзирая на то, что эта всеобщая бухгалтерия мало общего имеет с реальностью, особенно с реальностью живого… Фрагмент, приведенный выше, – бесконечно значимый для европейской философии обрывок текста не только по причине довольно интересной интерпретационной работы, которую провел с ним М. Хайдеггер. Эта фраза, приписываемая Анаксиманрдру, – по сути первый «зафиксированный» в тексте фрагмент европейской философской мысли. И не случайно, что он посвящен фиксации возможно одного из самых значимых принципов выстраивания нашей человеческой реальности, а именно – воздаяния и уравнивания. 1 Фрагменты ранних греческих философов. Ч.I. М.: «Наука», 1989. С.127 226 Разрыв повседневности Конечно, Анаксимандр не одинок в своем стремлении облечь данный «принцип» в явный и тематизированный вид, ибо узрение базовых принципов конституирования нашего мира и нашей человеческой реальности, т.е. то, что резервируется Аристотелем за т.н. умом, так или иначе облекается в форму знания, причем того знания, которое становится властным императивом в любых сферах нашей жизни. А потому не счесть фигур устрашения и порицания, которые внедряют в наше сознание, шире – в процедуры и телосы в выстраивании нашего мира указанный архетипический принцип. Везде и повсюду всѐ должно быть уравнено и приравнено. Везде, где есть «минус», необходимо найти или «придумать» «плюс». Везде, где есть «нет», нужно искать «да». Мир, который мы конституируем, должен быть «соткан» из сетей уравнивания и отдаривания. Но я полагаю, что данный принцип, как и многое другое, в процессе конституирования нашей, человеческой реальности (а иной реальности нам не дано), привносится нами, а не отражает реальность-саму-по-себе. А потому тот мир, который мы получаем как результат символического конституирования реальности, предстает перед нами как инфицированный и «до краев» наполненный идеями воздаяния, уравнивания, возмещения и т.п. Но если так случилось, что что-то в этой схеме не очень работает, если воздаяние не выплачено в этом мире, то оно будет взыскано и компенсировано либо в момент посмертного судилища, либо в череде кармических перевоплощений. Не очень хочется разбирать аватары – а их довольно много – данного принципа, но укажу, что именно этот принцип, который, возможно, мы сами выдумали, не только дает нам твердую почву, преобразуя «хаос» в «космос», но и «терзает» своей, нами же выдуманной неумолимостью своего владычествования, а потому способен перекрасить любой миг счастья в мрачные тона ожидания– ужасающего и травмирующего – грядущего возмездия, читай – катастрофы… И этот принцип «действует» с неумолимой «истинностью», несмотря на то что каждодневный опыт нам говорит, что все в этом мире, скорее всего, не так, что все это бредни или риторика, что богатый – он же и счастливый, а вор и насильник прекрасно оканчивают свои земные злодеяния и обладают – как прекрасно сказано в советском фильме «Приключения принца Флоризеля» – великолепным сном. Но мы продолжаем с маниакальной навязчиво- Глава III. Жизнь, сознание и язык 227 стью «сводить дебет с кредитом», чтобы получить в результате … как Вы думаете что? – ноль… НОЛЬ… Повезло тебе, значит, через некоторое время обязательно будет наказание… Счастлив в этот миг – но не расслабляйся, ибо за это счастье нужно будет платить… Но где осуществляется это возмездие? Где взимается эта плата? … Лишь в нашем сознании, отформатированным таким образом, чтобы искать нами же самими внедренный принцип построения нашей человеческой реальности. Нашей, ни чьей иной реальности, не реальности самой по себе… А потому – прекрасный титул ввел Андрей – ситуация «выпадения»… Ситуация, когда мы «выпадаем» из мира, быта, повседневности, привычного и т.п., показывает нам «иллюзорность» нами же самими «изобретенного» принципа конституирования нашей человеческой реальности… И фигура щедрого – одна из этих фигур, где концентрируется «выпадение», где вдруг обнаруживаются пределы действия самых базовых архетипов конституирования нашей реальности… Ибо щедрый – против «уравнения», против «воздаяния», против действия, возможно, самого мощного из наших архетипов… Щедрый преодолевает своей силой и мощью то уравнение, которое «создает» наш мир. Но этот созданный мир, как сказал бы Фр. Ницше, – мир «последних людей», где царствует посредственность и мстительность. И именно такой мир контролируется тем уравнением, в котором все «сводится» через процедуры приравнивания к НУЛЮ… И, замечу, отнюдь не к Ничто, не к Шуньяте, а к очень «дохленькому» нулю «последнего человека», нулю посредственности… Ноль, получаемый в результате этой бухгалтерии воздаяния и подсчета – ноль импотенции и посредственности, т.е. тот ноль, из которого ничего никогда не происходит, но в котором есть лишь одно бессилие и злоба… к счастью, радости, риску…. Однако наш мир – иной, нежели тот, который выстраивается исходя из мирка «последнего человека». Для того чтобы ока- 228 Разрыв повседневности заться вне этого мира, лицом к лицу с подлинной реальностью, а не «причесанной» с помощью «расчески архетипа воздаяния» и «уравнивания-уравнения» реальности посредственности, необходимо «выпадение»… «Выпадение» из жестко и веками, если не тысячелетиями, выстроенных редутов «среднестатистической полезности» и «кажимости», с точки зрения этой посредственности. И лишь только сознание, которое способно «выпасть» из этого мира, поставить человека перед лицом «бесчеловечной» реальности, может дать нам этот шанс. Жизнь, которую мы проживаем, конечно, наша жизнь. Она, проживаемая нами жизнь, наполнена повседневностью, хлопотами, заботами, т.е. тем, что форматируется исходя из горизонта «последнего человека». А значит, она во много форматируется архетипами, выстраиваемыми исходя из «среднестатистической удобности». Но так ли она прочна и истинна, как она о себе в этой повседневной суете заявляет? Шанс узнать об этом нам дает «выпадение» сознания в сознание, выпадение из редутов повседневности в ту уединенность, где подлинная реальность может получить свое иногда молчаливое слово. А язык, на котором говорит повседневность… Способен ли он выразить это «выпадение»? Язык… язык все же способен донести до нас этот опыт аповседневного и уникального и иногда бережно сохраняет те попытки «пробиться к реальности», к другой реальности, которые до нас кто-то осуществлял. И все же он, язык, способен донести до наших «ушей» тишину «выпадения», тот «факт», который против всех биллионов «среднестатистических фактиков», который выпадает из этих «фактиков» и выступает пределом этих «фактиков»… Он, язык, способен – я искренне в это верю – выразить этот факт «выпадения»… О внутренней организации жизни, сознания и языка мы судим, исходя из знаемого, знаемого нами. Но наше познание может пониматься в качестве определенной возможности определения этими формами самих себя. По-другому говоря, мы вносим в то, что не имеет границ, некоторое ограничение, и являемся краем жизни, сознания и языка, в которых они «собирают» себя; «собирают» себя в крайности своего развития. Глава III. Жизнь, сознание и язык 229 Это показывает, что, с одной стороны, в нашем существовании мы – всегда на краю жизни, сознания и языка, за которыми их нет. С другой стороны, сосредоточиваясь на краю и в пределе, жизнь, сознание и язык проявляют себя во всем натиске и со всей мощью. Человек замечает предел жизни, сознания и языка, будучи их пределом. Он все больше и больше связывает с собою функцию «смотрения» и присматривания за ними. В этом смысле человек в каждую из таких форм не вмещается. Место человека располагается во внешнем – к ним – отношении: он может исходить из них, но может и аналитически к ним относиться. Идея, которая принадлежит направлению начала ХХ века, т.н. философской антропологии: человек – то сущее, которое постоянно разрывает свои границы, которое само себя «выбрасывает» … вот, правда, неизвестно куда. Человек – существо эксцентричное, т.е. помещающее свой центр вовне. От этой идеи «танцует», как мне кажется, идея проекта проективности как сущностной характеристики человека, ибо также пробрасывает человека вовне, правда, во временном горизонте. И именно на этой проективности во временном горизонте, тесно сочлененной с идеей эксцентричности человека, ибо обе идеи «проговаривают» один и то же конститутив новоевропейской культуры, мы остановимся. Вначале зададим себе вопрос: что такое временение? По сути, временение есть бытие: просто акцент в данном титуле делается на континуальности. Когда мы говорим, что что-то бытийствует, то всегда понимаем, что это что-то погружено в стихию времени. Самый «атом» бытийствования сущего уже «заражен» и «заряжен» временем. А потому тот вопрос, который иногда мыслят как исходный для философствования, а именно – вопрос о том, что такое бытие, не совсем корректен, ибо «мягко» подталкивает нас к «субстантивации» бытия, к тому, чтобы из «как» бытия, которое и есть бытие, сделать «что» бытия, каковым является сущее. В этом отношении «формы бытия» – язык, жизнь, сознания – это не то, что должно мыслиться в фарватере «что», а то, что должно постигаться в континуальности как. Т.е. когда мы вопрошаем о таких «формах бытия», как о язык, жизни и сознании, 230 Разрыв повседневности мы должны развертывать в вопрошании и ответе форму не как статику, а как динамику, мысля, каким образом мы временим в языке, в жизни, в сознании. Заданный таким образом вопрос, а также пограничность, эксцентричность, проективность и т.п. нашего бытийствования (бытия), несколько по-иному прорисовывают наше «соучастие» в стихии языка, жизни и сознания. Если мы – а я полагаю, что и экзистенциальная мысль, и философская антропология говорят «дело» относительно человека – помещены не просто в стихию языка, жизни, сознания, то мы всегда вырываемся из этой стихии, наша позиция в этих формах бытийствования – всегда быть не просто на пределе, но и постоянно выходить за эти пределы. Например, мы находимся постоянно или время от времени в (внутри) языке: говорим, пишем, сочиняем тексты и т.п. И, одновременно, наша собственная позиция, т.е. та позиция, которая центрирует и «стягивает» в единство тот язык, на котором мы говорим, – всегда металингвистическая. Мы, находясь в языке, находимся, одновременно, всегда вне его. Точно так же мы, проживая эту жизнь, полностью в нее погружаясь (ибо если нет этой жизни, то и вообще ничего для нас нет, да и нас нет также), всегда, одновременно, находимся вне пределов этой жизни… Мы, находясь в гуще этой жизни, уже находимся вне пределов этой жизни, мы всегда уже умерли. И тогда Ад и Рай – они здесь, ибо в этой жизни мы уже давно вышли за ее пределы. Именно этим я могу для себя объяснить ту не самую радужную мою интуицию, которая меня преследует много лет: «Конец света уже наступил, только не все мы об этом знаем». Жизнь, начинаясь, уже давно закончилась… Сказанное относится и к сознанию. Сознание – это не только, как говорил Э. Гуссерль, «сознание о..», сознание, направленное на свой интенциональный предмет. Сознание – следуя логике эксцентричности и проективности человеческого существа и его способу бытийствования – всегда бессознательно и всегда безумно… Мы тогда «в сознании», когда безумны и когда бессознательны… Конечно, все это «парадоксально»… но кто сказал, что человек – это прозрачная и математическая «программа»? …Впрочем, с этими сюжетами – языком, жизнью, сознанием – еще как-то можно «совладать», ну, хотя бы, постоянно удержи- Глава III. Жизнь, сознание и язык 231 вая «абсурдность» и «парадоксальность» как «константы» нашего бытийствования… Сложнее – с формой, особливо если речь идет о формах бытийствования, формах бытия, как с ней «совладать»? Ведь и она, форма ( если следовать логике экцентричности как архетипу, выстраивающему реальность, архетипу, который пропахивая хаос, выращивает семена космос), должна обретаться лишь в бесформенности… И тогда – мы оказываемся в бесконечно сложной, прихотливой и трудно приручаемой рациональностью ситуации, когда сознание, язык, жизнь – если речь идет о сознании, жизни, языке человека – бытийствуют лишь тогда, когда интенционально нацелены на молчание, безумие и смерть, а сама форма, которая должна «вроде» «обеспечить» единообразный маршрут этого бытийствования – так же, как Протей, постоянно изменяясь и погружаясь в хаос бесформенности, добавляет непредсказуемость в это, как мы только что зафиксировали, нестабильное временение в языке, сознании и жизни…. Двойственность пронизывает существо человека: он сам себе не ясен, и не ясен принципиально, и это понуждает нас непрестанно – с собой – разбираться. В результате, сталкиваясь с действием таких вещей, человек оказывается в довольно странном положении. Сам человек полагает – и полагает по праву; по своему праву – что он производит «продукты» жизни, сознания и языка, причем способен делать это довольно разнообразно. Однако в действительности он только участвует в их воспроизводстве. Его участие в производстве жизни, сознания и языка оказывается только соучастием, ибо каждая из этих вещей каким-то – не в полной мере понятным самому человеку – образом воспроизводит себя сама. И с этим приходится считаться. Одной из интересных характеристик крупных форм бытия является неустранимая возможность связывания всего и вся, когда благодаря им устанавливаются отношения совершенно разных вещей и качеств. В этом сказываются и показываются цельности таких форм: разнесенные по разным, пусть и чрезвычайно отдаленным, местам пространства и времени события могут – странно, но легко – связываться между собой при появлении такой формы. Причем выявляет такие связи именно человек. 232 Разрыв повседневности Нам приходится принять и учитывать закономерности развития жизни, сознания и языка, не только в случае порождения новых их вариантов, но даже и в повседневном для каждого из нас вхождении в эти вещи. Так, мы не можем действовать, располагаясь и осваиваясь внутри таких вещей, как нам заблагорассудится. Мы должны считаться с самостоятельностью этих крупных форм бытия, предопределяющих нашу деятельность. И потому если речь и идет о нашем участии в деле воспроизводства жизни, сознания и языка, то это, скорее, соучастие. Со-участие в жизни, сознании, языке. Шире – соучастие в бытии, ибо, прежде всего и изначально, мы бытийствуем. Но наше бытие – со-бытие. И эта событийность события нашего бытия как раз и обеспечивается жизнью, сознанием и языком. Наверное, об этом стоит поговорить более подробно, ибо как раз на со-бытийной соучастности основана сама возможность «объединения» под одной «шапкой» и сознания, и жизни, и языка. Именно со-участность, со-бытийность как «характерная» особенность бытийствовования человека выстраивает его бытие как событие со-бытия. Поясню. Любое сущее, не обладающее сознанием, просто бытийствует, «тупо» и «незамысловато». Валун лежит на дороге, будучи мало «осведомленным» о том, что он лежит на пути, протоптанном кем-то и когда-то. Его можно переложить или даже раздробить на мелкие кусочки, но, даже утратив свою «валунность», он не вступает во «внутренний» контакт с тем, что его окружает. Вода реки спокойно, а иногда «яростно» плещется и впадает в океан. Но и ее бытие – безучастно ко всему тому, что рядом с ней, и даже «вливаясь» в океан, утрачивая свою «водоречность», она не становится «внутренне» соучастной «водоокеанности». И валун, и камень вне того, что их окружает, более того, даже изменяясь во времени, они в этом самом времени с этим временем не соотнеслись. Иное дело человек. Его бытие – как говорил М. Хайдеггер – обладает онтическим приоритетом, ибо в своем бытии мы можем поставить вопрос об этом самом бытии. Но не только. Наше бытие – и здесь опять прозорлив М. Хайдеггер – раскрывается в горизонте не «что», а в горизонте «как», «каким образом». И именно этот горизонт «как», «каким образом» выстраивается Глава III. Жизнь, сознание и язык 233 всегда во внутренней соучастности и со-бытийности, перекодируя все сущее в культуру, т.е. то, что причастно нам и нами же конституируется. Итак, мы бытийствуем в определенном «режиме», который в корне отличается от того бытийствования, которым «наделено» любое другое сущее. Мы бытийствуем, прежде всего, сознательно, даже тогда, когда, подчиняясь автоматизму привычки, вроде, делаем все «машинально». Можно, конечно, говорить – как М. Хайдеггер, что сущностный экзистенциал нашего бытийствования – это забота, но в любом случае то, что мы делаем, всегда «одушевлено» интенциональной и телеологической направленностью на другое. Мир, в который мы погружены, всегда для нас «внешний», а потому всегда дан в рефлексивной установке. Мы всегда стоим в рефлексивной позиции по отношению к этому миру и никогда не «растворяемся» в нем и четко выдерживаем и удерживаем границу себя от этого мира. Но, одновременно, уже на уровне чувственности мы этот самый мир преобразуем, «перекодируем», инфицируя в него с помощью форм нашей чувственности определенный «спектр» нашего видения и – самое существенное – включая в него символический горизонт. Жизнь, которую мы проживаем, мы проживаем не как животные, но становясь в рефлексивную позицию к самим себе и к проживаемой нами жизни. И в этой рефлексивной позиции – позиции сознания – язык есть то, что постоянно фиксирует через внутренний монолог эту сознательную позицию. Что мы, собственно говоря, видим, осязаем, слышим и т.п.? «Брутальные», «чистые» даты? Конечно, нет. Мы слышим, прежде всего, то, что доступно нам в звуковом диапазоне, а видим то, что может увидеть наш «рецептивный аппарат», настроенный на восприятие лишь части световых волн. «Вторичные качества, т.е. то, что уже преобразовано нами и в этом преобразованном виде предстало перед нами (т.н. «первичные качества» тоже уже «плод нашей абстракции», а не «чистые даты»). Мы всегда и уже со-отнеслись с реальностью или – как предлагал А. Шопенгауэр – с действительностью, которая не только действует на наш рецептивный аппарат, но уже действует «совместно» с тем, как мы все воспринимаем. В этом отношении животные так же «соучаствуют» в формировании своей реальности, своего мира, ибо преобразуют «брутальные» даты в свой животный «жизненный» мир. Но, в отличие от животного, человек «идет дальше» в своем 234 Разрыв повседневности соучастии, в своей со-бытийности. Он насыщает все символизмом. Человек как таковой не просто на уровне чувственности преобразует «брутальный», «ноуменальный» мир в мой мир, мир феноменов; в мир того, что мне является, но и в то, что можно назвать символическим миром. Причем этот символический мир настолько врос в чувственные формы, что сами чувственные формы – символичны. Приведу один лишь пример. Мы мгновенно «размещаем» – и в кантовской «Трансцендентальной эстетике» (Критика чистого разума) говорится об этом довольно проницательно – чувственные даты в пространстве. Но вот в чем дело: эти формы пространства, а потому и то пространство, с помощью которого мы конституируем феномен, не единообразны и универсальны, но насыщены культурной символикой. Именно поэтому пространство, как оно «проживается» в разных культурных образованиях, всегда разное. Например, античный мир, как и мир мифологического сознания, видели мир конечным, ограниченным в пространстве (т.е. форма пространства античности была «конечной»). А вот новоевропейская культура видит мир бесконечным (т.е. форма пространства новоевропейской культуры бесконечна). В этом отношении античная форма пространства была инфицирована общим для того сознания символизмом конечности, тогда как новоевропейская форма пространства «отягчена» символизмом бесконечности. Да и структура пространства мира всегда понимается различным образом. Античное, так же как и мифологическое, пространство – это пространство неоднородное, в котором можно выделить разные «смысловые» подпространства. А потому и предмет, «помещенный» в это пространство, «откликался» в своем значении и смысле на то, где он был помещен. Эти подпространства – профанный и сакральный мир. Подобное деление «действовало» не только в отношении самого пространства (и, соответственно, его формы), но и в отношении времени (и его формы). В отличие от античного, современное пространство однородно и гомогенно, оно, как и современное время, – метрическая, безучастная среда, «пронизывающая» все и вся… Таким образом, даже на уровне чувственности символизм пронизывает весь мир человека, вернее то, что именует миром М. Хайдеггер, и что по-русски (по дореволюционно-русски) можно было бы обозначить как «мiр». В этом мiре мы не наблюдатели происходящего, но соучастники того, что случается, даже если мы, Глава III. Жизнь, сознание и язык 235 вроде, просто смотрим на то, что происходит, не особо вмешиваясь в процесс. Он, этот мiр, хотя и дан нам изначально, но не находится «вне» нас. Подобно тому, как мы не изобретаем свой язык, хотя и говорим на «готовом» языке, мы все равно говорим своим «собственным» языком, так и мiр, в котором мы родились, уже пред-дан нам, но мы его каждый раз творим и обживаем, заботимся о нем и наделяем смыслом. Мы со-участвуем и событийствуем с мiром. А потому бытийствование (бытие) человека есть всегда со-бытие, которое есть со-бытие как с другими сущими, которые с необходимостью «рядополагаются» с человеком, но и со-бытие самого себя. В этой структуре событийствования, со-бытия, одна из сущностных структур процесса событийствования – это процесс символического инфицирования, включения символического смысла в любой конституируемый нами феномен. Я полагаю, что следует говорить о символизме как о сущностном пласте, сущностной структуре нас и нашего мiра, которая заключает в себе бесконечность отсылок жизненного со-бытийствования, соучастия. Почему именно символ? Напомню, символ – это изначально гостевая табличка, разделенная на две части, каждая из которых не только ссылается на другую, прежде единую с ней часть «утраченной целостности», но, главное, указывает на то, что держатель этой таблички – тот, кому нужно предоставить самое важное и нужное на чужбине – кров и пропитание. Половинка гостевой таблички сберегает и хранит след того, что когда-то было даровано другому обладателю половинки символа (а потому необходима процедура отдаривания, воздаяния-возмещения), самое существенное. Именно таков изначальный смысл «симболона», который, как мне кажется, отражает самое существенное в титуле «символ». Укажем, символ – более всегда «шире», чем знак. Символ, в отличие от знака, указывает на целостное жизненное пространство, в котором мы живем, и на мiр, который мы проживаем и обживаем. Символ – событиен, и событиен экзистенциально, поскольку заключает/ссылается на индивидуальный опыт проживания. Вместе с тем символ – событиен и в другом регистре, он – культурно событиен, ибо указывает на целостность, ойкумену человеческого присутствия, которая и фиксируется в титуле «культура как таковая». 236 Разрыв повседневности Но наша со-бытийность развертывается прежде всего в сознании. Не важно, что иногда мы действуем вроде «бессознательно», не всегда отдавая себе в своем действии сознательный отчет. Сознание – шире, чем осознание сознания. При этом мы всегда действуем – сознательно или бессознательно, инстинктивно или рационально – символически. Мы всегда проживаем этот мир символически, поскольку конституируем любую данность как символ, отсылающий нас в коннотативные, ситуационные, ассоциативные и пр. ссылки. Даже в отношении себя самого, когда осуществляем идентификацию самих себя, мы встаем в позицию символического отношения к себе самому, причем сознательного отношения. Например, мы постоянно смотрим на себя со стороны, т.е. выступаем в отношении себя самого в качестве Другого, который смотрит на нас со стороны. Таким образом, наша «сингулярность» не монадоподобна, поскольку Другой внутри нас самих, смотрящий извне на нас, – это необходимый «персонаж» нашей самости. И об этом великолепно и довольно «прихотливо» говорил в «Бытии и Ничто» Ж.-П. Сартр. Но вернемся к символу. Символ представляет собой сплавленную воедино целостность, но это та целостность, которая заключает в себе изначально интенциональную связь, прежде всего связь, полагаемую нашим сознанием. А потому о нем мы с известным упрощением можем говорить как о символе, как всегда сознательном символе. Соответственно, мы проживаем этот мир символически и сознательно. Сознание и символ инфицированы в наш мiр, который мы конституируем, а значит, и в нас самих, создающих этот мiр. Но сама тематизация символа, фиксация его как «дискретного», «застывшего» пусть на мгновение образования, как конститутивная процедура в своем результате, нуждается в языке, который способен этот результат зафиксировать в его наличности. Символ, чтобы быть символом, нуждается в языке, который, конечно, «беднее», чем символ, и не может вместить в себя все его прихотливое богатство. Исток языка и слова – в символе, а потому язык и слово – тоже символичны. И именно потому, что исток слова, речи и языка заключается в символе, они способны зафиксировать феномен сознания, обеспечить более или менее адекватную тематизацию феномена сознания. И без этой фиксации, тематизации символа в слове нет сознания, а значит, нет ни человеческого мiра, ни, соответственно, самого человека как тематизированного, Глава III. Жизнь, сознание и язык 237 схваченного феномена. Мiр, в котором мы живем, погружен и инфицирован символом, который фиксируется языком, а потому без языка мы не обладали бы ни этим миром, ни этим сознанием. Попытаюсь теперь суммировать сказанное. То, что фиксировалось Андреем как «крупные формы бытия» (если уж честно, не очень мне нравится этот титул – «крупные формы» бытия, как, впрочем, недолюбливаю я и термин «бытие», предпочитая титул «бытийствование», но это – дело вкуса, и не имеет никакого принципиального значения), а именно – сознание, язык и жизнь, должны совершенно справедливо быть «изолированы» от других «категорий» сущего. Они должны обладать по праву приоритетом среди других форм бытийствования. Ибо они – сознание, жизнь, язык – очерчивают в своем единстве горизонт и структуру человеческого бытийствования, соучастного со-бытийствования. Я полагаю, что это не случайно, т.е. речь не идет о произвольном выборе, наборе «предметов для рефлексии». Я отдаю должное проницательности Андрея, выделившего эту «троицу» как существенную, прежде всего онтически существенную, ибо через них и в них раскрывается то, что в «архаически-героические времена» философии именовалось как сущность человека. А я… я попытался дополнить эту «троицу» символом, который «стягивает» сознание, язык и человеческую жизнь в единство… тоже, кстати, символическое единство… Новые же варианты жизни, сознания и языка, которые человек предлагает «от себя», являются только вариациями внутри видового их определения, реализуемыми через человека, но к нему целиком не сводимыми. Хотя следует, по нашему мнению, также предположить потенциальную возможность реализации сознания, жизни и языка не только через человека. А это имеет существенные и далеко идущие последствия. Жизнь, сознание и язык следует понимать в качестве предельно крупных форм бытия, с которыми нам посчастливилось взаимодействовать, но которые имеют самостоятельную логику развития, которую нам приходится принять. Скорее, правильнее было бы говорить о том, что человек по своему онтологическому устройству может участвовать в экспликации жизни, сознания и языка, кото- 238 Разрыв повседневности рые воспроизводятся непосредственно через него, но ему предшествуют. И эта их «предшествуемость» по отношению к человеку, с одной стороны, есть неустранимое и неподконтрольное ему условие его бытия, а с другой стороны, ввиду избыточности таких форм каждая из них способна обеспечивать человека практически неограниченным ресурсом развития. Человек – ими – уже как-то устроен и потому может себя как-то выстраивать. Помимо попадания в предельные состояния, когда человек захвачен страстью и переживанием неистовства, буйства и экстаза, с предельным он как раз и сталкивается посредством вхождения в странные состояния, когда идет на совершение неожиданного для себя поступка. В необъяснимых действиях человек фактически отказывается от контроля над собой. Вероятно, странность связывает человека с принципиальными моментами жизни, тогда как возможность установления им контроля распространяется на сферу ее содержания. Но это значит, что странность является необходимой чертой его жизни, его сознания и его языка. Жизнь, сознание и язык избыточны и не равны себе: они – то больше, то меньше того, чем они были до этого момента, и всегда не совпадают с той определенностью, с которой их отождествляют. Поэтому-то и невозможно зафиксировать их «пределы», «начала» и «концы». Если иметь в виду неустранимость избыточности и изначальности жизни, сознания и языка по отношению к человеку, то становится понятно, почему принципиально не удается относиться к ним сугубо тематически или концептуально, т.е. понять, почему упомянутое профессиональное отношение всегда имеет некий неспрягаемый в рамках программы «остаток». Сознание, жизнь и язык привносят с собой противоречивость и двойственность, освободиться от которых можно, только прибегая к искусственному ограничению. Однако следует понять и принять, что такое ограничение всегда временно и носит исключительно технический характер. Видимо, поэтому, попадая в ситуацию встречи с новыми формами жизни, сознания и языка, человек испытывает удивление и радость. Удивление проистекает от нашей перманентной неготовности к столкновению с жизнью, сознанием и языком, когда они всегда застают нас врасплох, благодаря чему вдруг определяется то, что Глава III. Жизнь, сознание и язык 239 вне нашего контроля; от чего не отвернуться и никак не отделаться и с чем придется теперь считаться. Радость же связана с тем, что каждая такая нежданная встреча с сознанием, жизнью и языком привносит с собой полноту, которая нас наполняет и питает. Если же кого-то такие встречи и огорчают, то ему стоит задуматься о себе и своем положении. Вероятно, такая негативность связана с нарушением привычного хода дел существования человека и объясняется как его страхом перед новым, так и его желанием отсидеться в «окопе» знаемого. Крупные формы бытия интересны тем, что, заставляя человека считаться с собою, каждая из них фактически ставит «крест» на том, что было в его жизни до ее появления. В этом отношении чрезвычайно важно, что человек не может рассуждать о том, что было до того, как такая форма возникла, и о том, что будет после нее. Каждая из них элиминирует соображения такого рода, побуждая и заставляя человека соотносить все, что с ним происходит, именно с этой формой. Приобщающая сила таких форм связана с тем, что человек принципиально не знает ни «начала», ни «конца» жизни, сознания и языка, и может об этом только догадываться. «Начала» и «концы» таких форм связаны с вопросами «как», «откуда» и «зачем», в параметрах которых человек разбирается с самим собой и по поводу самого себя. И так как понимание этих форм человеком осуществляется в предельной связи с собою, то его отношение к ним всегда частично и носит частный характер. Невозможно – по крайней мере, до сего дня – создать комитет или научно-исследовательский институт, который бы «за нас» решил все самые существенные вопросы, который ответил бы на самые предельные «как?», «откуда?» и «зачем?». Приходится решать все самому и ставить перед собой все те же – увы – вопросы, которые задавали еще тысячи лет назад наши предки. Несмотря на весь технический прогресс, на вооруженность новейшими технологиями, приборами, багажом знаний и умений и т.п., мы задаем все те же сущностные вопросы, что и тысячу лет назад. И лишь только наивность или молодой оптимизм полагает, что на подобные вопросы можно ответить раз и навсегда. Мне на ум приходит та наивность, о которой «возвестил» молодой Л. Витгенштейн в 240 Разрыв повседневности начале своего «Логико-математического трактата»: «…Зато мне кажется истинность приводимых здесь мыслей непреложной и окончательной. Стало быть, я держусь того мнения, что проблемы в основном окончательно решены»1. Истины ради упомянем, что подобных высказываний мы уже не найдем в более поздних – и более, на мой вкус, интересных – работах Л. Витгенштейна, когда он, наверное, поумнел и «повзрослел»… Итак, мы можем зафиксировать определенную «зону» предельных вопросов, на которые не удавалось ответить окончательно. И дело, конечно, не в том, что в горизонте нашего новоевропейского сознания познание, как и мир, для нас бесконечны. И раньше, когда мир конституировался как ограниченный, дело обстояло таким же образом… А потому самые существенные вопросы приходится решать самому. Подобные вопросы, как это ни «потешно», в меньшей мере связаны с проблемами строения, судьбы вселенной, окончательное решение которых мы еще как-то допускаем (ну, например, решили, что не Солнце вращается вокруг Земли, а Земля движется по орбите вокруг Солнца и – успокоились). Неразрешимые «по определению» вопросы – это те, которые затрагивают нас каждого: вопросы жизни, смерти, смысла, цели и т.п. И, как ни парадоксально, здесь личное, индивидуальное мнение – единственный подлинно «научный» критерий, и все принципиально решается либо «прислонением» к авторитету различных социальных и культурных инстанций, либо – собственным и не подлежащим «обжалованию» fiat: я так считаю, на этом стою и стоять буду… А потому «фактически» все решает «сила», с какой отвечают на «бесконечный» вопрос, «сила», которой обладает тот или иной вопрошающий и отвечающий. Не в меньшей степени «алиби» истине обеспечивает и тот риск, на который способен пойти тот, кто настаивает на своем – всего лишь – мнении. Приходится признать существенную разницу между нашим отношением к жизни, сознанию и языку как к априорным данностям, с которыми мы сталкиваемся в пределах своего существования, но понимаем, что каждая из таких форм действует 1 Витгенштейн Л. Логико-философский трактат / Витгенштейн Л. Избранные работы / М.: Издательский дом «Территория будущего», 2005. С. 14. Глава III. Жизнь, сознание и язык 241 вне нашего к ней отношения, и понимаем их в лимитах нужд нашего существования. Во втором случае мы – за счет сведения существа крупных форм бытия к нашим знаниям о них – обретаем основание для сугубо своих стратегий отношения к ним. Несмотря на изменения, присущие жизни, сознанию и языку, их тождественность себе всегда сохраняется. Изменение содержания позволяет этим формам не только внутреннее развиваться, но и подпитывать человека. Каждая из них служит энергетийным каналом питания человека, когда он переживает и пережѐвывает их содержание, напитывая себя их энергией. Итак, человек всегда исходит из жизни, сознания и языка, даже если этого не знает или знать не желает. Так что лучшее, что мы можем сделать – так принять для себя это и руководствоваться логикой исхождения; логикой начала. Жизнь, сознание и язык – вещи изначальные и потому беспредельные в том смысле, что определение человеком их предела всегда связано с определенными факторами, и человек должен исходить из этого. С жизнью, сознанием и языком мы всегда взаимодействуем через определенное, т.е. полагаем в основание такого «взаимодействия» некую конкретную задачу. Понятно, что в зависимости от наших устремлений различны и наши задачи: они постоянно меняются. Соответственно, и наше отношение к жизни, сознанию и языку изменчиво и непостоянно. Однако стоит отдать себе отчет, что такие непостоянство и изменчивость жизни, сознания и языка становятся обратным следствием нашего – к ним – отношения, которое именно непостоянно и всегда изменчиво. Можно сказать, что жизнь, сознание и язык порождают разные свои виды, взаимодействуя с которыми мы одно – то, что само по себе есть, и есть одно, – рассматриваем по-разному. В связи с этим правомерно обратить внимание на повсеместность и своевременность жизни, сознания и языка: там и тогда, где и когда мы встречаем человека, там уже есть жизнь, сознание и язык. Человек уже оказывается связанным с жизнью, сознанием и языком, где и когда бы он ни был. Видимо, именно это, т.е. обреченность на взаимодействие с этими крупными формами бытия, собственно, и делает его человеком. Вероятно, именно такое взаимодействие и 242 Разрыв повседневности является основополагающим в «возникновении» и «воспроизводстве» человека. Мы определяем жизнь, сознание и язык содержательным образом, всегда уже исходя из их тождества самим себе. Делая это, мы потом уже втягиваемся в разговор и размышление о различении таких тождеств. Частный характер содержания нашей жизни, нашего сознания и нашего языка не позволяет рассуждать о жизни, сознании и языке как о целом: он блокирует возможность выхода к целому. И, хотя мы исходим из целого, оно ускользает от нас. Любое понимание, в конечном счете, осуществляется на основе отношения определенного к беспредельному или, что одно и то же, неопределенному. Просто ремарка-ссылка, пришедшая на память. Герберт Спенсер, позитивист «первой волны», кабинетный ученый-энциклопедист, в своей работе «Основные начала», где он пытается подвести философский базис под эволюционное учение Ч. Дарвина, в самом начале своей работы пытается увидеть зерно истины в любых, даже иногда «архаичных», верованиях. Наличие этого рационального зерна, ибо довольно трудно допустить – полагает Г. Спенсер, – чтобы столько людей столь длительно и упорно заблуждались, видит в том, что «за плечами» познанного всегда вырисовывается то, что превосходит наше понимание. А потому: «Чем больше мы любим истину и чем меньше желаем победы, тем внимательнее мы будем стараться узнавать, что заставляет нашего противника думать так, а не иначе»1. И вот «иллюстрация», которую приводит английский мыслитель: «Положительное знание не охватывает и никогда не может охватить всей области возможного мышления. На самой крайней границе открытия возникает и всегда должен явиться вопрос: «что есть за этой границей?». Как невозможно мыслить о границе пространства, устранив идею о пространстве, находящемся за этой границей, так же точно нам невозможно представить себе какое-нибудь объяснение, настолько глубокое, чтобы нельзя было спросить: «в чем же состоит объяснение этого объяснения?». Смотря на науку как на постепенно расширяющуюся сферу, мы можем сказать, что всякое прибавле- 1 Спенсер Г. Сочинения. Т.I. Система синтетической философии. Основные начала. СПб., Киев, Харьков: Южно-русское книгоиздательство. С.6. Глава III. Жизнь, сознание и язык 243 ние к ее поверхности увеличивает и соприкосновение ее с окружающим незнанием (выделено жирным шрифтом мной – Б.С.)»1. И это, кстати, говорит позитивист – т.е. тот, кто «верует» лишь в науку… Но и в стане верующих в науку заводятся «трезвые» умы... Непременным моментом понимания становится предел, знаменующий границу между тем, что беспредельно, и тем, что принципиально способно принять форму определенного. Причем человек может определять что-либо, т.е. может задать чему-либо границу (предел), если исходит из беспредельного и неопределенного. Таким образом, в познании он опирается на изначальную силу, действующую без него, но действующую в нем и посредством его, благодаря чему эта «сила» теперь уже может быть определена как способность человека, на основании которой он узнает, опознает и признает нечто как таковое. Выполняя действие узнавания, опознания и признания, совершающихся на основе доверия и признания крупных форм бытия, человек обретает способность выделять нечто как нечто и отделять его от остального в тождественности этого «нечто» самому себе. Содержательного познания этого «нечто» сначала не происходит: оно всегда совершается на «втором» шаге, когда нечто отличается от всего остального. На «первом» шаге мы всегда констатируем тождественность этого нечто себе, что, собственно, и создает основание любому содержательному познанию. Именно на «первом» шаге осуществляется «попадание» нечто – как определившейся тождественности – в континуум любых содержательных возможностей и, соответственно, любых возможных интерпретаций. Крупные формы бытия, так же как захватывающие людей и народы настроения, наряду с сильными идеями, их увлекающими, могут вести себя настолько неожиданно, что не считаются с тем, что было до их появления. Пожалуй, именно эта их власть, связанная с мощью, способной скомпрометировать и отодвинуть все, что до сих пор до них было, позволяет придавать всему отменяемому характер 1 Там же С.9. 244 Разрыв повседневности частного. Такой «отодвигаемостью» в отношении чего бы то ни было обеспечивается необходимость понимания индивидом – в лице человека или народа – значения целого и своего приобщения к нему. Действительная забота нашей жизни, вероятно, должна быть связана с готовностью принятия таких – внешних по отношению к нам – воздействий. Похоже, что именно с этим связана также возможность нашего действительного взросления, если мы понимаем и, соответственно, принимаем воздействие крупных форм бытия, настроений и крупных идей в качестве неподвластных законов нашей жизни. Все, чем мы живем в своей неозабоченности таким воздействием и чем при этом наполняем округу своего близкого и далекого обитания, – все это в отсвете сказанного предстает в качестве блефа. Ведь именно благодаря воздействию на нас крупных форм бытия, настроений и идей образуются складки нашего внутреннего мира, и именно благодаря испытанию человека такими воздействиями образуется его своѐ. Жизнь, сознание и язык даны нам во всей своей целостности, т.е. даны законченно. Говорят – и я думаю, говорят со знанием дела, – что мифологическое сознание несколько «странно» относится к соотношению часть/целое. Обратимся к неплохому знатоку в этом деле – Э. Кассиреру. В той части своей работы «Философия символических форм», посвященной мифологическому сознанию, он так описывает ситуацию: «Для нашего эмпирического взгляда целое “состоит” из его частей; по логике познания природы, по логике научно-аналитического понятия каузальности целое «следует» из них; но для мифологического взгляда, в сущности, не приемлемо ни то, ни другое, здесь еще господствует подлинная нерасчлененность, мысленная и реальная “индифферентность” целого и частей. Целое не “обладает” частями и не распадается на них – часть, в данном случае, есть непосредственно целое и действует как таковое. И это отношение, этот принцип pars pro toto также указывается в качестве фундаментального принципа “примитивной логики”. В данном случае речь также ни в коем случае не идет о простом заме- Глава III. Жизнь, сознание и язык 245 щении, но о реальном определении; не о символически-мыслимой, а о вещно-действительной связи»1. Согласно Э. Кассиреру – и я думаю, к нему в данном вопросе следует прислушаться, – мифолагическое сознание, в отличие от нашего, скажем, «немифологического», представляет часть, тождественную целому. Во многом именно на этой неразделенности основаны различного рода магические практики, которые, кстати, несмотря на постоянный скепсис и разоблачения со стороны научного сообщества, не только «прельщают» обывателя (и не только), но оказываются подчас вполне результативными и действенными. A propos: в эпоху безраздельного «владычества» мифологического мышления, несмотря на то что оно, вроде, как некий этап развития сознания, т.е. некое «недомышление», были осуществлены наиболее значительные открытия человечества. Именно мифологическое сознание научилось использовать огонь, изобрело лук, колесо. В эпоху безраздельного господства данного типа сознания человечество приручило всех домашних животных, научилось земледелию и т.п. Так что разговоры о «недомышлении» мифологического сознания явно преувеличены… Но вернемся к нашему сюжету «часть/целое». Для мифологического сознания выстраивается совершенно иная диспозиция отношений часть/целое… А теперь сравним с тем, что мы имеем относительно сознания, языка, жизни, да и вообще относительно бытия в целом. Сознание целиком и полностью присутствует в своей «части», в каждый момент нашего мышления оно целиком «здесь и теперь». Это же можно сказать и о языке, и о жизни. Язык полностью «здесь и теперь» в мельчайшей своей части, в любом высказывании. Жизнь вся и «без остатка» присутствует в любом «мгновении» жизни любого существа, и если ее, жизни, в этот миг нет, то и данного живого существа нет. Это же верно и в отношении бытия. Бытийствование целиком и полностью «представлено» в любой «грани» бытийствования любого сущего… и т.д. и т.п. 1 Кассирер Э. Философия символических форм. Т.II. Мифологическое мышление. М.; СПб: Университетская книга, 2002. С. 63. 246 Разрыв повседневности Но тогда получается, что мы – если сказанное только что имеет место быть – мыслим о языке, сознании и жизни мифологически, и, кстати, по-иному мы не можем… Или еще один вариант: наше мышление «тотально» мифологично, оно всегда и везде мифологично даже тогда, когда критикует мифологическое мышление, дистанцируется от него или производит «естественно-научные» пассы, когда оно, мышление, иногда впадает в странную болезнь, симптомы которой – рациональность, научное мышление… Не миф – болезнь языка, мышления и т.п., а, наоборот, рациональное мышление – это «болезнь», искажение здорового и вполне креативно-результативного мифологического мышления, мифологического сознания… Исходя из такой законченности, мы разбираем целое на разное, проводя его по разным, но уже по своим – намеренно связанным с нами – ведомствам. Мы нередко не видим внутренней связи таких частей и частностей по причине того, что относимся к ним, исходя из своих забот и связанных с ними задач, решение которых обеспечивает именно наше существование. В этом мы подобны ребенку, который, входя в мир, обретает свое место и свое время именно за счет такого разбора целого на части. Заметим, что интенсивность таких «разбирательств» целого на различные темы, концептуальные линии и среды жизнедеятельности может со временем «остывать», однако никуда не пропадает. Человек не может снова и снова не разбираться с собой, а значит, вновь и вновь «перелопачивает» и «перекраивает» целое. Отдадим себе отчет в том, что разбираться с собой можно, только если ты уже заранее обеспечен тем, что можно разбирать на части, Однако с целым нам неуютно, и мы пытаемся приструнить его открытый характер путем придания целому определенности. Крупные формы бытия – в своей целостности – уже всегда окружают человека со всех сторон, и, пытаясь защититься от такой «сверхоткрытости», он идет на установление различных терминологических «изгородей» и городит, так сказать, заборы, обеспечивающие существование своих наделов и огородов. Целое позволяет всему этому быть, обеспечивая любое наше устроение. И именно исходя из целого, мы только и можем со всем разбираться. Глава III. Жизнь, сознание и язык 247 Таким образом, независимо от того, знаем мы что-либо о целом или не знаем, оно – посредством жизни, сознания и языка – уже на нас всегда воздействует. Желая отдать ему должное, индивид – человек или народ – может делать это по-разному. С одной стороны, он способен идти на применение к себе жесткой дисциплины в отношениях с крупными формами бытия и потому стремится всячески регламентировать себя, связывая автономию своего существования с выполнением определенных правил, которые он теперь, будучи настроенным таким образом, намеревается применять, по возможности, повсеместно. Такое – в общем-то, ровное – отношение к целому сегодня нередко. С другой стороны, испытывая мощь целого, индивид может довериться силе крупных форм бытия, соотнося себя со всеми ними или выбирая одну из них, наиболее ему приглянувшуюся. И тогда, доверяясь превышающему натиску такой формы, он совершенно не думает о регламентации и выполнении правил: напротив, правильность своего поведения он напрямую связывает с возможностью отдаться ей как стихии, фактически отказываясь от возможности любого упрочения своей автономии. В этом случае индивид не может быть удовлетворен ровным отношением к целому и вверяет себя натиску и порыву. В конечном счете, определенное соответствие целому как-то осуществляется в любом из этих двух случаев. Заметим только, что независимо от того, как это происходит, такое соответствие всегда носит определенный характер, связанный с границами существования индивида, которые он может нарушать и перешагивать, но не способен свести к нулю. Связывает ли индивид себя с нормой, стремясь всеми доступными ему средствами нормализовать свою жизнь, свое сознание и свой язык, или не связывает, отдаваясь размаху этих крупных форм бытия, в параметрах которого он не может не видеть некую скудность своей жизни, своего сознания и своего языка, – это не так уж важно. В каждом из этих фундаментальных отношений к целому собственные отношения индивида с ним уже всегда как-то устанавливаются до того, как человек это замечает. Вероятно, один из наиболее существенных провалов современного мышления связан с недооценкой целого. Дело в том, что целое – оно само себя настраивает и само себя организует, но 248 Разрыв повседневности это значит, что последнее – по времени и по локализации – связано с целым. Загадка современности: как можно жить кластерно, без оглядки на целое, не подчиняясь и разрушая любую иерархическую, тоталитарную систему? Вроде, логика нам «говорит»: если есть что-то общее, то можно без труда вывести и частное. Частное, таким образом, «прекрасно» выводится из общего с помощью дедукции. С общим же сложнее. Общее, на то оно и общее, что его с помощью процедуры индукции получить не всегда возможно. Особенно трудно получить нечто общее, если речь идет о той ситуации, когда «царствует» «бесконечное» сознание (новоевропейское сознание). Для этого сознания мир – безграничен в пространстве и времени, а потому в горизонте бесконечного мира и времени всегда возможен неожиданный и опровергающий, выпадающий из «алгоритма» запущенной индукции случай. Однако наша современность «упрямо» и «упорно» отстаивает права единичности и – даже – сингулярности на свою автономность и независимость от общего и любых форм целостности, маркируя ее как кластер. В самом деле, нет необходимости идти в магазин за хлебом, предварительно определив направление исторического развития и свершения. Каждодневная рутина не требует от нас «оглядки» на общее, нужно, как говорят, делать и делать, исходя из конкретной жизненной ситуации. Но вот как быть в сфере естественнонаучного знания, где на базовые, т.е. всеобщие, законы все же необходимо оглядываться? Или каждый будет решать в своем конкретном случае, например, то, как действует и действует ли вообще сила притяжения в данном конкретном кластере реальности? Конечно, тотальная специализация, в том числе и в сфере науки, «спонсирует» подобную кластеризацию: каждый разрабатывает свой сектор без оглядки на то, что происходит в соседнем сегменте. Но такая ситуация возможна лишь тогда, когда общие законы и правила уже сформулированы, открыты и признаются любым «кластерным» образованием как неизменные. Но тогда наша эпоха – это эпоха «конца истории», ибо мы признаем нечто неизменяемое, причем это нечто – самое существенное. Таким образом, в сфере существенного можно зафиксировать Глава III. Жизнь, сознание и язык 249 следующую ситуацию: ничего уже не случается, а окончательные законы уже открыты. Сходную ситуацию мы можем обнаружить в социальном мире, где демократия признается единственно истинной формой организации социума. Таким образом, сам «крен» в сторону тотальной кластеризации, усталость и импотенция любых иерархических образований возможны лишь тогда, когда все уже свершено и нам остается лишь что-то сегментарно и несущественно улучшать, и т.п. Когда все уже решено и все существенное свершилось, то это время – время конца Истории как истории Всеобщей, Истории Иерархий. Нет, конечно, время продолжает течь, что-то происходит и что-то свершается… Возможно, свершается что-то великое и значительное… Но с позиций кластера и сознания, которое перекодирует все в кластер и «заточено» в его пределах, это великое не видится: другая оптика… Не очень-то, конечно, верится в этот сценарий… Уж сколько раз вздыхали и писали о конце времен… Но то, что есть: усталость от иерархий, всеобщего, универсального – налицо… Современному человеку чрезвычайно трудно допустить самостоятельное действие вне себя некоторых систем и отреагировать на происходящее с ним самим, именно исходя из такого рассмотрения. Не в силах вытерпеть это, он намеренно соотносит все, что бы ни происходило, именно с собой, отождествляя последнее (конечное) со своими способностями и результатами своей деятельности. В основании такого миропонимания лежит даже идея не отказа от целого, но отказа от самостоятельности целого, ведь наш современник вполне допускает целое как результат, к которому он приходит. Однако справедливости ради следует быть точным и признать, что такое целое, понимаемое в качестве итога или результата, оказывается, в конце концов, только эфемерностью, добившись которой, человек сразу же ее забывает, будучи охваченным желанием двигаться вперед по пути прогресса. Заметим также, что нашего современника не удовлетворяет и миропонимание: оно заменяется им на мировоззрение, когда актуальным становится предельная собранность мира в воззрении человека. Размышление о целом не может ни вести нас к тому, чтобы признать воздействие на нас крупных форм бытия – жизни, сознания и 250 Разрыв повседневности языка, соприкасаясь с которыми мы не можем не сталкиваться с их самостоятельностью. Присущее таким крупным формам бытия изменение вполне можно понимать в качестве изменения части целого, что побуждает изменяться все другие его части. Двойственное понимание целого, как и двойственность понимания любой крупной формы бытия, связаны именно с нашим – к ним – отношением, когда, исходя из своей конечности, мы навязываем им конечные ограничения. Но дело в том, что свобода от целого оборачивается нашей собственной зависимостью от конечного, тогда как другой стороной необходимости собственного ограничения – если мы исходим из целого – является понимание потенциальной безграничности любых наших сил. В процессе жизнедеятельности каждый из нас сталкивается с разными формами жизни, сознания и языка, некоторые из которых настолько вместительны, что мы можем развиваться в этих трех направлениях без серьезных изменений состава своего существа, тогда как другие, видимо, будучи менее удачными, предполагают существенное внутреннее изменение человека. Важно, что любая форма, какой бы она ни была, выступает уже в качестве законченной и предшествующей – нам – формы, что позволяет опираться на нее именно как на уже готовую конструкцию. Причем в какую бы ситуацию мы ни попали, формы уже всегда есть, и нам остается только выбирать ту из них, которая в лучшей мере, нежели другая, позволяет нам развивать себя более интенсивно. Каждая такая форма придает нам возможность формирования сугубо своего опыта: опыта своей жизни, опыта своего сознания и опыта своего языка. Таковыми формами являются, например, наиболее значимые социальные образования в виде «группы», «коллектива», «семьи», в параметрах которых человек реализует свою жизнь. В качестве форм сознания выступают, в частности, миф и искусство, религия и наука, право и политика. В контексте реализации своей языковой состоятельности человек приучается взаимодействовать, располагаясь внутри форм национальных и профессиональных языков, различных языков телодвижений, языков одежды и многих других языков. Каждая из таких форм проходит историческую проверку на предмет того, пригодна ли она «вмещать» в себя отдельные содержания жизнедеятельности конкретного человека и придавать ему опреде- Глава III. Жизнь, сознание и язык 251 ленную энергию. Энергия изымается человеком из содержаний жизни, сознания и языка именно благодаря различным формам: насколько форма способна удержать энергию взаимодействия человека с миром, настолько она его удовлетворяет, ибо позволяет ему реализовывать себя. В этом смысле особо следует подчеркнуть, что нет и не может быть «плохих» или «хороших» форм вообще, так как оценка каждой такой формы напрямую связана с тем, насколько она годна для каждого человека в конкретной ситуации его жизнедеятельности. Человек настраивается на совершение операций своего взаимодействия с такими формами, и, если они его не устраивают, отбраковывает одни формы, предпочитая им другие. В случаях, когда мы захвачены мощью определенной формы, наша целостность, будучи сосредоточенной в одном настроении и в одном моменте места и времени, улавливает силу формы и наделяет нас энергией. И хотя прилив энергии переживается каждым поразному, общим является то, что человек в целостности своего существа оказывается охваченным энергией и тянется именно к той форме, взаимодействие с которой позволило ему пережить и испытать это. Вместе с тем общим моментом является принципиальная открытость человека такой энергии: в этом отношении человек предстает в качестве принципиально открытой системы, которая способна захватывать новые силы и испытывать прилив энергии, если только находит способы своего – всегда сугубо индивидуального – взаимодействия с превышающими его формами. Поэтому-то силы человека практически не имеют ограничения с точки зрения их роста, а он сам всегда увлечен этим ростом и развитием своей жизни, своего сознания, своего языка. Посредством взаимодействия с различными формами человек именно наполняется энергией, ибо такое взаимодействие оборачивается фактически установлением контакта человека с полнотой. И если здесь целесообразно говорить о какой-либо «мере», то эта мера устанавливается не желанием человека, а его практической способностью взаимодействия с встреченными им формами, тогда как у него самого никакого «чувства меры» принципиально быть не может. В своем взаимодействии с формами жизни, сознания и языка он уже всегда изначально ориентирован на взаимодействие с полнотой целого и его безмерностью, беспредельностью и абсолютностью. Вот почему человек никогда не может удовлетвориться любым своим достижением на этом поприще: любой силы в следующее мгновение после того, как она достигнута, человеку мало. 252 Разрыв повседневности Будучи живым, будучи в сознании и будучи в языке, человек всегда реализует себя через свое превышение, выявляя тем самым, с одной стороны, избыточность каждой из трех крупных форм бытия и крайность своего существа – с другой. Можно сказать, что человек возникает вместе с установлением горизонта своего развития, когда состав его жизнедеятельности «оформляется» целями, задачами и перспективами его развития, что только и «делает» человека самим собой. И без таких – устанавливающих существо человека – форм, позволяющих ему многократно превышать и превосходить себя, не обойтись. Натыкаясь на удобные для себя формы своего собственного усиления, человек начинает их держаться. Причем держится за них даже при их распаде и до тех пор, пока не обнаруживает новые – обязательно удобные и поэтому способные удовлетворить его – формы. Важно также подчеркнуть, что любая встреча с каждой из таких форм переживается и осваивается каждым индивидом самостоятельно, однако это может быть понято, по-видимому, только за пределами «получения» нами энергии и в превышении границ себя, когда мы проникаем в суть идеи своего развития. Иначе говоря, человек может понять «образ» и «вид» развития себя исключительно за пределами границ своей индивидуальности. Как раз, пестуя свою индивидуальность, человек обречен на непонимание себя: замыкаясь в себе, он обособляется от потенциальных возможностей установления своей связи с источниками силы, т.е. с предшествующими ему формами. Интересно, что индивидуальное взаимодействие каждого человека с различными формами жизни, сознания и языка не отменяет и даже предполагает возможность такого взаимодействия с этими формами других людей. Думается, что индивидуальность каждого как раз и способна «размыкаться» именно благодаря такой возможности установления контактов с одной и той же формой совершенно разными людьми. Индивиду крайне важно как-то отнестись к другому и соотнести себя с ним, т.е. важно установить отношения. И здесь не так уж значимо содержание таких отношений, сколь важна форма их установления, ибо любая форма – с позиций обеспечения человека возможностью в деле получения им силы – более важна, нежели содержание этих отношений. Глава III. Жизнь, сознание и язык 253 Фигура Другого: маниакальное присутствие Другого, не только как «факт» нашей социальности, но и как «внутренний факт» процедур, идентификации. Но не только. Фигура Другого проступает не только в борьбе с ним, зачарованности, но, прежде всего, как то, что фундирует наше сознание, наш язык, да и нашу жизнь. И эта значимость фигуры Другого по-иному заставляет посмотреть на ту стадию развития человека, о которой иногда говорят антропологи и которую трудно себе представить, а именно – на т.н. стадию коллективного сознания. Эта стадия, которую, повторю, довольно трудно себе представить с позиций предельно эгоистического и эгоцентристского сознания современности, описывается как примат и доминирование «мы», а не «я». Это доминирование «мы» действует на уровне перманентной самоидентификации, в ситуации выбора конкретного действия, «индивидуальных» телосов и т.п. Возможно, современное сознание все еще не смогло избавиться от этого коллективного сознания, несмотря на все потуги представить «я» как базовую точку любых сознательных процессов. Вступая в разнообразные контакты с другими индивидами и взаимодействуя, тем самым, с превышающими себя формами жизни, сознания и языка, человек получает приток энергии. И здесь интересно отметить значимость любых, именно любых отношений индивидов, включая даже отношения по «выяснению отношений». Видимо, не будет преувеличением сказать, что человек не может существовать вне установления отношений за пределами себя независимо от своих индивидуальных особенностей, ибо только такое «установление» позволяет ему собраться в самом себе и в своѐм. Право существования нашего существа, или, иначе говоря, право нашего осуществления, носит именно формальный характер, т.е. становится осуществимым при обращении к форме, позволяющей разомкнуть нашу индивидуальную «неделимость», а значит – нашу собственную неразличимость и необъяснимость. Видимо, законы бытия таковы, что не считаются с содержаниями жизни, содержаниями сознания и содержаниями языка. Такие содержания в существенном смысле – вторичны, хотя человек обычно склонен обращать внимание именно на них и связывать своѐ именно с ними. Обратим внимание, что становящееся информацией содержание не может привести человека к форме, являющейся основанием такой информации, но, напротив, уводит от нее. 254 Разрыв повседневности Именно через установление отношений с другими индивидами мы преодолеваем свои границы и проникаем в законы своего рождения, т.е. законы рода и родовой жизни. Заметим, что в событие своего рождения, связанное с понимание того, что мы сами есть, а не только чем и кем мы себя представляем, мы не можем проникнуть, если только не переживаем свое – «второе» по генезису, но первое по существу – рождение в сознании и языке. Именно событие языкового рождения человека и событие осознания человеком того, что он «в» сознании, сопряжены с пониманием им жизни как своей. ПРОБЛЕМАТИЧНОСТЬ МЫСЛИ (ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ) Обычно человек привыкает работать в установившейся – с его ли помощью или сама собой – искусственной среде, прорастая в ней в качестве какого-то нечто. Но эта среда может не соответствовать среде его жизни, и тогда тематические линии его жизни, т.е. собственные ее тематизации, не становятся достоянием его мысли. Мысль в итоге развивается сама по себе, а жизнь – сама по себе. И то, чем определяется жизнь человека, остается вне мысли. Но тогда и чувства, и страсти, и побуждения человека оказываются ему самому не понятными: к ним нет доступа. Однако многое из того, о чем только что говорилось, начинает проясняться при встрече с собеседником. Причем не со случайным собеседником, как-то мимоходом с тобой встретившимся, а с тем, кому ты открываешь свой внутренний мир и кто открывает – в ответ – свой внутренний мир тебе. Таким соавтором, собственно, и стал Борис Соколов. Язык Бориса отличается многим: в первую очередь – он предельно насыщен смысловыми коннотациями и в высшей степени профессионален. Его авторский стиль неповторим и изящен. Мысль его остра, придирчива и иронична. Но главное то, что она свежа. Благодаря этому у того, кто с ним размышляет, постоянно оживляется навык внимания к спонтанности. К спонтанности как таковой. Той спонтанности, которой слишком долго и слишком придирчиво придавался характер систематического ее усвоения. Да так, что теперь уже, даже сталкиваясь с ней, начинаешь не верить своим глазам и не доверять своим ушам. 256 Разрыв повседневности Вот здесь-то и помогают «сбивы» и «перебивы» его мышления, «взрезки» и «разрезы» ткани твоего (собственно моего) текста. И если даже что-то его соавтору и не видно, то это, возможно, будет яснее замечено читателем. Когда не мыслить уже не можешь – и в этом отношении мысль становится неустранимым спутником твоей жизни и ее обременительным условием, – то попадаешь, в общем-то, в странную ситуацию… Ты предпочитаешь рассматривать жизнь несодержательным образом и привыкаешь к этому, благодаря чему неизбежно попадаешь в положение «между». Речь идет о том, что соединительной тканью и основанием твоих пространных перемещений становится нечто, к жизни, возможно, и не относящееся. Вот здесь-то и помогает рука, а точнее – мысль Другого; мысль Друга. Дело в том, что пытающийся мыслить – посредством создания своих текстов – человек неизбежно вязнет в этом, своем, тексте. Сначала – мысль легка и быстра, однако, по мере попадания в текстовую среду, она обусловливается самим тяготением к конкретным темам, сюжетам и частностям, отягощается целями и задачами строения текста. Автор начинает вязнуть в толковании своей мысли, чем размерность события мысли – если, правда, допустить, что она есть, – явно сужается и уменьшается. Каждый из нас, читая тексты, сталкивался с тем, что он начинает все последовательнее обращать внимание уже не на само событие мысли, а на его значение. Связываясь с массой вещей и обстоятельств, входя и располагаясь в них, мысль постепенно угасает. Вот почему ей нужна «встряска», нужен «перебив». Мысль нуждается во встрече с мыслью же, но автор, внимание которого привлечено строением текста, может этого не замечать и, даже замечая, не находить в себе сил для нового события мысли (опять же, если оно, конечно, случается – что не факт). Но такой шанс встречи с событием мысли может дать тебе мысль собеседника, ведь он расставляет другие акценты и руководствуется в деле мышления иными вещами, ибо мы все – разные. Изменить аспект мысли самому думающему, кажется, не удается, а, если удается, то за пределами ситуации рождения мысли. Нам удается, в лучшем случае, среагировать на изменение аспекта, не пропуская выпавший нам шанс. Но мысль другого – в данном случае собеседника и соавтора – позволяет промаркировать и отметить Проблематичность мысли 257 произошедшее изменение, позволяя нам вернуться от начавшегося, было, истончения мысли и ее измышления. В нашем понимании всегда много того, что проистекает от противопоставления себя тому, что понимается, и даже – от противостояния ему или борьбы с ним. Самому автору этого практически не увидеть. Но мысль другого – думающего над тем же самым, но всегда по-своему, т.е. мысль собеседника и соавтора, помогает это сделать. Иначе говоря, Своѐ без Другого не увидишь. Точнее, увидишь его всегда в своей перспективе, когда оно непременно норовит предстать тебе и, видимо, читателю чем-то однобоким. Однако посредством мысли Другого начинаешь понимать странность Своего. И если это не дает возможности избавиться от однозначности вовсе, то не позволяет мысли «прокиснуть» и «испортиться». Я благодарен Борису за пережитое в тексте нашей совместной книги и надеюсь, что у меня появится в дальнейшем шанс «взрезать» его текст, раскрывая иные его грани. Андрей Сергеев