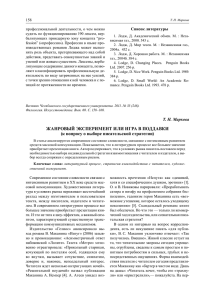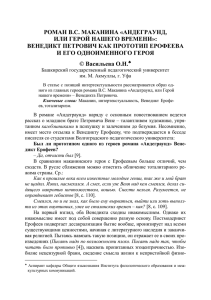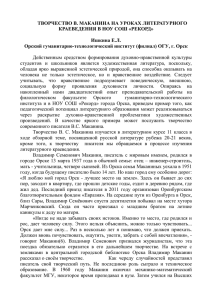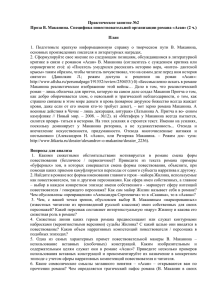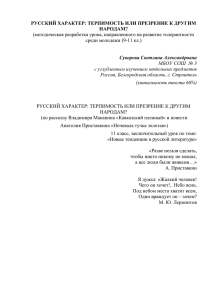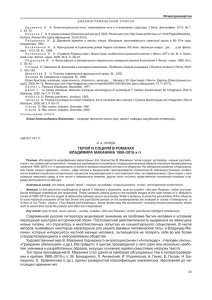К.В. Анисимов «КОЛОНИЗАЦИОННЫЙ» СЮЖЕТ В ПРОЗЕ В.Г
advertisement
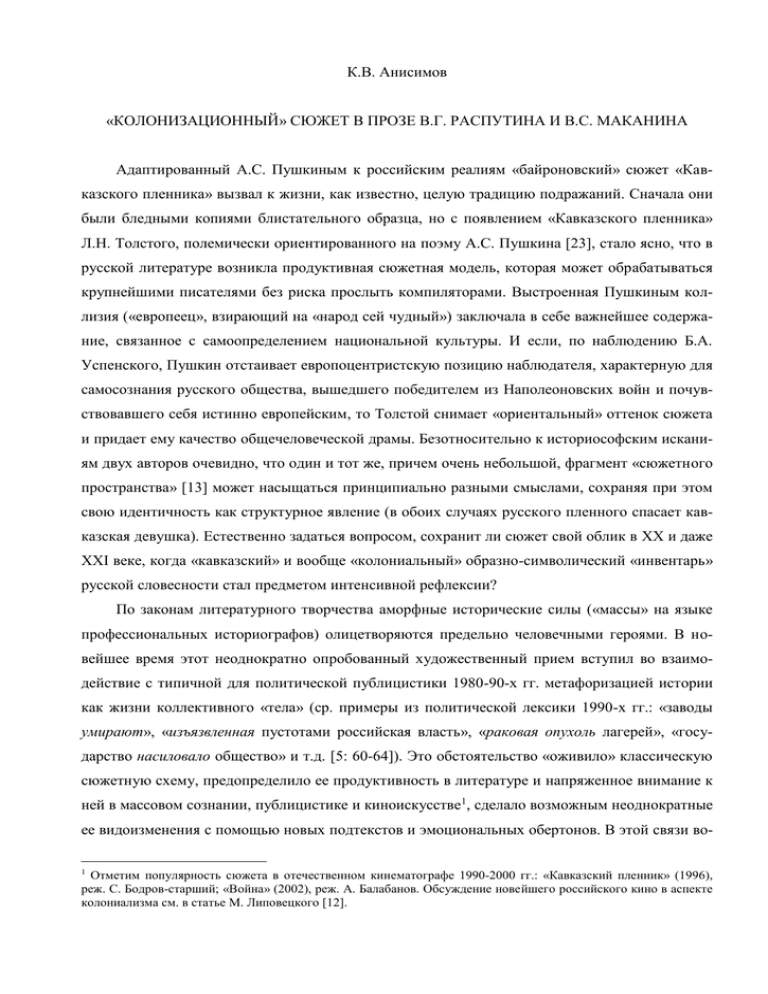
К.В. Анисимов «КОЛОНИЗАЦИОННЫЙ» СЮЖЕТ В ПРОЗЕ В.Г. РАСПУТИНА И В.С. МАКАНИНА Адаптированный А.С. Пушкиным к российским реалиям «байроновский» сюжет «Кавказского пленника» вызвал к жизни, как известно, целую традицию подражаний. Сначала они были бледными копиями блистательного образца, но с появлением «Кавказского пленника» Л.Н. Толстого, полемически ориентированного на поэму А.С. Пушкина [23], стало ясно, что в русской литературе возникла продуктивная сюжетная модель, которая может обрабатываться крупнейшими писателями без риска прослыть компиляторами. Выстроенная Пушкиным коллизия («европеец», взирающий на «народ сей чудный») заключала в себе важнейшее содержание, связанное с самоопределением национальной культуры. И если, по наблюдению Б.А. Успенского, Пушкин отстаивает европоцентристскую позицию наблюдателя, характерную для самосознания русского общества, вышедшего победителем из Наполеоновских войн и почувствовавшего себя истинно европейским, то Толстой снимает «ориентальный» оттенок сюжета и придает ему качество общечеловеческой драмы. Безотносительно к историософским исканиям двух авторов очевидно, что один и тот же, причем очень небольшой, фрагмент «сюжетного пространства» [13] может насыщаться принципиально разными смыслами, сохраняя при этом свою идентичность как структурное явление (в обоих случаях русского пленного спасает кавказская девушка). Естественно задаться вопросом, сохранит ли сюжет свой облик в XX и даже XXI веке, когда «кавказский» и вообще «колониальный» образно-символический «инвентарь» русской словесности стал предметом интенсивной рефлексии? По законам литературного творчества аморфные исторические силы («массы» на языке профессиональных историографов) олицетворяются предельно человечными героями. В новейшее время этот неоднократно опробованный художественный прием вступил во взаимодействие с типичной для политической публицистики 1980-90-х гг. метафоризацией истории как жизни коллективного «тела» (ср. примеры из политической лексики 1990-х гг.: «заводы умирают», «изъязвленная пустотами российская власть», «раковая опухоль лагерей», «государство насиловало общество» и т.д. [5: 60-64]). Это обстоятельство «оживило» классическую сюжетную схему, предопределило ее продуктивность в литературе и напряженное внимание к ней в массовом сознании, публицистике и киноискусстве1, сделало возможным неоднократные ее видоизменения с помощью новых подтекстов и эмоциональных обертонов. В этой связи воОтметим популярность сюжета в отечественном кинематографе 1990-2000 гг.: «Кавказский пленник» (1996), реж. С. Бодров-старший; «Война» (2002), реж. А. Балабанов. Обсуждение новейшего российского кино в аспекте колониализма см. в статье М. Липовецкого [12]. 1 2 прос о том, зачем и почему Россия оказалась на Кавказе и в Сибири2, перемещается в сферу узко-профессиональной дискуссии, а на экраны кинотеатров и страницы новейших книг выдвигаются брутальные образы завоевателей и их вольных и невольных жертв. При этом особую роль начинает играть эротическая линия сюжета, поданная Пушкиным как столкновение природной «естественности» и цивилизованной светской «холодности», а теперь воспроизводящаяся ближе к архаичным известиям о завоеваниях, которые предполагали ритуальные насилия над женской частью населения3. Сначала наметим моменты фабульного сходства избранных для анализа произведений. В позднейшем принципиально неполиткорректном сочинении Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана» (2003) русская женщина, мстя за поруганную дочь, убивает азербайджанского торговца. На первый взгляд, сходства с классикой XIX века никакого, однако жертва иноплеменника названа Распутиным «юной пленницей» [20: 81] – реминисцентно относительно «кавказских» произведений Пушкина, Лермонтова и Толстого. Приход ее мучителей в город охарактеризован как «нашествие», точка их дислокации – рынок – как территория с «колониальными» товарами, а сами местные жители названы «дикарями» [20: 134; 135; 176]. Описание драки на рынке между казаками и азиатскими торговцами, вообще сильно напоминающее известия с русских фронтиров в Сибири в XVII и на Кавказе в XIX в. (Распутин исторически точно воспроизводит даже численность сражающихся: азиатов было «втрое-вчетверо больше»), содержит микроскопический эпизод, как один «мужичонка из местных» «успел вызволить из кавказского плена двоих казаков» [20: 186]. Вскользь брошенная писателем фраза – словно заимствована из «кавказских» произведений Толстого. Мотивный мостик от повести Распутина перекидывается к роману В.С. Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени» (1998). Здесь Петрович, главное действующее лицо произведения, вступает ночью в парке в единоборство с грабителем-кавказцем и убивает его ударом ножа в сердце под левую лопатку. Как и героиня Распутина, Петрович Маканина совершает идейно и философски мотивированное убийство: удар ножа вызван не потерей денег («что мне деньги – их всегда нет» [15: 137]), а чувством унижения, возникшего от грабежа, совершенного под аккомпанемент «геополитических» рассуждений преступника: «русские конКавказ и Сибирь как колониальные пространства иногда контаминируются. Так, герой фильма А. Балабанова «Война», спасающий из чеченского плена подругу своего товарища-англичанина, назван Иваном Ермаковым, где «Иван» – стереотипное наименование русских (у Пушкина черкешенка обращается к безымянному герою просто: «Ах, русский, русский»), а «Ермаков» – имплицитное указание на завоевание Сибири в 1581-1584 гг., что также подчеркивается тобольским происхождением Ивана и картинами его родного города в кадре. Отметим, что в строго терминологическом смысле завоевание Кавказа вообще не являлось колонизацией, т.к. не подразумевало переселенческих потоков. На этом основании современный историограф категорически отличает покорение Сибири от кавказской эпопеи XIX в. [4: 4-6]. В этом обстоятельстве видится принципиальная несхожесть научного (аналитического) и художественного (синтетического) подходов к проблеме. 3 Мифопоэтический параллелизм «взятие города – насилие над женщиной» рассматривается в работах: В.Н. Топорова [22: 126-127] и М.Б. Плюхановой [17: 190-199]. 2 3 чились. Уже совсем кончились… Фук…» [15: 138] Предполагающийся в фабуле такого типа женский образ Маканиным в модернистском духе «рассеян» в близких по семантике, но отстоящих друг от друга эпизодах романа. Непосредственно перед схваткой кавказец рассказывает о своей «бабе», которой нравится, когда он говорит «пугнул инженера», т.е. ограбил очередного незадачливого маканинского «срединного человека» [15: 158]. Слова кавказца даны автором в эротическо-обсценном контексте. Национальная принадлежность «бабы» здесь не указана, однако эротическая коллизия азиата (кавказца) и русской женщины задается, как и весь «колониальный» подтекст романа, в самом начале – в описаниях разнузданной московской жизни приезжих торговцев и командировочных. Фатальное столкновение Петровича с кавказцем в ночном сквере имеет своего рода экспозицию – поданную абсурдно-комически историю «демократки» начала 90-х Веронички, в образе которой сочетается несколько семантических линий: писатель подчеркивает ее страсть к поэзии, пьянству и гиперэротизм. Вероничку, давнюю свою любовницу, Петрович однажды вырывает «из рук среднеазиатских людей» [15: 38], в отношении которых к Вероничке соединяются, как нетрудно уже догадаться, эротика и геополитика: «…московская б**дь для них не в новинку <…> А то, что в ней, в женщине, возможно плескалась еще и капля еврейской крови, доставляло им, восточникам, дополнительное удовольствие» [15: 42]. Перечень почти одинаковых фабульных элементов хотелось бы завершить примером из символического «слоя» поэтики «Андеграунда». Именно своей телесной ипостасью Вероничка олицетворяет Москву и Россию, а следовательно, произошедшее с нею и азиатами легко интерпретируется как типичная для «колониальных» текстов метафора. «Москва – великий город, всем хватит», – задает тему Петрович [15: 40]. Ниже следуют его воспоминания: «За окнами огромный, на семи холмах, город. Мы (с Вероничкой. – К.А.) в постели. Вокруг нас только-только кончившаяся брежневская эра и наступившая новая пора» [15: 44]. И почти сразу – переход к физиометафоре: «У самой женщины тоже, казалось, засверкали белизной хорошо подогнанные уголки и в линию край. Вся на своих семи холмах. Большеглазая худышка» [15: 45]. Неслучайность приема подчеркнута его повторением: тело одной из последующих любовниц Петровича, Леси Дмитриевны Волковой, описано не столько в натуралистической, сколько в геоидеологической перспективе. «Лицо уже худое, голодное, в морщинах, а бока висят. Напомнила мне саму империю. Глупо сравнивать; но я и не сравнивал. Просто вдруг напомнила» [15: 216]. Итак, в ключевых текстах рубежа XX-XXI вв., варьирующих «кавказскую» тему, структура классического сюжета существенно видоизменяется. Во-первых, колонизируемым мыслится уже исконно русское пространство (у Маканина – столица), во-вторых, и в связи с толь- 4 ко что отмеченным, меняется ролевое задание женского персонажа: кавказская помощница русского пленного преображается в русскую жертву иноплеменника. Хорошо известно, что В.С. Маканин и В.Г. Распутин занимают диаметрально противоположные позиции в современном литературном процессе. Зрелая проза Маканина имеет отчетливое «экзистенциалистское звучание» [11: 627]. Напротив того, тексты «позднего» Распутина, по словам тех же авторов, демонстрируют «перегруженность публицистикой» [11: 80]. Абсолютная несхожесть идейных установок и приемов письма не препятствует, однако, выбору авторами одной и той же темы и почти идентичной ее сюжетной обработке. Прецедент полемики Толстого с Пушкиным повторился: полярные воззрения обоих писателей донесены до читающей публики в рамках консервативно-стабильного сюжетного «словаря» и, кроме того, в схожей с первой половиной XIX века политической обстановке на южном и восточном «фронтире» России. Индивидуализм художественных исканий в очередной раз оказался видоизменением историко-культурной традиции. Использование обоими писателями «колониальных» мотивов не является неожиданным. Сибиряку Распутину они всегда были близки – начиная, вероятно, еще с «комсомольских» очерков 1960-х годов, в которых встречаются исключительно характерные для «колониального» текста образно-лексические ряды. Ср.: «…Ребята шли по годам, как победители по завоеванным территориям» [18: 26]; «…время первооткрывателей продолжается» [18: 18]; «…каждому дано в жизни сделать большое и важное открытие», до которого иногда остается «пять-десять шагов» [18: 73; 81]4. В репертуаре Маканина к концу 90-х гг. имелся рассказ «Гражданин убегающий» (1984), словно варьирующий проблематику «Царь-рыбы» В.П. Астафьева, а также остро злободневное произведение «Кавказский пленный» (1994), к которому, вероятнее всего, и восходит «ориентальный» субстрат «Андеграунда». Отметим в этой связи дословно совпадающее описание внешности главного героя рассказа и одного из «восточных» персонажей романа. Уже упомянутый эпизод «спасения» Петровичем Веронички имел продолжение: «мягко, кошачьими шагами ко мне подошел среднеазиатский хрупкий мужчина» [15: 41]. Он снова разыскивал Вероничку. Сделав акцент на изящной телесной пластике героя, Маканин упомянул также его «карие красивые глаза» [15: 42]. Оба компонента внешности азиата повторяют основные слагаемые гомоэротического облика кавказца в рассказе 1994 г. Портрет юноши, оказавшегося в плену у русских, таков: «Складка губ. Тонкий, в нитку, нос. Карие глаза заставляли особенно задержаться на них – большие, вразлет и чуть враскос» [14: 463]. Его пластичность и миниатюрность отмечены косвенно – в сценах транспортировки пленного русским на руках через 4 Подробный анализ публицистики «раннего» Распутина см. в работе П.П. Каминского [8]. 5 ручей, а также в сцене гибели, когда выясняется, что кавказец и легче, и ниже своего убийцы Рубахина [14: 472]. Наконец, отметим в «Кавказском пленном» завуалированный намек писателя на историческую тему русской колонизации именно в ее целом, по отношению к которому «кавказский текст»5 оказывается составной частью. Речь идет о происхождении Рубахина: родом он – из степи «за Доном» [14: 476], т.е. из русской фронтирной зоны, территории вольного казачества, из среды которого с XVI в. рекрутировались основные деятели колонизации. (По донским преданиям, и Ермак был донцом.) Таким образом, Маканин исподволь вводит в свое произведение важнейший для его понимания геополитический смысловой слой, явно не ограничиваясь темой красоты, которую обычно считают смысловой доминантой текста. Курьезную ошибку допускает современный исследователь, полагая, что казак Рубахин родом из «среднерусской полосы России» [10: 79]. При такой интерпретации конфликт произведения лишается исторической основы и в результате обессмысливается, ибо аборигены Сибири и Кавказа впервые увидели именно русских казаков, позднее регулярные формирования, а уж в самую последнюю очередь крестьян-колонистов из той самой «среднерусской полосы России». Перейдем к более детальному сопоставлению текстов. Как всегда у Распутина, в архитектонике «Дочери Ивана…» отчетливо звучит голос автора, выступающего с позиций традиционализма. Причем на сей раз это не просто «экологизм» и либеральное неопочвенничество. Распутин презентует читателю свою историческую перспективу – младшего Ивана, который начал как монархист (коллекционируя фотографии оставшихся к концу XX в. царственных особ), а затем сделался языковым архаистом в духе адмирала Шишкова. С последним обстоятельством тесно связана и четко сформулированная языковая программа самого Распутина. Этим, однако, идеологическая палитра повести не исчерпывается. Отметим принципиальный в структуре текста образ старика-бомжа, отдавшего на время свою комнату в общежитии кавказцам и, следовательно, косвенно виновного во всем произошедшем. С точки зрения фабулы значимость этого, периферийного на первый взгляд, персонажа огромна. «Когда бы не он, – рассуждает Анатолий, – не случилось бы, наверное, случившегося со Светкой, не случилось бы потом с Тамарой Ивановной…» [20: 205] Не менее весома роль старика в идейной конструкции произведения. Старик – выразитель тенденциозной теории Л.Н. Гумилева о старении народов, обреченных вследствие потери «пассионарного» импульса на растворение в соседствующих этнических системах. «Иссякли. Были, шумели и все вышли. Хоть Сталина зови, хоть Петра. Не поможет. Человек старится, и народ старится. Слабнет, переливается в другой народ. Закон природы» [20: 210]. Протагонист Демин полемически утрирует мысль старика и 5 В этом аспекте рассказ Маканина анализируется в работе И.В. Монисовой [16]. 6 говорит уже словами первого философического письма П.Я. Чаадаева. «Но ты забыл сказать, что мы никогда ни на что не годились… ошибка природы, наказанье божье, дурная болезнь…» [20: 211] Привлекаемые и скрыто цитируемые Распутиным историко-философские источники формируют глубинный идеологический уровень структуры произведения. Во взаимодействии с ним разворачивается располагающий сугубо историческими корнями «колонизационный» сюжет (столкновения кавказцев и казаков, хронотоп рынка с всевластием все тех же кавказцев и китайцев, история Светки). Этот последний, в свою очередь, переплетается с еще одной линией в поэтическом устройстве произведения – анализом психологии героев. Психологизм повести целиком связан с проблемой гендера. Писатель лишает волевого начала Анатолия – отца семейства, на протяжении всего повествования находящегося в растерянности и депрессии («вконец вышел мужик, ничего не осталось» [20: 131]) – и, напротив, оснащает мужскими чертами Тамару Ивановну, которая даже по своей странной профессии (водитель грузовика) напоминает не своих предшественниц – знаменитых распутинских старух, а скорее главного героя повести «Пожар» Ивана Петровича. Гендерный символизм произведения неслучаен и абсолютно открыт для понимания. В «Моем манифесте» 1997 г. Распутин в полном соответствии с традицией [21] придал феминные черты России, изобразив ее сначала «немытой» и «темной», но зато с «хвостом» «европейских кавалеров», «предлагающих руку», а потом – ограбленной и раздетой донага «русской красавицей» [19: 42; 43]. Закономерно, что тема национального выживания, сопротивления «чужому» художественно решается в рамках чрезвычайно архаичной эротической метафоры, обретающие же при ее конструировании плоть и кровь персонажи естественным образом подвергаются сопоставлению и психологическому анализу. Единственной по-настоящему женственной героиней повести является Светка, жертва насилия. Распутиным, однако, она дискредитируется: Светка изображена неспособной на отпор (мотив, специально подчеркнутый в диалогах со следователем) и неудачницей в своей дальнейшей жизни. Прав Д. Быков, отметивший, что Светка – не столько персонаж с «концептуальным» значением, сколько объект жалости, «существо слабое и глупое» [3: 165]. На противоположном полюсе находится целая гроздь женских образов, в которых гипертрофировано мужское начало. Почти все эти героини являются проекциями Тамары Ивановны. Уже на первых страницах повести молодая Тамара Ивановна, работница автобазы, помещена в рамки четкой характерологической антитезы: с одной стороны от нее – «безмужняя» Клавка, наделенная двусмысленным прозвищем Браша и являющаяся героиней обсценной частушки, с другой – Виктория Хлыстова, «пугающая <…> своей мужиковатостью, бесстрашная и громкая…» [20: 23] Следующим «отблеском» Тамары Ивановны оказывается мужененавистница 7 Дуся Сормовская, прозванная так «в честь знаменитого волжского завода» [20: 25] и обладающая соответствующей внешностью – «с широким красивым лицом и тяжелыми руками и ногами» [20: 25]. Наконец, самой яркой сюжетной «парой» для героини оказывается Егорьевна – любовница Демина. Она охарактеризована в числе женщин-челночниц. «А мы и правда, как на подбор, одинаковые: бокастые, горластые, мужикастые. Те же бабы, да не те. Не легковые, а уж грузовые, с дороги не столкнешь» [20: 140]. «Грузовая» как элемент этой автохарактеристики напрямую метит в водительскую профессию Тамары Ивановны, связывая в четырехчленную конструкцию пары Демин – Егорьевна и Тамара Ивановна – Анатолиий. Причем по признаку жизненной активности эту иерархию персонажей возглавляют женщины: стреляет в кавказца Тамара Ивановна, в то время как Анатолий только говорит «убивать надо таких!» [20: 32]; Демин – энергичный и деятельный человек, однако «если бы не Егорьевна», его «киоск с железяками и мазями давно пошел бы ко дну» [20: 128]. Наконец, сама Тамара Ивановна с 12 лет хорошо стреляла [20: 38], «ходила по-мужски» [20: 18], с юности ей «хотелось воли, движения, удовлетворения практического интереса, приближения к опасности» [20: 38] (характерен этот перечень хрестоматийных мужских поведенческих мотиваций), она «в парня пошла» [20: 39] и т.д. и т.п. Создающийся Распутиным вопреки всей предшествующей традиции его прозы феминизированный мир, мир репрессированной женственности и выдвинутых на первый план свойств «амазонки» и «воительницы», по-видимому, призван служить альтернативой вторгающемуся извне «чужому», поданному как гиперэротизм – от развратных картинок на новых журналах и порнографических фильмов, просмотр которых младшим Иваном серьезно обсуждается писателем [20: 65-66], до осуществляющего насилие кавказца. Традиционная женственность героинь будет означать в этих условиях их неминуемое подчинение злу, а не менее традиционное сочетание маскулинности мужчин и женственности их подруг, являясь нормой, вообще не будет вписываться в апокалиптическую историософию повести. Итак, неоколонизация, колонизация «наоборот», превращаясь в сюжет, заставляет занять структурную позицию черкешенки, помогающей пленному русскому, или татарской царицы, прячущейся за стенами Искера от войск Ермака («Сузге» П.П. Ершова), русскую девушку, мучимую кавказцами в доме, где хозяйствует бурятка [20: 81]. Распутиным ситуация разрешается через усиление «мужского», «волевого» начала у женщин, а в идеале – у всех. На недостаток этого начала и на его жизненную важность писатель указывал все в том же «Моем манифесте» [19: 44]. Развитие повествования в «Андеграунде» Маканина приводит автора к конструированию весьма схожих сюжетных ситуаций и обрамляющих их идеологических контекстов. Если пер- 8 вым «аккордом» колонизационной темы в романе является, как мы уже отмечали, история Веронички, архетипически спроецированная на параллелизм «город – женщина» и выставляющая рассказчика (Петровича) в роли «спасителя», то важнейший в произведении эпизод убийства кавказца связывает Петровича с филигранно выстроенным писателем двойным подтекстом другого рода. В нем сочетается гоголевская тема «маленького человека» и навеянный Достоевским образ «идеологического» убийцы Раскольникова6. При этом искусное сплетение темы «маленького человека» с «кавказским следом» (так называется глава, в которой идет речь об убийстве) – совершенно произвольное с точки зрения исторической преемственности (в качестве пролога к рассказу о схватке в парке уместнее бы выглядела реминисценция из Лермонтова, особенно учитывая его принципиальную значимость для Маканина) – находит свое объяснение именно в контексте «колонизационного» сюжета. Тетелин, этот «Акакий Акакиевич», поссорился с кавказцами из-за того, что они продали ему слишком длинные твидовые брюки (очевидный заместитель гоголевской шинели – Тетелин их «именно полюбил» [15: 114]), заменить которые, как и вернуть деньги, отказались. Тетелин в спорах с торговцами нажил себе инфаркт, и когда ночью, уже больной, он бросился обрезать брюки, «чтобы утром с яростью швырнуть вновь в палатку» [15: 112], его настигает повторный инфаркт, и Тетелин падает замертво с наполовину укороченными брюками в руках, именно в таком виде «отправившись на небо» [15: 112]. Тонкий ход Маканина заключается в том, что он парадоксально сближает этого жалкого и абсурдного героя с Петровичем, присоединяя к своему alter ego такого странного двойника. Зачем? Итак, Тетелину, как и Петровичу, 54 года; он тоже общажный сторож; он во всем стремится подражать Петровичу. Друг последнего Вик Викыч произносит знаменательную фразу, обосновывающую двойничество: «Твое эхо. Цени!.. Не каждому удается увидеть эхо» [15: 113]. Обидчиками Тетелина выступили кавказцы из «азербайджанско-чеченских палаток»: сцена поминок, на которые торговцы приходят, изображается Маканиным не столько как тризна, сколько как заключение негласного перемирия чувствующих свою вину азиатов с населением общаги. «Метрополия» в лице общаги (ее главным представителем не случайно выступает бывший офицер Акулов, который «клянет чеченов и кавказцев вообще» [15: 113]) великодушно прощает «провинившуюся» «колонию», «нет-нет вспоминая о дружбе народов» [15: 115]. Уже в следующей главе конфликт общажника с кавказцем Маканин повторяет – явно с целью создать контраст между Петровичем, который здесь оказывается в положении Тетелина, и самим Тетелиным, ибо Петрович реагирует на «вызов» отнюдь не беспомощно-нелепой Реминисцентность поэтики маканинского романа неоднократно отмечалась. См. работы А. Архангельского [1], К.О. Шилиной [24]. 6 9 смертью в комически-самоубийственной попытке обрезать штаны (хотя и здесь писатель демонстрирует возможность такого развития событий: «54 – инфарктный возраст» [15: 112] для любого). Ответом главного героя будет удар ножом под левую лопатку («удар» – реакция внутренне свободного человека – вообще, как известно, лейтмотив романа). Убийство кавказца стягивает к себе, кажется, максимальное в «Андеграунде» количество литературных ассоциаций, что косвенно может свидетельствовать о кульминационном значении этой сцены. Сначала герой-рассказчик дезавуирует «давящую» на него литературноморалистическую традицию Достоевского: следователь предстает в виде «Порфирия»; сам Петрович – литератор, как и Раскольников, («смотри как!», – удивляется он обнаруженной параллели [15: 144]). Итоговый вывод героя перечеркивает ассоциативные сближения: «Но теперь не пройдет. Не тот, извините, век» [15: 144]. Собственно, Петрович не согласен рассматривать произошедшее именно как убийство, его более устраивает «романтическая» версия дуэли – с закономерными аллюзиями к пушкинско-лермонтовской эпохе: авторитет «Ф.М.» он меняет на более значимый авторитет «А.С.», который «уже раненный, уже с пулей в животе» не думал ни прощать Дантеса, ни «после каяться» [15: 166]. Поэтому «…сама та скамейка и та кровь не содержали в себе укора, тем более укора направленного убийства. Не как умысел – скорее, как дуэль, мы оба вынули ножи» [15: 166]. Герой Маканина действует не в духе персонажей Достоевского, а скорее в стилистике романтика, для которого «убийство стало … личным фактом» [15: 167]7. Теперь вернемся к Тетелину, от которого в композиции роман и тянется «кавказский след». Вспомним, что кавказец грабил Петровича, провозглашая, подобно распутинскому бомжу, идею этнического краха русских: «Русские кончились. Уже совсем кончились…» Но Маканин принципиально отличается от Распутина тем, что и не думает конструировать некую позитивную программу в качестве альтернативы гумилевским идеям «надлома», «обскурации» и «депопуляции» – вроде младшего Ивана, отвечающего, «улыбаясь», на апокалиптические прогнозы: «попоем еще» [20: 211]. Образ «маленького человека» Тетелина продолжается в коллективном образе современного российского мужика, который, как и у Распутина, уступает женщине, ибо существует «без желания жизни» [15: 203]. «Маленький человек», начавший вдруг численно доминировать в обществе, заставляет рассказчика объяснять этот странный феномен с помощью все того же «колонизационного» образного инвентаря. «Мелкие, угрюмые люди, не способные сейчас шевельнуть ни рукой, ни мозгами: такие они идут на работу. <…> Думаю: неужели эти же люди когда-то шли и шли, пешие, яростные, неостановимые первооткрыватели, на Урал и в Сибирь?.. Этого не может быть. Не верю. Это немыслимо. <…> Курят и курят в лунатической 7 «Романтизм» героя «Андеграунда» отмечается Е. Ермолиным [6]. 10 задумчивости, словно бы они пытаются вспомнить (как и я) и вяло недоумевают (как и я), как это их предкам удалось добраться до Берингова пролива, до золотой Аляски, включая ее саму, если сегодня потомкам так трудно войти, две ступеньки, в троллейбус» [15: 203]. Коллизия «маленького», «мелкого» Тетелина и торговцев соответствует в этой логике развертывания мотивов вырождению «яростных, неостановимых первооткрывателей», спроецированное же на время романтизма деяние Петровича, неприемлемое в более позднем историческом контексте, но прочно укорененное в быту эпохи дуэлей и начавшейся первой Кавказской войны, символизирует его прочную связь с традицией. Иначе говоря «новатором», а значит, «вырожденцем» оказывается Тетелин, Петрович же предстает «архаистом» и в этом смысле не случайно является зеркальным двойником Тетелина, т.е. таким же, как он, но с точностью до наоборот. Биография Петровича, являющаяся отсветом реальной биографии самого Маканина, в еще большей степени подтверждает эту закономерность. Родом герой не просто с Урала. В его и его брата Венедикта происхождении писателем подчеркнут мотив пересечения границы между Европой и Азией. Мальчики каждый день ходили в школу, переправляясь через реку, на берегу которой стоял указатель «ЕВРОПА – АЗИЯ» [15: 401; 419]. Петрович, как и Рубахин «Кавказского пленного», – выходец из фронтирной зоны национального исторического ареала, и в этом смысле он по определению несет в себе генетическую память о «неостановимых первооткрывателях», которую он и использует как критерий для оценки современного состояния русского человека. Колонизация, движение на восток, «против солнца» (Г. Вернадский), предполагавшие неминуемое столкновение с этнически и конфессионально чужеродными этносами, были предначертанным сценарием исторического развития России. Однако по разным причинам они не получил адекватного отражения в русской литературе, не создавшей своего Робинзона Крузо, Следопыта, простодушного Гурона и т.д., то есть образы, в которых новооткрытый мир не просто живописался, но включался в определенную мировоззренческую парадигму8. Здесь можно вспомнить парадоксальные слова сибирского областника Н.М. Ядринцева, отмечавшего еще в 1882 г., что «…открытия русских в Азии имели сравнительно весьма ничтожное значение и оказали слабое влияние <…> по отношению к России» [26: 366]. «Колониальный» текст в национальной словесности складывался исподволь – в основном в более или менее маргинальных относительно главных «маршрутов» литературного процесса текстах9. Между тем во второй половине XX-XXI вв. «колонизационный» образно-сюжетный «словарь» явно Один из возможных вариантов решения этой проблемы предлагает А. Эткинд с тезисом «внутренней колонизации», согласно которому место дикарей западной «ориентальной» словесности занимают русские крепостные крестьяне внутренних губерний, описывающиеся автором XVIII-XIX вв. в парадигме «своих» аборигенов [25]. 9 См., например: [7]. 8 11 становится более затребованным и актуальным. В советский период это обстоятельство было связано с взаимонаправленными тенденциями: с одной стороны, воссозданием, описанием и осмыслением в литературе предельно централизованного пространства советской империи [9], с другой – рекрутированием целых поколений писателей-провинциалов, составивших костяк школы «деревенщиков» и занявших на определенное время важное место в системе литературного процесса. Наконец, политическое явление 1990-х годов – парад суверенитетов – и вызванные им войны на окраинах одряхлевшей империи сделали историческую тему колонизации беспрецедентно притягательной. В. Маканин и В. Распутин использовали «колонизационный» сюжет с опорными, восходящими к классике XIX в. моментами его конструкции (женский образ, эротическая тема), как своеобразный язык описания современной действительности (причем отнюдь не только именно геополитических ее особенностей)10 и тем самым, несмотря на множество принципиальных отличий собственных художественных миров, невольно продемонстрировали целостность сюжетного пространства национальной литературы. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 1. Архангельский А. Где сходились концы с концами. Над страницами романа Владимира Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени» // Дружба народов. 1998. № 7. С. 180-185. 2. Барт Р. С чего начать? // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994. С. 401-412. 3. Быков Д. Зори над распутьем // Новый мир. 2004. № 4. С. 164-167. 4. Гордин Я.А. Кавказ: земля и кровь. Россия в Кавказской войне XIX века. СПб., 2000. 5. Гусейнов Г. Карта нашей родины: идеологема между словом и телом. М., 2005. 6. Ермолин Е. Роман Владимира Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени» как книга последних слов // Континент. 1998. № 98. С. 322-350. 7. Земсков В.Б. Хроники Конкисты Америки и летописи взятия Сибири в типологическом сопоставлении // Латинская Америка. 1995. № 3. С.88-95. 8. Каминский П.П. Публицистика В.Г. Распутина: мировоззрение и проблематика. Автореф. дисс. … канд. филол. наук. Томск, 2006. 9. Куляпин А.И., Скубач О.А. Москва моя – страна моя: столица и провинция в советской модели мира // Куляпин А.И., Скубач О.А. Мифы железного века: семиотика советской культуры 1920-1940-х гг. Барнаул, 2005. С. 8-18. Отметим важный методологический прецедент: Ролан Барт еще в 1970 г. приводил пример актуальности «кода колонизации» для структуры европейского романа [2: 407-408]. 10 12 10. Легонькова В.Б. Категории эстетического и этического в контексте проблемы диалога культур: рассказ В. Маканина «Кавказский пленный» // Постмодернизм: парадигмы культуры. Вып. 1. Магнитогорск, 2005. С. 72-81. 11. Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Современная русская литература: 1950-1990-е годы: В 2 т. Т. 2. М., 2006. 12. Липовецкий М. В отсутствие медиатора. http://www.kinoart.ru/magazine/08- 2003/review/lipovetski/ 13. Лотман Ю.М. Сюжетное пространство русского романа XIX столетия // Лотман Ю.М. О русской литературе. СПб., 1997. С. 712-729. 14. Маканин В.С. Кавказский пленный. М., 1997. 15. Маканин В.С. Андеграунд, или Герой нашего времени. М., 1998. 16. Монисова И.В. К вопросу о бытовании «кавказского текста» в современной русской литературе (на примере рассказа В. Маканина «Кавказский пленный») // Традиции русской классики и современность. М., 2002. С. 261-264. 17. Плюханова М.Б. Сюжеты и символы Московского царства. СПб., 1995. 18. Распутин В.Г. Костровые новых городов. Красноярск, 1966. 19. Распутин В.Г. Мой манифест // Аврора. 1997. № 3-4. С. 40-45. 20. Распутин В.Г. Дочь Ивана, мать Ивана. Повесть, рассказы. Иркутск, 2005. 21. Рябов О.В. «Матушка-Русь». Опыт гендерного анализа поисков национальной идентичности России в отечественной и западной историософии. М., 2001. 22. Топоров В.Н. Заметки по реконструкции тестов // Исследования по структуре текста. М., 1987. С. 99-132. 23. Успенский Б.А. Пушкин и Толстой: тема Кавказа // Успенский Б.А. Историкофилологические очерки. М., 2004. С. 27-48. 24. Шилина К.О. Поэтика романа В. Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени» (проблема героя). Автореф. дисс. … канд. филол. наук. Тюмень, 2005. 25. Эткинд А. Русская литература, XIX век: Роман внутренней колонизации // Новое литературное обозрение. 2003. № 59. С. 103-124. 26. Ядринцев Н.М. Сибирь как колония. СПб., 1882.