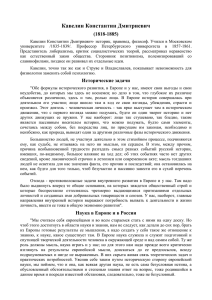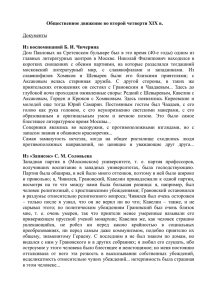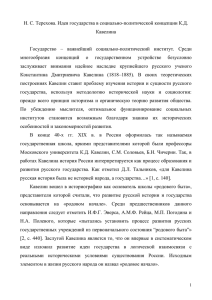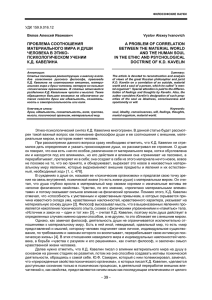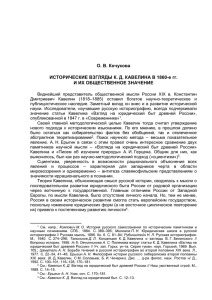«НОВАя ИСТОРИЧЕСкАя ШкОЛА» И ИССЛЕДОВАТЕЛьСкАя
advertisement
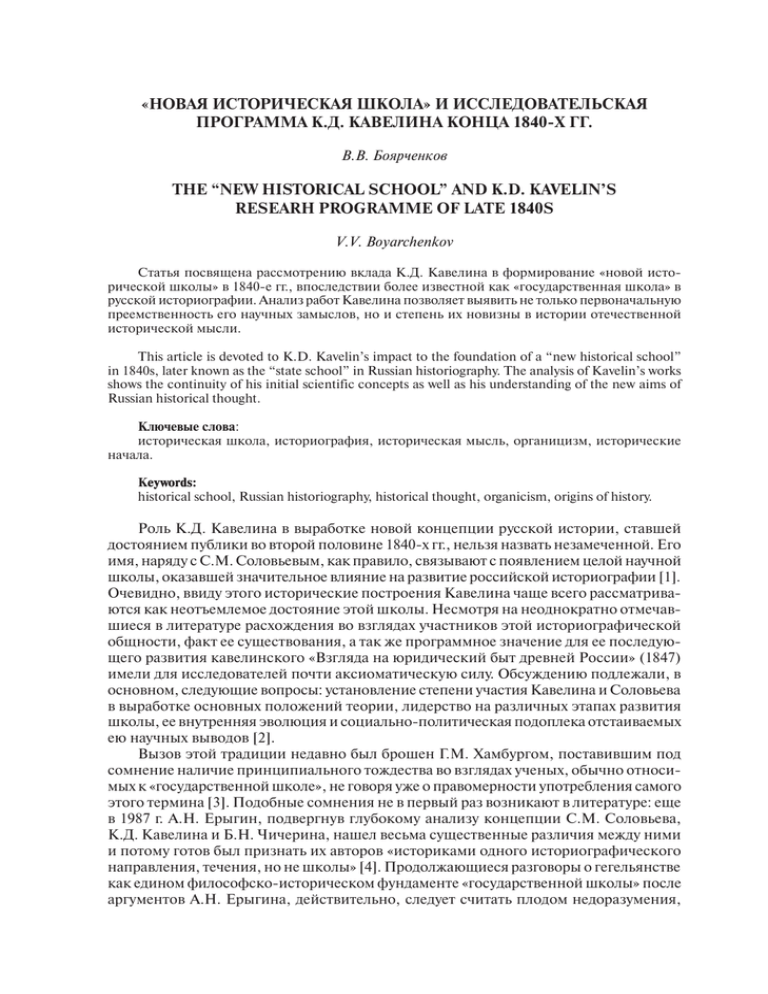
«НОВАя ИСТОРИЧЕСкАя ШкОЛА» И ИССЛЕДОВАТЕЛьСкАя ПРОГРАММА к.Д. кАВЕЛИНА кОНЦА 1840-Х ГГ. В.В. Боярченков THE “NEW HISTORICAL SCHOOL” AND K.D. KAVELIN’S RESEARH PROGRAMME OF LATE 1840S V.V. Boyarchenkov Статья посвящена рассмотрению вклада К.д. Кавелина в формирование «новой исторической школы» в 1840-е гг., впоследствии более известной как «государственная школа» в русской историографии. Анализ работ Кавелина позволяет выявить не только первоначальную преемственность его научных замыслов, но и степень их новизны в истории отечественной исторической мысли. This article is devoted to K.D. Kavelin’s impact to the foundation of a “new historical school” in 1840s, later known as the “state school” in Russian historiography. The analysis of Kavelin’s works shows the continuity of his initial scientific concepts as well as his understanding of the new aims of Russian historical thought. ключевые слова: историческая школа, историография, историческая мысль, органицизм, исторические начала. кeywords: eywords: historical school, Russian historiography, historical thought, organicism, origins of history. Роль К.д. Кавелина в выработке новой концепции русской истории, ставшей достоянием публики во второй половине 1840-х гг., нельзя назвать незамеченной. его имя, наряду с С.М. Соловьевым, как правило, связывают с появлением целой научной школы, оказавшей значительное влияние на развитие российской историографии [1]. очевидно, ввиду этого исторические построения Кавелина чаще всего рассматриваются как неотъемлемое достояние этой школы. несмотря на неоднократно отмечавшиеся в литературе расхождения во взглядах участников этой историографической общности, факт ее существования, а так же программное значение для ее последующего развития кавелинского «Взгляда на юридический быт древней России» (1847) имели для исследователей почти аксиоматическую силу. обсуждению подлежали, в основном, следующие вопросы: установление степени участия Кавелина и Соловьева в выработке основных положений теории, лидерство на различных этапах развития школы, ее внутренняя эволюция и социально-политическая подоплека отстаиваемых ею научных выводов [2]. Вызов этой традиции недавно был брошен Г.М. хамбургом, поставившим под сомнение наличие принципиального тождества во взглядах ученых, обычно относимых к «государственной школе», не говоря уже о правомерности употребления самого этого термина [3]. Подобные сомнения не в первый раз возникают в литературе: еще в 1987 г. А.н. ерыгин, подвергнув глубокому анализу концепции С.М. Соловьева, К.д. Кавелина и б.н. чичерина, нашел весьма существенные различия между ними и потому готов был признать их авторов «историками одного историографического направления, течения, но не школы» [4]. Продолжающиеся разговоры о гегельянстве как едином философско-историческом фундаменте «государственной школы» после аргументов А.н. ерыгина, действительно, следует считать плодом недоразумения, и можно только пожалеть, что наблюдения этого исследователя не получили в свое время должной известности. однако его утверждение по поводу отсутствия школы могло иметь силу в том случае, если бы он установил, какая глубина концептуальных расхождений была критической для существования исторической школы в глазах современников Соловьева, Кавелина и чичерина и их самих. без учета историографического контекста само понятие «школа» лишается конкретно-исторического наполнения и едва ли пригодно для анализа. Г.М. хамбург рассуждает вполне самостоятельно, хотя в своей критике и воспроизводит частично соображения А.н. ерыгина по поводу единства «государственников». Поскольку возражений мнение Г.М. хамбурга, как некогда и его предшественника, до настоящего времени не вызвало, проверим состоятельность приводимых им аргументов. Во-первых, Г.М. хамбург показывает, что государство не являлось единственным предметом исторических штудий для тех, кого обычно считают представителями «государственной школы», а некоторые из них порой были даже склонны подчеркивать значимость таких негосударственных учреждений, как, скажем, вече. Правда, увлекаясь полемикой, исследователь не только не комментирует, но даже не упоминает те высказывания Кавелина, Соловьева, которые не без оснований используются как доказательство этатистских предпочтений этих историков [5]. Поэтому его утверждение, что чичерин был единственным государственником в полном смысле этого слова, звучит не слишком убедительно. Во-вторых, с точки зрения хамбурга, нет смысла говорить о единой «государственной школе», коль скоро все причисляемые к ней ученые расходились во взглядах на такие важные вопросы, как время возникновения государства на Руси, закономерность этого процесса, характер взаимоотношений между государством и обществом. Это наблюдение имело бы бесспорную силу, если бы исследователю удалось показать, что указанные им проблемы истории российской государственности представлялись Соловьеву, Кавелину и их современникам столь же принципиальными, как и ему самому. особенно этот, думается, невольный анахронизм заметен, когда речь у американского исследователя заходит о противопоставлении государства и общества �� теме, совершенно незнакомой русским историкам дореформенного времени. хамбург не интересуется, что служило критерием новизны для научных концепций в историографической ситуации 1840 �� 1860-х гг., какие черты их сходства представлялись тогда важнейшими, а какие второстепенными, тогда как без ответа на эти вопросы решение вопроса о существовании «государственной школы» неизбежно будет произвольным. недостаток внимания к проблеме функционирования текстов тех, кого обычно причисляют к историкам-«государственникам», в потоке исторической литературы того времени существенно ослабляет, пожалуй, наиболее серьезный из аргументов хамбурга, понятие «государственной школы» представляет собой позднейшее тенденциозное изобретение радикальных критиков построений Кавелина, Соловьева и их предполагаемых последователей, вполне чуждое для них самих. Подобная трактовка отчасти справедлива в отношении историков-юристов так называемого «второго поколения», В.И. Сергеевича и А.д. Градовского, с легкой руки П.н. Милюкова, а затем В.е. Иллерицкого, ставших продолжателями традиции создателей теории родового быта, но, как нам вскоре предстоит убедиться, слишком упрощает вопрос о происхождении этой историографической общности. Во всяком случае, не так уж сложно было найти более ранние и близкие к Кавелину и Соловьеву источники, характеризующие их как представителей одной школы, чем «очерки гоголевского периода русской литературы» н.Г. чернышевского (1855-1856), как это делает хамбург [6]. Таковы, например, датируемые концом 1850 �� началом 1851 гг. «Послание к г. К�ну» М.П. Погодина в «Москвитянине» и обозрение русской исторической литературы А.н. Афанасьева, помещенное в «отечественных записках» [7]. Словом, указанные американским исследователем черты сходства недостаточны, а выводы о сугубо эвристическом значении конструкции «государственной школы» преждевременны, несмотря на несомненно любопытную постановку вопроса. Решение вопроса о генезисе и природе исторической школы, в создании которой Кавелин принимал самое живое участие, по-видимому, следует начать с анализа текстов, написанных до появления «Взгляда на юридический быт древней России» или, приблизительно, в одно время с этим предполагаемым манифестом объединения «государственников». Этот анализ должен выявить источник недовольства одного из основоположников новой школы сложившимися к моменту его вступления в науку подходами к изучению российского прошлого, а также обнаружить исследовательскую программу, отвечающую, по его мнению, современным требованиям. остановим свое внимание на соображениях Кавелина еще и потому, что в его материалах �� прежде всего обзорах и рецензиях �� рефлексия по поводу положения дел в исторической литературе эксплицирована существенно полнее, чем в работах Соловьева второй половины 1840-х гг. для решения поставленных нами задач первостепенный интерес вызывают, вопервых, оценка Кавелиным состояния отечественной историографии в недавнем прошлом и настоящем и, во-вторых, формулировка им стоящих перед наукой русской истории новых задач. Первый из указанных аспектов отчасти получил освещение в недавнем очерке Р.А. Киреевой «Взгляд К.д. Кавелина на историческую науку России ��� века», что заметно облегчает поставленную нами задачу [8]. Правда, исследовательница, к сожалению, упустила из вида некоторые его работы, в частности обширную кавелинскую рецензию на «чтения в обществе истории и древностей российских (далее �� чоИдР)», опубликованную в «Современнике» в 1847 г. и впоследствии входившую в собрание его сочинений. Эта рецензия способна дополнить, а местами и уточнить получившуюся картину. Кроме того, на наш взгляд, в очерке Р.А. Киреевой недостаточно учтены обстоятельства времени: изменения в историографических суждениях Кавелина, обусловленные как постепенным становлением его собственной оригинальной концепции, так и соображениями, продиктованными условиями литературной борьбы. далеко не все оценки, высказанные в начале своей ученой карьеры, в пылу журнальных баталий, этот историк-юрист с такой же ревностью отстаивал в позднейшие годы. Памятуя о намеченной нами цели �� реконструкции российской историографической ситуации середины 1840-х гг., какой она предстает у Кавелина �� обратимся к его работам тех лет. Исходным тезисом, наиболее содержательным из них в этом отношении, «Взгляда на русскую литературу по части русской истории за 1846 год», дополнявшего годовой литературный обзор В.Г. белинского в первой книжке «Современника» за 1847 г., представляется утверждение об отсутствии в России не только «своей исторической литературы», но даже непосредственных предпосылок для ее появления. «Эпоха творчества, созидания едва ли скоро наступит в нашей исторической литературе», �� констатирует Кавелин. Этот вывод основывается на убеждении в необходимой связи между «актом сознания, самоуразумения народа» и успехами историографии: «Когда мы поймем себя, тогда явится у нас и история; а это условие есть одно из самых трудных, самых тяжело дающихся». Пока же Кавелин полагает, что в России «наука истории еще в зародыше» и предпочитает говорить о мышлении как о действительной потребности в России лишь в будущем времени. В этом он видит коренное отличие российской ситуации от западноевропейской: «Вопросы самые обыкновенные, простые, давно уже разрешенные у образованных народов, если они только к нам относятся и к нашему быту, приводят нас в величай- шее затруднение». Как следствие, «мы не умеем даже посмотреть на себя как должно» [9]. Рассуждая об этой проблеме в другом месте, Кавелин усматривает причину ее возникновения в специфических условиях �V��� столетия, когда увлечение заимствованиями привело к «ложной мысли», искавшей «объяснения наших обычаев чужими обычаями, наших нравов �� чужими нравами» [10]. Исходя из этого, Кавелин предостерегал от попыток «целиком прикладывать к русской истории общие законы исторического развития, не обсудив хорошенько, возможно ли это, доработалась ли наша жизнь до той точки, с которой такое применение естественно и законно», и призывал «вникать в наш древний быт, каким он в самом деле был, не внося от себя определений и начал, развившихся на другой почве и имевших с ним одно внешнее, ничего не значащее сходство» [11]. отсюда становится понятным его критическое, в основном, отношение к наследию Карамзина в истории российской исторической науки, постоянно вызывавшее нападки Погодина. Признание изложения «государственной истории до �V�� в.» у Карамзина «превосходным, классическим» соседствовало у Кавелина с упреками придворного историографа в «противоестественном», «натянутом» воззрении. Само обращение к фигуре классика отечественной исторической мысли использовалось им как повод указать на ресурс, таящий не востребованные Карамзиным возможности: «недостаток внутренней истории и есть то, что чувствуется особенно сильно после трудов незабвенного историографа; отсюда-то должно развиться совершенно новое воззрение на древнюю и теперешнюю Россию; отсюда должен произойти совершенный переворот в нашей исторической литературе, а следовательно, и в нашем сознании». одним словом, историк-юрист, помещавший «Историю государства Российского» в разряд скорее изящной, а не исторической литературы, больше заботился о преодолении карамзинской традиции в историографии, чем о ее поддержании [12]. Сходными мотивами отчасти объясняются и критические высказывания Кавелина в адрес Погодина, который также, по своему обыкновению, не оставался в долгу. Р.А. Киреева верно заметила, что Погодин, несмотря на признание за ним ряда заслуг в изучении древней русской истории, представлял собой для Кавелина, прежде всего, олицетворение «гибельного», «вспять идущего направления» в отечественной исторической литературе. И дело не только в нелюбви Погодина к «высшим взглядам» в науке истории, и не в том, что этот маститый историк, в молодости критиковавший Карамзина, со временем превратился в его защитника. Кавелин публично заявляет о препятствиях, чинимых Погодиным. В первую очередь, речь идет о Каченовском, плодотворные сомнения которого не только не были оценены по достоинству, но и стали для него источником неприятностей, виновником которых Кавелин называет Погодина [13]. К слову, настойчивое стремление изобразить Погодина злым гением современной российской историографии невольно выдавало личное пристрастие и полемическое увлечение Кавелина: получалось либо явное преувеличение роли оппонента, способного, оказывается, в одиночку затормозить поступательный ход исторического знания в России, либо опровержение собственного положения об обусловленности достижений исторической литературы уровнем народного самосознания. Впрочем, вовсе не позицию Погодина его молодой критик считал определяющим фактором в науке русской истории в 1840-е гг. Время, когда тот мог «взгляды и понятия, давно отжившие свой век � навязывать молодежи под страхом отлучения», по мнению Кавелина, проходит. Во «Взгляде на русскую литературу по части русской истории за 1846 год» он выделяет усилившееся влияние «исключительно-фактического направления», одним своим названием указывавшего на преобладание фактов над теорией в современных исследованиях. характеристика этого направления у Кавелина амбивалентна: с одной стороны, он отлично понимает «всю его недостаточность», но, с другой �� находит его «отрадным и утешительным», ведь «по мере того, как раздвигался и раздвигается круг исторических данных, должен � стесняться простор для вымыслов, имевших вид исторических теорий». Все это позволяет ему говорить о «переходном состоянии», в котором оказалась отечественная историография. Тем более, что при более пристальном взгляде, такой далекий, как следовало из его предыдущих слов, «период самосознания» все же «начинает наступать», и «в глубине современной жизни зарождается новое историческое сознание, ищущее формы и выражение». не удивительно, что труды Погодина на этом фоне выглядят как анахронизм [14]. Возвращаясь к жертвам Погодина, заметим, что они интересовали Кавелина не только как средство дискредитации оппонента, но еще и потому, что их идеи могли быть истолкованы в близком ему ключе. даже их «невысказанная мысль» трактуется им как «прекрасное, глубокомысленное завещание для грядущих поколений», требующее исполнения. В этом плане показательна кавелинская характеристика «Мыслей об истории, вообще, и русской, в частности» Ю.И. Венелина, опубликованных в «чоИдР» через восемь лет после смерти автора: «Во всем этом нет, если хотите, ничего нового� но интересны приемы, изобличающие сокровенную мысль и тенденции. общие события у Венелина тождественны с общими чертами, то, что потом называлось идеями, принципами и, наконец, теперь историческими началами. Им придает Венелин особенную важность; их отыскивание в истории есть главная задача историка» [15]. Так от поиска прямых предшественников в истории отечественной историографии Кавелин переходит к изложению собственных требований к современной исторической науке. Главные из них �� акцент на изучение внутренней истории, поиск «исторических начал» �� в большей или меньшей степени совпадают с устремлениями таких ученых, как З.я. доленга-ходаковского, Ю.И. Венелина, И.И. Срезневского и М.П. Погодина. но, пожалуй, только Кавелин связывал с осуществлением этих требований такие большие надежды. Поставив исследование истории на службу растущей, на его взгляд, среди «образованных людей» потребности в самопознании, Кавелин настаивал на предпочтительности изучения «нашего внутреннего быта � перед внешним, истории цивилизации �� перед политической историей». ему представлялось, что «век изучения официальной, торжественной, праздничной стороны нашей истории кончился», а неизбежное при этом обращение к «нашей будничной, закулисной, домашней жизни» даст ответы на самые существенные вопросы самопознания: «что мы такое? Стали теперь хуже или лучше против прежнего? Идем ли вперед или назад? Как и отчего происходили в нас перемены, над которыми мы недоумеваем?». благодаря этому русская историческая литература перестанет быть «приуготовительной по преимуществу» и станет «критической» [16]. на первый взгляд Кавелин был вполне солидарен с упомянутыми старшими современниками в главном выводе о такой переориентации исторического познания на «внутренний быт». у него народ становится предельной общностью, доступной исследованию. Здесь он тоже не боится крайностей: оказывается, без изучения «истории народа как саморазвивающегося живого организма, в строжайшей постепенности изменяющегося вследствие внутренних причин», не может быть верной оценки любого исторического факта. «Внешние события», по Кавелину, «служат или выражением, или только поводом к обнаружению» этих внутренних причин. особенно настойчиво он подчеркивает органическую природу народной общности. Такая трактовка избавляет историю народа от абсолютной власти общеисторических закономерностей (хотя последние Кавелин и не думает отрицать): «русскославянский быт � имеет свою историю, свои составные элементы, следовательно, свои особенности, необъяснимые из одних общих начал и законов. чтоб его понять, надо вглядеться в эти особенности, определить их». однако, при этом, Кавелин имеет в виду не столько постоянные, статичные, сколько меняющиеся во времени особен- ности народа: «подобно всякому живому существу, он на все смотрит с точки зрения, обусловленной его характером, историей, особенностями, историческим возрастом в данную минуту» [17]. Такое повышенное внимание к возрастным характеристикам народа отличает Кавелина от тех, кто раньше него начал разрабатывать проблематику «внутренней истории». Такая расстановка акцентов позволила Кавелину свести вопрос об особенностях внутреннего быта к выяснению соотношения начал, определявших народное развитие. Это отчетливо заметно в лекционном курсе по истории российского законодательства, который он читал в Московском университете еще в 1845/1846 гг. уже здесь в полном объеме просматривается та самая концепция последовательной смены родового, семейно-вотчинного и государственного начал, которая во «Взгляде на юридический быт древней России» сделала Кавелину имя в науке русской истории. Причем государство оказывается ключевым звеном в изображении перехода от древней России к новой, динамика которого задана телеологией личности. диссертационные разыскания Соловьева только укрепляют Кавелина во мнении, что «вся русская история, как древняя, так и новая, есть, по преимуществу, государственная, политическая�», а «политический, государственный элемент представляет покуда единственно живую сторону нашей истории» [18]. Впрочем, во второй половине 1840-х гг. для Кавелина такое утверждение вовсе не означает противопоставления государства народу или, тем более, обществу. не были случайностью или побочным для него занятием ни обстоятельный разбор обширного труда А.В. Терещенко, ни работа над реализацией амбициозного исследовательского проекта в Этнографическом отделении Русского географического общества. После ухода из Московского университета в 1848 г. Кавелин был убежден, что государственная жизнь представляет собой одно из выражений народного организма, и не считал универсальными «книжные, узко-юридические разглагольствования об историческом предмете», упрекая Миллера за то, что тот «на древних казаков и их быт � смотрел с государственной точки зрения и потому не понимал их, не понимал их истории» [19]. Итак, предпринятый нами анализ показал, что идеи, с которыми К.д. Кавелин выступил в своих работах середины 1840-х гг., были глубоко укоренены в историографической традиции первых послекарамзинских десятилетий. Категории «народности», «внутреннего быта», «исторических начал», на которые молодой историк-юрист опирался и в своей критике предшествующей и текущей исторической литературы, и при формулировке собственных требований к изучению русской истории, сравнительно давно и интенсивно осваивались отечественной исторической мыслью. И это обстоятельство, безусловно, осознаваемое Кавелиным, существенно облегчало решение поставленных им задач, главной из которых была органическая интерпретация всего хода русской истории. на этом строилась и его концепция постепенно сменяющих друг друга в историческом развитии России начал, соответствующих последовательно переживаемым ею возрастам, и трактовка государства как центральной проблемы истории народа (при том, что о полной редукции этой истории к государственной первоначально не было и речи), и излюбленный его тезис о взаимной обусловленности исторического знания и потребности общества в самопознании, одним словом, все то, что составляло новизну предложенной Кавелиным исследовательской программы. ПРИМЕЧАНИя: 1. Китаев В.А. Государственная школа в русской историографии: время переоценки? // Вопросы истории. �� 1995. �� №3. �� С. 161-164. 2. Шаханов А.н. Становление ученого // Соловьев С.М. Первые научные труды. Письма. М., 1996. С. 207-214. 3. Hamburg G.M. �nventing the «State School» of Historians, 1840 �� 1995 // Historiography of �mperial Russia: The Profession and Writing of History in a Multinational State. �rmonk, NY, 1999. P. 109. 4. ерыгин А.н. История и диалектика (диалектика и исторические знания в России ��� в.). Ростов-н/д., 1987. С. 172. 5. Пресняков А.е. С.М. Соловьев и его влияние на развитие русской историографии // Вопросы историографии и источниковедения истории СССР. М. л., 1963. С. 80-81. 6. Hamburg G.M. �nventing the «State School» of Historians, 1840 �� 1995 // Historiography of �mperial Russia: The Profession and Writing of History in a Multinational State. �rmonk, NY, 1999. P. 101-109. 7. барсуков н.П. Жизнь и труды М.П. Погодина. СПб., 1897. Кн.11. С. 204-213; [Афанасьев А.н.] Русская литература в 1850 году // отечественные записки. �� 1851. �� №1. �� С. 30. 8. Киреева Р.А. Государственная школа: историческая концепция К.д. Кавелина и б.н. чичерина. М., 2004. С. 44-73. 9. Кавелин К.д. Взгляд на русскую литературу по части русской истории за 1846 год // Собр. соч. СПб., 1897. Т.1. 10. Кавелин К.д. Собр. соч. СПб., 1898. Т.4. 11. Кавелин К.д. Собр. соч. СПб., 1897. Т.1. 12. Погодин М.П. о трудах гг. беляева, бычкова, Калачова, Попова, Кавелина и Соловьева // Москвитянин. 1847. ч.1. С. 158; Кавелин К.д. указ.соч. Т.1. 13. Киреева Р.А. Государственная школа: историческая концепция К.д. Кавелина и б.н. чичерина. М., 2004. С. 65, 52-54. 14. Кавелин К.д. Собр. соч. СПб., 1897. Т.1. С. 851. 15. Там же. 16. Там же. 17. Там же. Кавелин К.д. Собр. соч. СПб., 1898. Т.4. 18. лекции К.д. Кавелина по истории российского законодательства. Публ. Ф.А. Петрова и н.л. Зубовой // Река времен: Книга истории и культуры. М., 1995. Кн.3. С. 76, 95; Кавелин К.д. Собр. соч. СПб., 1897. Т.1. 19. найт н. наука, империя и народность: Этнография в Русском географическом обществе, 1845 �� 1855 // Российская империя в зарубежной историографии. Работы последних лет. М., 2005. С. 181-182; Кавелин К.д. Собр. соч. СПб., 1897. Т.1.; Там же.