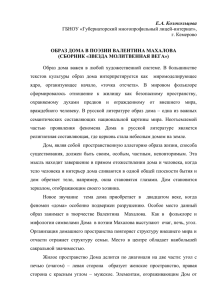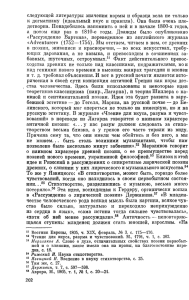Мифопоэтика современной бурятской поэзии
advertisement
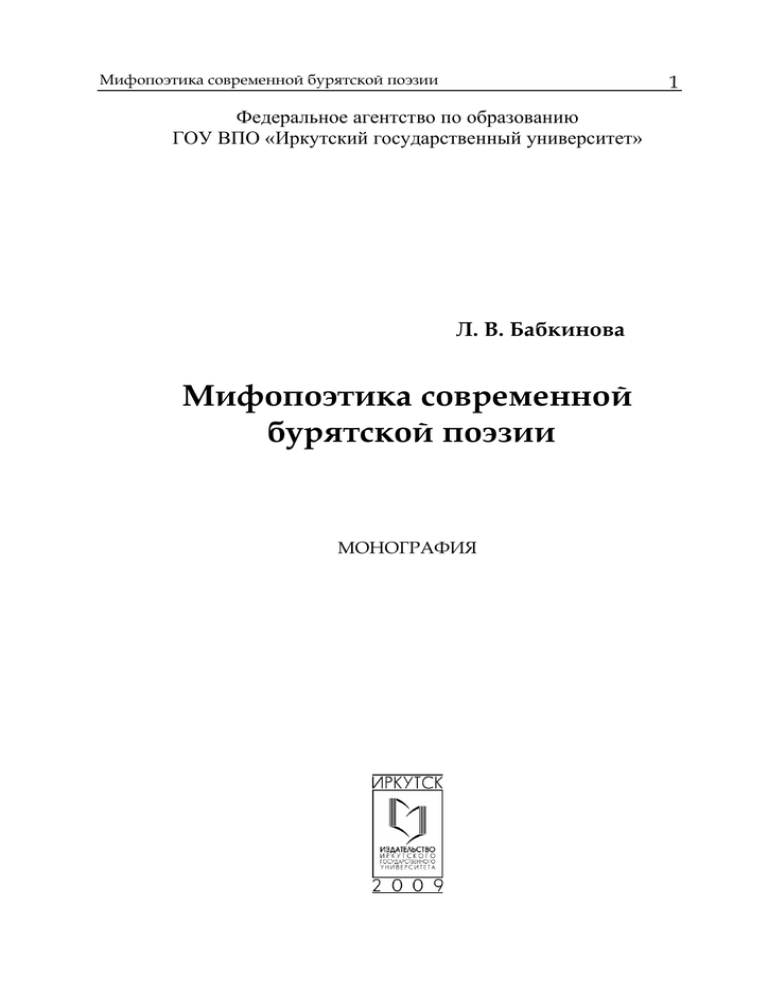
Мифопоэтика современной бурятской поэзии 1 Федеральное агентство по образованию ГОУ ВПО «Иркутский государственный университет» Л. В. Бабкинова Мифопоэтика современной бурятской поэзии МОНОГРАФИЯ Л. В. Бабкинова 2 УДК 894.23.09-1 ББК 83.3Бу-5 Б12 Печатается по решению ученого совета факультета филологии и журналистики Иркутского государственного университета Рецензенты: д-р филол. наук, доц. Л. С. Дампилова (ИМБТ СО РАН) канд. филол. наук, доц. Е. Е. Вахненко (ИГУ) Ответственный редактор канд. филол. наук, доц. Е. К. Шаракшинова Б12 Бабкинова Л. В. Мифопоэтика современной бурятской поэзии : монография / Л. В. Бабкинова. – Иркутск : Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2009. – 124 с. ISBN 978-5-9624-0365-6 В монографии впервые в бурятском литературоведении исследованы художественные образы в космогонических, тотемических и этиологических мифах; изучены концепты мифологического времени, поэтика календарно-обрядовой поэзии, эпические и маргинальные образы. В работе выявляется глубинный мифо-фольклорный, социальнопрагматический подтекст современной бурятской поэзии в широком евразийском аспекте. Предназначена для специалистов в области гуманитарных наук, для педагогов, студентов-филологов, а также для всех, кто интересуется бурятской культурой. Библиограф. 136 назв. УДК 894.23.09-1 ББК 83.3Бу-5 ISBN 978-5-9624-0365-6 © Бабкинова Л. В., 2009 © ГОУ ВПО «Иркутский государственный университет», 2009 Мифопоэтика современной бурятской поэзии 3 Посвящается светлой памяти бабушки, Екатерины Ивановны Баларьевой Введение В бурятской фольклористике и литературоведении наиболее изучены общеизвестные традиционные мифологические и фольклорные образы в литературе: образы степи, юрты, огня, коня и др. Наш научный интерес к мифопоэтике связан с многообразной контекстуальной интерпретацией образов и сюжетов как шаманской, буддийской мифологии, традиционного фольклора, так и скрытого фольклоризма. Мифологизм, с одной стороны – характерное явление в литературе XX века и как художественный прием, и как стоящее за этим приемом мироощущение, но, с другой стороны – это специфическое явление именно для национальной литературы. «Ремифологизация» в бурятской поэзии связана с духовными и творческими поисками поэтов. XX век был отмечен возрождением интереса к архаическому мифу, миф становился не только способом постижения прошлого, настоящего и будущего, но и способом переосмысления и преображения жизни. Подобная «ремифологизация» делает чрезвычайно актуальной проблему мифа, причем как в общем плане, так и в связи с поэтикой отдельных авторов. В современной бурятской поэзии, в первую очередь, можно выделить Намжила Нимбуева, Галину Раднаеву и Баира Дугарова, в творчестве которых наиболее ярко прослеживаются мифологическое начало и фольклорные истоки. Бурятская поэзия неразрывно связана с развитием русской и мировой поэзии. В ней нашли отражение социально-политические, философские, нравственные проблемы современного мира. Современная бурятская поэзия, как и бурятская литература в целом, 4 Л. В. Бабкинова повторяет процессы развития, характерные для русской литературы, но при этом бурятская поэзия – способ сохранения и трансформации национальной, культурной, мифологической модели. Осмысление современной бурятской поэзии в контексте мифологии, фольклора и этнографии, исследование своеобразия мышления и отображения мира для выявления современного состояния бурятской поэзии представляется своевременным и актуальным. Вопрос взаимодействия и взаимовлияния литературы и фольклора рассматривался в монографии С. Ж. Балданова «Народнопоэтические истоки национальных литератур Сибири». В главе «Фольклорно-этнографические контексты и их роль в раскрытии особенностей национальной действительности» автором прослеживалась роль мифов в создании фольклорно-этнографического контекста литературного произведения. В ракурсе нашего исследования ученый приходит к следующему выводу: «Фольклорноэтнографический материал, создающий контекст, проникает в художественную ткань произведения, образуя вместе с другими элементами и компонентами художественных форм единую и целостную эстетическую систему произведения» [21, с. 311]. Особенностям взаимодействия бурятского фольклора и поэзии, а также влиянию инонациональной поэзии посвящены статьи и монографии «Бурятская поэзия: традиции и новаторство (20–80-е годы)» [19], «Бурятская поэзия XX века: истоки, поэтика жанров» [20] Е. Е. Балданмаксаровой. Автором на материале бурятской поэзии XIX и XX вв. изучена проблема взаимодействия национальных и инонациональных художественных традиций и новаторских исканий, определивших жанровые и идейно-стилевые особенности. Л. С. Дампиловой проведено исследование поэзии Б. Дугарова в монографии «Символика кочевого пространства в поэзии Баира Дугарова». Выявляя синтез древних и современных традиций, имеющих единое этногенетическое происхождение, автор работы определяет, что своеобразие, смысловую объемность и подлинную художественную ценность поэзия Б. Дугарова обретает в контексте мифологических архетипов и знаковых символов. Дымбрыловой Д. Ч. в работе «Религиозные воззрения в бурятской поэзии XX века» исследованы художественные возможности познания мира и человека в поэзии Н. Нимбуева, Г. Раднаевой, Б. Дугарова, в свете буддийских мифологических образов. В ис- Мифопоэтика современной бурятской поэзии 5 следованиях последних лет по бурятской поэзии творчество избранных нами поэтов является одним из самых актуальных для истолкования философской модели мира через призму мифофольклорных традиций. Современная бурятская поэзия, как и бурятская литература в целом, повторяет процессы развития, характерные для русской литературы, но при этом бурятская поэзия – способ сохранения и трансформации национальной, культурной, мифологической модели. Осмысление современной бурятской поэзии в контексте мифологии, фольклора и этнографии, исследование своеобразия мышления и отображения мира для выявления современного состояния бурятской поэзии представляется своевременным и актуальным. Проблемы истоков и генезиса бурятской поэзии рассмотрены на новом методологическом уровне с точки зрения исторической поэтики, сформулированы общие концепции и закономерности развития поэтической традиции. В работе прослежены генетическая связь современной поэзии с фольклорными образами, типологический характер использования мифологических образов и мотивов в литературе. Также выделен национальный аспект в осмыслении фольклорных и мифологических образов в творчестве Н. Нимбуева, Г. Раднаевой, Б. Дугарова. Выявлена особенность поэтического сознания восточного человека в контексте западной культуры. Материалом для проведения исследования послужили произведения Н. Нимбуева, Г. Раднаевой, Б. Дугарова, исследования по мифологии, культурологии, фольклористике, литературоведению. Л. В. Бабкинова 6 Глава I МИФОПОЭТИЧЕСКОЕ НАЧАЛО БУРЯТСКОЙ ПОЭЗИИ 60–90-х гг. Литературу и миф связует художественное начало. Специфика мифологического мышления в его конкретно-чувственной природе, символическом характере, своеобразной логике, близкой к образно-ассоциативному мышлению. Миф является средством концептуализации мира – того, что находится вокруг человека и в нем самом. В известной степени миф – продукт первобытного мышления. Ментальность мифа связана с коллективными представлениями (термин Дюркгейма), бессознательными и сознательными скорее, чем с личным опытом. Первобытная мысль диффузивна, синкретична, неотделима от сферы эмоциональной, аффективной, двигательной, откуда происходят антропоморфизация природы, универсальная персонификация, анимизм, метафорическая идентификация объектов природных и культурных. Универсальное совпадает с конкретночувственным. М. Элиаде стремился размыть границу между архаическим и современным сознанием. Но, несмотря на все сходство, знак равенства между ними поставить нельзя. Мышление современного человека в рамки мифологического мышления не укладывается. Архаический миф подчинен особой логике. Однако для понимания природы современного мифологизирования необходимо хотя бы краткое рассмотрение архаического мифа и особенностей собственно мифологического мышления. Миф – это сказание о богах, духах, о героях-первопредках и их подвигах, действовавших в начале времени и участвовавших в создании мира и его элементов. Мифология есть совокупность подобных сказаний и, в то же время, система представлений о мире. Мифологическое мышление выражается в неотчетливом разделе- Мифопоэтика современной бурятской поэзии 7 нии субъекта и объекта, предмета и знака, вещи и слова, существа и его имени, вещи и ее атрибутов, единичного и множественного пространственных и временных отношений, начала и принципа, т. е. происхождения и сущности. Эта диффузность проявляется в сфере воображения и обобщения. Важнейшей чертой мифа является его ориентированность на прецедент. Статус социального прецедента получает все, что относится к мифическому времени – времени первопредков, первопредметов, первопричин. Важнейшей функцией мифа и мифического времени является создание модели, образца для воспроизведения, в подражании такому образцу видится залог благополучия коллектива. Поддержание установленного порядка в природе и обществе не менее важная функция мифа. Эта функция осуществляется с помощью ритуалов, которые инсценируют события мифического времени, события сакрального прошлого повторяются и реактуализируются, чем обеспечивается их «вечное возвращение». В космогонических мифах нашли свое отражение представления о происхождении космоса и его структуры, в них описывается вегетативная, зооморфная или антропоморфная модель вселенной. Специфика космогонического мифа такова, что окружающий мир моделируется посредством повествования о происхождении его частей. Сущность явления кроется в его происхождении. Это зависит от слабого развития абстрактных понятий в первобытном мышлении. Частью космогонических мифов являются мифы антропогонические, повествующие о происхождении человека. К ним же примыкают мифы астральные, солярные и лунарные, отражающие представления о звездах, солнце и луне. Основное действующее лицо космогонии – Творец, демиург, усилиями которого хаос преобразуется в космос. Мифологическое мышление отвечает всем требованиям, которым должно соответствовать понятийное мышление. Достигается это не на уровне индивида, а на уровне коллективного субъекта, ответственного за циркулирование, преобразование семантики мифа. Понятие архетипа, введенное Юнгом, широко используется в современном литературоведении. Юнговский анализ шел не в логической, а в психологической плоскости. Продукты бессознательных процессов подразделяются на две категории: это фантазии (и сновидения) индивидуального характера, которые соответствуют определенным коллективным структурным элементам челове- 8 Л. В. Бабкинова ческой души и передаются по наследству. Глубокий коллективный слой подсознания, таким образом, содержит в себе архетипы. Для нашей работы особый интерес представляет формулировка Юнга, определяющая архетип как «мифообразующие структурные элементы, присутствующие в «бессознательном психе»». Архетип как элементы психической структуры Юнг сближал с теми типами структур, которые встречаются в сказках и мифах. Это приводит к смешению понятий архетипа и собственно мифологического образа. Предложенный Юнгом анализ конкретных архетипов позволяет сделать вывод, что архетип (как некая смысловая парадигма) может выступать в многочисленных образах, в позитивном и негативном вариантах и в нескольких мифологемах. Вопрос о разграничении понятий «архетип» и «мифологема» также не разрешен окончательно. Термин «мифологема» используется для обозначения единицы мифического повествования. По отношению к мифу мифологема примерно то же, что мотив по отношению к фольклорному тексту. В отличие от мотива мифологема – менее дробная единица, обладающая более высоким таксономическим рангом. Миф и мифологема соотносятся между собой на глубинных (содержательных), а не на поверхностных уровнях повествования. Юнг особое внимание уделяет рассмотрению таких архетипов, как тень, мудрый старик (старуха), младенец, мать, ее двойник дева, анима (анимус) и трикстер. Миф, по Лосеву, не схема, не аллегория, а символ, в котором между «внутренним» и «внешним» осуществляется не просто смысловое, но вещественное, реальное тождество. Миф – жизненно ощущаемая и творимая, вещественная реальность и телесная действительность. В мифе нет дуализма и закономерности и наукообразности метафизики, хотя чувственная действительность, творимая в мифе, является отрешенной от обычного хода явлений и содержит в себе разную степень иерархичности. От поэзии миф отличается характером отвлеченности. Поэзия отвлечена от фактичности, а миф – от смысла повседневной жизни, его идейного содержания и фактичности [71, с. 169]. Несмотря на то, что момент создания нового мифа не был зафиксирован и современные исследования основываются на измененных вариантах первоначального текста, огромная роль творческой личности в разработке и передаче мифов не вызывает сомнений. В архаических, однородно семиотизованных культурах миф Мифопоэтика современной бурятской поэзии 9 доминирует, тогда как в современных, идеологически расчлененных обществах «можно говорить о мифологизме лишь «фрагментарном» или метафорическом, квазимифологизме» [74, с. 78]. Архаические формы героического эпоса также уходят корнями в миф. Здесь фигурируют боги и духи, эпическое время совпадает с мифическим, герой эпоса часто наделен чертами первопредка и культурного героя, его врагами могут являться хтонические чудовища; в ранних эпосах сохраняются следы образов трикстера. Однако в дальнейшем воинская сила и храбрость героев заслоняют колдовство и магию, историческое предание оттесняет эпос. Но во многих поздних эпосах сохраняются отголоски мифа. Повествовательная литература генетически связана с мифологией через сказку и героический эпос; драма и отчасти поэзия через ритуалы, народные празднества, религиозные мистерии. Поэтому наряду с прямым обращением к древним мифам литература часто усваивает мифологический материал через эти каналы. Литература на всем протяжении своей истории, так или иначе соприкасалась с мифологическим наследием древности, однако в целом эволюция шла в направлении «демифологизации»; вершиной которой считают позитивизм XIX в. Наиболее ярко противостоял этой тенденции романтизм начала XIX в. Модернистские течения конца века в области философии и литературы, в частности символизм, крайне оживили интерес к мифу. Значительная роль мифа в генезисе литературы, их общая метафорическая, образная, символическая природа делают современное мифологизирование органичным, миф становится средством выражения архетипических образов или «стойких национальных, культурных моделей», служит инструментом композиционной организации текста. В. Н. Топоров считает, что писатель в своем творчестве дает начало двум процессам: «мифологизации» и «демифологизации». «Мифологизация служит созданию наиболее семантически богатых, энергичных и имеющих силу примера образов действительности», а «демифологизация» разрушает «стереотипы мифопоэтического мышления, утратившие свою подъемную силу» [112, с. 5]. Современная бурятская поэзия довольно редко использует мифологические элементы в их чистом виде. Они менее осязаемы, но способствуют более глубокому проникновению в народную психологию. Они взаимодействуют с приемами и средствами современной поэзии, приобретая большую выразительность. 10 Л. В. Бабкинова 1.1. Космогонические образы в современной бурятской поэзии В бурятской мифологии космогонические мифы занимают значительное место как попытка объяснения зарождения вселенной и составляющих ее основных элементов. Мы исследуем самые декларированные образы неба, земли, солнца и луны. Образ неба в бурятской поэзии традиционно наделен сакральным мифологическим содержанием. Он исследуется как с точки зрения народной мифологии, так и с точки зрения шаманской и буддийской мифологий. Небо является одним из главных образов в мифологии монгольских народов. Исследованием образа неба занимались такие ученые как Д. Банзаров, Е. М. Мелетинский, С. Ю. Неклюдов, И. А. Манжигеев, Н. О. Шаракшинова, Н. Л. Жуковская, Т. М. Михайлов, Д. С. Дугаров и др. У бурят главным божеством считается Хан-Тюрмас-Тенгри. Слово «тенгри», обозначавшее вначале только видимое небо, впоследствии стало употребляться также в смысле духа, тенгри представляются как существа личные, духовные. Образ неба интерпретируется и как небо – отец, мужское начало. Небо и земля – супружеская пара. Земля и небо почти повсеместно осмысляются как женское и мужское начала, как супружеская пара, стоящая в начале теогонического или теокосмического процесса. Образ степи как земли традиционен в бурятской поэзии, он придает ей национальный колорит. Г. Раднаева в поэме «Хун шубуун» («Белая лебедь») изображает супружеской парой небо и степь, так, в ее образном представлении родная степь засватана небом: Огторгойн үндэрые буурал толгойгоороо тулаhан Орьёл үндэр үбгэд-уулануудаа бараалхаад, Огторгойтой хилэеэ ниилүүлжэ худа ороhон Оморюун сэнхир талаадаа мүнөө ерээд… [99, н. 53] Мифопоэтика современной бурятской поэзии 11 Представившись белоголовым сопкам, С душой, чья ноша, легкая, как дым Родного очага, пришла по детским тропкам В засватанную небом голубым Родную степь… [101, с. 72, пер. Т. Ребровой] Для поэтического стиля Г. Раднаевой характерно использование метафор, сравнений, создающих новый мир с отцом-небом, матерью-землей и их детьми: цветами, травами, деревьями, как, например, в поэме «ЗYYдэнэй дурдалга» («Пробуждение»): Yндэрэй одо мүшэдэй аадарлахань hүртэй гээшэнь – Унаhан лэ газартань гал шара сэсэгүүд мүндэлнэ. Yлгэн дайдам үүрэй толондо мансылуулаад, hүртэй гээшэнь – Yндэрэй оройтой худа оронхой, хаа ханагүй хилэеэ хуряана. [99, н. 25] Летит с непостижимой высоты Вниз звездный дождь, навеки разлучая Звезд-двойников, в прекрасные цветы Тех, кто упал на землю, превращая. И, как младенец, утренней зарей Спеленутый, мир нежно-величавый. Л. В. Бабкинова 12 И, небо породнившие с землей, До боли в сердце трогательны травы… [101, с. 37, пер. В. Евпатова] Перевод В. Евпатова содержит инверсии, которые придают поэзии Г. Раднаевой своеобразный выразительный оттенок. Строка «летит с непостижимой высоты» начинается с глагола, который подчеркивает стремительность полета звездного дождя, которым небо-отец оплодотворяет землю-мать. Существующий у бурят культ предков отражен в стихотворении Г. Раднаевой «Мунгэн хутага бэhэнhээ hугалаад». Мүнгэн хутага бэhэнhээ hугалаад Сухалтай тэнгэри сэлмэбэ. Мүнгэн hиихэнүүдээ ялас гүүлээд, Сэсэгүүд доро дохибо. Долоон hолонготой бэhэеэ тайлажа, үбгэн-тэнгэри сайлахань ха. Yнгын сэсэгүүдтэ арзаяа нэрүүлжэ, Тала-төөдэймни тухашархань ха. [102, н. 46–47] Серебряный нож свой, вынув из-за пояса, Сердитое небо перестало гневаться. Блеснув серебряными сережками, Внизу закивали цветы. Семицветную радугу-пояс свой сняв, Старец-небо чаевничать собрался. Красивым цветам, поручив Приготовление молочной водки Степь – бабушка моя принялась хлопотать. [Здесь и далее подстрочный перевод автора] Мифопоэтика современной бурятской поэзии 13 В стихотворении присутствует мотив сакрализации образов старца-неба и бабушки-степи, что свидетельствует о существующей у бурят традиции почтительного и благоговейного отношения к старикам. Я опрокинусь небом, Ты разольешься морем. Мы засинеем вместе Горизонтом вдали… Буду в тебе отражаться Будем с тобой целоваться И поплывут между нами Белые корабли! [88, с. 51] У предков бурят существовал культ земли-воды. Слияние образов воды-земли в представлениях бурят о картине мира, возможно, нашло отражение в стихотворении Н. Нимбуева, где лирический герой сравнивает себя с небом, а возлюбленную – с морем. Поэт акцентирует внимание на их эротической связи. По мнению ученого Д. Банзарова, «небо дарует душу человеку; это творческое его действие означается у монголов словом дзаяга, дзая, которое обыкновенно переводится: судьба. Но в старину оно выражало понятие, отличное от судьбы или неумолимого рока (fatum); оно означало свободную волю неба, по определению которой человек рождается на земле» [22, с. 33]. Функция неба как духовного начала особо выделена в поэзии Б. Дугарова. С данной точки зрения интересным является стихотворение «С какой-то заповедью вещей…»: С какой-то заповедью вещей ты подарил мне, небосвод, свои божественные вещи: простор земли и глуби вод. Мне жить бы зверем ясноглазым, не ведая, к чему твой дар. Но ты еще мне душу дал, еще ты дал мне – разум. [55, с. 58] Л. В. Бабкинова 14 Лирический герой – хранитель духовности, избранный небом, которому дарованы «божественные вещи» не только природы, но и космоса для их осмысления и сохранения. В контексте стихотворения «ясноглазый зверь» находится на более низком биологическом уровне, в отличие от человека. Но в целом для поэзии Б. Дугарова характерен зверь, который верен своей изначальной природе. Например, как в другом его стихотворении «Лошади»: Человек перерос, Устремленный к межзвездному краю, Дружбу старых по этой планете друзей. Понимаю собак я и птиц понимаю, ну а больше всего лошадей. Нам глядят они вслед по-земному мудры, синеоки, так глядят, словно знают что ждет их еще впереди. Будет счастлив ли путь этот звездный, высокий, Если старого друга теряем в пути? [55, с. 30] Зверь противопоставляется человечеству, изменившему природе, но, изменив природе, человечество постепенно начинает терять себя. Так, отдаляясь от своих старых друзей, лирический герой растрачивает себя и отстраняется от своих корней. Потеря старых друзей на пути к иллюзорной высоте не может дать лирическому герою ощущения счастья, так как вместе с ними он утрачивает и природное начало. Залетела синица в окошко, Холодна ей январская высь. Пусть погреется птица немножко, Только ты не гляди, отвернись. Чей-то голос – не бога ли? – просит Не глядеть на животных в упор. Почему-то они не выносят человеческий пристальный взор. [55, с. 31] Мифопоэтика современной бурятской поэзии 15 В рассматриваемом стихотворении «человеческий пристальный взор» символизирует мир «чужой», маркированный отрицательно, соответственно образ птицы является знаком мира «своего», маркированного положительно. Первый пытается «влезть» в душу чистого и невинного «своего» мира, поэтому голос бога в защиту последнего «регламентирует» человеческий взор, устремлённый на животных. Не менее обозначен у Б. Дугарова образ Вечного Синего неба как правителя мира, вечного, правосудного источника жизни в стихотворении «У истоков Кижинги»: …И старец, переживший лихолетья неуравновешенного века нашедший здесь, в истоках Кижинги, душе своей успокоенье, благословил меня на долгий путь. … И попросив у неба чашу полнолуния, Даль горизонтов окропил чистейшим лунным молоком. [53, с. 114–115] Вечное Синее небо осмыслялось кочевниками вершителем судеб, к нему обращались с просьбами и молитвами. Чаша полнолуния символизирует полную чашу счастья, благополучия и достатка у скотоводческих народов. Подношения восьми сторонам горизонта совершали для сохранения гармонии человека с космосом. Небо, по мнению монголов, видит все поступки и помыслы человека, который никогда не может укрыться от небесного правосудия; оттого монголы, чувствуя правоту, восклицали: «Небо! Ты ведай (тебе это известно!)» [22, с. 33]. Образ неба в поэзии, на наш взгляд, наделен и полномочиями бога-судьи, возможно, поэтому лирическая героиня Раднаевой в поэме «Огонь в очаге» обращается к небу с мольбой-заклинанием о счастье для всего человечества. «О, небо! Не оставь нас без надежды…» [98, с. 143, пер. В. Евпатова]. 16 Л. В. Бабкинова Образ Вечного Синего неба не только дарует мир и счастье на земле, к нему обращаются и с конкретными просьбами, например перед охотой. Первые молитвы прапредка-охотника были обращены к небу. И, трубку сунув в щель сухого пня – Дымящуюся, небу стал молиться, Прося себе безоблачного дня И чтобы шли навстречу зверь и птица. [98, с. 121, пер. В. Евпатова] Охранная функция неба тесно связана с обрядовыми действиями: На гору, как на синий небосклон, Восходят предки – каждый погружен В задумчивость и каждый – с тяжкой ношей. Они с мольбой возводят в небо взгляд, Как будто беды отвести желая, И падают ниц, землю обнимая, Как будто заслонить ее хотят… [98, с. 126, пер. В. Евпатова] Лирическая героиня видит сон, в котором предки восходят на гору для совершения обряда. Автор не случайно прибегает к сравнению горы с небом, так как на поздних этапах развития мифологического сознания бурят происходит слияние культа Неба с культом гор. По мнению исследователя Л. Л. Абаевой, слияние культа Неба с культом гор было связано с общностью медитативных функций Неба и гор. «Культ Неба передает культу гор и некоторые свои функции – защиту людей от злых духов, болезней и смерти, покровительство роду и др. Данные функции связывались не столько с образом Вечного Синего неба, сколько с персонифицированными тэнгриями, каждый из которых имел свою конкретную функцию (охранную и т. д.). При этом основная часть тэнгриев, относящихся к родовым верованиям и культам конкретных этнических групп бурят, превратилась в духов – «хозяев» местности Мифопоэтика современной бурятской поэзии 17 (преимущественно гор), покровителей и защитников определенного рода» [1, с. 53]. Лирическая героиня поэмы «Огонь в очаге» Г. Раднаевой молится за все человечество, что характерно для буддиста: Тех четок, что она перебрала, Хватило б опоясать всю планету, Сбылось бы то, что от небес ждала – Ничто бы не грозило белу свету. [98, с. 36, пер. В. Евпатова] В стихотворении Б. Дугарова «Бабушка» лирический герой, следуя буддийским заветам своей бабушки, свято чтит ее память: …Ты всю ночь перебираешь четки, воздевая их к вискам седым, и у Неба счастья просишь кратко детям, внукам, правнукам своим… Да, тебя я часто вспоминаю, Меж двумя мирами прохожу, И ушедших лучше понимаю, И сильней живыми дорожу. Жизнь люблю. И если радость, знаю – Это по завету твоему. И добра, по-твоему желаю Другу, краю, веку самому. [55, с. 44] Мы видим, что старики Г. Раднаевой и Б. Дугарова религиозны, и их религиозность направлена на спасение мира. Необходимо отметить, что под религиозностью рассматриваемых образов подразумевается их святость как проявление полноты человечности, а не как подчиненность религиозным предписаниям. Согласно тексту памятника «Сокровенное сказание монголов» небо предопределило судьбу рода чингисидов (борджигин), и все свои победы и завоевания Чингисхан связывал с милостью и покровительством Вечного Синего неба. Культ вечного неба, суще- Л. В. Бабкинова 18 ствовавший во времена Чингисхана, приобрел социальную окраску. Так, небо еще понимается и как источник власти на земле. Д. Банзаров высказывает такую версию: «Если допустить, что Темучин принял титул Чингиса, как название бога, сына бога, каким он выдавал себя, то оказывается, что этот титул был следствием политических намерений, а не одного тщеславия» [22, с. 36]. Чингисхан – избранник, на которого пал выбор неба. У него небесное предопределение. Предком Чингисхана был Борте-Чино, родившийся по изволению Вышнего Неба. Предок Бодончар также был рожден от небесного отца. Хотелось бы подробнее остановиться на термине сульдэ. Термин сульдэ интерпретируется многими исследователями с разных точек зрения, и, прежде всего, значение слова связано с сульдэ Чингисхана. Из многочисленных интерпретаций термина нам наиболее близко мнение Б. Я. Владимирцова, считавшего, что «сульдэ – это душа, точнее одна из душ» [38]. В поэзии Н. Нимбуева сульдэ дано в историческом и мифологическом осмыслении, так, оно идентифицируется со знаменем. Бунчуки были сделаны из конских хвостов (волос) – одного из символов сульдэ: Я вспомнил о кипчакских саблях, Девятихвостом знамени монголов И о Чингиза красной бороде… [88, с. 74] Вероятно, сульдэ представало гением-хранителем не только после смерти его обладателя, но еще при жизни его. Сульдэ великого человека становится гением-хранителем своего рода, племени. Сульдэ выступает гением войска, воплощаясь в знамя – туг. Монголы приписывали особе царя нечто божественное, особенное могущество, которое хранит его поданных. Это качество царя называется сульдэ. Небо правит миром, как царь, и имеет свое сульдэ; олицетворенное Девятью Тенгриями. Чингисхан желал представить себя Хормусдой, царем неба. У него было девять воевод, вместо девяти гениев, а знамя его, состоявшее из девяти бунчуков, называлось сульдэ [22, с. 45]. Мифопоэтика современной бурятской поэзии 19 Академик Б. Ринчен полагал, что Хара сульдэ и Цаган сульдэ – реальные исторические персонажи, которых помнили в их человеческом облике борджигины XIII в., чьи имена можно восстановить на основе кропотливого изучения адресованных им гимнов. Основная функция сульдэ в военных походах – помогать захватывать города и крепости неприятеля и приносить удачу в военных походах. Был разработан специальный ритуал призывания Сульдэтенгри, который, если его точно исполняли, делал человека обладателем силы сульдэ, после чего тот уже не боялся ни войн, ни врагов, ни разбойников и т. д. Особенно важно это было для великих ханов, наследников Чингиса, каждый из которых считался обладателем своего особого сульдэ [105, с. 188–195]. Таким образом, культ сульдэ представляет собой один из элементов культа Чингисхана. Он идентифицируется со знаменем, гений которого стал божеством-защитником войска и народа в целом. Сульдэ-знамя и сульдэ-гений войска синонимы. Пока сульдэзнамя цело, народ процветает. Если же с ним что-нибудь случится, войску и народу грозят несчастья. Именно поэтому обряды освящения знамени и его бунчуков (спутников-помощников генияхранителя самого знамени) и жертвоприношения им в связи с военными походами носили устрашающий, кровавый характер, включавший даже человеческие жертвы [35]. По содержанию термин «сульдэ» однозначен с «заяа» и «хэшэг хутаг». После смерти человека сульдэ, видимо, «воплощалось» в каком-либо материальном объекте. Если знамя – гений-хранитель рода, племени символизирует сульдэ великого человека, то сульдэ людей ординарных, возможно, «находило воплощение» в черепе. Особое отношение к костям отражается в многочисленных запретах ломать кости при добыче диких зверей, особенно разбивать череп животного. Этот обычай неизменно сохраняется в ритуальной жизни: ни в коем случае не допускалось нарушение целостности костяка жертвенных животных. Все это наводит на мысль, что сакральность костяка была обусловлена представлением о воплощении в них сульдэ после смерти человека. Наиболее подходящим вместилищем представляется череп. Голова, череп окружались ореолом священности. Об особом значении головы, как заключающей в себе нечто жизненно важное, свидетельствует следующее благопожелание, которое было записано Ц. Жамцарано: Л. В. Бабкинова 20 «крепкие белые зубы свои под порогом заложи, седую голову свою потомкам оставь» [61]. Видимо, полагали, что и после смерти человека сульдэ продолжало оставаться в его черепе и оказывать влияние на окружающих. Из черепа врага приятней пить вино, когда великий хан ты сам. Но прежде надо чашу накренить, отлив святую долю небесам. Ведь волей Неба роду борджигин был дан аркан, связавший племена. На небе правят солнце и луна, а на земле – единый властелин… Он пил до дна, не оставляя зла. И во хмелю, казалось, был добрее к послам, которым снилась пиала из черепа кагана Угэдэя. [53, с. 91–92] Жизненное начало, воплощенное в черепе кагана является гением-хранителем рода борджигин, поэтому послы врага мечтали о пиале из черепа Угэдэя. Отношение к костям, как хранителям сульдэ отражено в поэзии Раднаевой [101, с. 97, пер. Т. Ребровой]: Бедренную кость баранью Бабушка подвесила к моей Колыбели, ведь хохир той ранью Зимней воспринял меня при всей Праздничной родне в подол свой темный. Буряты считали, что мозг бедренной и берцовой костей содержит жизненную силу сульдэ, поэтому берцовая кость привязывалась к колыбели младенца в обряде укладывания в колыбель. В традиционных верованиях среднеазиатских народов баран олицетворял фарт (судьбу), его считали товарищем человеческой души. В связи с этим можно предположить, что баранья лодыжка обладала этой магической силой, она считалась хранительницей Мифопоэтика современной бурятской поэзии 21 детей, ее подвешивали к колыбели, а также использовали для призывания счастья. На наш взгляд, сульдэ не случайно связано с культом Чингисхана. Известно, что предок его Бодончар был рожден от небесного света, который является одним из символов сульдэ: Говорят, праматерь наших дедов светлая Алангуа от лучей небесных понесла, что струились в юрту пред рассветом… [55, с. 79] Мать Бодончара Алангоа рассказывала сыновьям: «Но каждую ночь, бывало, через дымник юрты, в час, когда светило внутри (погасло), входит, бывало, ко мне светло-русый человек; он поглаживает мне чрево, и свет его проникает мне в чрево. А уходит так: в час, когда солнце с луной сходится, процарапываясь, уходит, словно желтый пес…» [81, с. 14]. Род чингисидов имеет предопределение от неба, и небесные лучи, от которых зачала Алангоа, выступают метафорой сульдэ. В мифологическом сознании бурят очаг традиционно считается хранителем сульдэ, вместилищем которого были угольки. «Красный раскаленный уголек» символизирует жизненную силу лирической героини: Я – негасимый жизни фитилек, Я – красный раскаленный уголек В горящем очаге послевоенном… [98, с. 12, пер. В. Евпатова] В стихотворении «Түрэhэн үдэр» («День рождения») образ уголька наделен символикой продолжения рода, неугасимой духовной силы, любви к жизни: Гасалангай далайда тамарhан бүлэдэ Найдалынь болоо hэн гүб, үгы гү. Наранай гарахые хүлеэдэг эхэдэ Гэрэл үгөө hэн гүб, үгы гү. Л. В. Бабкинова 22 Зүгөөр дайнай hүүлээр түлигдэhэн Гуламтынгаа галай улан согби. Зоболонгой нулимса хатааха гэhэн Гансаардаhан дуранай захирhан хүсэнби. Тиимэл хадаа гуламтынгаа галhаа Түмэн мүшэдтэ гэрэл үгэнэб. Тиимэл хадаа түрэhэн үдэрhөө Тэмсэхэ, дуулаха зориг дууданаб. [97, н . 52] Семье, испытавшей море страданий, Стала ли надеждой я, иль нет. Матери, ожидающей восхода солнца, Стала ли лучом я света или нет? Но в разведенном очаге послевоенном Я – красный уголек. Слезы мук и страданий забыть пытающейся Одинокой любви я – правящая сила. Если так, то свет огня очага Десяти тысячам звезд я даю. Если так, то с самого дня рождения своего к борьбе призываю. С просьбой даровать детей обращались к огню, как семейнородовому гению-хранителю. Огонь как олицетворение женского начала считался источником плодородия, богатства, а очаг представлялся хранящим и дарующим сульдэ детей и животных. Следы обряда испрашивания ребенка ярко отражены в бурятском предании о шаманке Асуйхан. По древним обычаям бурят полагалось заливать водой очаг тех, кто не имел детей. У шаманки Асуйхан не было детей, и сородичи решили погасить огонь ее очага, но это им не удалось осуществить – два уголька отскочило, огонь не потух, потому что Асуйхан день и ночь просила Заяши послать ей счастье стать матерью. Заяши, вняв ее мольбам, послал ей двух детей. В предании отскочившие угольки символизируют сульдэ этих детей. Мифопоэтика современной бурятской поэзии 23 Интерес представляет мифологическая символика сульдэ, заключенная в угольке, которая встречается в приметах бурят, записанных М. Н. Хангаловым: 1. «Если в очаге после огня сядет продолговатый уголь, буряты говорят, что приедет гость. На этот уголь ссыпают пепел; это будто бы приехавшего гостя угощают, а потом укладывают спать; сверху еще посыплют пеплом, это будто одели одеялом. Если уголь сел на «хоймор тала», за очагом, это значило будет гостья, уважаемая женщина или девица, которую нужно угостить. Если уголь сел на «барун тала», значит, гость будет уважаемый и почетный мужчина. Если уголь сел на «удэн – тала» (дверь), то гость будет бедный, который будет сидеть у двери». 2. «Одна женщина сидела и чесала волосы около очага; в это время в очаге на «хоймор тала» сел уголек; она рассердилась на то, что приедет гостья женщина, взяла севший уголек и бросила в хибур с водой. На другой день она узнала, что к ней ехала гостить ее дочь, выданная замуж, и по дороге утонула в реке» [122]. В поэме «Огонь в очаге» лирическая героиня Раднаевой радуется примете, которая обозначает скорое прибытие гостя: Вдруг в очаге, среди дыма и света Вижу стоячий смешной уголек. Радуюсь тихо Ведь это примета Значит, что гость дорогой недалек [98, с. 11, пер. В. Евпатова] Образ лирической героини вобрал в себя черты бурятской женщины, которая почитает и хранит древние обычаи и традиции своего народа. Буряты, ведущие кочевой образ жизни, были рады каждому гостю, вошедшему в их юрту, будь это дальний родственник или случайный путник. Хозяева, согласно восточному этикету, никогда не начинали разговор с расспросов, они вначале Л. В. Бабкинова 24 угощали гостя, давали отдохнуть с дороги и только после этого заводили размеренную беседу. Мотив гостеприимства пастуха – потомка кочевников звучит и в стихотворении Б. Дугарова «Праздник пастуха» [55, с. 8]: Нечаянный гость к пастуху забредет. Тайменем на солнце улыбка блеснет. Живой человек – какая отрада! Хозяин готов отдать хоть полстада За рукопожатье, глаза, разговор… Ведь, кажется, вечность один среди гор – Вдали от жилья, в нелюдимой глуши, где якам приволье, луга хороши, Где лошадь дичает и скромен ночлег. Есть праздник на пастбище. Гость. Человек. В поэзии Г. Раднаевой метафора сульдэ несет свою первоначальную функцию и контекстное содержание этнофольклорной традиции, что указывает на самобытность ее творчества. Символика сульдэ в поэзии Н. Нимбуева, Б. Дугарова имеет мифопоэтическое начало и связана главным образом с культом Чингисхана, как избранника Вечного Синего неба. Таким образом, символами сульдэ – «жизненного начала» в поэзии данных авторов выступают луч света (сияние), уголек, волосы, кость, череп. Дар неба у Б. Дугарова является одним из составных функций этого образа: О лунный камень – светлая слеза полуденной земли и океана. Тебя мне подарили небеса на память о просторах Индостана. [55, с. 108] Лунный камень подарен лирическому герою небесами, поэтому он то греет ему душу «грез восточных лунным сияньем», то в свеченье его изнутри возникает Тадж-Махал при лунном свете. К небу обращались все социальные слои, но чаще всех это делали шаманы, как в стихотворении Б. Дугарова «Баргуджин Тукум»: Мифопоэтика современной бурятской поэзии 25 …Под землею прошел долгий гул. Закачались тревожно деревья. И в просвете столетий сверкнул, Словно луч, лик Бурятии древней. Над долиной метался костер. Пахли небом могучие травы. И вели хоровод величавый Все вершины заоблачных гор. И с клокочущим бубном в руке Ясновидец – лицом к поднебесью – На гортанном степном языке Пел мою золотую прапесню. [58, с. 35] С первых строк стихотворения создается мифологизированная картина мира. Природные объекты правремени гиперболизируются: травы являются могучими, хоровод величавый (ехор) вокруг костра водят силуэты заоблачных гор. Картину мира древней Бурятии в стихотворении моделирует и архетипическая ситуация шаманского песнопения, для исполнения которого необходим был главный атрибут шамана – его бубен. Во время песнопения ясновидец обращался к небесной выси, в пространстве которой находились тенгрии. Безусловно, ехор в рассматриваемом стихотворении трансформирован, но его смысл, на наш взгляд, сохраняется. В связи с вышеизложенным, любопытным представляется мнение Д. С. Дугарова о смысле танца ехор: «В пути следования на небо шаман на бубне – маралухе согоо (hогоон) должен был преодолевать множество различных препятствий и козней злых духов. Поэтому буряты своим магическим танцем с его припевными словами-заклинаниями помогали своему посланцу – шамануходатаю, «подталкивая» его ездовую маралуху вверх. И таким образом, весь смысл танца еохор заключается в том, что оживленный бубен – марал или конные трости шамана, безоговорочно подчиняясь магической силе танца и его припевных заклинательных слов, постепенно ускоряя свое движение, устремлялись вверх, унося шамана. Ведь за предельно короткое время он должен был проделать на своем бубне огромный по длительности путь – дос- Л. В. Бабкинова 26 тигнуть седьмого, восьмого и девятого неба, побывать на звездах, луне и солнце, встретиться с богами и благополучно возвратиться обратно на землю» [59, с. 98]. В шаманской мифологии продолжало сохраняться представление о небе как о верховном неантропоморфном божественном начале. В то же время дуалистическая структура небожителей и их антропоморфизация получила дальнейшее развитие. Образ неба является одним из главных образов шаманской мифологии. Об этом свидетельствует Д. Банзаров, поясняя, что монголами выше всех божеств поставлено небо, а второстепенные боги суть только орудия его воли, или различные его силы, которое оно употребляет для разных целей, и которые народ олицетворил в виде особых существ [22, с. 35]. Интерес представляет образ неба как образ богов и место их обитания в поэзии Г. Раднаевой и Б. Дугарова. Лирический герой Дугарова в стихотворении «Когда мне не хватает неба…» грустит о прошлом, в котором бытовали древние представления бурят о небе как об отце, дарующем душу: Когда мне не хватает неба, оно нисходит в виде снега С небес на будничную сушу И тишиной объемлет душу. И слышу ухом обостренным, как облако скользит над склоном как оживает на опушке песнь прошлогодняя кукушки. И голоса свои сказанья мне подают из мирозданья, и на коне крылатом белом летит Гэсэр к земным пределам… [58, с. 98] Для того чтобы душа оставалась спокойной, «небо нисходит в виде снега», в данном контексте образ снега наделен функцией медиатора, посредника между прошлым и настоящим, небом и землей. Образ неба символизирует прошлое, мир предков, образ Мифопоэтика современной бурятской поэзии 27 земли – настоящее, ныне живущее поколение. Через образы неба и земли в стихотворении представлено традиционное соотношение верха и низа. Интересна символика белого цвета, который несет традиционное позитивное начало в окружающем мире (все доброе, светлое, сакральное, счастливое). Белый цвет небесного крылатого коня Гэсэра символизирует доброе начало в бинарной оппозиции белое / черное, соотносящейся с оппозицией хорошее / плохое и имеет сакральное значение. Приметы циклического времени содержатся в «круге едином», – в который входят «и блики дня, и предков тени, // и смертный час, и миг рожденья». Связь времен и поколений реализуется через образы неба, Гэсэра, лирического героя. В поэме «Огонь в очаге» Г. Раднаева трактует образ тэнгри следующим образом: «Пытаясь все постичь // своим умом, // подумала я как-то: если боги // живут на небе где-то там… седьмом… // то не к земле ли все ведут дороги». А. Я. Гуревич рассматривает древние представления о седьмом небе в рамках концепции мирового дерева. Он определяет мировое дерево «как главнейшее средство организации мифологического пространства: с ним в более поздний период увязывается трихотомическое членение мирового пространства. В более поздней шаманской мифологии все эти миры конкретизируются, появляются понятия о трех, семи и девяти небесах, о божествах и духах, особых категориях духов, обитающих в земном настоящем мире» [43]. В поэзии Г. Раднаевой наблюдается синтез шаманских мифологических образов и буддийских понятий: Всю ночь, на помощь тэнгри призывая, Молитвенно перебирая четки, О нашем счастье бабушка просила Внимательных, заботливых заянов, Мечтая о своем перерожденье… [98, с. 149, пер. В. Евпатова] Бабушка, призывая тэнгри и молясь заянам, что, несомненно, является характерным для шаманизма, перебирает буддийские Л. В. Бабкинова 28 четки (108 зерен четок символизируют 108 томов буддийского сочинения Ганджур) и мечтает о своем перерождении, согласно буддийскому учению. Гроза, как одна из стихий, не щадит трон Хан-Хурмаса в поэме Раднаевой «Зүүдэнэй дурдалга» («Пробуждение»): Тэнгэриин хормойе таhа сабшажа, шуhан үнгөөр улайлгаад, hархаг сагаан далбагатай үүлэн онгосонууд дээрэм тамарна. Ташуур-сахилгаанhаа Хаан-Хурмастын үндэр шэрээ шэшэрээд, hүн сагаан аадар адхаржа, хүлэг горхонууд уяагаа таhална. [99, с. 23] Вдруг горизонты вокруг забурлили, Вдруг показались вдали И, парусами белея, поплыли Облачные корабли. Реки, как кони, летят в даль степную, Всюду бушует гроза, Мифопоэтика современной бурятской поэзии 29 Молнией, словно кнутом, полосуя Трон бога Хан-Хурмаса. [101, с. 34, пер. В. Евпатова]. Д. Банзаров считал, что Хормуста у монголов не только царь неба, но и эквивалент понятия Вечное Синее небо. В бурятской мифологии Хан Хурмас (Хормуста хан) имеет троих сыновей: Заса Шухур аха, Мэргэн Тугултура и Эрхэ-Бэлигтэ. На голове его шлем в виде белой шапки, лучезарной как звезда. Ездит он верхом на темно-гнедом коне величиной с гору. С Ханом Хурмасом связан ряд сюжетных линий в героическом эпосе бурят «Абай Гэсэр». Он борется с Атай Улан тэнгри, главой злых восточных тэнгри. Атрибутом Хухэдэй-Мэргена (бога грома) являются стрелы (молнии). Баир Дугаров, возможно, имеет в виду именно такую стрелу-молнию в стихотворении « Безмолвные миры ушедших поколений…»: Безмолвные миры ушедших поколений Травою поросли, травой забвенья. И предков дух, восставши из могил Мне молнии кусочек отломил И пальцы обжигающим пером Я понял: мать мне – степь, отец мой – гром… [58, с. 15] Происходит трансформация мифологических образов Неба и Земли: Небо – отец мой – гром. Земля – мать мне – степь. Лирический герой сожалеет о забытом мире предков. Об утраченном мире прошлого повествуют следующие строки: «предков дух, восставши из могил, мне молнии кусочек отломил». Возможно, здесь трансформирован культ будалов (молний, посланных на 30 Л. В. Бабкинова землю Хухэдэй-Мэргеном в виде будалов, к которым относят каменные орудия древних). По преданию бурят, приведенному М. Н. Хангаловым, Хухэдэй-Мэрген относится к западным добрым тэнгриям. Прежде он был земным человеком, взят на небо живым как меткий стрелок и хороший охотник. На небе его сделали хранителем грома – ящика с камнями. Гром он производит только по распоряжению богов. Во время грозы он кидает на землю камни, чтобы поражать злых духов и грешных людей. На наш взгляд, Дугаров трансформировал данный миф, и поэтому кусочек молнии отломил лирическому герою дух предков, как одному из достойных продолжателей и хранителей их традиционного мира. Дух предков выбрал поэта в качестве медиатора между ушедшим миром и современным, на него возложена ответственная миссия – поведать миру о «безмолвных мирах ушедших поколений». Таким образом, если в поэзии Нимбуева образ неба наделен только функцией мужского начала, то в творчестве Г. Раднаевой, Б. Дугарова образ неба выражен во всех своих традиционных для монгольской мифологии аспектах: как мужское начало, высшее божество, место обитания богов и сами боги. В бурятской поэзии вечный образ Неба наделен национальным колоритом, при этом особо актуализированы древние представления бурят о сакральном Тэнгри. Архетип земли является одним из традиционных художественных образов в бурятской поэзии. Земля в поэзии предстает как в образе девочки, так и в образах матери и бабушки. «Этуген-эхе» («мать-земля»), в мифах монголов обожествленная земля, неперсонифицированное божество земли. Этуген составляет пару с неперсонифицированным небесным божеством или обожествленным небом; от этого космического брака рождается все сущее. Этуген – воплощение земли как плодородящего женского чрева. Постепенно Этуген отождествляется с землей как частью мироздания. У монголов земля была одним из главных божеств, ей приносили в жертву молоко, кумыс и чай; умоляли ее о плодородии почвы, почитали источником сокровищ и называли ее золотой (монгольское выражение altan delekey – «золотая вселенная», соответ- Мифопоэтика современной бурятской поэзии 31 ствует русскому «мать – земля»). В древней бурятской мифологии земля олицетворялась в образе праматери всех людей (үлгэн дэлхэй – эхэмнай), а небо – в образе праотца. Земля имеет форму диска или квадрата, углы которого соответствуют четырем сторонам света, и покоится на брюхе гигантского водяного животного – черепахи или лягушки (Алтан Мелхий «золотая лягушка»), лапы которого соответствуют сторонам света. Иногда водяное животное держит на себе мировую гору. Не случайно, Раднаева, на наш взгляд, сравнивает черепаху с горой в поэме «ЗYYдэнэй дурдалга» («Пробуждение»): Хадын шэнээн шулуун мэлхэй урдаhаам гэтээд зогсошоно – Хараа муутай нюдэд соонь галаб сагууд hүнэнэ. [99, н. 23] Смотрит в упор на меня черепаха С гору величиной. В тусклых глазах, где ни света, ни страха, Тысячелетья – встают ли из праха? [101, с. 34–35, пер. В. Евпатова]. Образ черепахи встречается и в эпосе «Абай Гэсэр Богдо Хан»: «Богиня-мать решает сделать землю и небо и, сотворив дикую утку, пускает ее на дно моря. Утка возвращается, неся в своем клюве глину со дна моря. Богиня-мать, расплющив глину, ставит на воду, но она уплывает. Тогда берет черепаху – заян (мэлхэй заяан) с четырьмя крепкими ногами и кладет плоскую землю на нее. Черепаха встала, упершись своими крепкими ногами, и с тех пор держит землю» [36, с. 45]. Л. В. Бабкинова 32 Почтительное отношение к матери-земле восходит к самому Будде Шакьямуни. В танкописи правая рука Будды Шакьямуни обычно изображается в жесте «бхумиспарша» – прикосновение к земле [50, с. 5–6]. Нимбуев в своем стихотворении «Осень в еравнинских лесах» изображает жизнь предков, которая была века назад: И в прозрачной тиши над ложбинами стойбищ былых слышу я голоса неувиденных предков своих. Оживают они, словно я вызвать смог представление света, словно говор людской, век назад отзвучавший, возвращают распадки хребтов: смех гарцующих в седлах парней, гул овечьих отар, звон чугунных стремян, крик детей у задымленных юрт, шум матерчатых легких гутулов. [89, с. 54] У бурят было принято почтительно относиться к Земле, как к живому существу. О бережном и уважительном отношении к Земле как Матери-прародительнице свидетельствует и форма национальной обуви. Предбайкальские буряты носили унты (годоhон), носок которых был приподнят вверх. У забайкальских бурят такая обувь называлась гутал. Форма закругленного или приподнятого носка обуви не могла повредить плодородную землю, поскольку они также были «матерчатые легкие» как подчеркивает поэт. Поэзия Нимбуева изобилует звуками, музыкой, которые присутствуют в национальной картине мира, в панораме жизни кочевников, как, например, в рассматриваемом стихотворении «Осень в еравнинских лесах». Пребывание лирического героя в абсолютной тишине отождествимо с медитацией, благодаря которой усиливается его слуховое ощущение и восприятие времени – «слышу я голоса неувиденных предков своих». Поэт воспроизводит в этом стихотворении звуки, которые сопровождали жизнь кочевников: Мифопоэтика современной бурятской поэзии 33 «смех гарцующих в седлах парней» → «гул овечьих отар» → «звон чугунных стремян» → «крик детей», «шум матерчатых легких гутулов». Национальная картина мира, таким образом, в поэзии Нимбуева представлена во всей ее полноте. Образ земли-страдалицы, мудрой, выдержанной, способной вынести все невзгоды судьбы предстает в стихотворении Г. Раднаевой «Альган соом газар»: Түмэр баханануудые үбсүүндэш зоогоод, ордонуудые бодхооно, хүндэ бэшэ гү, юундэ ёолоногүй – дуугай зандаабши? Тэниижэ хэбтэhэн нюргыеш хахалаад, таряа тарина, хэтэдээ дуугай, тэсэхээр зэhэнги, юундэ хэбтэнэбши? [103, н. 19] Железные столбы, в грудь твою воткнув, Дворцы поднимают Не тяжело ли тебе, почему же не стонешь, Все молчишь, как обычно? Расправленную спину твою распахав, Сеют зерно, Почему лежишь молча, все выносишь? Земля изображается у Г. Раднаевой и в образе женщиныкрестьянки, презирающей «рукотворный мир» и его представителей в стихотворении «Печеную картошку у костра…»: …И тут сама Земля расхохоталась: «От шелухи картофельной – волдырь, а уж туда же: с топором и сетью ко мне, чтоб обратить меня в пустырь на горе вновь идущему столетью…» [100, с. 26, пер. Т. Ребровой] Образ земли-матери в поэзии Г. Раднаевой рисуется в разных ипостасях, в одной из которых она является, например, «беременной невесткою». Небо после родов вливает ей в рот припасенную Л. В. Бабкинова 34 водицу. Земля, как заботливая мать, беспокоится о судьбе подснежника, учит колыбельной песне птицу. Пример отождествления земли и матери, тесно связан с мотивом очага, материнства, продолжения рода. Последние строфы – это философские размышления о вечном круговороте, как в природе, так и в жизни. Беременной невесткою, с улыбкой, Земля разводит молча в очаге Огонь луны И смотрит в пламень зыбкий, на пепел облаков на кочерге. Она, томясь, прислушалась к себе. Ну вот уж корни вздрагивают в чреве. Пора уже подумать о судьбе подснежника на мартовском сугреве. И ветерок, и стук дождя о сруб, и даже боль с тоскою в волчьем вое срывается, как заклинанье, с губ: не подведи же и живи, живое. И после родов небо только в рот вольет ей припасенную водицу, как песне колыбельной у ворот она уж учит серенькую птицу. [100, с. 72, пер. Т. Ребровой] В стихотворении «Рождение планеты» лирическая героиня Раднаевой чувствует себя матерью планеты: сначала она рожает жаворонка, который ассоциируется с душой, затем рожает огород, который уже является символом плодородия и ассоциируется с юнговским архетипом матери. Родной хотон героиня рожает с горами и тайгою, и это, по нашему мнению, связано с культом гор и тайги, которые имеют своих эжинов. Без своих истоков человек как «одинокий смерч», лирической героине «славнее тот», кто верен им. Мифопоэтика современной бурятской поэзии 35 Как ночью меня мучает тоска! Как будто смертью под опекой ночи Разрушена планета до песка, А я помочь ей не имею мочи. Но на заре с надеждой и терпеньем Смотрю, ну как рожаю вновь и вновь И жаворонка со свирельным пеньем, и огород, где вызреет морковь, родной хотон с горами и тайгою. И для меня славнее всех лишь тот, Кто почитает землю дорогою Настолько, что за Родину умрет… [100, с. 46, пер. Т. Ребровой] Лирическая героиня Раднаевой ощущает себя матерью планеты в стихотворении «Дэлгүүрэй шууяанhаа гэртээ яаранаб»: Дэлгүүрэй шууяанhаа гэртээ яаранаб, Тэбэринхэйб бүмбэгэдэл глобусоо. Дүмүүхэн гараараа дэлхэйе даанхайб, Дуулана сэдьхэлни жаргалдаа. Глобусоо мэтэр үхибүүндээ бэлэглэнэб, Таhалгадамнай баяр мүндэлнэ. Глобустайнь басагаяа дээрэ үргэнэб, Таамаг ерээдүйгөө энхэрэн. [99, н. 7] Спеша с базара вечером домой, Купила глобус, как мне дочь велела. Притих в моих объятьях Шар Земной. И вдруг я колыбельную запела. Опять гляжу на глобус безутешно, А дочь смеется – ей неведом страх, Как осторожно подыму и нежно Свое дитя с планетою в руках! [100, с. 45, пер. Т. Ребровой] 36 Л. В. Бабкинова С архетипом матери ассоциируются такие качества лирической героини, как ее забота, стремление оградить всех от бед: «Спеша с базара вечером домой,/ Купила глобус, как мне дочь велела». Вечер традиционно отождествляется с закатом жизни, базар – с хаосом. Шар земной как ребенок притих в объятьях лирической героини, которая, стремясь успокоить мир и сделать его гармоничным, запела колыбельную. Рассмотрим следующее стихотворение Г. Раднаевой «Нарайлгын байшангай дэргэдэ»: Yхибүүн түрэжэ, огторгойдо нэгэ мyшэн нэмээд, Дэлгүүрэй наймаанhаа баглаа болгон сэсэг суглуулнаб. Yреэл үгын hайханиие hунгажа шүлэглэн шэбшээд, Долоон үнгын hолонгодол сэсэгүүдэй жаргал танинаб. Сэсэгэй дэльбэhээ альгандам гэнтэ унаhан нюлмасан Золтой бүлэдэ жаргал асарhан баяр гү? «Али сэсэг ореоhон газетэ соохи зураг сооhоо Алуулhан эхынгээ сээжэдэ нэнгэhэн нялхын нюлмасан гү?» Дүлэн сооhоо гараа hарбайhан нялхын нюлмасые Аршаха, хатааха аргагүй hаа альган юундээ туhатайб? Мифопоэтика современной бурятской поэзии Дүлии, hохор үхэлтэй хоргодолдоhон хариин хүүгэдые Абархагyй hаа, эхэнэр заяамни хэндээ хэрэгтэйб? [97, н. 27] Спеша в роддом купила я цветы И завернула в свежую газету. Вдруг пламя сквозь газетные листы Рванулось, осветив собой планету. Из копоти, из дыма и огня, Оттуда, где штампуют похоронки, Пытались дотянуться до меня Израненные детские ручонки. По сердцу полоснула, как ножом, Та трещина, что мир наш разделила. Как получилось то, что о чужом Ребенке на мгновенье я забыла! Мне кажется, что я на берегу Стою и зря тяну за море руки. Ведь вытереть ребенку не могу Я слезы далеко не детской муки. Во сколько ж оценили мою суть Как женщины и матери, коль дети Со смертью в прятки прежде, чем уснуть, Должны сыграть на голубой планете. [100, с. 6–7, пер. Т. Ребровой] 37 38 Л. В. Бабкинова Цветы дарят при рождении человека, с ними связаны все позитивные и счастливые моменты в жизни, но цветы также наделены и траурной символикой, их подносят покойному при прощании с ним, а также устилая ими дорогу умершему. Цветы, завернутые в газету, больше ассоциируются с идеей временности и хрупкости. Так, цветы, завернутые в газету, охваченную пламенем, являются маркером жертвоприношения. Пламя, которое рванулось сквозь газетные листы, имеет очистительную функцию. Свет пламени осветил собой планету, показав ее боль – страдания самых невинных ее обитателей – детей. Из копоти, из дыма и огня (хаоса, войны и ада) пытались дотянуться до героини израненные детские ручонки. «Существует устойчивая фольклорная традиция, в которой дыму приписывают благотворную силу. Он, как полагают, обладает магической способностью предотвращать несчастья, нависшие над людьми, животными и растениями. С другой стороны, столб дыма является символом противоположения долина – гора, т. е. отношения между землей и небом, указывал путь через огонь к спасению» [66, с. 189] Таким образом, в подтексте стихотворения дым служит символом спасения, благодаря которому «прозревает» героиня. Трещина ассоциируется с крушением мира, вселенской катастрофой. Причиной краха стала потеря духовных ценностей, отчуждение людей – экзистенциальное мироощущение. Мир разделен на две части: на страдальцев и равнодушных, вторые еще не испытали страдания. Каждый человек – целый мир. Но эти миры не сообщаются друг с другом. Общение людей поверхностно и не затрагивает глубины души, поэтому человек чувствует себя одиноким в этом мире. Лирическая героиня Раднаевой считает, что ребенка (человечество) может спасти только умение сострадать. Духовная экзальтация лирической героини, как одно из качеств архетипа матери, свидетельствует о ее женской и материнской сути. Архетип матери в предложенном Юнгом анализе проявляется в бесконечном множестве аспектов. Первыми по значимости у Юнга являются своя мать и бабушка, мачеха, теща, свекровь; затем любая женщина, с которой поддерживают взаимоотношения, – например, кормилица, или воспитательница, или дальняя родственница. Затем идут те, кого можно назвать матерями в переносном смысле. К этой категории относятся богини [136]. Мифопоэтика современной бурятской поэзии 39 Характеристика архетипа матери как богини встречается в поэме Раднаевой «Огонь в очаге» в образе Сагаан Дарха: Не потому ли на заре времен Из глины предки образ изваяли Богиней Сагаан-Дарха назвали – Навеки символ материнства он. [98, с. 68, пер. В. Евпатова] Богиня Сагаан Дара эхэ (Белая Тара) в буддизме – матерьспасительница, дарующая долгую жизнь и спасение всем живым существам. Этот образ у Раднаевой служит символом материнства. В поэзии Раднаевой характеристики материнского архетипа выступают в позитивном значении добра. Образ матери-земли тесно связан с архетипом матери. В дальнейшем образ земли-матери перерастает в образ бабушки-прародительницы, близкий образу матери-богини. Г. Раднаева акцентирует внимание на том, что смерть действует под опекой ночи, утро отождествляется с зарей, рождением, жизнью. Как повивальная бабка, конец февраля Что-то колдует над каждой овцой и коровой. В старый подол свой, заштопанный ниткой суровой, Новорожденных своих принимает земля. [100, с. 76, пер. Т. Ребровой] В данном стихотворении земля уже предстает в образе старухи, которая принимает в старый подол овец и телят. Автор точно не указывает, что земля является старухой, но, известно, что у бурят, как и у других народов, новорожденных принимали старухи. Образ бабушки, принимающей новорожденного в свой подол частотен в лирике Раднаевой. Присутствует он в стихотворении «Эхэ тухай домог»: Нагаса эхын хормой дээрэ хүhөө hэндүүлхэдээ, Нялха үхибүүн эгээ түрүүшынхиеэ эхэдээ энхэрүүлдэг… [103, н. 11] Л. В. Бабкинова 40 В бабушкин подол принятый новорожденный, прежде всего, матерью своей обласкан… Встречается этот образ и в поэме Раднаевой «Огонь в очаге»: Крапивой жизни чтоб обжечься, мол, Я родилась. Круты у ветров лбы. Подолом бабушки от собственной судьбы Защищена – ей родилась в подол. [98, с. 27, пер. В. Евпатова] Бабушка обычно принимает детей в подол или в корзину с аргалом. Вспомним бурятский уреэл – благопожелание молодоженам: «Урда хормойгоо үхибүүдтэ тиирүүлжэ, хойто хормойгоо адуу малдаа гэшхүүлжэ ябаарайт» // «Передний подол пусть дети ваши топчут, на задний подол пусть скот ваш наступает». У бурят главным богатством были дети, поэтому лучшим пожеланием было пожелание иметь много детей. Если первая часть уреэла содержит духовные ценности, то вторая – материальные. Благодарить ли мне судьбу за то, Что песенным ключом во мне забила? Благословило ль дар мой тоонто, Когда послед родной землей укрыло? [98, с. 6, пер. В. Евпатова] Интересен мотив тоонто в поэме Раднаевой «Пробуждение»: Мы пять корней Тоонто своего. Как пальцев пять – у матери нас пятеро, Тех, кто огонь надежды ее спрятали От ветра, чтобы поддержать его. Одно тоонто, где пять пуповин Лежат в одном и том же месте… [101, с. 134, пер. Т. Ребровой] Наранда тэгүүлhэн ногооем, Хүйhыем хадаглаhан тоонтыем… [97, н. 69] Мифопоэтика современной бурятской поэзии 41 Траву мою, которая тянется к солнцу, Пуповину мою, которую хранит тоонто… Послед – это часть только что появившегося на свет человека. Он еще слаб и беспомощен и нуждается в целой системе охранительных мер, которые должны уберечь его и его благодать (если таковая была ему отпущена при рождении) от пока еще чужого, злого и враждебного ему мира. Захоронение последа – первое звено в цепи охранительных мер. Послед должен быть спрятан и по возможности недосягаем для злых духов. Закапывание его в землю – мать-прародительницу, женское начало всего живого, означает его возвращение в лоно матери, и одновременно связь родившегося человека с миром предков. Захоронение последа содержит много моментов, сопоставимых с захоронением умершего. Во-первых, если рассматривать локативный код обряда, то можно отметить, что захоронение последа в большинстве случаев связывалось с такими объектами, как кровать и хоймор, который располагался на севере, западе, северо-западе жилища, которые, как известно, считались сторонами смерти: в бурятской традиции на северо-западе находится мир умерших. Г. Р. Галдановой отмечен обычай оставлять умерших в северной части юрты (хоймор талада): «Словом «хоймор»… маркируется мир умерших, место оставления умершего» [39, с. 88]. …И потому я солнце каждый раз На запад провожаю чуть не в муке И, воскресая утром в должный час, От радости чуть не пускаюсь в пляс, Протягивая страстно к солнцу руки. [98,с. 117, пер. В. Евпатова] Лирическая героиня, размышляя о смерти, называет «верным другом час последний свой». Солнце заходит на западе, поэтому запад отождествляется с угасанием жизни. …И земля приняла в свое лоно прах воителей, добрых и злых. [55, с. 84] Л. В. Бабкинова 42 Захоронение необходимо для того, чтобы обеспечить новое рождение, сохранить отношения непрерывного обмена между предками и потомками, нелюдьми и людьми, жизнью и смертью, независимо от того, каким был человек, добрым или злым. Деревья, кланяйтесь. Вся кровь Моя пойдет на ваши гроздья, Когда землею буду вновь. [100, с. 58] Уход из жизни и возвращение к земле, связаны с продолжением жизни природы. Сколько лет мне – миллион иль тыща? Превращались в прах мои сердца Сколько раз? И сколько раз кладбища Мной свои вскормили деревца? [100, с. 66] В поэзии Г. Раднаевой наиболее четко обозначена параллель шаманских и буддийских мифологических традиций. В основе шаманского мировоззрения лежит идея возвращения человека в землю после смерти, а в основе буддийского – закон кармы, вследствие которого осуществляется цепь перерождений человека, и только после выхода из круга сансары происходит достижение просветления. Круговорот в природе, смена одного явления другим показаны Г. Раднаевой в стихотворении «Газартай нэгэ хүйhэтэй аад…»: Газартай нэгэ хүйhэтэй аад, Ходоржо хаанашье ошохогүйлши. Газартай нэгэ эрьесэтэй аад, Хүнэй нүгэлhөө аршалагдахагүлши. [96, н. 14] Мифопоэтика современной бурятской поэзии 43 У меня ведь с землею одна пуповина. Никуда от земли не уйду. И вращенье, и время одно, и судьбина. Разделю с нею грех и беду… [100, с. 25, пер. Т. Ребровой] В поэме «Пробуждение», по-нашему мнению, проведена параллель между лирической героиней и родной землей, идея слитности, связи, которая восходит и к захороненному последу, не случайно, берется образ пуповины, который соединяет ребенка с матерью, в данном случае, соединяет на духовном уровне лирическую героиню с матерью – землей. Я вижу, как девически юна Земля, что материнства не познала. Что муки родов – всех начал начало – Покуда не изведала она. [101, с. 26, пер. В. Евпатова] Раднаева подчеркивает женскую суть земли, хотя она еще не познала мук родов, но ей это предстоит испытать, так как главное ее предназначение – быть матерью. Наиболее архаичные представления о материнском начале в созидании, вероятно, относятся к земле. Из ее «чрева» – пещеры якобы вышли первые люди и животные, она дала жизнь деревьям и травам, поэтому так тесна связь между ними. С дерева начинается жизнь, «дыхание» огня. Ильмовое дерево, вяз или ива считались предками огня. С культом земли связаны существовавшие у кочевников с древнейших времен праздники возрождения природы (весенний) и плодородия (осенний). Древние представления о земле-матери, вероятно, долго сохранялись у западных бурят. Интересно, что обряд почитания богини-земли проводился еще в начале ХХ века. Моление совершалось только женщинами, даже мальчики не имели права проходить на территорию, где отправлялся обряд. Моление богине Итуге Л. В. Бабкинова 44 (Этуген) сопровождалось ритуалом украшения женщин цветами черемухи, женщины обнажали груди и просили Небо – Хүхэ тэнгэри «омолодить их, дать полноту и молочность грудям». Считалось, что богиня Итуга заботилась не только о людях, но и о деревьях, животных и птицах. Верили, что она дает «белой кобылице белоснежного жеребенка, черной вороне – крикливого вороненка, зеленой черемухе – сладкую черемушину» [114, с. 143–150]. Не случайно поэт сравнивает землю с женщиной, кормящей ребенка в стихотворении «Весна»: Вначале жаркий, снежный свой накид Сорвет земля, суровая чалдонка, И груди нестыдливо обнажит, Как женщина, кормящая ребенка. [88, с. 18] Строки Нимбуева «Пел бы о бурятках, коричневых как земля» ассоциируются со скульптурой Даши Намдакова «Степная Нефертити»: Будь у меня голос. Атласный, гортанный, Словно гарцующая На цыпочках сабля, Пел бы о бурятках, Коричневых, как земля, Об алых саранках, Сорванных на скаку, О пылающем солнце, запутавшемся в ковылях… Эх, Будь у меня голос! [89, с. 40] Картина мира поэта наполнена «вечными» образами монгольского мира: алыми саранками, пылающим солнцем, ковылем, лихим наездником. Поэт сожалеет об ушедшем древнем монгольском мире, том мире, в котором кочевник жил в гармонии с самим собой и Вселенной. Эту мысль подтверждают и воспоминания В. Антонова, друга поэта. Так, в статье, посвященной Н. Нимбуе- Мифопоэтика современной бурятской поэзии 45 ву, он пишет: «Будучи склонным всегда к чему-то экстраординарному, он иногда предлагал нам немыслимые по тем годам планы действия по разрешению волнующих его каких-либо вопросов. Во всяком случае, они воспринимались тогда на грани чрезмерного риска. В этом отношении не только памятным, но и где-то показательным представляется не совсем обычный разговор, состоявшийся у меня с ним в сентябре 1969 года в Москве. Намжил на полном серьезе тогда предложил мне летом либо 70-го, либо 71-го года принять участие в совместной акции, связанной с кражей его любимой девушки из молочной фермы, расположенной неподалеку от Эгиты, в местности «Хара-Шибирь». Сию операцию мы должны были осуществить ночью и, непременно на молодых и лихих жеребцах. Свой дерзкий, прямо скажем, никак не вписывающийся в дух советской эпохи план действия он мотивировал тем, что буряты – подлинные кочевники, что «кража девушек» вполне отвечала бы исконному и традиционному духу бурятмонгольского кочевничества» [6]. Обратимся к стихотворению Н. Нимбуева «Разговор с веком»: Но когда раз в году Из улуса глухого к нам в гости Приезжает столетний мой дед И, от чарки одной захмелев, Стоя песню тянуть начинает, Позабытую старую песню – Почему я слабею, Рыдания горло мне душат, А глаза набухают, Вдруг огромней от слез становясь?… [88, с. 10] Лирический герой не находит в современной цивилизации гармонии и ощущает себя чужим в ней. Он тоскует по дорогому его сердцу миру предков, поэтому песня протяжная, старинная, позабытая песня заставляет его рыдать. Это значит, что на генетическом и подсознательном уровне мир предков, так много значащий для него, пробуждает в нем культурную память. Л. В. Бабкинова 46 «Умереть бы в седле со стрелою под сердцем, как истый бурят!» …Ах, опять размечтался, Немощный интеллигент. [89, с. 50] Антитезой истого бурята – кочевника является современный немощный интеллигент. С помощью междометия в последних строках выражается сожаление лирического героя об утрате векового уклада жизни кочевника, изменения его сознания. К божествам и духам земли, гор, рек, озер, животных относят «хозяев» земли эжинов, «хозяев» рек и озер лусов, души умерших шаманов заянов. Они обычно выступают в роли эжинов. Среди эжинов наиболее крупной фигурой является Сагаан Убугун. Среди других эжинов интересен образ Баян-Хангая − хозяина тайги, рассмотренный с этнографической точки зрения в работах И. А. Манжигеева, Н. О. Шаракшиновой, Т. М. Михайлова и др. Баян-Хангай изображается в бурятской мифологии глубоким старцем. Это добрый, щедрый, богатый старик, он одаривает охотников любым зверем, который водится в тайге. Чтобы умилостивить его, охотники посвящали ему молебствия, а улигершин рассказывал героическое сказание о Гэсэре. Хозяева гор, тайги и местности расписаны в современной поэзии с разных позиций. Например, желает умилостивить духа тайги и охотник в поэме «Огонь в очаге» Г. Раднаевой: Дань, отдав медвежатиной огню, Чтоб добрый дух тайги ее отведал. Потом, представив, будто у костра Сидят безмолвно люди его рода, Их угостил, им пожелал добра − Как принято у нашего народа. [98, с. 121] Дань отдается хозяину тайги мясом убитого зверя, в данном случае медведя, для того, чтобы, отведав подношение, хозяин (эжин) тайги был милостив к нему. Охотники, кроме этого, обязательно «угощают» своих предков, выражая им свое почтение. Мифопоэтика современной бурятской поэзии 47 В другом стихотворении «Бархан-уула», Г. Раднаева отождествляет эжина забайкальского обо – Барагхана с эжином тайги Баян Хангаем. Оба эжина несут идеи добра. Лирический герой, почитая их, ощущает духовную связь со своими корнями: Гайхалаар дүүрэн орон гээд Гээhэн бодолоо бэдэржэ олоноб Хангай ехэ Баабайм гээд, Хадын хэшээл шамhаа абанаб… [97, н. 52]. Вершина Барагхана, Край полный чудес, Помогаешь мне вернуть потерянные думы, Назвав тебя – Великий Отец Хангай, Получаю силы от духа горы. В поэме «Зүүдэнэй дурдалга» («Пробуждение») приводится образ Баян Хангая, владеющего всеми дикими животными и распоряжающегося этой собственностью. Хангай Баабайм ногоон зүүдэндэ ой тайгам шууяал ха, Зүhынь тодоруулжа, унгынь олгохоор ангуудай дунда зар тарана. [99, н. 22] Уже гудит, Уже шумит тайга В зеленом сне Великого Хангая. Созвал зверей он, масти предлагая: Бери, кому какая дорога! [101, с. 32, пер. В. Евпатова] Л. В. Бабкинова 48 Лирическая героиня Раднаевой воспевает образ батора – гору Бархан, который выступает в стихотворении «Ангай мурөөр…» защитником зверей Баян Хангая. Ангай мурөөр Баян Хангайн Yгэ агнажа гараhандам – Yльгэртэм дурдуулха ан гурөөлдэнь Арьяатан бэшыень hануулхадам: Буугаа үргэлөөд Бархан уулань Баатар эрэдэл hарабшалаа. Бэhээ бэhэлhэн ташань руунь Булга, хэрмэнь hагсалзаа. [104, н. 71] По следам зверей Баян Хангая, Вышла на охоту я за словом, Воспевая в улигере его животный мир, Упоминаю и его хищников. Как мужественный батор с ружьем на плече, Гора Бархан все вокруг осматривает. А в это время соболя и белки, суетятся радостно, на опоясанном его бедре. [пер. Г. Дармаевой] Cвязь земли с хаотическими силами представлена в стихотворении Н. Нимбуева «Вхож в наше сердце изредка и дьявол…». «В метро – святилище подземном», которое, ассоциируется с хаосом и адом, лирического героя Нимбуева посещают дьявольские, разрушительные мысли о смерти, которые ведут к возникновению желания швырнуть бомбу в толпу: Мифопоэтика современной бурятской поэзии 49 В метро – святилище подземном умершего гигантского крота – мне, грустному скромняге-неудачнику, вдруг захотелось швырнуть бомбу в толпу, гудящую, как улей, у лесенок бегущих эскалатора, О, то-то было б зрелище!.. Но через миг, напуганный до смерти, нещадно колотил я лошадь мыслей за то, что завела меня в канаву. [89, с. 162] Бог находится в подсознании человека, но там же и подстерегающий его дьявол. Е. М. Мелетинский высказывает такую версию: появление земли из воды, обуздание всемирного потопа или подземных вод обычно представляются фактором космического упорядочивания, сама мать-земля иногда остается связанной с хаотическими силами, ибо поверхность земли является областью упорядоченной культуры, но внутри земли находится царство мертвых, живут различные демоны; кроме того, женское начало также иногда ассоциируется со стихией воды и с хаосом, обычно мыслится на стороне «природы», а не «культуры», особенно в условиях патриархальной идеологии [74, с. 208]. К. Г. Юнг определил подсознательные желания, несовместимые с социальными стандартами, как архетип тени. «Это некий низший уровень сознания по отношению к современному обществу, и это некто, кто хочет делать то, чего мы себе уже не позволяем. Человек подозревает в себе эту чуждую личность, когда, войдя в раж, потом оправдывает себя: «Это не я, на меня словно что-то нашло». То, что на него «нашло», − это первобытная, неконтролируемая, животная часть личности − Тень. Тень имеет свои олицетворения: когда мы кого-то ненавидим, нас на самом деле раздражают наши собственные качества, которые мы находим в другом. Называя этот аспект бессознательного Тенью, Юнг хотел не только обозначить его как нечто темное и зыбкое. Нет тени без солнца, и Л. В. Бабкинова 50 нет Тени бессознательного без света сознания. Образуя противовес сознанию, тень служит толчком внутреннего развития» [136, с. 313]. Лирический герой противится мыслям, которые могут привести к нравственному «падению», саморазрушению. Но в то же время возникшие подсознательные желания будут способствовать внутреннему развитию героя, его самосовершенствованию, так как он «напуган» их обнаружением. О буддийском мировосприятии лирического героя говорит его стремление к чистым помыслам. Мотив связи с землей влияет на желание лирической героини Раднаевой вернуться к матери-Земле, быть преданной ей после смерти в поэме «Огонь в очаге»: К земле, к земному, к людям я иду Как к высшему, непознанному чуду, Земное, землю вечно славить буду, Пока сама в нее не упаду. [98, с. 98] В стихотворении «Альгам соом газар»: Хэды ехэ шуhан – далай Хүрьhэндэш шэнгээб, – Мартаа гүш даа, али hанана гүш, Эхэ газарни? Хэды хүбүүдшни үбсүүеш тэбэреэд, Нойрсожо хэбтэнэб, – Мэдэнэ гүш даа, үеhөө үедэ, Эхэ газарни? [103, н. 18] …Сколько впиталось в твою почву кровавых морей, Забыла ли ты или помнишь, моя родная земля? Сколько сынов, грудь твою, обнимая, спят испокон веков, Знаешь ли ты, родная земля? Известно, что существует космическая связь между человеком и землей, местом, где он родился. Эта связь объясняется не просто любовью к земле и чествованием предков, а мистическим ощущением корня, глубоким чувством того, что ты вышел из почвы, ро- Мифопоэтика современной бурятской поэзии 51 дился от Земли точно так же, как Земля своей неистощимой плодовитостью рождает камни, реки, деревья и цветы. Поэтому люди ощущают принадлежность этому месту, и это чувство имеет космическую связь, более глубокую, чем семейное и родовое единство. Эта связь с землей оказывает влияние на человека, и он подпитывается от земли, отсюда бессознательное желание полежать на земле, вобрать в себя ее космические силы, тепло. Возможно, поэтому лирический герой Нимбуева мечтает «в родную степь свалиться по весне» в стихотворении «Кинуть в лужу дохлого Пегаса …»: Кинуть в лужу дохлого Пегаса, покуда грусть меж ребер не погасла, хребтом почуять: дом твой где-то рядом, рыдать о нем роженицей во сне, в родную степь свалиться по весне еще одним восторженным бурятом… [89, с. 136] В неопубликованном стихотворении Нимбуева «Кладбищенская исповедь» через землю поддерживается связь живых с умершими предками: Да, я прогнал свою возлюбленную: Она целовалась с другим. Тишина. Тебе хорошо, мать, в сырой земле. А мне-то, живому, как? Тишина. Нет, я солгал, она безвинна, это я стал Невыносимо гордым. Тишина. А помнишь, я был честным и добрым мальчуганом? Трудно мне без тебя, уж больно жизнь мудрена. Тишина. А к возлюбленной не пойду. Ведь я теперь мужчина, мать? Тишина. 52 Л. В. Бабкинова Не молчи, скажи хоть слово, не заставляй меня мучиться. Тишина. Говори, я больше не могу, мама! Тишина. А-аа-аа-а!.. Земля ближе герою, так как она досягаема, в ней можно хоронить, она выступает как посредник между умершей матерью и сыном. Сын приходит поговорить с матерью, которая лежит в матери-сырой земле. Таким образом, контакт лирического героя с собственной матерью происходит через вселенскую мать-землю. Насыщенная обращениями, восклицаниями, вопросами речь героя подчеркивает контраст с повторным рефреном, словом «тишина». В словах сына слышится обида на мать за то, что она оставила его в этом мире, в котором «уж больно жизнь мудрена» − непонятна, изворотлива, непроста, много в ней неискренности и разочарований. Мать же ушла в мир покоя, согласия, тишины: «Тебето хорошо, мать, в сырой земле. / А мне-то, живому, как?» Уход близкого человека усиливает ощущение одиночества героя, он пребывает в суетном мире, где каждый человек одинок, изолирован от внешнего мира, так как никому нет дела до «жизни» другого. Сын желает услышать совета и сочувствия матери: «Не молчи, скажи хоть слово, не заставляй / меня мучиться». Встреча и беседа с матерью не состоялись в этом мире и трагизм последней строки «А-аа-аа-аа!..» выражает глубокую скорбь героя, его крик – крик от безысходности, крик отчаяния от прерванной духовной связи с матерью. У Нимбуева земная близость между матерью и сыном не может быть заменена ничем. Солярные и лунарные образы. К солярным и лунарным образам относятся мифические предки – Солнце и Луна. Согласно традиционным представлениям бурят, Солнце и Луна почитались как супруги, «податели жизни на Земле». Солнце изображалось восемью концентрическими кругами, а Луна – девятью. Обращаясь к Солнцу, буряты говорили: «Нарани эжэн Налхан Юhэрүн хатун төөдэй, найман хүлтэй, найман хүрээтэй» − «Хозяйка Солнца Налхан Юhэрун хатун бабушка, с восемью ногами, с восемью Мифопоэтика современной бурятской поэзии 53 кругами» [61]. У полного солнца, золотой луны, у тысячи звезд выпрашивали при молении хутуг – благодать. Д. Банзаров в своей работе «Черная вера, или шаманство у монголов» указывает, что монголы к боготворению солнца пришли теми же путями, как и другие народы, но при этом, отмечает ученый, «в молитвах, в коих призывают все божества, не упоминается ни солнце, ни луна. Последнюю монголы почитали как указательницу времени и признавали ее влияние на дела людей: монголы, подобно спартанцам, выступали в поход, или начинали другие важные дела, не иначе, как в полулуние или полнолуние» [22, с. 37]. Полнолуние во многих культурах связано с удачей, счастьем. Так, все шаманские обряды совершаются в период нарастания луны, что в свою очередь объясняется народными поверьями, связанными с ростом, увеличением, благодатью, как в моральном, так и в материальном плане. У айнов существовал обычай во время полнолуния обращаться к божеству луны с подношениями, так как в это время оно благосклонно и весело: в другое время, когда месяц уменьшается, божество плачет и не слышит молитв. У истоков Кижинги Я встретил полнолунье. Год начинался кабана, мой год по лунному календарю. [53, с. 114] Кабан в китайском гороскопе является зверем завершающего, двенадцатого года цикла и символизирует благополучие, достаток. Символ чаши с древних времен является утверждением Служения. В чашу собирают дары Высших сил. Для благополучия старик совершает возлияние из чаши лунным молоком. Старец символизирует долголетие, для героя встреча с ним является знаковой, так, возможно, герой достигнет мудрости старца и придет, как и он, к своему духовному центру. Интересно, на наш взгляд, переплетение временных и возрастных периодов, имеющихся в контексте стихотворения. Так, у Баира Дугарова взаимосвязаны временные соотношения природы и человека: «истоки» − рождение; «середина Белого месяца» − зрелость; «полнолуние» − старость. Дол- 54 Л. В. Бабкинова голетие старца свидетельствует о мудро прожитой жизни. Истоки Кижинги символизируют истоки народной мудрости, которые основаны на сохранении традиций, на верности заветам предков любить мир. Поэтому «старец попросил у Неба чашу полнолунья», которая символизирует счастье и духовное богатство. Желая сохранить гармонию в космосе, он «даль горизонтов окропил чистейшим лунным молоком». «Чистейшее лунное молоко» имеет сакральную символику, указывает на чистоту помыслов и деяний старца, который окропляет им все стороны света, тем самым, пытаясь очистить и уберечь мир от зла. Праздник Белого месяца я встречаю на родине Небо ясное светится, ветки снежные трогает. На печурке дымится солнечный саламат. До земли поклониться землякам моим рад!.. [53, с. 99] Саламат является сакральной пищей, известно, что буряты использовали его в тайлганах, в обряде захоронения последа, в заговоре «зазывания души» и других бурятских обрядах. В конце зимы – начале весны, когда обычно празднуют сагаалган, саламат является одним из главных угощений и особо ценится, так как в данный период нет такого обилия молока, какое бывает летом и готовят его только по случаю праздника. На наш взгляд, поэт не случайно называет саламат солнечным, возможно, ему известен вариант мифа о солнце и луне, приведенный Н. О. Шаракшиновой: «Солнце и Луну изображают божественной парой: Солнце – муж по имени Нал Сагаан нойон, а Луна – жена – Нал Сагаан Хатан (в других вариантах эту пару называют Нал Дошкин нойон и Нал Дошкин Хатан). У них двое детей: сын Былтыргэнэ хүбүүн и дочь Тылтыргэнэ басаган. Они отличаются шаловливостью, часто проникают в юрты и дома земных людей и там начинают играть, отчего стоит треск и шум от ломающихся вещей. Чтобы утихомирить расшалившихся детей Солнца и Луны, буряты варят зөөӨхэй (саламат) и в чашках ставят на стол. Дети-невидимки, приняв угощение, якобы прекращают свои шалости» [131, с. 46]. Мнение Галдановой, что у бурят осталась вера в священность и магическую значимость белого цвета как отзвук поклонения Мифопоэтика современной бурятской поэзии 55 солнцу, свету, для нашего исследования особо значимо. Священными считались кони белой масти и молоко. Белый цвет молока предопределил его сакральность, и оно стало излюбленным жертвенным даром светлым, добрым божествам. Буряты, провожая детей в дальнюю дорогу, кропили им вслед молоком, желая белой дороги. И также брызгали молоком вслед птичьим стаям, улетающим на юг осенью, чтобы весной птицы благополучно вернулись домой [39, с. 12]. Поэма «Хун шубуун» − это разговор автора и праматери белой лебеди. Поэтому изображен в поэме Г. Раднаевой «Хун шубуун» («Белая лебедь») и данный обычай, который является одним из главных составляющих тотемной сакрализации Лебеди. − Зэлэ татан хушуурhан шубууд ниидэнэл Харыш, эжы, − гээд, хүүгэдни намаяа дуудана. Хойноhоонь удангүй арбагархан гарнуудаа даллан Шууяа табиhаар хотоной хүүгэдээр басагадни гүлдэшэнэ. − Шубуудай зада эхилээ алтай, – гээд, Нагаса эжымнай нулимсаа аршан газаашаа гарана. - Шубууншье хадаа нютагаа орхижо ядадаг юм, − гээд, Наhанайнгаа ябашаhанда гомдоhон мэтэ hанаа алдана… [99, н. 62] Мама, глянь, треугольник − так дети кричат со двора. И бежит в общестае моя детвора, И ручонками машет вослед веренице. Ну а старая мать вытрет слезы и вслед молоком Брызнет им, чтобы светлыми были их путь и дорога… [101, с. 78] Тотемических предков – лебедей также встречали молоком: Л. В. Бабкинова 56 …И каждую весну Выходили люди на берег и белым молоком встречали прилет добрых крылатых предков… [56, с. 160] Как уже отмечалось, в архаичных традициях символом солнца, солнечного света выступает белый цвет. Однако почти никогда солнце не носит эпитета «белый», обычно его называют красным (улаан наран), значит, цвета белый и красный тождественны по семантике и сводятся к понятию «солнце». С другой стороны, в таких выражениях, как «улаан наран» − «красное солнце», «улаан гал» − «красный огонь», «улаан гол» − «красная основа», т. е. жизнь, слово улаан не означает в целом цвет, а указывает на присутствие «жизненной субстанции». Вероятно, не случайно белый цвет считают не только священным, но и «лишенным жизни» (амигуй), поэтому некоторые культовые предметы приписывалось окрашивать в красный цвет, «оживлять» их. Таким образом, с солнцем связан целый ряд символов: Солнце – белый цвет – красный цвет – кровь – жизнь. На основании их можно судить о творческой (жизнетворной) функции солнца [41]. Существовал обычай – возлияние (сэржэм) – проводимый перед родами и сопровождаемый следующим обращением: «Находящаяся на солнце (наран соо – дословно «в солнце») тоненькая Гүүвэй, находящаяся на луне прекрасная Гүүвэй». Это возлияние называлось жертвоприношение Солнцу-Луне (hара наранай тахилга). Согласно преданию, девушка Гүүвэй была похищена месяцем, когда ходила за водой. В то время, когда мать ее кричала: «Где ты так долго пропадаешь, Солнце-Луна тебя забрали, что ли?» − по небу проплывал месяц. Он услышал эти слова, схватил девушку и унес к себе. Силуэт девушки на луне, держащей в одной руке ведро, а в другой – талинку, − это Гүүвэй [39]. Другие предания повествуют о том, что месяц забрал девушку к себе, потому что мачеха бранила ее и говорила: «Пусть тебя месяц уведет». Вариант мифа М. Н. Хангалова повествует о том, что Солнце, кинувшись с неба к девочке, опередило Луну и забрало девочку к Мифопоэтика современной бурятской поэзии 57 себе. Тогда Луна стала умолять Солнце отдать девочку: «Ты ходишь днем, тебе не страшно, тебе не нужна товарка, отдай ее мне!» Солнце уступило эту девочку Луне. Луна взяла ее и унесла к себе на небо. С этого времени на диске Луны стало видно черное пятно в виде человека [122]. К образу девочки, ставшей луной, обращаются многие бурятские поэты: Расскажи мне, пожалуйста, сказку, на степном языке расскажи. В каждом звуке я чувствую ласку, в каждом слове есть отсвет души. Расскажи мне о чудо-олене и о девочке, ставшей луной. Что быть может для сердца милее, чем мелодия речи родной… [55, с. 78] Нет ничего милее для сердца героя, чем мелодия речи родной, родных мифов и преданий. В пространство одного стихотворения вошли образы чудо-оленя, девочки, ставшей луной и праматери Алангуа. С этих пор над мостиком осклизлым, Над улусом, лишь народ уснет, Явится луна, и с коромыслом Девушка по ней гулять идет. [100, с. 43] Лирическая героиня Раднаевой желала в детстве вернуть на землю девушку-сиротку, которую мачеха отправила в полночь за водой, а Старая, как называет луну автор, плененная красотой девушки, решила забрать ее к себе. Лирическая героиня Раднаевой сравнивает себя с девушкойсиротой: «я живу с неустроенной, сирой душой, / И с присвоенной, кажется, долей чужой, / Будто тень той девчушки с водой – сироты, / Что на землю печально глядит с высоты, / И как сказано в 58 Л. В. Бабкинова сказке, прошла по луне…» [101, с. 152]. Героине кажется, что сиротка, которая идет по небу с коромыслом, изнемогая, от тяжелой ноши, это она сама, а ведра – ее лихая женская судьбина. Детство человека, как и девушки-сироты, это не всегда радостная пора, но и еще пора беззащитности. Сиротство в данном контексте – это одиночество человека во вселенной. Не спится мне… Луна, что смотрит в окна, Мне душу прогревает теплым светом, Мечты и думы добрые рождая, Как бабушка, что, надо мной склонившись, С глубокой лаской смотрит на меня. [100, с. 19] Согласно Н. О. Шаракшиновой луну ласково называли Алмас Сагаан hара – Алмас светлая луна, ей приписывали роль хранителя и защитника людей – hасюуhан [131, с. 42]. Эту роль луна выполняет и в поэзии Раднаевой, так, ее лирическая героиня сравнивает теплый свет луны с лаской своей бабушки. Таким образом, у Г. Раднаевой, знатока и ценителя фольклора и мифологии бурят, образ луны – один из наиболее излюбленных мифологических образов. От Солнца (Неба) и Земли берут начало первые люди. Солнце дарит «жизненное начало», и с этого момента начинаются зачатие, жизнь. Народ происходит от светила. В шаманских призываниях на Солнце и Луну указывают как на первопредков бурят – нара hара гарбалнай (происхождение наше от Солнца и Луны). Б. Ринчен комментировал подобного рода призывание так: «Народ монгольский, чей отец – золотой месяц, чья мать – золотое солнце. Солнце древний тотем монголов, считавших себя народом солнца и луны». Знаки луны, солнца и три языка пламени, соединенные вместе, в составе соенбо приобрели значение своего рода лозунга: «Да будет вечен монгольский народ, чей отец – серебряный месяц, чья мать – золотое солнце, пусть процветает он в прошлом, настоящем и будущем!» [105, с. 14–16]. Мифопоэтика современной бурятской поэзии 59 Известно, что в мифологическом сознании народов Центральной Азии и Сибири солнце обычно ассоциируется с дневной светлой половиной мира, а луна – с ночной темной. В бурятской мифологии символический комплекс о добре и зле начинается с мифологического олицетворения и антропоморфизма природных стихий. Особенно ярко он выражен в эпосе. Так, в улигере «Абай Гэсэр Богдо хан» Эхэ Ехэ Бурхан сотворила землю и создала Солнце и Луну. Солнце сказало Луне: «Я буду светить днем, пусть то, что прекрасно, чисто и священно, будет твориться днем», а Луна ответила Солнцу: «Поскольку у меня мало света, я не могу осветить и небо, и землю, потому я буду светить ночью». Говорят, что с этого времени люди начали творить добрые, хорошие дела днем, а, нечистые, плохие темной ночью. Нараниин хэлэбэ hарадаа: −Бишни туяагаараа шаража, Гэгээн сагаан үдэрнүүдые байлгахаб, hайн hайхыма, арюун сэбэрыма Гэгээн сагаан үдэр Хододоо боложо байг! – гэжэ. hаран нарандаа харюулба: −Минии туяа багахан даа, Тэнгэри газар хоёри толотхоожо шадахабэйб, Муу муухайма, хүүнhээ нюужа хэхыма hүниин харанхуйдан Хододоо хэгдэжэ байг! – гэжэ. Түүнэhээ хойшодоо hайн hайхан хэрэгүүдын Гэгээн үдэр хэдэг, Муу муухан, нюуса хэрэгүүдые hүни харанхуйда хэдэг гэжэ Амитан зон хэлсэдэгыма. [3, н. 21] Д. А. Бурчина пишет: «Мать-богиня томится в одиночестве и, спустившись на землю, лежит, сняв от жары одежду из трав, плащ из цветов (ногоон хубсаhаа, сэсэг дабхасаяа). Солнце, увидев ее нагое тело, не выдерживает, и пускает в ее материнское лоно (эхын алтан тооното) свои животворные лучи. Мать-богиня зачала Л. В. Бабкинова 60 дочь, которой, когда она рождается, дает имя Манзан Гурмэ. Таким же образом от месяца рождается дочь Маяс Хара, которая в отличие от старшей сестры имеет дурной нрав. Народ говорит, что это произошло оттого, что Манзан Гурмэ зачата ясным днем, а Маяс Хара – лунной ночью. Манзан Гурмэ была добра и приветлива, а Маяс Хара – зла и коварна. Впоследствии Манзан Гурмэ творила добрые дела, а Маяс Хара – злые» [36, с. 116]. Б. Дугаров в стихотворении «День и ночь» сравнивает день с белой юртой, ночь – с черной юртой. Белая юрта отождествляется с жизнью, черная юрта – со смертью. Возможно, здесь сказывается буддийское мировосприятие поэта – все в мире меняется. «На пространстве моем разгорается дивное солнце, смыслом жизни меня, наполняя», − говорит поэт о светиле, но пока он «собирается пропеть лучшую песню» приходит ночь. Ее он называет «безмолвьем ночным». Для его поэзии характерно использование антитез и семантических оппозиций, так, в этом стихотворении он выстраивает целую цепочку: ночь – жуть пустыни небесной – накрывает бездна – исчезаю, как дымка в тумане, − смыкаются веки. Так, актуальный смысл ночи, черной юрты как образа «умирания» выражен языковыми единицами, находящимися в семантической гармонии со словами смерть, хаос, бездна. Жизнь – солнце – песня – продленное утро – здравствуй. Солнце символизирует жизнь – «Здравствуй, жизнь – моя белая юрта». День отождествляется с жизнью, с упорядочением, с космосом. У Н. Нимбуева ночью наступает время царствования смерти и духов: «Этой ночью по тихим долинам / Кочевали куда-то на север / Тени предков моих», а утром в свои владения вступает жизнь: «А наутро у вышки / Жаворонок степной, / Горло водицей промыв / Из следов лошадиных копыт, / Полетел к облакам, / Чтобы спеть / Песню нового дня» [88, с. 42]. С лугов возвращаются девушки с косами, Облитые щедро вечерними росами. Сверкают последние солнца лучи − Умершего дня золотые мечи − И рубят, как будто светильники тушат, Тела обнаженные тех хохотушек. Мифопоэтика современной бурятской поэзии 61 А лица смуглянок как спелые дыни, Смуглянки поют голосами грудными. Протяжно и сонно им вторят цикады В тумане реки потянувшей прохлады… И вдруг с замиранием звуков последних Спускается занавес сумерек летних. [88, с. 14] О приближении ночи как времени, в котором царствуют смерть и хаос свидетельствуют «потянувшая с реки прохлада» и «замирание звуков последних». «Спускается занавес сумерек летних», то есть жизнь сменяют тишина и пустота. Сумерки, на самом деле, как и занавес, являются границей двух миров. Как жеребенок, вертится и ржет, Круг состязающихся объезжая, Полуденное солнце, заряжая Отвагою и пылом всех … [98, с. 107] Г. Раднаева, сравнивая солнце с жеребенком, на наш взгляд, дает интерпретацию древних воззрений бурят, в которых солнце представало в образе животного. Таким образом, архетип Земли, Неба, Солнца, мифологема душа «сульдэ» в бурятской поэзии несут не только определенный поэтический образ, восходящий к основному мифологическому архетипу, а целый ряд побочных образов, востребованных интертекстуальными связями мифо-фольклорных традиций. Архетип «мирового дерева». С концепцией «мирового дерева» связано начальное осмысление мира в виде семантических оппозиций: верх – низ, правое – левое, мужское – женское, прошлое – будущее, свет – тьма, смерть – жизнь, земля – небо и т. д., то есть двоичная структура мира. С ним же в более поздний период увязывается трихотомическое членение мирового пространства: крона дерева осмысляется как мир верхний, небесный, будущий; ствол – средний, земной, настоящий; корни – нижний, подземный, прошлый. А. Я. Гуревич удачно определил «мировое дерево» как «главнейшее средство организации мифологического пространства» [43, с. 54]. Л. В. Бабкинова 62 Образ мирового дерева организует, прежде всего, вертикальную структуру мира, как правило, в трихотомическом варианте (небо – земля – подземный мир). Устойчивое трехчастное деление оси явилось следствием процедуры различения Верха и Низа. На вершине дерева обычно изображаются птицы; в середине – травоядные, белки; внизу – змеи и другие хтонические существа. Верхний мир заселен богами, средний – людьми, нижний – мертвыми и хтоническими существами. Все миры, расположенные по вертикали, соединены «мировым деревом». С помощью «мирового дерева» подвергаются членению другие сферы: прошлое – настоящее – будущее, предки – нынешнее поколение – потомки (временная сфера). Обращение поэтов к архетипу «мирового дерева», по нашему мнению, отражает масштабность мифологического мышления. Через концепцию «мирового дерева» авторам удалось раскрыть свое поэтическое видение и понимание данной проблемы. Стихотворение Нимбуева «Этой ночью по тихим долинам…» великолепно делится с помощью эквивалента «мирового дерева» − «вышки высоковольтной электролинии». Четко вырисовывается временная сфера, где метафорой прошлого, предков служат «тени предков»; настоящего и ныне живущего поколения – «шум запоздалого трактора», а будущего, потомков – «жаворонок степной». Жаворонок, на наш взгляд, выступает в роли медиатора, соединяющего прошлое с будущим, например, он «горло водицей промыв из следов лошадиных копыт, полетел к облакам, чтобы спеть песню нового дня». В поэзии Намжила Нимбуева, Баира Дугарова космическая модель «мирового дерева» представлена в разных локальных вариантах, таких как «мировая гора», «древо жизни», «коновязь», в антропоморфном варианте – в образах Сагаан Убугуна и лирического героя. Концепция «мирового дерева» связана с представлениями о творении мира, дифференциации космического пространства. У пустынного дерева останавливаю коня. Здесь лохмотья прохлады спасают от жгучего дня… [55, с. 81] Мифопоэтика современной бурятской поэзии 63 Баир Дугаров отождествляет временную сферу прошлого с образом древности. Так, актуальный смысл прошлого, предков как образа «древности», «разложения», «умирания» выражен языковыми единицами, находящимися в семантической гармонии со словом «прошлое». Это слова тематических групп «древность», «разложение», «умирание», такие как «лохмотья» (прохлады), «жгучего» (дня), на «расплющенной» (кроне), на «шершавой» (коре), «морщин бредовая вязь», «полуржавые ветви» (веков коновязь). Все они относятся к дереву, как символу древности мира, давности его происхождения. В то же время это древо бессмертно, как и сам мир, и только о прожитых веках и перенесенных им страданиях свидетельствуют его морщины и расплющенная крона. У бурят особо почитались деревья, которые имели какие-либо индивидуальные особенности, например, одиноко стояли в степи, имели причудливую крону или изогнутый ствол. Баир Дугаров подчеркивает индивидуальные особенности дерева, изображая его одиноко стоящим в пустыне. Будущее имеет тесную связь с предками, корнями: «Только воздух под кроной как будто просторней и сквозь весь материк, извиваясь, проходят корни. И бессмертье, не в этом ли цепком единстве с землей, пусть неласковой трижды, но все же родной?» Воздух под кроной символизирует будущее, которое берет истоки в родовом: корнях, прошлом, земле, предках. Смысл приведенных данных в поэзии Дугарова достаточно прозрачен, что позволяет отождествить образ одинокого дерева с образом мирового древа. Образ «древа жизни» в поэзии Дугарова символизирует продолжение жизни, рода и выражен следующими значениями: − мужское начало, дающее жизнь: «Не ради нас ли из огня и влаги взметнуло древо жизни свой фонтан…» [55, с. 56]; − продолжение рода: «И с ее шагами снова продолжались в мире предки. / Древо жизни обновлялось, ввысь тянулись ветки» [55, с. 72]; − гибель одной из веток рода: «Что-то во Вселенной изменилось, С древа рода ветка обломилась. / И, оплакивая гибель ветки, сорок девять дней стонали предки» [55, с. 42]. В селенье нашем у пустого дома Стоят, тоскуя о давно минувшем, 64 Л. В. Бабкинова Пять бесполезных, старых коновязей. Пометом перелетных птиц покрыты, Как сединой, они грустят безмолвно, Столбам подобны в чем-то пограничным Меж настоящим днем и днем ушедшим. Пять сыновей отец взрастил когда-то, На свадьбах возвели пять коновязей. Все пятеро покоятся далеко От коновязей, что осиротели. А солнце каждый день встает как прежде, А руки старой матери трясутся, Очаг, газетой старой разжигая, И лунки, что давно у коновязей Копытами повыбивали кони, Как старые, незажившие раны, Не в силах время заглушить травой. [101, с. 164] Г. Раднаева использует мифологическую природу ритуала. В поэзии данного автора речь идет об обычае установления коновязного столба в день свадьбы: «Пять сыновей отец взрастил когда-то, / На свадьбах возвели пять коновязей». Автор не случайно сравнивает коновязи с пограничными столбами «меж настоящим днем и днем ушедшим», так, с их помощью подвергается членению временная сфера – настоящее – прошлое. Отголоски строгого запрета выкапывать или валить коновязный столб, если даже он пришел в ветхость и покосился, а хозяев давно нет в живых, содержат следующие строки: «Стоят, тоскуя о давно минувшем,/ Пять бесполезных, старых коновязей. / Пометом перелетных птиц покрыты, / Как сединой, они грустят безмолвно». В поэзии Намжила Нимбуева, Баира Дугарова лирический герой и Сагаан Убугун выполняют функции антропоморфной космической модели. Вспомогательным элементом выражения этих образов, как космической модели служит у поэтов маркер центра – «мировая гора». В стихотворении «Рождение звезды» Нимбуева образ пастуха отождествляется с Сагаан Убугуном. Известно несколько мест, связанных с почитанием Сагаан Убугуна. У бурят – это гора Бурин-хан, которая находится в Джи- Мифопоэтика современной бурятской поэзии 65 динском районе Бурятии, у монголов в окрестностях Улан-Батора также есть гора, связанная с его именем. Вероятно, были и более мелкие объекты, связанные с культом Сагаан Убугуна. Важнейшее свойство мифологической концепции мира воплощается в горе Сагаан Убугуна. Она объединяет небо, землю (социум), водную стихию и, вероятно, вообще нижний мир. У Нимбуева старик-пастух исчезает, и вместо него появляется звезда: Однажды в селенье ворвался старик: «Эгей! Я границу Вселенной постиг!» И вмиг испарился пастух, как дыханье. А вскоре в немыслимой звездной дали Глазам изумленной Земли Представилось новой звезды полыханье. [89, с. 100] Образ Сагаан Убугуна в восточной мифологии имеет единые корни. В Японии он раздвоился и персонифицировался уже в двух богах в числе «семи богов удачи» – Фукурокудзю и Дзюродзин. Первый олицетворяет популярность и считается самым могущественным из «семи богов удачи». Дзюродзин олицетворяет долголетие. Компоненты его имени следующие: дзю – долголетие, ро – старость, зин – человек. Дзюродзин считался воплощением звезды Южного полюса и в этом плане он очень близок божеству долголетия Шоу Сину, который в китайской мифологии является божеством долголетия, а также названием самой звезды. В образе старика-пастуха мы видим черты, которые присущи как Сагаан Убугуну, так и японскому Дзюродзину, и китайскому Шоу Сину. Этот образ выступает посредником между небом и землей, божеством и человеком. Лирический герой Дугарова отождествляет себя с Сагаан Убугуном – божеством, почитавшимся шаманистами и ламаистами Монголии, Бурятии, Калмыкии. Автор обращается к известным поэтическим образам кузнечиков, цветов, коней в стихотворении «Край, подаривший утро... » [55, с. 11]. Они помогают поэту точно выразить мысль, которую Л. В. Бабкинова 66 несет сам образ Сагаан Убугуна: Люди, кузнечики, кони дружат в моей душе. / Каждый стебель на склоне дорог мне, как женьшень. Возвращаясь к образу Сагаан Убугуна, как к образу космической модели, отметим, что кони и люди являются представителями среднего мира. На наш взгляд, Дугаров не случайно вводит мифологический образ женьшеня, тем самым он подводит нас к эпосу о Гэсэре: «Младшего из последышей, который скрывался под землей, Гэсэр нашел и тростью смахнул и вздернул заклинанием: «Ты, который под тремя слоями почвы укрывается, отныне и навечно стань ростком волшебным, избавляющим от всех болезней!» – и подземный невидимка стал всеисцеляющим женьшенем, но все так же под землей таится и с большим трудом дается людям» [37, с. 167]. Если до нас не дошел в чистом виде древний бурятский миф о культурном герое, создателе или первооткрывателе различных элементов культуры, то отдельные черты этого образа нашли свое отражение в облике разных героев-баторов героического эпоса. Так, Абай Гэсэр укротил четырех противников, называемых в тексте «чудесными последышами мира»: водную стихию, низвергающуюся с вершины, собаку с серебряными клыками, собаку с золотыми клыками и подземное чудовище и превратил их соответственно в целебный источник аршан, в серебро, в золото, в женьшень. У Дугарова женьшень не столько исцеляет от физических недугов, сколько приносит духовное исцеление: Люди, кузнечики, кони дружат в моей душе. Каждый стебель на склоне Дорог мне, как женьшень. [55, с. 11] Рассмотренный материал позволяет утверждать, что старикпастух Нимбуева и лирический герой Дугарова выступают медиаторами между природой и человеком; космосом и социумом. Обращение поэтов к архетипу «мирового дерева» отражает масштабность их мифологического мышления, самобытность авторского видения. Мифопоэтика современной бурятской поэзии 67 1.2. Тотемические образы в современной бурятской поэзии К тотемическим образам относятся пороз Буха-нойон баабай – прародитель племен булагатов и эхиритов, пестрый налим – отец эхиритов, лебедь – прародительница хоринских бурят, орел – предок ольхонских бурят. Каждый из этих образов является персонажем тотемических или генеалогических мифов бурят. Исследованиями генеалогических мифов бурят занимались Г. Н. Потанин, А. М. Позднеев, М. Н. Хангалов, А. П. Окладников. Н. О. Шаракшиновой выделены тотемические центры, связанные с тремя основными бурятскими племенами: эхирит, булагат и хори, которые локализуются вокруг Байкала и связаны с экономической жизнью бурят. По мнению ученого род занятий определил создание того или иного тотема. Так, у племени эхиритов, занимавшихся рыбной ловлей, тотемом становится налим. Булагаты, охотники и скотоводы, в качестве тотема избирают быка, хоринское племя избрало птицу лебедь, которая прилетала на лето в места их проживания – на Байкал, Еравнинское, Гусиное, Бальджин и другие озера Забайкалья [131, с. 10–11]. В основе тотемических мифов лежат представления о фантастическом сверхъестественном родстве между определенной группой людей и тотемами, т. е. видами животных и растений. Тотем оказывает покровительство над родом, племенем, народом. В мифопоэтическом сознании бурят образ Буха нойона как божественного тотемного первопредка связан с ритуальными вековыми традициями. Не случайно, на наш взгляд, стихотворение Дугарова называется «Виденье в грозу» [55, с. 24]. Слово «виденье» несет магическую смысловую нагрузку. Строки «Только что это вздрогнуло, загрохотало / там, за вставшей по-бычьи горой?» имеют мифологический контекст: Буха нойон заканчивает свое путешествие у Саянской горы. Напротив тункинского села Торы он превращается в громадную скалу, напоминающую лежащего быка с огромными рогами. Буха-нойон бабай не может допустить оск- 68 Л. В. Бабкинова вернения священных байкальских мест. Образ Байкала всегда наделен сакральностью, например, в генеалогических мифах о Буха нойоне, о прародителях хоринских бурят, о предках ольхонских бурят. Буха нойон защищает священное озеро – место локализации его потомков, куда вторгся «чужой» профанный мир: «И все мнится: неся на хребте непогоду, / бык на сушу рванет и тогда – / разнесет эти кемпинги вдребезги с ходу, / намотав на рога провода…». Дождь вызван сивым порозом для очищения оскверненных мест − «И пошел напролом по воде одичалой / все стремительней, переходя/ на громовый галоп, содрогающий скалы/ лавой волн и лавиной дождя». В противопоставлении кемпингов и Байкала активизируется целый ряд смысловых признаков: «профанноесакральное», «ничтожность-величественность». Виденье в грозу в стихотворении Дугарова служит своеобразным знаковым предостережением потомкам, как напоминание о религиозно-мифологических традициях предков, считавших Байкал своей колыбелью и поклонявшихся Буха нойону. Образы тотемических мифов встречаются в стихотворениях Дугарова «Оленный камень», «Писаницы». Изображение на могильных плитах оленя, а на писаницах лося и орла выражает веру древних людей в магическую взаимосвязь между людьми рода и их тотемом. Тесная связь рода со своей территорией, с ее животным миром осознается как кровное родство с ними. Такова материальная и психологическая почва, на которой выросли тотемические верования. В «Писаницах» соединены образы байкальских петроглифов – тотемический образ орла ольхонских бурят и шишкинских писаниц – тотемический образ лося у приленских бурят. В «Оленном камне» выделена взаимосвязь тотемического и солярного образов. Оленный камень имел значение могильного памятника, или памятника, поставленного в честь определенного умершего лица, поэтому оленные камни стояли при могилах наиболее выдающихся, самых влиятельных и сильных представителей знатных семейств. Рога оленя тянутся к небу, поэтому они могут возносить душу в небесный мир: И рога оленьи – миф нетленный – возносили к солнцу мертвых душу. [55, с. 89] Мифопоэтика современной бурятской поэзии 69 Известно, что еще в каменном веке солнце представлялось в образе живого космического существа, оленя с золотыми рогами, пробегающего за день весь небосклон, от востока на запад. По представлениям древних людей, солнце вечером умирало, а утром вновь возрождалось. Оленные камни, с изображенным на них солнечным диском должны были явиться вечным залогом возрождения душ и воскрешения мертвых вместе с солнцем к новой жизни. На вершине сердце гулко бьется. Посмотри, в сосновой полумгле – с рыжей глиной смешанное солнце – охра оживает на скале. Здесь, у первобытной галереи, озирался житель этих мест. Уж не духи ль на него смотрели, уж не знаки ль тайные небес? Стыло небо в облаках тревожных. Пасынком природы, дик и хмур, исподлобья в мир глядел художник в одеянье из звериных шкур. Человечков грузных хороводы под косым навесом орлих крыл, и лосей, и первых злаков всходы он, сопя, навеки сотворил. [55, с. 68] Интересно представлен тотемный образ лося в стихотворении «Писаницы». Первобытные философы, стремившиеся по-своему понять и осмыслить окружающий мир, столь же последовательно представляли в образе лося и верхний мир, небесную стихию, само небо, солнце и звезды. Охотники тайги поэтически образно представляли и солнце в виде животного – гигантского лося, за день пробегающего по всему небосклону и к ночи погружающегося в преисподнюю, в бесконечное подземное море. Присутствует в «Писаницах» тотемический образ орла. У всех скотоводческих народов орел занимал в религии и культе особенно почетное место: он состоял в ранге светлого небесного божества, считался добрым и могущественным покровителем человечества. «Косой навес ор- Л. В. Бабкинова 70 лих крыл» − тотем защищает и охраняет «хоровод грузных человечков» − своих потомков от бед и несчастий. Каждый год, весной, древние степняки собирались у обомшелых скальных святилищ. Здесь они праздновали пир изобилия и счастья, водили бесконечный хоровод (еохор). Ритмичные движения танца совершались по кругу, по ходу солнца. Старцы и шаманы рассказывали древние легенды и мифы, а затем рисовали на скалах свои тайные рисунки. Считалось, что наскальные рисунки и обряды будут способствовать размножению тотемного вида зверей, птиц, плодовитости людей, удаче на охоте. Рисунки выполнялись охрой, которую использовали для «оживления» древних рисунков, считая, что фигуры и на самом деле наполняются жизнью, приобретают новую силу. Дугаров приоткрывает завесу в мир древней культуры бурят, чтобы показать, что волновало предшественников много веков тому назад, когда существовало поклонение солнцу и тотемным прародителям. Образ нежного оленя – прародителя бурят не случайно, на наш взгляд, возникает в поэзии Нимбуева [89, с. 123]: Я не узнал Свое отраженье в воде: Где невзрачный застенчивый юноша Со слезящимися вечно глазами? Глядит на меня Тонкомордый, нежный олень, И рога его запрокинуты в небо. Где невзрачный застенчивый юноша Со слезящимися вечно глазами? Я сижу у таежной криницы С живою водой. Я по родине вдруг загрустил. Я приехал из города На запыленном автобусе. Мифопоэтика современной бурятской поэзии 71 Для лирического героя самоценным является осознание себя как частицы родной природы. Герой Нимбуева – юноша, «со слезящимися вечно глазами» беззащитного существа, тонко чувствующего и понимающего мир природы. Он видит мир в нечетком очертании, без «острых углов», что свойственно близоруким людям, застенчивость говорит о его тонком внутреннем мире, жертвенности. Анафора «где невзрачный застенчивый юноша» подчеркивает изменение мировоззрения лирического героя, который на родине обретает свою изначальную природу «тонкомордого нежного оленя». На наш взгляд, «запыленный автобус» − метафора города, хаоса. В космосе – «своем» мире он обретает уверенность, духовную свободу, о чем свидетельствуют рога оленя, «запрокинутые в небо». Следовательно, космосом для лирического героя является родина с «таежной криницей». Лирический герой преодолевает долгий путь к самому себе. Родина помогает ему обрести себя, сохранить свой мир, при этом, не изменив себе. Возможно, олень олицетворяет внутренний мир лирического героя, образ оленя является естественным продолжением его «я». Поэт обращается к образу оленя бессознательно, и, на наш взгляд, здесь прослеживается внутренняя связь с тотемическими мировоззрениями бурят об этом благородном животном. В поверьях бурят душа умершего может являться в образе оленя. Интерес представляет статья Л. Ш. Нимбуевой о Н. Нимбуеве, опубликованная в журнале «Вершины», в которой автор рассказывает о поездке на родину поэта: «…Затем весь кортеж двинулся в урочище Маракта, где на светлом взгорке на опушке леса есть бурятское кладбище. Проехав километров двадцать, стали подниматься к опушке леса. Вдруг из лесочка выскочила косуля песочного цвета (совсем как на картине Н. Дудко) и, вместо того, чтобы бежать от кортежа машин, проскочила между нашим автобусом и идущей в метрах четырех «Волгой» и красивыми скачками убежала вверх по открытому склону, словно хотела показаться, во всей красе… Было очень любопытно. Стали говорить, что это хозяйка горы, а я предположила, что это дух Намжила нам показался в таком облике…» [86, с. 22]. Л. В. Бабкинова 72 В бурятском литературоведении образ лебеди один из самых исследованных художественных образов. В данной работе мы рассматриваем только стихотворение «Племя хори» Дугарова. Контекст стихотворения, по нашему мнению, основывается на мифологическом материале, под которым мы рассматриваем «Сказание о Бальжан хатан» [129, с. 21], легенду из летописи Тугулдура Тобоева «Прошлая история хоринских и агинских бурят». Ушли чингисиды, А хори осталось – Живучее племя на все времена… Подтекст стихотворения «Племя хори» ассоциируется с мифологическим сюжетом данных произведений. Он обретает «второе дыхание», раскрывается через анализ этого сюжета. Мы используем термин мифологема для обозначения прасюжета. Доминирующим мифологическим мотивом стихотворения и рассматриваемого мифологического материала является «скитание» племени. Он проходит через все лиро-мифологическое время. Так появляется мифологема «странствия-скитания», которая выражается строками стихотворения: «…Оно по азийским просторам скиталось и чашу кочевий испило до дна…» и указана только одна из «чаш кочевий» − «…путь на Байкал, озаренный лучом…». Это еще один из отголосков, который отправляет нас к мифологическому сюжету. Причиной возникновения мифологемы «странствий-скитаний» стала мифологема «сюжет эротического преследования пасынка мачехой», которая появляется при начальном зарождении семейно-родовых отношений. В легенде она выражена в преследовании Дай-хун-Тайджи мачехой, в связи, с чем он берет жену Бальжан-хатан и свой народ одиннадцати хоринских родов и совершает побег. В варианте предания простейшие соотношения в космическом пространственно-временном континууме, такие, как север/юг, запад/восток изменены на север/запад. От севера (реки Онон) поданные кочуют на запад. Вследствие появления чужеземных войск они откочевывают к южной стороне Байкала на остров Ольхон. Интерес представляет, на наш взгляд, и мифологема «превращения»: «Жертвы преследования, а иногда и преследователи в Мифопоэтика современной бурятской поэзии 73 различных мифологиях превращаются в холмы, ручьи, убегают на небо, где превращаются в небесные светила» [74, с. 194]. В предании Бальжан-хатан, заранее почувствовав и предугадав погоню ханских войск, обращается то в снег, то в воду. Мифологема «жертвоприношения» варьируется в легенде и предании, так, в одном случае Бальжан хатан сама отрезает себе груди и бросает в озеро, в другом случае это делают ханские войска. Вследствие этого озеро стало называться Бальжан, и вода в нем стала целебной. В тех местах, где Бальжан-хатан делала привал и оставляла свои вещи, появлялись топонимические названия: Алтан Тушэлгэ, Алтан Тогоон, Алтан Эмээл, а город, построенный ею и сподвижниками, назван Хуандай. Поэт, на наш взгляд, отождествляет «руины столиц» с остатками этого города. Известно, что у бурят не было резкого деления на два враждующих племени, поэтому вражеских племен было несколько. Племя хори ассоциируется с космосом, а полулюди, встреча с которыми происходит на воде, хамниганы и другие – с хаотическими силами. Борьба в терминах племенной вражды конкретизирует защиту космоса от хаотических сил. Племени хори покровительствуют небесные боги в образе лебеди-праматери: И лебедь-праматерь в годину напастей потомков своих осеняла крылом. Архетип «лебеди» восходит к языческой вере в тотем. Брак Хоридоя с лебедью рассматривается как нормальная экзогамия, так как это брак с тотемом. В мифологическом аспекте это самый удачный брак, возможно, поэтому племя оказалось живучим. Почитание предков помогло сохранить ему свои «наречье» и «названье». Рассмотренные мифологемы, мифологические символы и архетип не существуют отдельно друг от друга, они неразрывны, питают друг друга. Мифологизм автора выступает как дополнение историзма, раскрывает сложную судьбу народа и личности, его пребывание во времени и пространстве, и главным образом, выражает устойчивость национальной модели. Л. В. Бабкинова 74 1.3. Этиологические образы в современной бурятской поэзии Мифологическое мироощущение характеризуется всепроникающей космологичностью. Любой элемент соотнесен с космосом и может быть выведен из него. Макрокосм и микрокосм (природа и человек) оказываются изоморфными друг другу, и человеческое тело выступает в роли идеальной модели структурирования пространственных форм (от космического до бытового пространства). Рассмотрим некоторые из традиционных отождествлений элементов микрокосма и макрокосма, такие как волосы, кожа – растения, деревья; жилы – реки, зренье (глаза) – солнце, огонь. У Баира Дугарова лирический герой мечтает о девушке, на степь похожей: Сливаясь с небом голубым вдали, как будто волосы, струились стебли. И показалось мне – в не тот ли час, – что волны трав тебя мне навевали, и линии холмов, вблизи лучась, овал лица родной обрисовали. [55, с. 55] Девушка – степь, волосы – стебли, овал лица ее – линии холмов. Поэт выходит за границы известных соотношений микро и макрокосмоса. Он создает свои соотношения, которые помогают ему выразить красоту любимой. В стихотворении Б. Дугарова «Ладони» соотношения микрокосма и макрокосма восходят к эпическим сравнениям. Употребление гипербол, к которым обращается поэт для представления макрокосма в терминах микрокосма, доказывает мифологическую природу стихотворения. Мифопоэтика современной бурятской поэзии 75 Предки нам добра желали, уходя в земной простор. И долинами меж гор их ладони проступали. И по следу гибких линий тропы шли через века, и живучей жилкой синей по камням текла река. И земля скупая эта потому и мне как дом, что она давно согрета дедовским теплом. [55, с. 13] Интерес для нашей темы представляет следующая версия об образовании горы Таряата, приведенная М. И. Тулохоновым: «Пятиглавая гора Тарята (Таряатын табан хушуун) образовалась будто бы после посещения этих мест мангадхаем, который, по улигеру, убегая от Гэсэра, поскользнулся и рукой коснулся земли. Земля под его пальцами получила форму пяти вытянутых в одну сторону гор, воспроизводящих как бы ладонь человека фантастических размеров» [115, с. 115]. В связи с вышеизложенным, отождествление макрокосма и микрокосма в стихотворении Б. Дугарова и в приведенной улигерной версии восходит к этиологическому мифу бурят. Предки уходят в «земной простор», их ладони превращаются в долины, жилы – в реки. Они оберегают потомков, живущих на этой земле, поэтому ладони предков ассоциируются с родительским теплом. Семантика ладони тождественна фразеологизму: «Альган дээрэ абаад ехэ болгоо» – «Вырастили, держа на ладони, т. е. оберегая от всего». В поэзии Г. Раднаевой ладонь традиционно служит метафорой заботы детей о родителях: Мой первый вздох как бы раздул огонь В угасшем теле бабушки, в ответ Любя меня сильней, чем дочь, ладонь Мою опорою почла на старость лет. [101, с. 123] Л. В. Бабкинова 76 В поэзии Н. Нимбуева отождествление макрокосма и микрокосма соответствует отождествлению солнца, огня с духовным прозрением: Уже никогда не встретить Того странного человека. На вечерней завьюженной улице Любопытная старушонка Изумилась какому-то юноше В темно-синих пляжных очках: -Что за странная это причуда? Ведь не видно ни зги кругом! - У меня вместо глаз – Солнца, – Ей печально ответил юноша И пошел и в толпе затерялся [88, с. 62] Сочетания «вечерняя завьюженная улица», «любопытная старушонка», «ни зги» несут значение холода, отчуждения, духовной слепоты. Им поэт противопоставляет «печального юношу в темно-синих пляжных очках». Очки защищают его от холодного бездушного мира, согревают его внутренний мир. Таким образом, отождествление макрокосма и микрокосма в поэзии Б. Дугарова, Г. Раднаевой, Н. Нимбуева свидетельствует об их мифологическом мышлении, древняя мифология является одним из главных источников поэтической образности, национального мировосприятия. Мифопоэтика современной бурятской поэзии 77 1.4. Мифологическое время в лирико-философской поэзии Категория мифологического времени характерна для архаических мифологий, но трансформированные представления об особой начальной эпохе встречаются и в высших мифологиях. В них характеристика времени может конкретизироваться как «золотой век» или, наоборот, эпоха хаоса, подлежащая упорядочению силами космоса. Модель мифологического времени как дихотомия «начальное время / эмпирическое время» имеет линейный характер, но эта модель постепенно дополняется другой, перерастает в другую – циклическую модель времени. Этому способствует ритуальное повторение событий мифологического времени, а также календарные обряды и развитие представлений об умирающих и воскресающих богах, о вечном обновлении природы. Цикличность в примитивном обществе рассматривается как такое представление о времени, которое организует жизнь коллектива посредством ритуалов. Жизнь первобытного общества, как и более развитого – земледельческого – определяется природными и биологическими циклами, регулярными повторениями биокосмических ритмов, отраженными в обрядовой практике. Соответственно этому время, «история» членится на замкнутые циклы. Время ритуала повторяет мифическое время «начала»; мифическое прошлое определяет повседневную жизнь коллектива и индивидуума. Регенерация времени осуществляется не только ритуально, но и коллективно, а также индивидуально. В мифологическом сознании существует только настоящее, однако чрезвычайно емкое: в настоящем повторяется прошлое; в будущем – настоящее. В этой теории тотальной цикличности как первобытной концепции времени Элиаде дает одну уступку линейности: он признает заложенную в цикличности идею движения вспять, в сторону «регресса, деградации» по сравнению с «началом», ритуалом. Зачастую акт космотворения призван уничтожить 78 Л. В. Бабкинова деградированный мир и воссоздать изначальный. Английский мифолог Э. Лич предложил другой, нежели круг или цикл, образ архаического чувства времени – маятник, качание между двумя полюсами: ночью и днем, жизнью и смертью. Можно добавить к этому и пару «старое» (мифическое) и «новое» (эмпирическое) время. Таким образом, получается, что в самых первых представлениях о времени и «истории» присутствует что-то вроде линейности, хотя и очень условной, легко переходящей в цикличность, как, например, в индуистской мифологии, где дихотомия жизньсмерть преобразована в сансарическую цепь смертей и рождений, образующую колесо дхармы. Этиологизм мифического повествования, как его существеннейшая характеристика, также подразумевает некую ментальность: мифическое прошлое есть «причина» ныне существующих вещей, людей и положений, а значит, из прошлого в настоящее направлен некий вектор [135, с. 171–173]. Линейное время больше характерно для христианства. Как пишет Борхес: «Христианство отрицает обратимость циклического времени, навязывает ему необратимость, поскольку отныне явленные во времени иерофании более неповторимы: Христос жил, был распят и воскрес всего один раз. Отсюда полнота мгновения, онтологизация Времени. Времени удалось быть, а это значит, что оно прекратило свое становление, преобразилось в вечность…» [34, с. 86]. Мифологическое время исследуется в поэзии Н. Нимбуева, поскольку именно у него оно представлено в полном объеме. Размышления о времени, о его быстротечности, о месте человека в меняющемся мире занимают в художественном творчестве поэта значительное место. Воплотились они в поэзии и стихах в прозе автора, где заметную роль играет характерный для произведений поэта мотив мифологического времени, ориентация на прошлое, как недавнее, так и минувшее века назад. Нимбуев стремится сохранить нравственные, культурные ценности бурятского народа, народное сознание и традиции, сформулированные в мифе как родовая память. В поэзии Н. Нимбуева представлены как линейное, так и циклическое время. Линейный характер мифологического времени в творчестве поэта присутствует в таких стихотворениях как «Легенда о времени» [89, с. 60], «Рождение звезды» [89, с. 100]. Мифопоэтика современной бурятской поэзии 79 По лесам, по степям, по пустыням Медленно-медленно катится Запряженная лосем арба. В той арбе черноглазый мальчонка, он на дудке кленовой играет. А навстречу ему выбегают дикари босоногие в шкурах, то рабы, то цари, а то подмастерья – все арбу догоняют. Но где там! Отстают, исчезают, как тени… А арба уезжает все дальше. Громыхают чуть слышно колеса, вместо спиц в них – лучи золотые. Тот мальчонка с кленовою дудкой превращается в мудрого старца, держит путь на далекую землю, где и люди, и голуби – братья. Там, где время свой бег прекращает, обращаются в яблоню чудом мудрый старец, и лось, и арба. Арба, запряженная лосем и мальчонка, находящийся в ней, являются метафорой времени. Основное пространство стихотворения – дорога. Образ дороги воплощает мысль о линейном движении. Арба медленно-медленно катится, никто не может ее догнать и остановить, как и время, отсчитанное человеку судьбой. Оно неумолимо ко всем – и к царям, и к рабам, поскольку все смертны и поэтому исчезают, как тени. В финале стихотворения мир, в котором «время свой бег прекращает, / обращаются в яблоню чудом / мудрый старец, и лось, и арба» на наш взгляд, можно интерпретировать как изображение перехода на высший уровень миропонимания. Мотив линейного времени звучит и в стихотворении «Рождение звезды». Л. В. Бабкинова 80 Жил-был простоватый пастух, – говорят, не ездивший дальше райцентра бурят. Вел странную жизнь он. Видать, оттого в округе считали блаженным его. Сидел на вершине горы. С постоянством, весьма отрешенным, следил за пространством. Однажды ворвался в селенье старик: «Эгей! Я границу Вселенной постиг!» И вмиг испарился пастух, как дыханье. А вскоре в немыслимой звездной дали глазам изумленной Земли представилось новой звезды полыханье. Поэт использует психологический параллелизм, где вершина горы соотносится с высокими помыслами, высотой духовного прозрения героя. На наш взгляд, с помощью медитаций, на которые указывают строки «с постоянством, весьма отрешенным следил за пространством» старик достиг определенного уровня духовного развития. Необходимо отметить, что в творчестве поэта доминирующей моделью мифологического времени является циклическая модель времени, которая находит отражение в мотиве инициации, в биографической жизни человека (детство, юность, зрелость, старость), в обыденной жизни, в природных явлениях, в смене времен года. Тоска по безвозвратному детству звучит во многих стихотворениях автора: О, солнечный двор Безмятежного детства! Ты крохотен, Словно штанишки с подтяжкой – из них безнадежно я вырос! [89, с. 126] Лирический герой нуждается в мировом пространстве, в то же время он тоскует по сокровенному миру безмятежного детства, который ассоциируется с защищенностью и солнечным светом. Он Мифопоэтика современной бурятской поэзии 81 сожалеет, что вынужден выйти за пределы дворика детства, вылететь из родового гнезда. Инициация в поэзии Н. Нимбуева равнозначна становлению духовной зрелости героя. Поэт трансформирует инициацию как переход от отрочества к зрелости в стихотворении «О, мама! Скажи, почему…»: О, мама! Скажи, почему Ночами в ужасных кошмарах По-прежнему кличу тебя я? Сынок мой, ты мальчик еще. О мама! Скажи почему, Мечтая о славной Чимите, Тебя я совсем забываю? Это зрелость пришла, мой сынок. [88, с. 51] Поэт использует обращения для выражения повышенной эмоциональности речи своих героев. В поэзии Н. Нимбуева обнаруживаются и другие мотивы, например, мотив кошмара. На наш взгляд, то состояние, в котором пребывает герой ночами в ужасных кошмарах, это и есть один из моментов инициации, который включает символическую временную смерть и контакт с духами. Широко распространенные в мифических культурах обряды инициации свидетельствуют о том, что переход из одной фазы жизни к другой связывается с обретением нового Я. Становление личности представляет собой в этом случае не эволюционный процесс, а процесс замены старой души новой по наступлении определенных периодов жизни. В данном случае символика временной смерти выражается в посещении царства мертвых, когда «худая душа», т. е. дух, давит его. Мотив инициации подтверждается и тем, что герой кличет на помощь мать, когда его, достигшего половой зрелости, отрывают от нее, но он еще не готов к нему. Поэтому во сне он по-прежнему кличет ее, что подтверждает его желание быть с ней, оставаться под ее защитой. Инициация и переход из одного состояния в другое подаются, таким образом, как смерть и новое рождение. Мальчик-герой умирает и вместо него появляется юноша, который, мечтая о люби- Л. В. Бабкинова 82 мой, забывает свою мать. На смену одного близкого и родного человека, от которого его отрывают по достижении зрелости, приходит необходимый ему другой человек, на этот раз любимая девушка. Лирический герой переживает момент возрастного созревания, и поэт инициацию традиционную (посвящение юноши в охотника) трансформирует в эмоционально-психологическую, такую, как влюбленность юноши. Таким образом, инициация в нимбуевской интерпретации несет черты психофизиологического перехода от детства к отрочеству, и непременным условием инициации является влюбленность лирического героя. Циклическое время находит отражение в биографической жизни человека (детство, юность, зрелость, старость) в стихотворении «Марсель Марсо» [89, с. 87]: Великий мим лицо свое листает, как белые листки календаря: мелькают маски и, кинолентой убыстряя бег, рисует нам все эры в человеке: рожденье, детство, юность, зрелость, смерть… Поэт рассуждает о мгновенности человеческой жизни, сравнивая ее с бегом киноленты, с мельканием масок Марселя Марсо. Тема краткости жизни звучит и в другом стихотворении поэта «Я чувствую…»: Я чувствую, как медленно уходит из меня время. … Звезды со страхом думают что погаснут через миллион лет. А каково людям с краткой, как выстрел, жизнью? Старая женщина с ведрами плачет у родника – себя в воде увидала. У зеркала мальчик со смехом щиплет пробившийся ус. [89, с. 65] Мифопоэтика современной бурятской поэзии 83 Н. Нимбуев гиперболизирует краткость земного существования, сравнивая жизнь еловека с выстрелом. Лирический герой Н. Нимбуева настолько остро чувствует Время, как некую субстанцию, часть самого себя, что медленный «уход» Времени воспринимается им трагически. Его старуха боится старости, конца жизни, в отличие от мальчика, у которого жизнь только начинается, так, слезы старухи служат метафорой приближающейся смерти, смех юноши – метафорой жизни. Н. Нимбуев ставит и решает нравственные проблемы о смысле жизни, назначении человека на конкретном социально-бытовом материале. В стихотворениях «Милая, каждый вечер» [89, с. 145], пятистишиях «Пьянчуга бил жену» [89, с. 177], «Дождь в городе» [89, с. 58] и других созданы разные повседневные житейские ситуации. Сближает их стремление поэта открыть глубинный смысл жизни, подлинные ее ценности. Чуть слышно, как обиженный ребенок, Вздохнуло сердце и… остановилось. Где мудрый старый часовщик С волшебной лупою на лбу? Лишь ветра свист в пустынном переулке И крик грудной, надрывный за углом: «Эй, пирожки горячие кому?» [89, с. 95] Житейские детали сугубо реалистичны, но несут философский смысл: смерть у Нимбуева закономерна в общем круге бытия: человек умер, а жизнь продолжается в ее бытовых обыденных проявлениях. Милая, каждый вечер ты будешь ждать меня с моими домашними тапочками и сообщать, что сегодня убито на столько-то мух больше, чем вчера… Л. В. Бабкинова 84 И все вечера будут так похожи друг на друга, что если сложить их стопочкой, то они все совпадут, как новенькая колода карт, их можно будет тасовать как угодно… Дом, мухи, шлепанцы в данном стихотворении являются приметами бытового циклического времени, выделенного М. М. Бахтиным, в котором «изо дня в день повторяются те же бытовые действия, те же темы разговоров, те же слова и т. д.» [28, с. 396]. Пьянчуга бил жену Она лежала, Вспоминая Тот соловьиный майский вечер И первый поцелуй. У Нимбуева настоящее ассоциируется с негативными сторонами жизни, такими как жестокость, зло, деградация, а прошлое с позитивными: любовью, нежностью, добром. Для лирики поэта характерна взаимосвязь природного и рукотворного: Упали первые капли, И улица распустилась цветами: Пестрые женские зонтики По тротуарам плывут Как по осенней канаве Опавшие лепестки. [89, с. 177] Поэт сравнивает женские зонтики с опавшими лепестками, плывущими по осенней канаве, которая понимается как метафора разрушения земли, ее женского материнского начала, поскольку в ней ничто не растет. Осенняя канава выступает и как один из проводников, так, она уносит опавшие лепестки – не зародившиеся жизни в мир иной. Для поэзии Нимбуева характерен мотив опавших листьев. Образ зонтиков, по-видимому, служит преградой для слияния природы и человека. Вместо распускания живых цветов Мифопоэтика современной бурятской поэзии 85 распускаются зонтики. Осень – пора умирания, пора «опавших безжизненных лепестков». Это любимое время года поэта, которое близко ему не только потому, что природа трогательно красива в этот период, но и по трагическому содержанию этого времени года, и по тому, что это пора умирания, ухода. Трагическим содержанием пронизан образ опадающих листьев как метафоры смерти в повести «Бей лежачего» [89, с. 220], в рассказе «Одинокий трамвай»: «В обнимку с хлопьями первого нерешительного снега кружились последние мертвенно-желтые листья, похожие на усопшие старушечьи лица» [89, с. 270]. В природе одно сменяется другим, все находится в тесной связи, так первый снег летает в обнимку с последними листьями. Но придет черед и первых листочков, но снег тогда уже будет последний. Традиционно метафорой рождения является весна. У Нимбуева весна вдыхает новую жизнь в природу, в человека: Вначале жаркий, снежный свой накид Сорвет земля, суровая чалдонка, И груди нестыдливо обнажит, Как женщина, кормящая ребенка. К полям прорвется полая вода, журча в устах счастливым междометьем, и расцветет у деда борода по-детски буйным многоцветьем. Покатят солнце в обруче с погоста под горку конопатые мальцы, за пазухой доверчиво и просто совьют гнездо горластые скворцы. [89, с. 121] На наш взгляд, не случайно в стихотворении все глаголы будущего времени, сама весна осмысляется как рождение новой жизни. С приходом весны земля освободится от мнимой стыдливости, «сорвет накид, нестыдливо обнажив груди, как женщина, кормящая ребенка». Стихийный прорыв воды к полям приведет к восхищению, которое выразится счастливым междометьем. И природа, и люди преобразятся: взрослый мир приобретет детские черты, так, «борода у деда расцветет по-детски буйным многоцветьем». Сотрутся грани между мирами: мир предков (погост) 86 Л. В. Бабкинова соединят с миром нынешнего поколения потомки (конопатые мальцы). У поэта они выступают в роли медиатора, соединяющего мир верхний (солнце) с миром нижним и средним: Покатят солнце в обруче с погоста / под горку конопатые мальцы. О доверии и открытости миру, о зарождении новой жизни весной говорит последняя строфа: «за пазухой доверчиво и просто/ совьют гнездо горластые скворцы». В рассказе «Хорэш, усь-усь!» поэт воспроизводит мифологическую циклическую временную модель: «Муж старухи Димид был человеком хилым, но перед самой победой все же отпросился на фронт, побожившись, что вернется ровно через год, весной, как только прокурлычут с юга первые журавли» [89, с. 238]. «Над сторожкой прокурлыкали измученные грязные журавли, а лесничего не было» [89, с. 238]. Метафорой поруганного, оскверненного неба, допустившего свершение трагедии, служат измученные грязные журавли. «Ранним весенним утром сумасшедшая, бормоча под нос, разжигала крошечную железную печурку. Где-то над крышей послышалось журавлиное пение. Старуха уронила поленья и в страшном волнении выбежала на крыльцо. Над опушкой проплывали долговязые журавли и радостно плескали крыльями. Сумасшедшая долго вглядывалась, точно боясь, что журавли бумажные и что кто-то подшучивает над нею. Затем она бросилась к сарайчику, растолкала спавшую среди взрослых сыновей суку, накормила похлебкой из потрохов, повела за ворота и крикнула, как и все двадцать лет назад: «Хорэш, усь-усь!» … Старуха вернулась в сторожку, истово помолилась на буддийские образа. Под иконами зажгла желтые лампады, в стрекоте крутящегося хурдэ сумасшедшей чудился стремительный сучий бег» [89, с. 239–240]. Циклическое время мы наблюдаем в беге сучки, который сопоставляется с вращением хурдэ – молитвенных буддийских колес, символизирующих круговращение вселенной. Для сумасшедшей жизнь сконцентрировалась на беге ее сучки, которая каждую весну искала хозяина. У заброшенной мельницы, которая является метафорой остановившегося времени, Димид находит труп своей собаки. И опять прошлое у Нимбуева счастливее, полноценнее, светлее и гармоничнее, а настоящее трагично и безысходно, в настоя- Мифопоэтика современной бурятской поэзии 87 щем вся жизнь героини – старухи Димид сосредоточена на ожидании пропавшего мужа. В финале произведения сознание Димид пробуждается: «Затем в захиревшем от долгого бездействия мозгу вспыхнуло яркое пятнышко и, словно зарево, расползлось вширь». Пробуждение ее разума освобождает Димид от мучительной привязанности, которая, все эти годы не отпускала и терзала ее: «Лица мужа, черноглазых пострелят всплывали перед глазами, но не щемили уже сердца, а представлялись святыми, божественными призраками из другого мира». И другой мир лучше этого, уже оттого, что они находятся там. После всех страданий, выпавших на долю Димид, она, наконец-то, обретает покой. Впервые за многие годы она вспоминает свою счастливую молодость: «Димид снова была молодой и с хохотом каталась в ковыле. Юный широкогрудый Гончик, пропахший лошадьми и прелым сеном, робко целовал ее, неумело топыря распахнутые губы» [89, с. 240]. Мотив воспоминания молодости перед смертью встречается у многих авторов. В повести В. Распутина «Последний срок» в гаснущей памяти старухи Анны всплывает ее молодость: «Она не старуха – нет, она еще в девках, и все вокруг нее молодо, ярко, красиво…». У Нимбуева этот мотив есть в одном из его пятистиший: Наверное, скоро умрет моя бабка: все чаще и чаще далекую юность она вспоминает. [89, с. 215] Время у Н. Нимбуева – связующая все темы линия. Как мы проследили, временной континуум его лирики расположен в разных плоскостях: время профанное и время сакральное, если к первому поэт относит настоящее, то к последнему прошлое и будущее. 88 Л. В. Бабкинова 1.5. Изображение смерти в творчестве Н. Нимбуева Поэзия Намжила Нимбуева пронизана мистическими образами. Поэт верил в существование иного мира, параллельного этому. Немаловажную роль в формировании видения и понимания данного интереса сыграло время, проведенное в деревне Эгита, куда он приезжал на каникулы к деду Барде. Одна из улиц деревни называлась Ольхон, поскольку на ней жили переселенцы с этого острова. Кладбище ольхонцев-шаманистов, в отличие от буддийского кладбища, находившегося на приличном расстоянии от селения, далеко на горе или в лесу, располагалось рядом с деревней. Это разжигало детское любопытство, и по вечерам ребята любили собираться и рассказывать друг другу разные истории и небылицы про чертей. Возможно, истоки шаманских мифологических воззрений поэта берут начало именно из этих детских историйстрашилок. В поэзии Нимбуева как образы бурятских духов, так и образы западных привидений продолжают заниматься тем же, чем они занимались при жизни. По архаическим поверьям, в частности у бурят, царство мертвых не соотнесено с нижним миром и сосуществует в непосредственном соседстве с миром живых, являясь его точным подобием. Таким образом, под иным миром подразумевается параллельный мир, в котором живут духи. Умерший человек переходит в другое пространство, где продолжает жить жизнью земного мира. С этими представлениями, очевидно, связан установившийся обычай снабжать умершего одеждой, пищей, домашней утварью, лошадью. В поэзии Нимбуева духи раскуривают трубки, которыми, возможно, их снабдили родичи. Тени предков не расстаются с тенями коней. У бурят существовал обычай убивать коня после смерти его хозяина. Замогильный конь хойлго должен был служить хозяину на том свете [59, с. 73]. Подробно описывает данный обычай Г. Р. Галданова: «К месту погребения покойного везли верхом на Мифопоэтика современной бурятской поэзии 89 лошади хойлго или на двух длинных палках, соединенных миткалем – нагшуурга, санях, телеге. Конь хойлго, как считали, должен быть у каждого человека, потому что хойлго – это «эхэ эсэгын хуби» – «доля, предназначение, завещание родителей», т. е. этот конь уже заранее предназначен человеку, чтобы на нем можно было вернуться к предкам. Лошадь хойлго резали на месте захоронения умершего. Шкуру вешали рядом на шесте. Так как этот конь, как полагали, сопровождает умершего в потусторонний мир, то лучше, чтобы он был белой масти. Сияние, исходящее от белой лошади якобы освещает дорогу умершему [40]. Восточная размеренность, неторопливость, интровертивный характер содержатся в следующих строках: Этой ночью по тихим долинам / кочевали куда-то на север / тени предков моих. У Нимбуева север традиционно является стороной смерти. …Вдруг до слуха донесся Запоздалого трактора шум – Заметались испуганно тени И пропали во мгле… [89, с. 49] «Тени предков» отождествляются с природой, древней культурой в отличие от шума трактора – метафоры мира рукотворного, современного. В народе существуют легенды о том, что технопрогресс постепенно вытеснил появление духов. Буряты верили в их существование и считали, что до появления техники духи собирались по ночам и устраивали ёхор. Песни могли слышать люди, но слова были неразборчивы, состояли из одних гласных звуков. С появлением технических реалий современной жизни, они постепенно исчезли. Возможно, интерпретацией этих рассказов и стали строки стихотворения: «Раскурили короткие трубки, / И запели протяжные песни / Вдруг до слуха донесся запоздалого трактора шум – заметались испуганно тени и пропали во мгле». Образ привидения встречается в стихотворении «Женщина играет на рояле» [89, с. 41]: В домике заброшенном у моря женщина играет на рояле… Л. В. Бабкинова 90 Элементом потусторонней жизни, прежде всего, является образ моря, который дан как образ бесконечности существования в ином мире. В том мире не может ступать нога, поскольку у покойников нет ступней: «здесь шаги чужие не тревожат ящериц, снующих по тропинкам». Только окна заслоняет зелень, тянет с моря свежестью, и только женщина играет на рояле… Встречаются в рассматриваемом стихотворении и другие признаки загробного мира – это отсутствие света, зелень, свисающая с лозой дикого винограда как в средневековом склепе, оглохшая веранда. В финале стихотворения раскрывается тайна музыкантки-привидения: Лишь по временам она внезапно прерывает буйные аккорды и выходит молча на веранду, чтобы посмотреть: который век. В. Антонов вспоминает, что у Нимбуева было предвидение скорого конца своего жизненного пути: «Летом, 1968 года скоропостижно, из-за неверно установленного диагноза, скончался наш сверстник и друг Бадмажаб Дашидондоков. И вот во время прощального застолья он буквально ошеломил всех присутствующих своим эмоциональным высказыванием, обращенным к покойному: «Бадмажаб! Будь спокоен. Скоро увидимся с тобой на том свете». Ранее, зимой 1968 года, когда умер наш друг Александр Тарнуев, Намжил сказал: «Шура! Жди меня. Скоро увидимся!» [6]. Памяти Бадмажапа Намжил посвятил полные скорби стихи «Прощание с другом» [89, с. 160]. Мир юности прекрасен. И он противоречит миру смерти. Поэт в стихотворении выразил это противоречие, окружив мир смерти Мифопоэтика современной бурятской поэзии 91 ореолом холодной красоты. Благодаря контрасту юности смерти поэт передает свое потрясение столь ранним уходом друга. Оплакивание покойного близкими Нимбуев сравнивает с оплакиванием самой природы, которое передается через звуки: сначала громкий и нечеловеческий звук, которым выражены невыносимые страдания отца – «протяжным и хриплым голосом скорбящего / существа неземного / на измученных отцовских устах / страшно и неожиданно затрубила / перламутровая раковина – морщинистая дочь моря» перетекает в приглушенные звуки – «заплакали одноклассницы – смущенные юные девочки, / жемчужины слез сверкнули отчаянием / запоздалого града». Затем наступает абсолютная тишина – «безмолвно грустили юноши, в тумане их глаз исчезли / ласточек отраженья…». Теперь никто уже не смеет тревожить покойного, тишина как одна из характерных черт ирреального пространства входит в свои владения: «лежал он в гробу отрешенный. / Чу! – Тень по лицу промелькнула! / Нет… / Облачко пробежало на журавлиных ногах ветра». Последними штрихами, очерчивающими границу двух миров, являются цветы, которые «не владея словами, легли на могиле венками». Поэт бессознательно сравнивает судьбу друга с беззащитной и утлой лодчонкой, а жизнь – с океаном. Можно говорить о возникшей у поэта ассоциации с западной мифологической традицией, согласно которой умерших пускали в море, поскольку первая лодка была гробом. Так, французский мифолог Гастон Башляр считает, что «Задолго до того, как сами живые доверились волнам, они опускали гроб в море, пускали его по течению. Для этой мифологической гипотезы гроб – не последняя лодка. Смерть же не последнее путешествие. Это первое путешествие» [30, с. 170] . Позднее Нимбуев напишет рассказ «Рождение песни», прототипом Ильи станет его друг Бадмажаб. Вспоминается высказывание самого Н. Нимбуева его матери Лхамажап Пыловне: «Мама, я оставляю свой след на этой золотой земле». Так и герой его рассказа «Рождение песни» музыкант Илья оставил после себя свои песни: «…Через некоторое время я узнал о смерти Ильи. У него случился третий приступ аппендицита. Местная фельдшерица опознала простое расстройство и посоветовала горячие грелки. Эти злосчастные грелки и весеннее бездорожье были причиной Л. В. Бабкинова 92 нелепой смерти. Илья скончался на операционном столе. Однажды я поехал с этнографической экспедицией в Агинские степи. На пути в Зугалай нас обогнал грузовик с девушками. В кузове гремела шутливая песня о влюбленном молодом буряте. Я вспомнил знакомую мелодию и пианино в сельском клубе. Это была песня Ильи» [89, с. 237]. Таким образом, память о друге Бадмажабе осталась в произведениях поэта. О вере Н. Нимбуева в продолжение жизни после смерти, свидетельствуют и его письма. Так, в одном из своих писем поэт пишет: «Я хочу умереть легко и красиво, словно буду отбывать на ту станцию, где договорилось встретиться со мной остающееся человечество» [89, с. 7]. Намжил Нимбуев умер осенью на родине. Когда сообщили о его смерти отцу Ширабу Нимбуеву, он сказал: «Значит, сын хотел умереть на родине». В стихотворении «Осень в еравнинских лесах» присутствует космическая связь поэта с родиной: Как сильна материнская кровь! Словно зверя в родную берлогу, гонит в край, где моя колыбель не качалась. О, Еравна!.. …Мне сегодня светло и печально, Я пришел попрощаться на год иль совсем… [89, с. 54] Народная примета бурят отражает существующую связь между природой и человеком, так, элемент человеческого мира составляет пару с элементом природным, например, души людей ассоциируются с листьями: «Если осенью листья старых деревьев пожелтеют и опадут раньше чем листья молодых деревьев, то в такой год из жизни уйдет больше стариков. Если раньше опадут листья с молодых деревцев, то уйдет больше молодых» [информант Баларьева Е. И. 1916 г. р., уроженка с. Имелта Осинского р-на]. Мифопоэтика современной бурятской поэзии 93 Намжил Нимбуев тонкими поэтическими намеками подчеркивает тайную связь, существующую между жизнью деревьев и жизнью людей. В стихотворении «Осень в еравнинских лесах» «тайга плачет по утерянным листьям» словно чувствует грядущий уход поэта. Лирическому герою былое «век назад» является в «приглушенной годами беседе мудрых предков», которые ушли из этих степей, не дождавшись его. Роковыми становятся слова поэта «Мне светло и печально. Я пришел попрощаться на год иль совсем», предчувствие смерти не покидало Нимбуева в последнее время. Небо предчувствует уход лирического героя, оно провожает его в последний путь органной музыкой. Поэт бессознательно создает стихотворение, в котором присутствует мотив ухода. Такова мировоззренческая концепция смерти в творчестве Н. Нимбуева. Л. В. Бабкинова 94 Глава II ФОЛЬКЛОРНЫЕ ИСТОКИ СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ 2.1. Поэтика обрядовой поэзии календарного цикла в современной бурятской поэзии Предки бурят сагаалган отмечали осенью, когда на небосклоне появлялись Плеяды, и период этот назывался Белым месяцем. Впоследствии Новый год у монголоязычных народов стали связывать с первым днем лунного месяца: …По лунному календарю приходит Новый год весною. [55, с. 56] Б. Д. Баяртуев отмечает, что «шаманы периода Чингисхана перенесли календарный праздник Дня рождения природы и жизни с осени на первый день весны, что до настоящего времени празднуется всем монгольским миром как Сагаалган» [32, с. 71]. Традиционное для бурят гостеприимство, чистота помыслов, пожелание добра всему миру находят отражение в празднике Белого месяца, который сопровождается благопожеланиями: Заходите, соседи! С Новым годом вас всех! В этот день на планете одиноким быть грех В праздник Белого месяца (так у нас повелось) Людям надобно встретиться – чтоб светлее жилось, чтоб убавилось горя, чтоб тучнели стада чтоб долины и взгорья голубели всегда, чтоб звенел бесконечно детский смех у оград… Зазывает на встречу солнечный саламат! [53, с. 99]. Мифопоэтика современной бурятской поэзии 95 Саламат считается ритуальной пищей, его используют как подношение духам местности, при этом варят его без соли. Варят при приеме гостей, при встрече Сагаалгана. Солнечный саламат символизирует удачу, благополучие в наступившем году, так как цвет солнца свидетельствует об обилии масла в прямом значении, но кроме этого ассоциируется с духовным теплом и радостью. Сагаалган обычно приходится на конец февраля, этот месяц связан с массовым отелом, в это время у скотоводов появляется молочная пища: «Амар мэндээ!..» Это добрый знак, Когда хуса песнь звонкую заводит, Метели развевая, как хадак, Когда, зимы рассеивая мрак, В дома желанный Белый месяц входит. «Амар мэндэ!..» Как перенесли морозы жеребята и телята? Да будет лето травами богато, Полно дарами щедрыми земли! [98, с. 128]. Г. Раднаевой близки и дороги обычаи и традиции бурят, так, не случайно, автор обращается к древнему обычаю подношения хадака гостю во время сагаалгана: И в поколение из поколенья отрезок шелка по древним обычаям передают В семьях бурятских. И как бы не сделался резок Голос нужды, А его-то уж не продадут. В месяце белом почетному гостю хозяин Даст его с чашкой парного еще молока. [98, с. 130] 96 Л. В. Бабкинова Хадак в ламаизме является символической вершиной духовного и материального богатства. С давних пор существует обычай хранить хадаки пяти цветов как добрый знак благополучия и спокойствия в семье. У хадака каждый цвет наделен определенной символикой. Синий символизирует цвет неба, знак согласия и спокойствия, зеленый – символ размножения, урожайности, красный – цвет огня, знак сохранности и безопасности очага, желтый отводит все плохое, является знаком возвышения и распространения буддизма, белый – цвет материнского молока, олицетворяет ясное сознание бодхисаттвы, благие деяния, щедрость. Г. Раднаева раскрывает буддийскую символику этого светлого праздника, в котором заключена идея духовной чистоты. Песни и благопожелания, исполняемые в сагаалган, наполняют мир добрым светом: Когда приходит Белый месяц, мы, Как предки, можжевельник воскуряем – Очаг свой очищаем, поздравляем Друг друга с окончанием зимы. Обычай сей, как символ чистоты, Вошел иль нет в мои стихи и песни? Способны ль отводить они болезни Иль слишком слабосильны и пусты? Не ведаю. Но знаю: земляки, Что думают на языке Гэсэра, Душой сейчас особо высоки, А в песнях их – почти что нет тоски: Лишь свет и сила древнего примера. И я, встречая Белый месяц, им Очищена – и мир благословляю. «Амар мэндэ!..» – всем добра желаю, Вкруг аржааном брызгая живым. [98, с. 127] Согласно М. Слюсаренко, обычай бурят тщательно готовиться к празднику, встречать его чистотой имеет четко выраженную топоментальную, витальную функцию – стремление вверх, к жизни. Бурятский сагаалган, как и всякий народный праздник, есть обыг- Мифопоэтика современной бурятской поэзии 97 рывание темы смерти как элемента жизни. Брызгание чаем, кропление молоком, возжигание огня, воскуривание благовония, особое отношение к гостю и пожилому – это все темы похорон, связанных с рождением новой жизни. Отсюда обязательное стремление справить к празднику новую одежду, навести абсолютную чистоту. Нечистоты с их принадлежностью к стихии бесструктурности, хаоса могут ввергнуть души умерших в состояние забвения и помешать их участию в празднике, который необходим для восстановления плодородных сил природы и человека [108, с. 81]. Люди труда, Чьи надежды оправданы снова, Празднуют месяц молочный, Свой белый февраль. На старике и на каждом ребенке обнова, И морин-хур позабыл вековую печаль. [100, с. 76] Д. Банзаров о сагаалгане писал следующее: «Это единственный праздник для монголов в году. Все шьют обновы, готовят подарки, но особенно примечательно употребление хадаков. Перед наступлением белого месяца в храмах проходит служба, продолжающаяся несколько дней. В это время читают священные книги и молитвы различного содержания, приносят жертвы, молятся о счастливом течении нового года, о плодородии земли, о распространении и процветании буддизма. По окончании службы все поздравляют друг друга с Новым годом, то есть обмениваются хадаками, обнимаются и говорят приветствия» [22, с. 27]. Лирическая героиня Г. Раднаевой вспоминает те правила, которые необходимо было соблюдать при встрече Белого месяца: Я помню: как-то бабушка ворчать Вдруг начала, лишь я с постели встала. Я растерялась несколько сначала: Откуда же тогда могла я знать, Как Белый месяц надобно встречать? Ей, видите ли, руку не пожала! [98, с. 129] Л. В. Бабкинова 98 Этикет приветствия отличался от обычного, каждодневного. Сагаалганский приветственный жест золголго выражает идею преемственности поколений: младший протягивал руки ладонями вверх, выражая готовность воспринять от старшего его знания, опыт, мастерство, а старший на протянутые к нему руки возлагал свои, ладонями вниз. Этот жест означает также и то, что младший по возрасту – всегда опора и поддержка старшего [62, с. 47]. Ладонь внучки служит опорой бабушке и в другой поэме Раднаевой: Мой первый вздох как бы раздул огонь В угасшем теле бабушки, в ответ Любя меня сильней, чем дочь, ладонь Мою опорою почла на старость лет. [100, с. 123] Так, буряты традиционно почитают старость как мудрость, но кроме этого, здесь в первую очередь, находит отражение существовавший культ предков. Летней порой у бурят был обычай проводить традиционный праздник сурхарбан: О сурхарбан! Все пляшет и поет: От счастья солнце ясное смеется, Хмельные травы вьются, песня льется, Июль шумит, рекой цветов несется – Как карусель кружит, как хоровод. Гудит, как улей, как цветущий луг, Людской поток, расцветкой с летом споря, И плещется улыбок щедрых море, Всех увлекая в сурхарбана круг, Где счастье хлестко брызжет через край, Где молодость мужает в состязанье, Где каждый горд своими скакунами, Борцами медноликими, парными, Взрастившими богатый урожай. [98, с. 106] Мифопоэтика современной бурятской поэзии 99 Этот праздник устраивали после весенне-полевых работ, перед началом сеноуборки, обычно он приходился на конец июня – начало июля. Во время сурхарбана молодежь состязалась в ловкости, силе и мужестве. Во время трех игр мужей (эрын гурбан наадан) пелись соло – славословия лучшему борцу, скакуну, меткому стрелку. Г. Раднаева обращается к одному из излюбленных спортивных состязаний бурят – борьбе: Встают борцы. Их мощные тела – Из солнца? Меди? Пот покрыл как глянец. Они старинный исполняют танец – Бесстрашные, как два степных орла, Испытывают силу и отвагу Друг друга в равной доблестной борьбе… Так предки, в праздник, превратив борьбу, Сильнейшего из сильных выявляли И каждый испытать хотел судьбу, На праздник торопясь из дальней дали… Когда ж рождался богатырь, о том Мгновенно возвещал всему народу Старинный гонг, и все богатырем, Ликуя, восхищались, видя в нем Борца за честь народа и свободу… Борцы! Так ваша поступь величава, Что и сейчас вам – слава! слава!слава! Бароо, бара, бара бара даа!... Вам – честь и слава, баторы страны! [98, с. 106] Начиная с третьего тура монгольской борьбы, соло произносится борцам, выходящим во главе правой и левой колонн во время нечетного круга (3, 5, 7 и т. д.). В них находит место похвала предыдущим успехам, силе и ловкости борца. Этим самым исполнитель обеспечивает психологическую подготовку борцу, публично образными словами объявляет о достижении борцом последующих званий. Соло отличается друг от друга в зависимости от того, кому из борцов они посвящены. Соло произносятся речита- Л. В. Бабкинова 100 тивом. Своеобразный выход на арену борца напоминает обрядовый танец. Борьба имеет не только спортивный характер единоборства силачей, но является и доказательством того, что многие древние виды искусства обладали синкретическими свойствами, так, в прошлом спортивные игры, спектакли, празднества, обряды выступали в едином комплексе. Известно, что сурхарбан начинался с состязания стрелков, возможно, это было связано с названием праздника «сур-харбан» («стрельба из лука»). В поэзии Раднаевой стрельба из лука венчает сурхарбан: Я слышу: в венах праздника поет Кровь наших предков яростно и громко; Я вижу: зорко смотрит на потомка, Стреляющего по мишени влет, Сам Бабжа-батор, что родной народ Стрельбою удивлял еще ребенком... На славу завоевывает право Сегодня юность, и – куда ни глянь – Богатыри налево и направо: Тут – лучники, там конных мчится лава, несется вскачь за горизонтом грань… Бароо, бара, бара, бара даа – Вам, юные, сегодня – слава! слава! [98, с. 109] В соло, посвященном меткому стрелку, особо подчеркиваются лук и стрелы, искусство мастера, создавшего их. У Раднаевой свидетелем меткости стрелка выступает Бабжа-батор – легендарный бурятский герой. Соло напоминают заклинания древних племен, в которых славили искусную конструкцию лука и стрел, призывали к меткому попаданию в мишень. Лирической героине Г. Раднаевой эти заклинания слышатся в «крови предков, которая яростно и громко в венах праздника поет». Третьим мужским состязанием были скачки коней: О сурхарбан! Пред скачкой скакуны У старта собрались при всем параде: Мифопоэтика современной бурятской поэзии 101 Косматые хвосты заплетены, А гривы – разъединены на пряди И яркою завязаны тесьмой… Рванулись скакуны, летят вперед, Стремительно пространство поглощая… И, словно вихрь, скрываются вдалиЛишь эхо улетает к небосклону: Вот-вот – и оторвутся от земли, Став белой стаей облаков, с разгону… [98, с. 109] Победившего в скачках коня величали «чело десяти тысяч», первой пятерке произносилась хвала в виде мелодичных стихов. Эти соло посвящались резвоногим скакунам. В них воспевались аллюр, стать скакуна: голова, ноги, глаза, зубы, грива, хвост и другие части его тела. Не случайно, при восхвалении стати скакуна используются постоянные поэтические слова, и выражения о лучших свойствах скакуна на основе установившихся представлений бурят. Г. Раднаева сравнивает скакунов с вихрем, со стаей белых облаков, которые вот-вот оторвутся от земли. В данном сравнении, на наш взгляд, угадываются воззрения бурят о лошади как крылатом небесном существе. В основном при описании календарных праздников мифо-фольклорный контекст поэтами используется на сознательном уровне для создания национально значимого художественного образа. Л. В. Бабкинова 102 2.2. Эпические образы в современной поэзии Известно, что культурный герой представлял родовой коллектив, а не индивидуальное сознание, так как личность в первобытной общине не отделяла себя от рода. Поскольку герой не является всемогущим богом, повествование о нем содержит историю обретения им сверхъестественных способностей. Иногда он наследует их от своего божественного отца, которым был зачат чудесным образом, иногда добывает посредством мучительных ритуальных испытаний в стране мертвых или на небе после контактов с могучими духами. Культурными героями бурятской мифологии являются Гэсэр и Чингисхан. Интерес для нашей темы представляет работа Потанина «Ерке. Культ сына неба в Северной Азии», в которой исследователь выделяет четыре сказания. В первом герой носит имя Цорос или Чорос (у калмыков и зап. монголов); во втором – Ирин-Сайн (у дербетов сев-зап. Монголии), в третьем Гэсэр и в четвертом Чингисхан. «Гэсэр выдается сыном одного из трех сыновей царя неба Хормусты хана, который получает известие, что на земле торжествует зло, и что люди страдают. Царь неба решается послать одного из своих сыновей на землю затем, чтобы очистить ее от опасных чудовищ. Эту миссию, после неудачного испытания царем неба двух старших сыновей, выполняет Гэсэр. Он воплощается на земле сыном одной девицы и, достигнув подходящего возраста, приступает к выполнению своей миссии, назначенной ему небесным отцом. Таким образом, сказание рисует его посланником царя неба» [94, с. 17–18]. Чингисхан в устных преданиях называется сыном Хормусты хана, также как и Цорос. Подобно последнему, он брошен в степи, он так же найден под деревом, которое питало его соком своих листьев; сова, сидевшая на дереве, убаюкивала его своим криком; но старейшин, ищущих младенца, тут нет. В течение жизни, Чингисхан пользуется особым покровительством Хормусты хана и Мифопоэтика современной бурятской поэзии 103 получает от него подарки: белую лошадь для езды, чашу с вином, нефритовую печать. Божественная натура обличается свойствами, которые ему придаются в преданиях: как только в нем появляется какое-нибудь желание, природа сейчас же его выполняет. Время его пребывания на земле отмечено всеобщим счастьем. С именем Чингисхана связано три обряда. Первый обряд, совершаемый в честь Чингисхана кузнецами (по бур. и монг. кузнец – тархан), сохранился только у бурят. С термином «тархан» связан и второй обряд, имеющий отношение к Чингисхану. В Ордосе, где хранятся останки Чингисхана, живет небольшой класс людей, которые называются дархатами (от дархан – кузнец); они обязаны хранить останки Чингисхана и ежегодно объезжать Монголию для сбора пожертвований на содержание этой монгольской святыни. Третий обряд (тайлган) совершается под руководством тех же дархатов. Народу раздаются куски мяса заколотой лошади. Эти куски называются «счастье Чингисхана», поэтому их монголы относят в свои семьи [94, с. 19–20]. Черты культурного героя характерны Гэсэру, так, он укротил четырех противников: водную стихию, низвергающуюся с вершины, собаку с серебряными клыками, собаку с золотыми клыками и подземное чудовище – и превратил их соответственно в целебный источник аршан, в серебро, в золото, в женьшень [37, с. 167]. В поэзии Г. Раднаевой образ национального культурного героя включен в контекст культурного героя западноевропейской мифологии. Так, Гэсэр и Прометей изображаются в одном мифологическом ряду, прежде всего, как культурные герои, которые вместе с предками донесли огонь до наших дней: Огонь, что нам Гэсэр и Прометей И предки донесли из давних дней, Огонь, что я кормлю рукой своей, Горит светло, горит неугасимо. [100, с. 59] В поэзии Раднаевой образ эпического героя представлен и как образ освободителя земли от злых сил: Л. В. Бабкинова 104 Я повела повествованья нить О родине Гэсэра, о былом, О том, как, зорко над землей витая, Гэсэр бесстрашно воевал со злом, Как он на стаи демонов орлом Летел, из жизни нечисть выметая. О тех тридцати трех богатырях Гэсэра, что стоят окаменело Гольцами неприступными в горах, О женах, что в сынах и дочерях Продлили род его, а значит – дело. [98, с. 19] Раскинувшаяся у подножия величественных горных вершин, называемых Саянами, Тункинская долина увековечила Гэсэра в названиях своих тридцати трех вершин, символизирующих богатырей-баторов и его прославленное седло в виде седлообразной горной вершины возле Аршана. Следовавший в страну Гал Дулмэ хана Гэсэр при подъеме на Мунко-Саридак встретился с непроходимой скалой, в которую пустил свою всемогущую стрелу. Так образовалась огромная дыра (нүхэн). Через нее пронесся пулей стремительный его конь с сидевшим на нем седоком, за ним на своих вороных и тридцать три его богатыря. Баторы Гэсэра – сыновья самых могущественных тэнгэри, которые были даны ему в помощники вместе с необходимым оружием и боевыми конями. В эпилоге «Абай Гэсэра» говорится о том, что Гэсэр нарушил повеление свыше отдать власть Арын Сагаан хану, посчитав, что последний не сможет обеспечить его поданным достойную жизнь. Хан Хурмас тогда проклял Гэсэра: -Yлгэн үнсэг дайдын Yншэн урθθhэн зонхондо Yлүүсэ ехэ дуратай hаа, Гушан гурбан баатартаяа Барууни Мундаргын оройдо Шулуун хүрэг болог! Хойто сагай хойтодо, Хоёр сагай нэгэндэ Мифопоэтика современной бурятской поэзии 105 Хооhон Сэгэн Сэбдэгтэ Хорон hалхинда шэрбүүлэг! «Коли так крепко он любит своих поданных, что и водой не разольешь, пусть уж остается заодно с ними, превратившись в каменные изваяния на западных вершинах Мундарги! И пусть же во веки веков потом его исхлещут голые ветры зенита!» [2, с. 196] После такого проклятия Гэсэр и все его тридцать три батора окаменели, обретя вечный покой: кто был на коне, кто пешком, кто, натянув лук со стрелами. Но даже в таком окаменевшем состоянии они все равно продолжают оберегать своих поданных от напастей и бед, связанных с притязаниями захватчиков, вот уже в течение тысячи лет [2, с. 196] Храпя, летели кони в сторону заката. Огню и Слову поклонялись поколенья. Молчание хранит Гэсэриада О тайнах своего происхожденья. Но всадников потомки помнят мудро, Откуда льется свет добра старинный: Великий голос кочевого утра, уста бессмертные улигершина. [100, с. 87] В поэзии Б. Дугарова время пребывания Гэсэра на земле – это время первотворения, время поклонения Огню и Слову. Образы всадников являются метафорой эпического сказания о Гэсэре. Героический эпос дошел до потомков благодаря великому голосу улигершинов – вдохновенных носителей и певцов героической истории предков бурят. Лирический герой Дугарова помнит, как, затаив дыхание, слушал из уст стариков все девять ветвей эпоса: И сказанья Гэсэрова девять ветвей распускались, объемля тайгу, в синеве. И в немые глубины монгольских степей уходили концы родословной моей. [52, с. 32] Л. В. Бабкинова 106 Или, как в детстве, считал себя правнуком Гэсэра и бесстрашно бросался на вымышленного врага – мангасхая: И к потомкам Гэсэра себя причисляя, я кидался с мечом на врага – мангасхая. [52, с. 34] Известно, что в образе Чингисхана слились многие мифологические, религиозные, магические мотивы и представления, бытовавшие в Центральной Азии задолго до появления исторического Чингисхана, с которым связан ряд фольклорных и мифологических сюжетов в монгольской и бурятской мифологии. В одних он выступает как культурный герой, установивший ряд свадебных обрядов, придумавший водку, кумыс и табак, покровитель кузнечного дела. В другом фольклорном цикле, топонимическом, объясняется происхождение названия ряда местностей, исходя из деятельности исторического Чингисхана: например, Алтан Yлгы («Золотая колыбель») – место его рождения и др. Образ Чингисхана встречается в поэзии Б. Дугарова. Так, в стихотворении «Великан», возможно, мифологический образ великана восходит к образу Чингисхана: Жил-был когда-то великан, для мира неизвестный. Его постелью был бурьян, а крышей – свод небесный. Но вот однажды понял он, что он сильней соседей. А если так, войны закон пусть властвует на свете. И, оседлавши рысака, Он приступил к походу, какого страны и века не видывали сроду… [54, с. 77–78]. Если все стихотворение пронизывает традиционное для советской эпохи суждение о великане (Чингисхане) как завоевателе, то последние шесть строк, на наш взгляд, содержат подтекст преда- Мифопоэтика современной бурятской поэзии 107 ний о предполагаемом месте нахождения могилы Чингисхана. Известно, что в этом месте (земле) после ежегодного поминального ритуала пропускался табун в тысячу лошадей, сметавший все внешние опознавательные признаки могилы: Где великан? Давным-давно унесся пыльной тучей. Забыли люди про того, кто страх внушал всем странам. Лишь беркут, словно дух его, кружится над курганом Ранее нами был рассмотрен культ Чингисхана, связанный с культом сульдэ в поэзии Н. Нимбуева, Б. Дугарова. Таким образом, культурные герои Гэсэр и Чингисхан в бурятской поэзии наделяются чертами, свойственными культурным героям мировой мифологии. 2.3. Маргинальные образы в поэзии Нимбуева Обращение Н. Нимбуева к маргинальным образам вполне закономерно и ожидаемо. Н. Нимбуев обладал редким талантом – способностью сочувствия человеческим страданиям и несчастьям. Поэт влюблен в своих маргинальных героев, у которых планетарность, глобальность мышления и мировосприятия порождает широту души, ограждает от узости, замкнутости на личных проблемах. Традиционно, маргинальные существа – представители иного мира, но в поэзии Нимбуева они являются представителями мира духовного (Космоса), в отличие от противопоставленного им мира обывателей (Хаоса). Н. Нимбуев в своем творчестве обращается как к символическим героям-маргиналам (слепой, безногая старуха, хромой дворник, старшина, старец у церквушки), так и к конкретным героям, мифологизированным в его поэзии (дед Нимбу). Л. В. Бабкинова 108 Особое место в своем творчестве Нимбуев уделяет и образу поэта, который также является представителем духовного мира. Интересен образ деда поэта Нимбу, человека огромной души и большого сердца. Так, земляки за его доброту назвали одну из сопок в урочище Маракта сопкой Нимбу. Дед был сиротой и после перенесенной в детстве болезни стал немым. Интересен тот факт, что некоторые из своих стихотворений поэт любил подписывать «Нимбу». Он родился после смерти деда и посвятил ему стихи: Ты слышишь, дед, немой Нимбу, бурят по происхождению, нищий чабан по месту в жизни?.. Тебе посвящает эту книгу, родившийся после Твоей смерти молодой внук, осмелившийся говорить твоими безмолвными устами на языке русских братьев. Ах, здесь я зарыл свою пуповину… [89, с. 8] «Нищий чабан по месту в жизни» имеет богатый внутренний мир. Образ деда ассоциируется с образом блаженного старика – простоватого пастуха, сидевшего на вершине горы, которая, на наш взгляд, отождествляется с сопкой Нимбу. Маргинальные образы у поэта – это люди с обостренными нервами, очень ранимые, страдальцы, как например, безногая старуха: Как плакала безногая старуха! Но я Боялся Утереть ей слезы. [89, с. 176] Мифопоэтика современной бурятской поэзии 109 Нимбуевские герои имеют физический недостаток не от рождения, но в результате каких-то трагических событий, участниками которых они были, например, старшина, который потерял на войне ногу [2003, с. 76]. Первая часть стихотворения – это напоминание о войне – знаке Хаоса, вторжение ее примет в мирную жизнь: «резал свет глазницы», «распалась гробовая тишина», «взрывы бомб шатали половицы» встревожили старика. Во второй части стихотворения, старик, обнаружив, что это звуки весны, успокаивается. На наш взгляд, для старшины физическая потеря ноги не так страшна: «отстегнутая правая нога, / Смеясь, скакала бойко у кровати», как сама мысль о войне как символе социальнопсихологической трагедии разрушающегося мира и человека. Старшина испытывает страх перед войной не за себя, а за других. Таким образом, герои Нимбуева, будучи сами несчастны, полны сострадания к другим, и сострадают они из святости, большого человеколюбия, а не по установленным обществом нормам морали. В образе хромого дворника, возможно, заключена идея очищения мира от грехов: …Когда я уже узнал от хромого дворника Всю его родословную до седьмого колена И как он поругался вчера во хмелю со старухой… [88, с. 55] Хромой дворник знает родословную до седьмого колена. У бурят знание семи колен по материнской линии, девяти колен по отцовской линии связано не только со знанием своих родственников, но и с укреплением рода. Философское восприятие мира у героя стихотворения «Уже никогда не встретить…»: Уже никогда не встретить Того странного человека. На вечерней завьюженной улице Любопытная старушонка Изумилась какому-то юноше В темно-синих пляжных очках: Что за странная это причуда? Л. В. Бабкинова 110 Ведь не видно ни зги кругом! У меня вместо глаз – Солнца, Ей печально ответил юноша И побрел и в толпе затерялся. [88, с. 62] Поэт использует антитезу «вечерняя завьюженная улица» – «пляжные очки». Строка «вечерняя завьюженная улица» содержит сразу два временных архетипа – вечер и зиму. Н. Нимбуев дает народнопоэтическую трактовку вечера-зимы, связывая это время с торжеством хаоса, сил зла. Юноша, у которого вместо глаз – Солнца противопоставлен им. Глаза-Солнца несут в мир добро и свет. Физическая слепота не страшна, если есть вера, если душа зрячая. Последняя строфа передает трагизм мироощущения юноши. Старец дремал у церквушки В рыжей шапчонке. Средь медных селедок Грелся на солнце Серебряный карп. [89, с. 174] Использование уменьшительно-ласкательных суффиксов -ушк и -онк (церквушке, шапчонке) говорит об авторской симпатии к герою-старцу, но вместе с тем указывает и на легкую иронию, так, поэт представляет старца в несколько облагороженном виде, сравнивая его с серебряным карпом на фоне окружавших его медных селедок. По-видимому, старец приходит к церквушке, чтобы получить покой («старец дремал у церквушки»), духовное тепло («грелся на солнце»). Солнце (представитель высших сил в мифологизированном сознании) согревает его плоть, церковь же дает очищение душе (символика очищения дана в метафоре «серебряный карп», где серебро символизирует очищение). Интересно, на наш взгляд, сравнение старца с серебряным карпом, возможно, здесь прослеживается «рыбная» метафорика Иисуса Христа, прослеживаемая как на формальном уровне (греческое слово ’אַﺎưίѕ, «рыба», расшифровывалось как аббревиатура греческой формулы «Иисус Христос, божий сын, спаситель», так и по существу [ср. Р. Мифопоэтика современной бурятской поэзии 111 как символ веры, чистоты, девы Марии, а также крещения, причастия (где она заменяется хлебом, в этом же ряду стоит евангельский мотив насыщения Р. и хлебами)] [66, с. 444]. На наш взгляд, старец несет в мир добро и умиротворение. Образ поэта в творчестве Нимбуева занимает особое место. Слово-яблоко – символ его поэзии, его дитя, поэтому он изображает его краснощеким, как ребенка: Стою на планете Под деревом моей родины Играю словом – румяным краснощеким яблоком, подкидываю и ловлю его, подкидываю и ловлю его Меня обступили со всех сторон лошади, цветы, дети. И немым тысячецветным взглядом просят не прерывать моего занятия. Стою на планете под деревом моей родины. Играю словом – румяным краснощеким яблоком – подкидываю и ловлю его, подкидываю и ловлю его… И нет времени слезы вытереть. [89, с. 5] А. К. Байбурин рассматривает значение соединения верха и низа в контексте календарной обрядности, которое приобретают и такие действия, как подбрасывание и подкидывание каких-либо предметов [17, с. 188]. В контексте стихотворения, на наш взгляд, подбрасывание и подкидывание яблока символизирует соединение ослабленных связей мирского и духовного, человека и природы, космоса. Самые беззащитные чистые существа просят лирического героя не прерывать своего занятия, между ними установлена духовная связь, аналогичная связи между животными и шаманом. 112 Л. В. Бабкинова Известно, что последний может общаться с животными, говорить на их языке, стать их другом и хозяином. Благодаря своей близости с животными шаман обретает духовную жизнь, которая намного богаче жизни простого смертного. В работе Б. Баяртуева есть следующее любопытное для нашей темы утверждение: «элементами небесного Разума наделен любой индивид, но особое проявление имеют люди творческого склада, на которых снисходит озарение, вдохновение, откровение» [32, с. 38]. Так, исследователь к сокровенному разряду избранных, для которых возможен какой-либо переход на интуитивном уровне в тонкий мир Высшего Разума кроме творцов (поэтов, художников, музыкантов и др.) относит и шаманов. На наш взгляд, лошади, цветы, дети избирают поэта спасителем мира, поскольку интуитивно чувствуют, что он обладает даром перехода в Тонкий мир Высшего Разума. Думается, символ яблока как символ спасения не случаен у Нимбуева. Известно, что в искусстве Иисус Христос в образе Спасителя часто держит в руках яблоко или указывает на него – символ спасения. «Яблоком» именовалась и держава, которую Б. Годунов ввел в царский обиход. В церемонию венчания вошло не только вручение скипетра, но и державы: «Сие яблоко – знамение твоего царствия. Как это яблоко держишь в своей руке, так и держи все царство, данное тебе от Бога, защищая его от врагов непоколебимо» [112, с. 446]. Игра словом – яблоком, подкидывание и ловля его, на наш взгляд, может ассоциироваться и с номером жонглера. Как и артист цирка, лирический герой находится в постоянном напряжении, но в отличие от жонглера, который испытывает физическое напряжение, он испытывает напряжение душевное. Поскольку он со всех сторон окружен лошадьми, цветами, детьми, то, повидимому, он находится в незащищенном пространстве, открытом миру – пространстве круга (арены). Возможно, слово-яблоко в его руках символизирует и земной шар, который он бережно подкидывает и ловит, тем самым, приводя в движение Землю, и у него «нет времени слезы вытереть». Мифопоэтика современной бурятской поэзии 113 Интересен другой образ циркового мира в поэзии Нимбуева – образ девочки – акробатки, который ассоциируется с акробаткой из московской картины П. Пикассо «Девочка на шаре»: Упрямая девчонка, Придержи Босые исцарапанные ноги! Циркачка! По-твоему Земля – Дурацкий пестрый шар, Перебираемый ногами на арене? Из-за твоей игры Пришел в движенье мир… [89, с. 103] Как лирический герой не может прервать своей игры яблоком, так и девочка не может остановиться, так как от их игры зависит судьба планеты: …Движение – Мой воздух, Ваша жизнь. Итак, Намжил Нимбуев обращается к маргинальным образам в своем творчестве для раскрытия тончайших нюансов человеческой души. Герои Нимбуева – люди, творчески преодолевающие стереотипы, которые выступают в роли медиатора, соединяющего мир духовный с миром обыденным (обывателей), тем самым они спасают мир от грехопадения (Хаоса). Маргинальные образы в поэзии Н. Нимбуева, конкретно не относясь к чисто фольклорным образам, по-нашему мнению, дополняют национальную картину мира глубинными коннотациями с мифо-фольклорными традициями. В целом в бурятской поэзии шел активный процесс усвоенияварьирования многих фольклорных образов и мотивов. Если при описании конкретных календарных праздников и создании образов культурных героев современные поэты используют мифофольклорный контекст на сознательном уровне, то, высвечивая панорамную картину этнического своеобразия зачастую используют именно скрытый фольклоризм. Л. В. Бабкинова 114 Заключение Художественное начало, единое для литературы и фольклора, связует их на всех этапах развития. Мифо-фольклорные мотивы осмысливаются каждым поколением поэтов индивидуально, но все воспринимается именно с нравственной точки зрения. Зачастую мифологемы используются для выявления первоосновы человеческого бытия в современных ситуациях и конфликтах. Мифологические и фольклорные образы, являясь правилами человеческого общежития, образа жизни, представлением места человека в живом и мертвом космосе, в целом реализуют нравственнофилософские, национальные ценности. Картина мира в поэзии – это картина, создаваемая творчеством одного поэта, панорамное представление о действительности тех или иных пространственно-временных диапазонов. Своеобразное сочетание национального склада мышления, художественнопоэтических традиций восточных литератур с традициями западного мировосприятия и русской поэтической школы определяют основные черты современной бурятской поэзии. В бурятской поэзии 60–90-х годов обращение к внутреннему миру человека, осознание себя как личности во Вселенной приводит к обостренному интересу к национальным особенностям, к углубленному интересу к истокам – мифу и фольклору. К художественным национальным традициям наряду с фольклорными традициями и поэзией предшествующего периода относятся и религиозномифологические традиции, значительно расширяющие и обогащающие национальную эстетическую мысль. Проведенные исследования позволяют утверждать, что в бурятской поэзии 60–90 годов XX века проявляется усиление аналитического начала, стремление к философскому постижению фольклорно-мифологического наследия, подчеркнутое тяготение к образам и символам мифопоэтики. В современной бурятской поэзии «фольклор как память традиции» используется на уровне жанра, мотива и художественных образов. В выборе художественных средств (поэтической образно- Мифопоэтика современной бурятской поэзии 115 сти, композиционных особенностей) бурятская поэзия зачастую опирается на народно-поэтическую и религиозно-мифологическую символику и структуру. Мифологические коннотации в поэтической интерпретации Н. Нимбуева, Г. Раднаевой, Б. Дугарова доказывают их «внутренний, органический фольклоризм», реализующийся на семантическом уровне. Рассмотренные мифологемы, мифологические символы и архетипы, как образное постижение мира, создают своеобразие внутреннего мира лирического героя и культурно-этнографический фон поэтического текста. Реминисценции и аллюзии, навеянные западной и восточной поэтической традицией, прослеживаемые в лирике бурятских поэтов, отражают сложный синтез культур Запада и Востока. Таким образом, у Н. Нимбуева, поэта яркого дарования, поэтика мифологизирования является стихийным, интуитивным возвращением к мифологическому мышлению, хотя поэзия его интеллектуальна и опирается на глубокое знание древней культуры. У Г. Раднаевой более проявлена метафорическая модель мифического мира. Фольклорные мотивы, к которым обращается автор, представляют собой сложный и многообразный процесс усвоения фольклорного, эстетического, философского, культурного опыта. Баир Дугаров – сознательно мифологизирующий поэт, им творчески переосмысляется и трансформируется мифологический материал народов мира. Для этих целей используется прием орнаментального вплетения мифологических образов и фольклорных мотивов в подтекст произведения, что позволяет автору создать целостную мифологическую картину мира. Б. Дугаров экстраполирует исторически локальные наблюдения и концепции, потому модели древней культуры становятся архетипами национального сознания в целом. Как мы знаем, поэтические тексты открыты для интерпретации на уровне «семантических экспликаций» [132], потому необходима актуализация фольклорно-мифологической топики для восприятия текста на более высоких уровнях. 116 Л. В. Бабкинова Библиографический список 1. Абаева Л. Л. Культ гор и буддизм в Бурятии: (Эволюция верований и культов селенгинских бурят) / Л. Л. Абаева. – М. : Наука, 1992. – 139 с. 2. Абай Гэсэр / сост. С. Ш. Чагдуров. – Улан-Удэ : Изд-во газеты «Бурятия», 1995. – 204 с. 3. Абай Гэсэр Богдо хаан / буридхэн суглуулhан С. П. Балдаев. – Улаан-Yдэ, 1995. – 517 н. 4. Аверинцев С. С. Бахтин и русское отношение к смеху / С. С. Аверинцев // От мифа к литературе : сб. в честь семидесятилетия Елеазара Моисеевича Мелетинского / сост. С. Ю. Неклюдов, Е. С. Новик. – М., 1993. – С. 341–345. 5. Алексеенко Е. А. Природа и человек в религиозных представлениях народов Сибири и Севера / Е. А. Алексеенко. – Л., 1976. – 77 с. 6. Антонов В. Намжил Нимбуев: Жизнь, сверкнувшая молнией // Бурятия. – 2004. – 17 дек. – С. 9. 7. Бабкинова Л. В. Мифологические образы в поэзии Намжила Нимбуева // Вестник Иркутского университета. Спец. вып.: материалы ежегодн. науч.-теор конф. мол. уч. – Иркутск : Иркут. ун-т, 2001. – С. 172–173. 8. Бабкинова Л. В. Образы тотемических мифов в поэзии Б. Дугарова из цикла «Памятники материальной культуры» // Вопросы ономастики, диалектологии, фольклора и литературы : тез. докл. регион. науч.-практ. конф., посвящ. 80-летию проф. А. Г. Митрошкиной, 1 8 мая 2001 г. – Иркутск, 2001. – С. 7–9. 9. Бабкинова Л. В. Мифологическое начало в поэзии Баира Дугарова (на материале стихотворения «Племя хори») // Проблемы фольклористики, литературоведения и языкознания : материалы регион. науч.-практ. конф. памяти д-ра филол. наук, проф. Шаракшиновой, 23–24 нояб. 2001 г. – Иркутск, 2002. – С. 26–28. 10. Бабкинова Л. В. Архетип земли в поэзии Галины Раднаевой // Современные угрозы человечеству и обеспечение безопасности жизнедеятельности : материалы VIII Всерос. студ. науч.-практ. конф. – Иркутск : ИрГТУ, 2003. – С. 247–249. 11. Бабкинова Л. В. Концепция мирового дерева в поэзии Намжила Нимбуева // Время в социальном, культурном измерении : тез. докл. науч. конф. – Иркутск : Иркут. ун-т, 2004. – С. 143–145. Мифопоэтика современной бурятской поэзии 117 12. Бабкинова Л. В. Дыхание огня // Вестник. – 2005. – № 2. – Май. 13. Бабкинова Л. В. Микрокосм и макрокосм в поэзии Баира Дугарова и Намжила Нимбуева // Наука и образование в УстьОрдынском Бурятском автономном округе: проблемы и перспективы (к 5-летию Боханского филиала БГУ). – Улан-Удэ : Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2005. – С. 99–105. 14. Бабкинова Л. В. Мотив инициации в поэзии Намжила Нимбуева // Мир фольклора в контексте истории и культуры монгольских народов : материалы междунар. науч. конф., посвящ. 90-летию со дня рождения проф. Н. О. Шаракшиновой. – Иркутск : Иркут. ун-т, 2006. – С. 29–32. 15. Бабкинова Л. В. Мифологическое время в поэзии Н. Нимбуева // Вестник ИрГТУ. – Иркутск : ИрГТУ, 2006. – № 4 (28). – С. 94–97. 16. Бабкинова Л. В. Символика сульдэ в современной бурятской поэзии (на материале произведений Н. Нимбуева, Г. Раднаевой, Б. Дугарова) // Бурятская литература в условиях современного социокультурного контекста : материалы регион. науч. конф. – Улан-Удэ : ГУП «ИД «Буряад унэн», 2006. – С. 66–70. 17. Байбурин А. К. Ритуал в традиционной культуре: структурносемантический анализ восточнославянских обрядов / А. К. Байбурин ; РАН, музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) – СПб. : Наука, 1993. – 237 с. 18. Балдаев С. П. Избранное / С. П. Балдаев. – Улан-Удэ : Бурят. кн. изд-во, 1961. – 255 с. 19. Балданмаксарова Е. Е. Бурятская поэзия: Традиции и новаторство (20–80 гг.) / Е. Е. Балданмаксарова. – Улан-Удэ : Изд-во Бурят. гос. ун-та, 1999. – 138 с. 20. Балданмаксарова Е. Е. Бурятская поэзия XX века: истоки, поэтика жанров. / Е. Е. Балданмаксарова. – М. : Спутник, 2002. – 364с. 21. Балданов С. Ж. Народно-поэтические истоки национальных литератур Сибири (Бурятии, Тувы, Якутии) / С. Ж. Балданов. – УланУдэ : Бурят. кн. изд-во, 1995. – 327с. 22. Банзаров Д. Собрание сочинений / Д. Банзаров – Улан-Удэ : Изд-во БНЦ СО РАН, 1997. – 240 с. 23. Баранникова Е. В. Бурятские волшебно-фантастические сказки / Е. В. Баранникова. – Новосибирск : Наука. Сиб. отд-ние, 1978. – 255 с. 24. Бардаханова С. С. Малые жанры бурятского фольклора / С. С. Бардаханова. – Улан-Удэ : Бурят. кн. изд-во, 1982. – 208 с. 118 Л. В. Бабкинова 25. Барт Р. Мифологии : пер. с фр. / Р. Барт ; вступ. ст. и коммент. С. Н. Зенкина. – М. : Изд-во им. Сабашниковых, 2000. – 320 с. 26. Басаева К. Д. Семья и брак у бурят / К. Д. Басаева. – Улан-Удэ : Бурят. кн. изд-во, 1991. – 192 с. 27. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин ; сост. С. Г. Богаров. – М. : Искусство, 1979. – 424 с. 28. Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики / М. М. Бахтин. – М. : Худ. лит., 1979. – 502 с. 29. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и ренессанса / М. М. Бахтин. – 2-е изд. – М. : Худож. лит. 1990. – 543 с. 30. Башляр Г. Вода и грезы: опыт о воображении материи / Гастон Башляр ; пер. с фр. Б. М. Скуратова. – М. : Изд-во гуманит. лит., 1998. – 270 с. 31. Баяртуев Б. Д. Освоение индо-тибетских художественных традиций в современной бурятской литературе // Новые тенденции в современной литературе Бурятии. – Улан-Удэ, 1988. – С. 26–37. 32. Баяртуев Б. Д. Предыстория литературы бурят монголов / Б. Д. Баяртуев. – Улан-Удэ : Изд-во БНЦ СО РАН, 2001. – 220 с. 33. Борев Ю. Б. Эстетика / Ю. Б. Борев. – М. : Высш. шк., 2002. – 513 с. 34. Борхес Л. Х. Письмена бога / Л. Х. Борхес – М. : Республика, 1994. – 510 с. 35. Бурдуков А. В. Человеческие жертвоприношения у современных монголов // Сиб. огни. – 1927. – № 3. 36. Бурчина Д. А. Гэсэриада западных бурят: указ. произведений и их вариантов / Д. А. Бурчина. – Новосибирск : Наука. Сиб. отд-ние, 1990. – 449 с. 37. Великий Гэсэр / сост., худ. перевод, вступ. ст. А. В. Преловского – М. : Моск. писатель, 1999. – 391 с. 38. Владимирцов Б. Я. Этнолого-лингвистические исследования в Урге, Ургинском и Кентейском районах. Северная Монголия / Б. Я. Владимирцов. – Л. : Изд-во АН СССР, 1927. – С. 1–42. 39. Галданова Г. Р. Доламаистские верования бурят / Г. Р. Галданова. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1987. – 112 с. 40. Галданова Г. Р. Культ огня у монголов // Исследования по истории филологии Центральной Азии. – Улан-Удэ, 1976. – Вып. 6. – С. 149–154. Мифопоэтика современной бурятской поэзии 119 41. Галданова Г. Р. Почитание животных у бурят // Буддизм и традиционные верования народов Центральной Азии / отв. ред. К. М. Герасимова. – Новосибирск : Наука, 1981. – С. 56–70. 42. Гацак В. М. Устная эпическая традиция во времени. Историческое исследование поэтики / В. М. Гацак. – М. : Наука, 1989 43. Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры / А. Я. Гуревич. – М. : Искусство, 1984. – 350 с. 44. Гурулев С. А. Что в имени твоем, Байкал? / С. А. Гурулев. – 2-е изд. перераб. и доп. – Новосибирск : Наука. Сиб. отд-ние, 1991. – 168 с. 45. Дампилова Л. С. Восточные художественные традиции в современной бурятской поэзии / Л. С. Дампилова. – Улан-Удэ : Изд.полиграф. комплекс ВСГАКИ, 2000. – 135 с. 46. Дампилова Л. С. Современная бурятская поэзия / Л. С. Дампилова, М. Ц. Цыренова. – Улан-Удэ : Изд.-полиграф. комплекс ВСГАКИ, 1998. – 129 с. 47. Дампилова Л. С. Символика кочевого пространства в поэзии Баира Дугарова / Л. С. Дампилова. – Улан-Удэ : Изд-во БНЦ СО РАН, 2005. – 160 с. 48. Дампилова Л. С. Шаманские песнопения бурят : символика и поэтика / Л. С. Дампилова. – Улан-Удэ : Изд-во БНЦ СО РАН, 2005. – 248 с. 49. Дмитриева Н. А. Пикассо / Н. А. Дмитриева. – М. : Наука, 1971. – 127 с. 50. Доржигушаева О. Экологическая этика буддизма : учеб. пособие / О. Доржигушаева. – СПб. : Фонд буддийских изданий и переводов «Карма Йеше Палдрон», 2002. – 68 с. 51. Дугаров Б. С. Золотое седло: Стихи / Б. С. Дугаров. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1975. – 23 с. 52. Дугаров Б. С. Дикая акация: Стихи / Б. С. Дугаров. – М. : Современник, 1980. – 112 с. 53. Дугаров Б. С. Небосклон: Стихи / Б. С. Дугаров. – Улан-Удэ : Бурят. кн. изд-во, 1986. – 144 с. 54. Дугаров Б. С. Всадник: Стихотворения / Б. С. Дугаров. – М. : Современник, 1989. – 142 с. 55. Дугаров Б. С. Лунная лань: Стихотворения / Б. С. Дугаров. – М. : Сов. Россия, 1989. – 174 с. 56. Дугаров Б. С. Звезда кочевника: Стихотворения / Б. С. Дугаров; предисл. О. Бараевой. – Иркутск : Вост. -Сиб. кн. изд-во, 1994. – 256 с. 120 Л. В. Бабкинова 57. Дугаров Б. С. Биобиблиографический указатель / сост. О. Ж. Рыгзенова; ред. : И. И. Петухова, М. П. Осокина. – Улан-Удэ, 2002. – 75 с. 58. Дугаров Б. С. Струна земли и неба: Стихотворения / Б. С. Дугаров. – Улан-Удэ : Изд-во ОАО «Республик. тип.», 2007. – 360с. : ил. 59. Дугаров Д. С. Исторические корни белого шаманства (на материале обрядового фольклора бурят) / Д. С. Дугаров. – М. : Наука, 1991. – 300 с. 60. Жамбалова С. Г. Профанный и сакральный миры ольхонских бурят / С. Г. Жамбалова. – Новосибирск : Наука, Сиб. изд. фирма РАН, 2000. – 400 с. 61. Жамцарано Ц. Ж. Из дневниковых записей // АЛОИВАН СССР. – Ф. 62. Оп. 1. Ед. хр. 117. 62. Жуковская Н. Л. Категории и символика традиционной культуры монголов / Н. Л. Жуковская. – М. : Наука, 1988. – 173 с. 63. Жуковская Н. Л. Бурятская мифология и ее монгольские параллели // Символика культов и ритуалов народов зарубежной Азии. – М., 1986. – С. 92–116. 64. Иванов В. В. Инвариант и трансформация в мифологических и фольклорных текстах / В. В. Иванов, В. Н. Топоров // Типологические исследования по фольклору : сб. ст. памяти В. Я. Проппа. – М. : Наука, 1975. – 320 с. 65. Кассирер Э. Философия символических форм : в 3 т. : пер. с нем. / Э. Кассирер. – М. ; СПб. : Университет. книга, 2002. – 272 с. 66. Керлот Х. Э. Словарь символов : [Мифология. Магия. Психоанализ : Перевод] / Х. Э. Керлот. М. : REFL book, 1994. – 601 с. 67. Леви-Брюль Л. Первобытное мышление / Л. Леви-Брюль. – М. : 1930. – 327 с. 68. Леви-Стросс К. Структура мифа / Вопр. философии. – 1970. – № 7. – С. 153. 69. Леви-Стросс К. Структурная антропология / К. Леви-Стросс ; пер. с фр. В. В. Иванова. – М. : Эксмо-Пресс, 2001. – 511 с. 70. Лихачев Д. С. Смех в Древней Руси / Д. С. Лихачев, А. М. Панченко, Н. В. Понырко. – Л. : Наука, 1984. – 293 с. 71. Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура / А. Ф. Лосев. – М. : Политиздат, 1991. – 524 с. 72. Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии / Ю. М. Лотман. – СПб. : Искусство СПБ, 1996. – 848 с. 73. Манжигеев И. А. Бурятские шаманистические и дошаманистические термины / И. А. Манжигеев. – М., 1978. – 125 с. Мифопоэтика современной бурятской поэзии 121 74. Мелетинский Е. М. Поэтика мифа / Е. М. Мелетинский ; РАН, Ин-т мировой литературы им. А. М. Горького. – 3-е изд., репринт. – М. : Изд. фирма «Вост. лит. » РАН, 2000. – 407 с. 75. Мифологический словарь / гл. ред. Е. М. Мелетинский. – М. : Сов. Энциклопедия, 1990. – 672 с. 76. Мифы народов мира : энциклопедия : в 2 т. / гл. ред. С. А. Токарев. - 2-е изд. : – М. : «Большая Рос. энциклопедия»Т. 1: А-К. – 2-е изд. – 1998. – 671 с. 77. Мифы народов мира: энциклопедия : в 2 т. / гл. ред. С. А. Токарев. – 2-е изд. : – М. : Большая Рос. энциклопедия. – Т. 2: К-Я. – 2-е изд. – 1998. – 719 с. 78. Михайлов Т. М. Из истории бурятского шаманизма / Т. М. Михайлов. – Новосибирск : Наука, 1980. – 319 с. 79. Михайлов Т. М. Бурятский шаманизм: история, структура и социальные функции / Т. М. Михайлов. – Новосибирск : Наука, 1987. – 288 с. 80. Mongolika-V : сб. ст. – СПб. : Петербург. Востоковедение, 2001. – 184 с. 81. Монголой нюуса тобшо. Сокровенное сказание монголов / Ч. -Р. Намжиловай оршуулга ; пер. С. А. Козина. – Улаан-Yдэ : Буряадай номой хэблэл, 1990 – 318 н. 82. Народные знания. Фольклор. Народное искусство: Свод этнографических понятий и терминов. – М : Наука, 1991. – Вып. 4. 83. Неклюдов С. Ю. Особенности изобразительной системы в долитературном повествовательном искусстве // Ранние формы искусства. – М. : Искусство, 1972. – С. 195–200. 84. Неклюдов С. Ю. Героический эпос монгольких народов: устные и литературные традиции / С. Ю. Неклюдов. – М. : Гл. ред. вост. лит-ры, 1984. – 309 с. 85. Неклюдов С. Ю. Монгольских народов мифология // Мифы народов мира. – М. : Сов. энциклопедия, 1988. – С. 170–174. 86. Нимбуева Л. Ш. // Вершины. – 2005. – № 1–2. – С. 22. 87. Нимбуев Н. Стреноженные молнии: Стихи / вступ. ст. Н. Дамдинова. – М. : Современник, 1979. – 94 с. с ил. 88. Нимбуев Н. Стихи. – Улан-Удэ, 1998. – 127 с. 89. Нимбуев Н. Стреноженные молнии. Стихи. Переводы. Проза / Н. Нимбуев. – М. : Галерея Ханхалаев, 2003. – 308 с. 90. Окладников А. П. Олень Золотые Рога / А. П. Окладников. – Иркутск, 1961. – 237с. 122 Л. В. Бабкинова 91. Окладников А. П. Шишкинские писаницы – памятник древней культуры Прибайкалья / А. П. Окладников. – Иркутск : Иркут. кн. изд-во, 1959. – 210 с. 92. Очирова Т. Н. Постоянство, или цена устойчивости и бунта / Т. Н. Очирова // Земли моей молодые голоса : сб. ст. – Улан-Удэ : Бурят. кн. изд-во, 1981. – С. 44–64. 93. Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки / В. Я. Пропп. – СПб. : Изд-во С. -Петерб. ун-та., 1996. – 362 с. 94. Потанин Г. Н. Ерке. Культъ сына неба въ Съверной Азiи. Матерiалы къ тюрко-монгольской мифологiи / Г. Н. Потанин. – Томскъ, Ф. М. Григорьева, 1916. 95. Поэтика жанров бурятского фольклора : сб. / отв. ред. М. И. Тулохонов. – Улан-Удэ : БФ СО АН СССР, 1982. – 110с. 96. Раднаева Г. Набшаhанай hаршаганаан / Г. Раднаева. – Улаан-Yдэ : Буряадай номой хэблэл, 1979. – 52 н. 97. Раднаева Г. Ээрсэг: Шүлэгүүд / Г. Раднаева. – Улаан-Yдэ : Буряадай номой хэблэл, 1983. – 80 н. 98. Раднаева Г. Огонь в очаге: Поэма / Г. Раднаева ; пер. с бурят. – М. : Современник, 1986. – 144 с. 99. Раднаева Г. Хун-шубуун: Уянгата поэмэнүүд / Г. Раднаева. – Улаан-Удэ : Бураядай номой хэблэл, 1987 – 128н. 100. Раднаева Г. Белый месяц: стихотворения: Поэмы / пер. с бурят. – М. : Сов. Россия, 1989. – 144с. 101. Раднаева Г. Пробуждение: поэмы : пер. с бурят. / Г. Раднаева. – М. : Сов. писатель, 1990. – 187 с. 102. Раднаева Г. Хэтэ, сахюур. Уянгата шүлэгүүд / Г. Раднаева. – Улаан-Yдэ, 1992. – 123 н. 103. Раднаева Г. Талын булаг. Шүлэгүүд / Г. Раднаева. – УлаанYдэ, 1994. – 126 н. 104. Раднаева Г. Yлхθθ шурэнууд. Уянгата шүлэгүүд / Г. Раднаева. – Улаан-Yдэ, 1993. – 127 н. 105. Ринчен Б. Культ исторических персонажей в монгольском шаманстве // Сибирь, Центральная и Восточная Азия в средние века. – Новосибирск, 1975. – Вып. 3. – С. 188–195. 106. Словарь литературоведческих терминов / И. А. Елисеев, Л. Г. Полякова. – Ростов н /Д. : Феникс, 2002. – 320 с. 107. Словарь литературоведческих терминов / ред.-сост. Л. И. Тимофеев и С. В. Тураев. – М. : Просвещение, 1974. – 509 с. 108. Слюсаренко М. А. Бурятский праздник как отражение национального мировоззрения // Русский текст в евразийском контек- Мифопоэтика современной бурятской поэзии 123 сте: язык, литература, культура : сб. ст. / отв. ред. В. В. Башкеева. – Улан-Удэ : Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2003. – Вып. 2. – С. 74–83 (Русский национальный текст). 109. Современное зарубежное литературоведение: страны Западной Европы и США: концепции, школы, термины : энциклопед. справочник. – М. : Интрада-ИНИОН, 1999. – 315 с. 110. Стеблин-Каменский М. И. Миф / М. И. Стеблин-Каменский. – Л. : Наука, Ленингр. отд-ние, 1976. – 104 с. 111. Топоров В. Н. О структуре некоторых архаических текстов, соотносимых с концепцией «мирового дерева» // Учен. зап. Тартуского ун-та. – Тарту, 1971. – Вып. 284. 112. Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: исслед. в обл. мифопоэтического: Избранное / В. Н. Топоров. – М. : Прогресс. Культура, 1995. – 621 с. 113. Тресиддер Д. Словарь символов / Д. Тресиддер. – М. : ФаирПресс Гранд, 1999. – 448 с. 114. Трубачеева Е. Онгоны моих нагснутов // Байкал. – 1977. – № 3. – С. 143–150. 115. Тулохонов М. И. К характеристике эпического мира улигеров // «Джангар» и проблемы эпического творчества тюркомонгольских народов : сб. ст. – М. : Наука, 1980. – С. 115. 116. Тулохонов М. И. К характеристике эпического мира улигеров // «Джангар» и проблемы эпического творчества тюркомонгольских народов. – Элиста, 1978. – С. 79. 117. Уланов А. Бурятский героический эпос / А. Уланов. – УланУдэ : Бурят. кн. изд-во, 1963. – 219 с. 118. Уланов А. И. Бурятский фольклор и литература / А. И. Уланов. – Улан-Удэ : Бурят. кн. изд-во, 1959. – 158 с. 119. Уланов Э. А. Эпос в развитии бурятской словесности: аспекты поэтико-стадиальной эволюции художественного мышления / Э. А. Уланов. – Улан-Удэ : Бэлиг, 2003. – 212 с. 120. Хализев В. Е. Теория литературы : учеб. для вузов / В. Е. Хализев. – 2-е изд. – М. : Высш. шк., 2000. – 398 с. 121. Хангалов М. Н. Балаганский сборник / М. Н. Хангалов ; под ред. Г. Н. Потанина // Труды ВСОРГО. – 1903. – Т. 5. 122. Хангалов М. Н. Собрание сочинений : в 2 т. / М. Н. Хангалов. – Улан-Удэ : Бур. кн. изд-во, 1960. – Т. 2. – 443 с. 123. Хомонов М. П. Бурятский героический эпос «Гэсэр» / М. П. Хомонов. – Улан-Удэ : Бурят. кн. изд-во, 1976. – 186 с. 124 Л. В. Бабкинова 124. Хюбнер К. Истина мифа : пер. с нем. / К. Хюбнер ; Ст. И. Касавина]. – М. : Республика, 1996. – 447 с. 125. Цыдендамбаев Ц. Б. Бурятские исторические хроники и родословные, как источники по истории бурят / Ц. Б. Цыдендамбаев. – Улан-Удэ : Изд-во ОАО «Республик. тип.», 2001. – 256 с. 126. Чагдуров С. Ш. Поэтика Гэсэриады / С. Ш. Чагдуров. – Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та, 1993. – 368 с. 127. Чимитдоржиев Ш. Б. Бурятские летописи / Ш. Б. Чимитдоржиев. – Улан-Удэ : РАН СО БИОН, 1995. – 197 с. 128. Шаракшинова Н. О. Героико-эпическая поэзия бурят / Н. О. Шаракшинова. – Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та, 1987. – 304 с. 129. Шаракшинова Н. О. История древней бурятской литературы / Н. О. Шаракшинова, Е. К. Шаракшинова. – Иркутск : ред.-издат. отдел Иркут. ун-та, 1989. – 78 с. 130. Шаракшинова Н. О. Лирические песни бурят / Н. О. Шаракшинова. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1973. – 147с. 131. Шаракшинова Н. О. Мифы бурят / Н. О. Шаракшинова. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1980. – 167 с. 132. Эко У. Заметки на полях «Имени розы» // У. Эко. Имя розы : пер. с ит. – М., 1998. 133. Элиаде М. Аспекты мифа / М. Элиаде. – М. : Инвест ППП, СтППП, 1996. – 240 с. 134. Элиаде М. Аспекты мифа : пер. с фр. / М. Элиаде. – М. : Академ. Проект, 2000. – 223 с. 135. Элиаде М. Миф о вечном возвращении: архетипы и повторяемость / М. Элиаде : пер. с фр. Е. Морозовой, Е. Мурашкинцевой ; науч. консультант Я. В. Ческов. – СПб. : Алетейя, 1998. – 249 с. 136. Юнг К. Г. Душа и миф: шесть архетипов / К. Г. Юнг ; пер. А. А. Спектор. – Минск : Харвест, 2004. – 398 с. Мифопоэтика современной бурятской поэзии 125 ОГЛАВЛЕНИЕ Введение ..........................................................................................3 Глава I. Мифопоэтическое начало бурятской поэзии 60–90-х гг. .......................................................................................6 1.1. Космогонические образы в современной бурятской поэзии .10 1.2. Тотемические образы в современной бурятской поэзии ........67 1.3. Этиологические образы в современной бурятской поэзии ....74 1.4. Мифологическое время в лирико-философской поэзии .........77 1.5. Изображение смерти в творчестве Н. Нимбуева .....................88 Глава II. Фольклорные истоки современной поэзии ...................94 2.1. Поэтика обрядовой поэзии календарного цикла в современной бурятской поэзии ............................................................94 2.2. Эпические образы в современной поэзии ................................102 2.3. Маргинальные образы в поэзии Нимбуева ..............................107 Заключение ......................................................................................114 Библиографический список ...........................................................116 Л. В. Бабкинова 126 Научное издание БАБКИНОВА Лидия Валерьевна МИФОПОЭТИКА СОВРЕМЕННОЙ БУРЯТСКОЙ ПОЭЗИИ ISBN 978-5-9624-0365-6 Печатается в авторской редакции На обложке использована работа художника Сергея Ханхарова «Корабль долголетия» Темплан 2009. Поз. 52. Подписано в печать 21.07.2009 г. Формат 60х84 1/16. Печать трафаретная. Усл. печ. л. 7,3. Уч.-изд. л. 5,0. Тираж 300 экз. Заказ 79. ИЗДАТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 664003, Иркутск, бульвар Гагарина, 36; тел. 24-14-36