РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ XIX ВЕКА О РЕЛИГИОЗНЫХ
advertisement
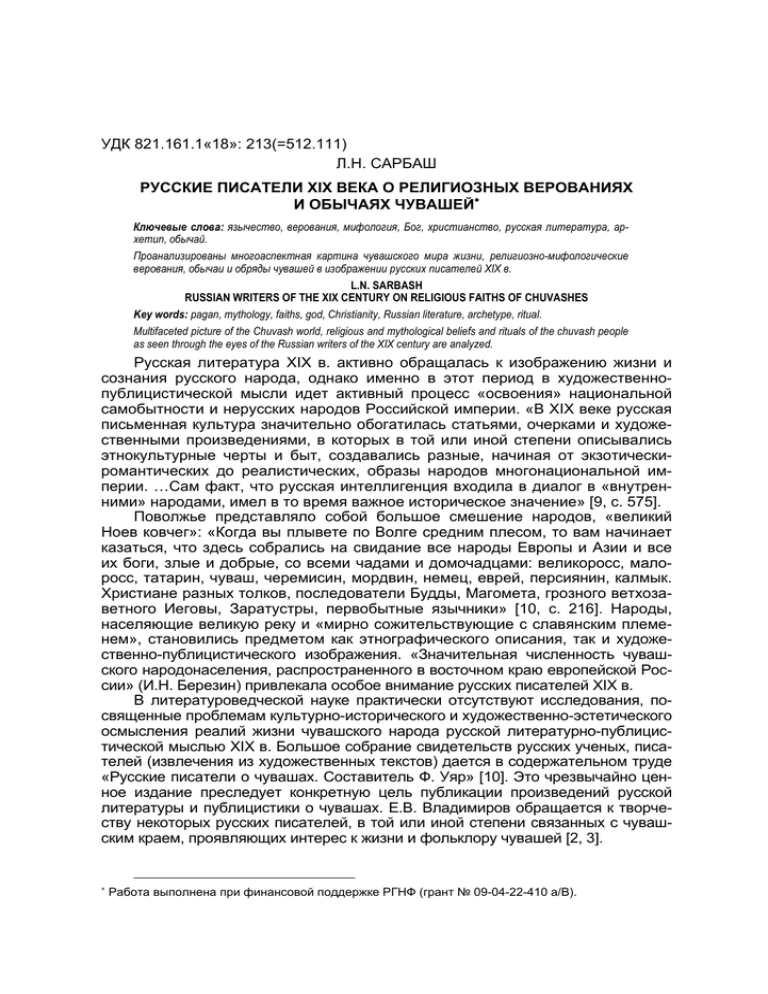
УДК 821.161.1«18»: 213(=512.111) Л.Н. САРБАШ РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ XIX ВЕКА О РЕЛИГИОЗНЫХ ВЕРОВАНИЯХ И ОБЫЧАЯХ ЧУВАШЕЙ∗ Ключевые слова: язычество, верования, мифология, Бог, христианство, русская литература, архетип, обычай. Проанализированы многоаспектная картина чувашского мира жизни, религиозно-мифологические верования, обычаи и обряды чувашей в изображении русских писателей XIX в. L.N. SARBASH RUSSIAN WRITERS OF THE XIX CENTURY ON RELIGIOUS FAITHS OF CHUVASHES Key words: pagan, mythology, faiths, god, Christianity, Russian literature, archetype, ritual. Multifaceted picture of the Chuvash world, religious and mythological beliefs and rituals of the chuvash people as seen through the eyes of the Russian writers of the XIX century are analyzed. Русская литература XIX в. активно обращалась к изображению жизни и сознания русского народа, однако именно в этот период в художественнопублицистической мысли идет активный процесс «освоения» национальной самобытности и нерусских народов Российской империи. «В XIX веке русская письменная культура значительно обогатилась статьями, очерками и художественными произведениями, в которых в той или иной степени описывались этнокультурные черты и быт, создавались разные, начиная от экзотическиромантических до реалистических, образы народов многонациональной империи. …Сам факт, что русская интеллигенция входила в диалог в «внутренними» народами, имел в то время важное историческое значение» [9, с. 575]. Поволжье представляло собой большое смешение народов, «великий Ноев ковчег»: «Когда вы плывете по Волге средним плесом, то вам начинает казаться, что здесь собрались на свидание все народы Европы и Азии и все их боги, злые и добрые, со всеми чадами и домочадцами: великоросс, малоросс, татарин, чуваш, черемисин, мордвин, немец, еврей, персиянин, калмык. Христиане разных толков, последователи Будды, Магомета, грозного ветхозаветного Иеговы, Заратустры, первобытные язычники» [10, с. 216]. Народы, населяющие великую реку и «мирно сожительствующие с славянским племенем», становились предметом как этнографического описания, так и художественно-публицистического изображения. «Значительная численность чувашского народонаселения, распространенного в восточном краю европейской России» (И.Н. Березин) привлекала особое внимание русских писателей XIX в. В литературоведческой науке практически отсутствуют исследования, посвященные проблемам культурно-исторического и художественно-эстетического осмысления реалий жизни чувашского народа русской литературно-публицистической мыслью XIX в. Большое собрание свидетельств русских ученых, писателей (извлечения из художественных текстов) дается в содержательном труде «Русские писатели о чувашах. Составитель Ф. Уяр» [10]. Это чрезвычайно ценное издание преследует конкретную цель публикации произведений русской литературы и публицистики о чувашах. Е.В. Владимиров обращается к творчеству некоторых русских писателей, в той или иной степени связанных с чувашским краем, проявляющих интерес к жизни и фольклору чувашей [2, 3]. ∗ Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (грант № 09-04-22-410 а/В). Проблема изображения инонациональных явлений жизни в русской литературе XIX в. – одна из актуальных и значимых. Она заключает в себе целостную историко-литературоведческую концепцию изображения национального бытия – быта, уклада жизни, нравов и обычаев, культуры, философско-религиозных, нравственно-этических и эстетических воззрений того или иного народа. Картина чувашского мира жизни в русской литературе XIX в. предстает в достаточно широком плане. В творчестве русских писателей-классиков, в идейно-образной системе произведений А.С. Пушкина, А.И. Герцена, С.Т. Аксакова, В.И. Даля, Н.С. Лескова, П.И. Мельникова-Печерского, Л.Н. Толстого, Н.Г. Гарина-Михайловского, Н.Д. Телешова, М.Е. Салтыкова-Щедрина, В.Г. Короленко появляются чуваши, мир жизни чувашского народа. Однако писатели и публицисты, менее известные для своего времени и практически неизвестные широкой аудитории на сегодняшний день, – В.Н. Назарьев, Е.Л. Марков, А.А. Коринфский, С.В. Максимов, Н.Я. Аристов, В.И. Немирович-Данченко – также обращаются к описанию жизни представителей «чувашского племени». Картина жизни чувашей, одного из «загадочных поколений» Поволжья (О.И. Сенковский), предстает в русской литературе достаточно многоаспектно, постижение особенностей национальной жизни идет на разных уровнях художественно-публицистического освоения. Прежде всего, конечно, проявляется этнографический интерес к укладу жизни чувашей, обычаям, обрядам (свадебным, похоронным); как правило, обращается внимание на внешний облик, жилище, праздники, повседневную и праздничную национальную одежду; возникает вопрос о генезисе народа, строении и специфических особенностях языка; дается понимание натуры: простодушие, миролюбие, доброта, бескорыстие, способность прийти на помощь ближнему, при этом в качестве характерной черты отмечается связь с природным миром, по определению О.И. Сенковского, «мудрый народ, близкий к природе» (А.А. Фукс, О.И. Сенковский, В.А. Сбоев, В.И. Даль, С.Т. Аксаков, П.И. Мельников-Печерский, Н.Д. Телешов, С.В. Максимов, А.А, Коринфский, Н.Г. Гарин-Михайловский, В.Г. Короленко и другие). В изображении возникает и глубинный этнологический уровень: постижение духовно-нравственных черт народа, его мировидения в соединении языческих религиозно-мифологических и христианских верований. Отмечается приверженность чувашей к таким языческим богам, как Тора, Ирих, Кереметь. Русская литература уходила от внешней этнографической декоративности в описании как русского народа, так и других российских народов. Писатели передают различные формы сознания, обращаются к типу мышления, мифологическим верованиям, теогоническим представлениям чувашей. В связи с широким и многоаспектным охватом изображаемых явлений жизни реалии национальной действительности и характеры предстают во всем многообразии их выражения – от материально-бытового до бытийного. Национальная картина жизни, чувашское духовно-нравственное сознание предстает в совокупности культурно-исторических, религиозно-мифологических верований и онтологических воззрений. В трудах русских ученых XIX в., описывающих религиозную мифологию чувашского народа, возникает яркая и достаточно полная картина языческого «чувашского пантеона». В.П. Вишневский в работе «О религиозных поверьях чуваш» (1846 г.) дает системное описание дохристианских религиозно-мифологических представлений чувашей, выделяя доброе начало, бога Тора (Тура) и «подчиненных ему существ» и злое начало – Киреметь, со всем его «штатом». Вишневский описывает обряд жертвоприношения, дает молитвы в честь Миродержателя (бога Торы) и в честь Киреметя «об отвращении бедствий» [1]. Чу- вашская демонология и легенды, связанные с ней, предстают в книге В.К. Магницкого «Материалы к объяснению старой чувашской веры» (1881 г.) [7]. Русский историк, ученый-этнограф, профессор Казанского университета В.А. Сбоев в работе «Заметки о чувашах. Исследования об инородцах Казанской губернии (1840-1850)» выступает как серьезный исследователь материальной и духовной культуры чувашей, особенно мифологии и «древней религии», но одновременно предстает и как писатель [12]. Научный труд предпринят в свободной увлекательной форме писем-обращений к редактору «Казанских губернских ведомостей» Александру Ивановичу Артемьеву. Объективно-очерковый характер повествования содержит явно выраженные элементы художественно-публицистического стиля: письма даются в форме дружеской беседы, с характерными отступлениями от темы; введением «анекдотов» – конкретных жизненных случаев, иллюстрирующих этнографические наблюдения; конструированием предполагаемых ситуаций, в которых может оказаться «любезный Александр Иванович». Некоторые этнологические изыскания представляют сюжетно законченные эпизоды и являются художественными рассказами с конкретными образами. Характеризуя злое божество чувашей Кереметь, Сбоев излагает легенду о его происхождении, а при определении «самого свирепого и самого грозного божества», Хаяр-Керемети, приводит конкретный случай, который является самостоятельным художественно рассказанным эпизодом с образом повествователя, ямщика Нягося, вобура Казюка и даже Хаяр-Керемети. Яркая образность данного отрывка «Заметок о чувашах» послужила П. Инфантьеву основой для создания произведения «Злая Кереметь» (в рубрике «Жизнь народов России»), в котором герои предстают под другими именами, но порой буквально повторяют сбоевский текст. Художественно-публицистический, творческий характер работы В.А. Сбоева позволяет рассматривать ее как заметное явление русской литературной мысли XIX в. А.А. Фукс (Апехтина) – первая русская писательница, которая начала работать в области этнографии. Она одной из первых в XIX в. обратилась к описанию уклада жизни, обычаев, обрядов, религиозных верований народов Поволжья: «Записки о чувашах и черемисах Казанской губернии» (1840 г.), «Поездка к вотякам Казанской губернии» (1844 г.). «Записки о чувашах» даны в свободной литературной форме писем к супругу, проф. Казанского университета К.Ф. Фуксу; в них присутствует сознательная заданность на исследование инонационального, «чувашского»: автор посланий становится свидетелем или участником тех или иных обрядов, обычаев; является слушательницей историй, рассказанных сопровождавшим ее йомзей («колдун, жрец и лекарь» в одном лице) или добрыми чувашскими знакомыми; предпринимает обход изб некрещеных чувашей, чтобы уяснить их разницу с крещеными. Подробно описывается свадебный, похоронный и связанный с ним поминальный обряды, особое внимание обращено на религиозные верования чувашей. Подробно излагается «чувашская мифология»: выделяется главное этническое божество Тора, даются другие боги, их характеристика и связанные с ними занимательные жизненные истории: «Тора – бог главный», «Пиликсе – помощник бога», «Аслади – бог грома», «Хоар – злой дух при дороге», «Эсрель – смерть или дух, который вынимает душу», «Хвель – Солнце», «Силь – бог ветра», «Кебе – духи», охраняющие богов, и многие другие чувашские божества [14, с. 92]. При указании на бога житниц Теркулю (в русской огласовке, как и названия других божеств) излагает историю, характеризующую поклонение ему: храмом бога житниц является амбар, которому в щели и кладутся деньги. Священник, желая пресечь суеверие прихожан, велел продать «два амбара с Теркулями», купивший их крестьянин нашел в углах «до 15 рублей мелких денег», но крещеные и некрещеные чуваши не перестали приносить их в эти амбары. Обстоятельно описывает А. Фукс злого Ириха и Кереметь, а также жертвоприношение последнему божеству с подробным изложением: приводят быка, льют воду на спину; если бык встряхнется, значит, он угоден богу, и его закалывают. «Керемети у чуваш то же», считает писательница, что у русских «приход». При рассмотрении «чувашского Олимпа» у Александры Фукс возникает культурологический аспект, религиозно-мифологические верования даются в сравнительно-сопоставительном уточнении: чувашское многобожие, как у «Греков и Римлян», а представление о загробной жизни, «как у Египтян». В ответных письмах К.Ф. Фукс дополняет наблюдения своей супруги: добрый бог не требует жертвы, его не боятся и только благодарят за добро, злое же божество требует «беспрестанной жертвы»: «Добрый называется Тора, а злой Кереметь. Первый не имеет храмов, а последнему посвящено место в лесах, близ ключей, кои носят на себе его имя, даже в самих домах ему приносят жертвы» [14, с. 139]. Карл Фукс приводит и ежедневную чувашскую молитву, обращенную к Торе; обобщая названную А. Фукс языческую теогонию, пишет: «Политеизм Чувашский так запутан, что для распутывания его потребно большее показание, нежели Чувашского йомзи или колдуна. Чуваши изобрели себе особенную религию, которая для сих детей природы есть самая натуральная, и, без сомнения, древнейшая» [14, с. 137]. В.А. Сбоев в «Заметках о чувашах» (1851 г.) выступает как «самовидец» и как человек, заимствовавший многие сведения из рассказов «достоверных людей». Предметом рассмотрения являются мифология и «древняя религия» чувашей, праздники и обряды, названия которых, как и божеств, подвергаются лингвистическому анализу с установлением этимологии. Чувашский языческий Олимп и связанные с ним верования предстают в полном и подробном изложении. Автор «Заметок» отмечает первоначальный дуализм чувашей – поклонение богу «добра и света» Торе и «зла и мраку» Шайтану, из которого образовалась «система многосложного политеизма». Сбоев дает разветвленную иерархическую, связанную с семейным устройством жизни, систему языческих добрых и злых божеств. Главным Богом, распорядителем всего мира является Сюльди-Тора, который сообщается с земными богами и человеком посредством небесных божеств. Другие боги чувашей связаны с созданием определенных частей вселенной: творец света – Сюдь-Тунзы-Тора, бог солнца – Хвель-Тора, бог грома и молнии – Асла-аддий-Тора, бог плодородной земли (оплодотворяющий землю) – ХерлеСирь-Тора, бог ветра – Силь-Тора и т.д. Другие языческие чувашские божества имеют непосредственное отношение к устроению земной жизни человека: Кебе управляет людскими судьбами посредством Пюлюхси (раздает «счастливые или несчастные жребии», богатство или бедность земных благ) и Пигамбара (раздает душевные качества и сообщает йомсям пророческие видения). В.А. Сбоев отмечает существенные временные изменения языческой теогонии у чувашей, и прежде всего значительное сокращение богов: «…все означенные божества под влиянием христианских понятий снова слились в одно божество, называемое «Сюлди-Тора», Сюд-сяндалык тыдагган (содержащий вселенную)… уже одному Богу стали приписывать как сотворение всего, что существует во вселенной, так и промышление о ней» [12, с. 96]. Исследователь отмечает влияние христианства на языческую космогонию чувашей: божества стали приобретать иное значение, свойства христианских богов и святых: «…пюлюхси (древний бог – раздаватель счастливых жребиев и внешних благ)… незаметно сделался почти тем же, чем у христиан – Архангел; пигамбар… превратился у одних во что-то похожее на Георгия Победоносца, а у других – на Илию пророка; понятие о сюльди-торамыш (верховной богине, матери богов) перенесено на Пресвятую Деву, понятие о тор ира (бог благодеяний) – на ангела-хранителя…» [12, с. 46-47]. В восьмой главе сочинения В. Сбоев передает представления о «чувашской диавологии», выделяя высшее, первенствующее злое божество Кереметь, к которому обращались практические все, кто писал о религиозных воззрениях чувашей. Ученый считает, что этот бог, общий для крещеных поволжских народов, скорее всего, именно от чувашей перешел к другим, вотякам и черемисам. Излагается легенда о происхождении божества: это был сын верховного Бога, который, будучи добрым, разъезжал по земле в пышной белой колеснице, запряженной белыми конями, и приносил людям довольство и счастье; люди же, по наущению шайтана, убили сына бога, сожгли тело и развеяли прах по ветру, и в тех местах, где падал пепел, Кереметь возродился уже во многих лицах: «Вообще кереметь есть существо озлобленное, мстящее людям за свое убиение, за потерю права на небесное жилище,– существо, готовое поражать преступный род человеческий всеми возможными бедствиями и страданиями. Всякая невзгода, всякое частное и общественное бедствие происходит от керемети. Чуваши верили, что люди давным-давно были бы стерты с лица земли со всем их имуществом, если бы только не умилостивляли кереметь жертвоприношениями» [12, с. 85]. Называется и характеризуется семь видов Кереметей, среди которых особо выделяется Хаяр-Кереметь как самое злое и грозное божество, которому не нужны жертвоприношения, требовались только заклинания. Обращение же к Хаяр-Керемети считалось особо опасным, так как «в бешеном ослеплении» бог мог поразить и просящего, и стоящего рядом. Представление о Хаяр-Керемети иллюстрируется жизненным эпизодом, представляющим собой художественный рассказ с конкретной сюжетной историей, в котором и появляется страшный образ злого Бога. Автор предстает в качества рассказчика, наблюдающего необычайное зрелище – заклинание Керемети: вобур (колдун) Козюшка, раздевшись донага, обратив глаза на восток, завыл «диким, пронзительным, раздирающим душу голосом»; среди воплей звучит обращение к Керемети: «Хаяр-Кереметь! Озал-Кереметь! Манын сумах ильделе! чазрах тыд она, виляр она, т.е. злая кереметь, лихая кереметь! Услышь мою молитву, немедленно излови, умертви его!» [12, с. 89]. В состоянии сильнейшего душевного потрясения Козюшка рвал на себе волосы, грыз зубами землю, кувыркался и валялся; портрет также свидетельствует о чрезмерном волнении просящего: «Глаза налились кровью и сверкали, как горячие уголья; пена клубом билась изо рта; волосы на голове и бороде были всклочены и осыпаны землею; лицо, руки, ноги и вообще все тело исцарапано до крови и покрыто пылью и грязью» [12, с. 89]. Ямщик Нягось был во время заклинания рядом с Кереметью, собирал малину и подвергся воздействию разъяренного бога: им завладела лихорадка; будучи еще недавно «здоровым, как бык», Нягось оказался еле жив, о чем говорит сестра рассказчика, да и он сам увидел в церкви ямщика после «тяжкой, изнурительной болезни». Возникает диалог, в котором обсуждается случившееся. Нягось особо не сердится, что в керемети вместо тогатмыша (заклинателя) был Казюк, он сетует на то, что нельзя было находиться рядом, как и предписывает народное верование, тогда был бы сам здоров и бык цел (он принесен в жертву Керемети). Однако языческого жертвоприношения недостаточно, и Нягось приходит в церковь, чтобы «окончить чук», поставить свечку иконе – «кюдесра-Тора»; по замечанию автора, это обыкновенно был Спаситель или Николай Чудотворец. В. Сбоев отмечает в мировосприятии чуваша соединение древнего языческого с современным христианским. Обозначен субъектноязыковой пласт речи Нягося, с характерным двуязычием, использованием русских и чувашских слов: поскольку стоял рядом с кереметью, то «ухмак» (дурак); «тибь болдыр» (черт возьми), «дос» (друг), «хопланна» (пострел), «хорондаш» (родственник); кереметь корчила все суставы – «аптрал» (из сил выбился) и т.п. Возникают в диалоге две противоположные точки зрения на происходящее. Рассказчик, который тоже находился рядом с кереметью, желает опровергнуть религиозные убеждения Нягося, считая злого бога «выдумкой йомсей»: почему Кереметь «карает и милует одних Чуваш, Черемис и Вотяков, а и к Русским, к Татарам и к Немцам и подступить не смеет? Если бы он точно существовал, то мог бы карать всех людей» [12, с. 92]. С таким утверждением Нягось не соглашается и рассказывает историю о том, как, возвращаясь со свадебного пира, он увидел Кереметь, которая ехала в черной карете, запряженной черными, как смоль, лошадями. В народном сознании Кереметь разъезжает по земле. Следует заметить, что если у доброго небесного бога были белые кони, то когда он стал злым земным божеством, масть лошадей меняется: это могут быть белые, черные, рыжие лошади. Священник В.Я. Смелов в «Очерке религиозных верований чуваш» отмечает, что, как говорят чуваши, «Сорминская киреметь Ядринского уезда» ездит на белых конях, а «Кошелеевского уезда» деревни Мундырь – на тройке «рыжих лошадей» [7, с. 253]. Нягось видит страшное рыло с бородой, рогами, на которых звенят колокольчики, на Керемети красный колпак и красный кафтан, глаза сверкают, «как молнии». Никакие доводы рассказчика о том, что Нягось был немного пьян (с чем он соглашается) и его хмельному разгоряченному воображению проезжающий в колымаге человек предстал в том виде, в каком описывал Хаярь-Кереметь йомся Семка, не могли переубедить чувашина, и он больше никогда не вступал в разговоры о « старой чувашской вере». В русской классической литературе – в художественном творчестве писателей XIX в., в идейно-образной системе их произведений – возникают как этнокультурные черты, так и чувашские религиозно-мифологические верования, обычаи и обряды. Национальная картина жизни предстает в авторском повествовании или мировосприятии и оценке персонажей. В «Очарованном страннике» Н.С. Лескова чувашин и его боги даются через восприятие героя – носителя христианской веры и определенных черт характера. Православный Иван Флягин «заявлен» у Лескова в ситуации соприкосновения – взаимодействия с нерусским, инородческим миром. «Русская вера» испытуется в течение десятилетнего пребывания в татарской неволе, когда жизнь вне отечества, родного бытия видится герою неистинной, он боится умереть без покаяния, «неотпетым», когда будет похоронен в солончаках и придется лежать «до конца света солониною». В степи, где простор без краю и «знойный жестокий вид», грезится Флягину русский храм, монастырь, «в глубине тоски» встает картина «счастья» в «крещеной земле», вспоминается церковный праздник, священник Илия и все атрибуты русской жизни. Смертельная тоска по родине воплощается и в страстных ночных молитвах, когда даже снег под коленками тает и травка появляется там, где слезы падают. Поэтому и детей, рожденных в степи, Иван Флягин не считает своими, так как живет он «невенчанный», дети же «без всех церковных таинств», т.е. некрещеные, следовательно, нерусские: сколько он их «ни умножит», все они будут неправославные, чужие. Вера для лесковского героя – основа жизни, является доминирующим фактором. Через призму определенного миросозерцания и предстают иноверцы: татары с их обычаями (поединок на ярмарке: кто кого «перепорет», тому и достанется кобыла), чувашин, люди «индийского бога» Талафы, миссионер-«жидовин», проповедующий у татар, с которым герой вступает в спор, считая, что его вера неистинная, так как в ней отсутствуют святые, те, кто ценой жизни утверждал веру. После побега из татарского плена происходит встреча с чувашином, ехать с которым Флягин поопасался, так как не понял, какой он веры, а «без этого на степи страшно». Чувашин крещеный, но по сути является язычником: для него богом является солнце, звезды, месяц. «Все у тебя бог», – такова оценка Ивана Северьяновича. Однако чувашин почитает Христа, Богородицу, Николая Чудотворца, правда, при этом оговаривается, что зимнему он не кланяется, а летнему дает двугривенный, чтоб «хорошенько коровок берег» (два праздника Николая Святителя, 9 мая и 6 декабря). Флягин одобряет чувашина за уважение именно «русского» Николая Чудотворца, для него – русский значит христианский, это синоним православного мира. Собеседник Флягина обмолвился, что на одного святого не надеется и жертвует бычка Керемети. Чувашин упоминает свое злое и свирепое языческое божество старой веры, которое насылает на людей самые разнообразные беды и несчастья. Для православно ориентированного героя это возмутительно: чувашин не надеется на истинного бога, дает ему только двугривенный, а некрещеному, «поганому», «своей мордовской Керемети» (разрядка наша. – Л.С.) жертвует целого бычка [6, с. 275]. Флягин говорит своим слушателям, что встретил именно чувашина, фраза же насчет «мордовской Керемети» весьма характерна: Кереметь олицетворяет собой не христианское, Лесков делает героя «осведомленным» в том, что этот бог существует не только у чувашей, но и у других поволжских народов. В «Очарованном страннике» восприятие чувашина дается через оценочную систему духовно-нравственных христианских координат жизни персонажа, тем не менее «чувашское» предстает на страницах повести Н.С. Лескова в своей конкретной самобытности, национальном своеобразии. Возникает злой бог Киреметь, которому чуваши приносили жертвы, о чем подробно и обстоятельно писали русские ученые и писатели П.С. Паллас, В.К. Милькович, А.А. Фукс, В.П. Вишневский, В.А. Сбоев, В.К. Магницкий. В художественной литературе Киреметь, кроме Лескова, упоминается в произведении Н.Д. Телешова «Сухая беда»: чуваш Максимка просит Хаяр-Киреметь наказать обидчика. Не случайно в «Очарованном страннике» Н.С. Лескова упоминается именно Николай Чудотворец, который «один на зиму, один на лето живет». Известно, что Николай Святитель в качестве «русского Бога» особенно почитался инородцами. В.П. Вишневский в работе «О религиозных поверьях чуваш» пишет, что оставившие язычество чуваши «признают 12 благих существ, подчиненных Миродержателю потому, что у Спасителя было 12 Апостолов. Что у них Пюлюхсь есть то же, что у христиан Михаил Архангел; Мун-ира – Ангел-хранитель; Пигамбор – Георгий-Победоносец… Херле сирь – НиколайУгодник, около весеннего дня памяти коего оканчивается весенний посев и начинает расти озимой» [1, с. 24]. В. Сбоев в «Заметках о чувашах» также пишет, что от «ознакомления с христианскими верованиями» многие языческие божества получили другое значение: «… в молитвах, обращенных к херлесирь-керемети, Чуваши упоминали имя Николы-Торы, т.е. Николая Чудотворца. Никто не мог объяснить мне, как и почему в эти именно молитвы включено имя христианского святителя» [12, с. 47, 87]. Чувашин Максимка у Н.Д. Телешова в церкви также будет молиться именно «Миколаю-богу». Чувашская мифология возникает в творчестве Н.Г. Гарина-Михайловского: это очерки «В сутолоке провинциальной жизни» и романтическая драма «Зора», героями которой являются чуваши – Старик-жрец, Старуха, Зора, ее жених Зо- раим; появляются в пьесе языческие, «родные» чувашские боги – Водяной, Леший, «милый» Домовой. В очерках «В сутолоке провинциальной жизни» писатель упоминает языческих чувашских богов – «великого, доброго Тура», злого Ирика, описывает древний весенний праздник Уяв. Празднество дается между двумя страшными трагическими эпизодами – тифом зимой и холерой летом, когда от «поэтичного уголка», чувашской деревни Парашины, ничего не осталось: люди умирали, разбегались, деревня обезлюдела. В повседневном прозаическом течении жизни русский писатель выделяет поэтическое древнее празднество на лугу, которое резко контрастирует с зимними эпизодами. Зима – это тиф и смерть, описанием природы усиливается это впечатление: поля «мертвые» и «в белом саване», «мертвый блеск луны», в страшном безмолвии ночи, точно призрак, появляется «серая, растрепанная» деревушка. Уяв же – это весна; греет солнце, паровые луга покрыты белыми, желтыми, синими цветами, издающими нежный аромат, в небе слышится песнь жаворонка. На фоне уходящего дня возникает поистине сказочное мистическое зрелище, которым любуется рассказчик: «И, заколдованный песней, я видел теперь то, что скрыто от смертных. Садилось солнце, мечтательно догорал день, по золотистым небесным полям заката двигались тени, а одинокие тучки… в бирюзовом небе уже вспыхнули и горели прозрачным последним огнем. И сильнее охватывало меня очарование» [4, с. 373]. В этой природной картине органично присутствует хоровод чувашских девушек, дается описание национального наряда, самой пляски, звучавшей песни. Русский писатель не только изображает внешний этнографический пласт жизни, но и передает поэтическую культуру, языческие религиозные верования народа. Старик-жрец говорит рассказчику, что девушки будут так же петь, когда после смерти предстанут перед «великим и добрым» богом Тура – главным этническим божеством чувашей. По преданию, Тура судит умершего человека, его жизнь и поведение, а у новопреставленного узнает о делах живущих, поэтому, укладывая в гроб покойника, чуваши шелком закрывали глаза, ноздри, рот и уши, чтобы представший перед богом мог отговориться незнанием. В. Сбоев в «Заметках о чувашах» пишет: «…утверждали, что это необходимо сделать для того, чтобы покойник на суде Торы мог извиниться в грехах своих неведением и сказать, что слышать не слышал, видеть не видел, говорить не говорил и вообще не чувствовал и не понимал всего, что ему следовало знать насчет своих обязанностей» [12, с. 100]. Может быть, и кучер Владимир что-то слышал об этом похоронном обряде, он говорит чиновнику особых поручений Андрееву, что чуваши на том свете будут «слепые». Для повествователя хоровод и песня – это «промелькнувшая картина из давно забытой эпохи человеческой жизни», то вековое, языческое, что было и у других народов. В «чувашском» видится русский «довладимирский период», свое, ставшее только далеким; определения «молодые весталки», «культ Венеры» «отсылают» к временам античности. Рассказчик, созерцая хоровод, уносится в прошлое: «Так две тысячи лет тому назад, может быть, слушал какой-нибудь путник, в честь которого пели девушки… Так мог стоять и мой предок… Проносились времена, или я, дальше и дальше, попав в обратное течение, уносился назад рекой времен» [4, с. 373]. В современном движении жизни, ее историческом потоке возникает языческий архетип в его национально-самобытном проявлении, в «чувашском» провидится родовое, общечеловеческое. Праздник вызывает особое поэтическое чувство, преклонение перед народом, сохранившим свой вековой обычай; увиденное в жизни не идет ни в какое сравнение с изображаемым на сцене: там – «выдумка», здесь – естественность и простота жизни с ее особой прелестью и поэтичностью: «Что опе- ры, что романсы?! Разве передадут они этот аромат вечно молодой весны и нежной тоски о проносящихся веках? Разве передадут они эту песнь народа, две тысячи лет сквозь всю ломку пронесшего с собой яркий образ прежней жизни? Разве можно выдумать такую песнь?» [4, с. 372]. Картины чувашской жизни даются у Гарина-Михайловского в двойном восприятии: от лица повествующего автора и одного из героев. Владимир – самодовольный франтоватый кучер, «уважающий» красивых баб, хороших лошадей и тех, у кого есть деньги; для него «хороший» и «умный» человек – это прежде всего богатый, к бедному относится с презрением, к барину своему – свысока, так как тот в лошадях не понимает («хоть свинью ему запряги») и «хороводится со всякой дрянью, добро свое мотает». Владимир с предубеждением относится к чувашам, так как у них нет «письменного закона», «пустая вера», бога Туру называет Турачурбан, Ирика – «куклой деревянной», но обругать его боится, как этого ему ни хочется, так как этот бог на глаза болезнь может наслать. Но даже ограниченный циничный Владимир поддался впечатлению от увиденного на лугу, сказав: «Да, хорошо». Для автора же чувашская деревня Парашина «милая и бедная», «поэтичный уголок весны», который исчез. Касается Н.Г. Гарин-Михайловский и похоронного обряда чувашей. Заболевшего холерой Зораиба брат привез в деревню уже мертвым, но похоронить «по родному обычаю», как отмечает писатель, было «дорого», хоронили «как приказывал закон», т.е. по-христиански, как велела православная церковь. Языческий похоронный обряд и связанное с ним поминовение умерших описали в своих работах В.П. Вишневский, В.А. Сбоев, В.К. Магницкий, обращалась к нему А.А. Фукс [1, 12, 7, 15]. В.А. Сбоев, передавая космогонические понятия чувашей, отмечает, что загробную жизнь рассматривали как продолжение земной, «чувственной»: добродетельные люди поселятся в «мамык-сирь», где всего будет вдоволь и в избытке; грешный человек пойдет в «тамык-хоран», в ад, бездну. Поэтому умершие должны быть снабжены всем, что нужно для будущей жизни; в гроб клали все, что покойник любил, предметы ремесла, немного денег: «Если он занимался плетением лаптей, то в гроб клали кочедык, ножик и лыки; если он был шибырзе (т.е. виртуоз, игравший на пузыре), то – пузырь; если плотник, то – топор… Так же точно поступали и с женщинами… в гроб их клали иглы с разными нитками, веретена, несколько льну, шерсти, шелку и холста» [12, с. 100]. Также считалось, что умершие посещают в честь них устраиваемые поминки и принимают в них участие, на могилу отливалось пиво, вино, клались хлебные и мясные яства, которые съедались собаками. Визг собак считался хорошим знаком: «…из визга собак Чуваши заключали, что умершие явились лично на поминки и разделяют с ними трапезу. Это мгновенно прелагало печаль и сетование поминающих на шумную радость и веселое разгулье» [12, с. 105]. Поминальный обряд чувашей был связан и с длинной чередой поминок, частных и общих,– на кладбищах, мазарках и дома. Гарин-Михайловский указывает, что языческая древняя обрядность в погребении Зораиба все-таки присутствует: «Пекли блины, закатывали в них сальные свечи и бросали собакам. Грызлись собаки, хорошо грызлись, и веселые были похороны. Пьяные напились чуваши, пели песни» [4, с. 374]. Русские писатели обращаются и к определенным явлениям национальной жизни, к обрядам и обычаям. Особенно привлекает приписываемый чувашам обычай «тащить сухую беду», «тип шар» (назло обидчику повеситься у него на воротах), какое-то непредвиденное, непреодолимое горе и несчастье, описание которого возникает в рассказе В.И. Даля и повести Н.Д. Телешова, так и названных «Сухая беда», упоминание о нем содержится в рассказе П.И. Мельникова- Печерского «Поярков». Одной из первых о «сухой беде» пишет русская писательница А.А. Фукс, которая в «Записках о чувашах и черемисах Казанской губернии» отмечает такое чувашское мщение врагу, как повешение на воротах: «Чувашин едет к своему приятелю, и чтобы завлечь на него беду, давится на его дворе; бедные. Они не знают другого мщения как жертвовать своею жизнью, чтобы причинить беду врагу» [14, с. 57]. А.А. Фукс отмечает, что беда в понятии чувашей «не что иное, как приезд суда на следствие», так как от этого страдала целая деревня – содержала весь штат приехавших, удовлетворяла все их прихоти. Симбирский полковник Маслов в донесении шефу жандармов графу Бенкендорфу о положении инородцев писал: «На следствие приезжает чиновник земской полиции, стряпчий, лекарь, а с ним от 15 до 40 человек – кучеров, дворовых людей, рассыльных, канцелярских служителей и всякой команды. Корм лошадям и столовое содержание всей толпы производится за счет поселян той деревни, в которую приехали делать следствие, продолжавшееся иногда более недели. Пьянство за счет народа, всякого рода своеволие, прихотливые требования приехавших есть первые их требования» [8, с. 26]. Русский ученый В. Сбоев тоже замечал, что «суд и беда у чуваш синонимы» [12, с. 9]. Описывая в «Заметках о чувашах» жертвоприношение в керемети с просьбами «об избавлении от горя, печали, болезней, от сухой беды», В.А. Сбоев определяет последнюю следующим образом: «Сухая беда (тип шар) – всякое незаслуженное несчастие, всякое бедствие, которого исходный пункт находится не в воле и не в деятельности бедствующего. Засуха истребит прекрасные всходы хлеба, лошадь падет у Чувашенина, корова сгибнет, умрет без исповеди старик-отец, старуха-мать, либо взрослый сын, мертвое тело, неизвестно как и откуда явится на сельском погосте – все это сухая беда. Но в теснейшем смысле технический термин тащить человеку сухую беду значит заставить его потерпеть незаслуженное нарекание, или, еще точнее, ни за что отдать его под суд, запутать в судебное следствие» [12, с. 70-71]. Однако уже в 50-х годах XIX в., как отмечает автор «Заметок о чувашах», «о варварском обычае тащить неприятелю сухую беду, т.е. вешаться, не слышно более» [12, с. 13]. Следует отметить, что о «тип шар» в XIX веке бытовало и другое мнение. Чувашский ученый-этнограф и писатель середины XIX столетия Спиридон Михайлов считает «сухую беду» «выдумкой» писателей. В. К. Магницкий квалифицирует «сухую беду» как случаи «взваливания своей вины на другого», которые известны как у чувашей, так и у русских; у последних «сухая беда», по мнению ученого, разделялась «в былые годы на конную и пешую» [7, с. 124]. Чувашский обычай мести обидчику описывается В.И. Далем в рассказе «Сухая беда»; он входит в цикл «Картины русского быта», изображающие события, которым автор был участником, свидетелем или слушателем какой-либо жизненной истории. Даля-писателя, принадлежавшего к «натуральной школе», отличали фактическая точность и объективность рассказываемого, необыкновенная этнографическая наблюдательность и верность описаний. Этнографический интерес является определяющим у В. Даля: передается в авторском изложении рассказанная чувашином история, как Чулка из-за «неисправности пьяного секретаря или письмоводителя» «по беспорядку» был трижды наказан за воровство лошади и, желая отомстить Ярмуку, повесился у него на воротах. Чувашское самоубийство как способ отмщения врагу дается в аспекте сопоставления с обычаями других народов – китайского, японского, русского; у Даля-рассказчика доминирует национально-исторический этнографический ракурс описания. Он отмечает народы, у которых «самоубийство нипочем»: китайцы и японцы, «будучи по своим понятиям» обесчещенными, поруганными, считают своим «долгом вспороть себе брюхо». А если обиженный объявит при этом имя обидчика, то тот по обычаю, который «сильнее закона», должен тоже распороть себе живот. Однако чувашин Ярмук, как замечает автор, не японец, и, когда он увидел на своих воротах повесившегося, он «не обязывался вспороть себе в честь повешенного соседа брюхо или последовать его примеру и удавиться» [5, с. 351]. Даль, исколесивший Россию вдоль и поперек, хорошо знавший русскую действительность, замечает, что чувашина ждала беда иного рода, которая иногда «стоит петли и веревки» – приезд суда на следствие «со всеми принадлежностями к нему и неминуемыми последствиями» [5, с. 351]. Даль не считает изображаемое принадлежащим только чувашам, он отмечает его и у русских, делая весьма характерное замечание: «Такой висельник известен у нас в народе под названием сухой беды» [5, с. 351]. В поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» мы также сталкиваемся с этим явлением: слуга Яков, желая отомстить обидчику-барину, завез его в Чертов овраг и повесился у него на глазах на сосне, в результате чего происходит и осознание барином своей вины. Если у В.И. Даля в рассказе определяющим является этнографический интерес, то у Н.Д. Телешова «тип шар» связывается с глубинными проявлениями бытия, с нравственно-этическими представлениями чувашей о правде и справедливости, наказании обидчика. Н.Д. Телешов впервые в русской литературе XIX в. главным героем произведения делает чуваша Максимку и связанную с ним «сухую беду»: Максимка решает отомстить Курганову чувашским «тыпь-шар» – самоубийством, которое сделает последнего на всю жизнь несчастным, заставит мучиться и приведет к смерти. Писатель хорошо осведомлен в религиозномифологических верованиях и национальных обычаях чувашского народа, в повести возникает яркая картина жизни нерусского персонажа. И на Волге Максимке жилось трудно, и в уральском городе несладко: «кормили впроголодь», издевались над ним, били, считали дураком. На родной стороне в жены ему досталась «баба вдвое старше его», с крепкими кулаками, не умевшая ценить доброе сердце Максимки. Замечание о возрасте жены весьма характерно. Наблюдались среди чувашей неравные по возрасту браки, когда жених оказывался значительно моложе невесты. В.А. Сбоев в «Заметках о чувашах» пишет о том, чувашские парни женятся в «самой ранней юности», «чувашские красотки» же засиживаются долго в девках, и причина этого связана со стремлением иметь в хозяйстве дополнительные рабочие руки, так как к двенадцати-тринадцати годам девочка становится порядочной хозяйкой, и «отец ценит ее работу и не торопится выдавать в чужой дом» [12, с. 249]. Семейная жизнь Макимки не задалась, и он развелся с женой, соблюдая древний «дедовский обычай», описание которого дается в повести: «Он зарычал на жену, как зверь, отколотил ее напоследок веревкой, сорвал у нее с головы сурбан… разодрал его надвое: половину бросил жене, другую взял с собою и ушел» [12, с. 249]. Н. Телешов объясняет читателям чувашское слово: «сурбан – повязка из длинного полотенца. Разрывая сурбан, чуваши исполняют обряд развода» [12, с. 249]. О чувашском разводе, который сопровождался разрывом полотенца, писал в XVIII в. русский ученый П.С. Паллас в труде «Путешествие по разным провинциям Российской империи». В.К. Магницкий в «Материалах к объяснению старой чувашской веры» также отмечает этот обычай. Максимка, покидая родные края, не страшится за свою судьбу: он горд тем, что может петь песни, играть на шыбыре – «пузырь вроде волынки», поясняет автор, и с этим-то умением не пропадет в жизни. Он надеется удивить всех своей музыкой. Телешов-писатель, как следует из повести, хорошо знаком с укладом жизни, культурой чувашей. Не случайно упоминается именно шыбыр, этот древний чувашский инструмент особенно ценился. С.М. Михайлов в статье «О музыке чуваш» называет «пузырника» «волшебником», «чувашским Орфе- ем», который пользуется особым вниманием и уважением у своих соплеменников. Однако в уральском городке Максимке пришлось оставить свою «мечту о песнях», так как его заунывная игра на шыбыре не нравилась кабатчикам и содержателям постоялых дворов. Изображая героя-чуваша, писатель естественно вводит в текст чувашские слова «йомзя», «куштан», «хозя», «шыбыр», «пюремечи», «сурбан», «Кереметь», приводит чувашское название Млечного Пути – «Дорога Диких гусей». Предстают в повести и религиозно-мифологические верования Максимки, его языческое миросозерцание и приверженность к своим чувашским богам. Максимка был крещеный, но при этом не имел никакого понятия о религии: он слышал что-то о Евангелии, знал, что на небесах где-то есть «русский бог», «добрый и милостивый», которого он не боялся, справедливо для себя считая, что бог «не исправник». В церковь Максимка также не ходил, потому что не понимал «по-каковски там поют и читают», не знал, что надо делать в раю, о котором говорит ему Феня. На слова же о том, что они будут праведниками и будут беседовать с богом, Максимка либо «разочарованно вздыхал», либо «молча чесал затылок». В.К. Магницкий в «Материалах к объяснению старой чувашской веры» отмечает слабость православной веры у чувашей: «Круг знакомства крещеных чуваш с христианским вероучением едва ли ограничивается только: 1) умением изображать на себе крестное знамение; 2) знанием, что по русской вере праздничный день – Воскресение и 3) что в среду и в пятницу по русской вере грех есть скоромное, что однако нигде не соблюдается» [7, с. 221]. Телешов отмечает доброе сердце героя и «суеверную душу» – Максимка «интересовался одними чудесами». Емельяниха, которую горожане зовут ведьмой за злой нрав, вызывает у героя суеверный страх: он называет ее по-чувашски «йомзя», т.е. колдунья, та же, в свою очередь, именует его «лешим». В идейно-образной системе произведения значимое место занимает символический сон героя: видение высокого старика, всего в «белом, с белой бородой», который предвещает надвигающееся несчастье и предостерегает от него, как это случалось уже раньше. Максимка пытается найти заступничество у «русского бога»: он идет в церковь, в которой был всего один раз, не зная молитвы, повторяет только слова «Микола-бог! Микола-бог!». Максимка оказывается в состоянии ужаса, страха и после появления старца, и находясь в церкви. Возможно, герою во сне является самое главное божество старой чувашской веры, творец всего сущего на земле – Тора, который, «по представлению чувашей, …имеет облик седоволосого старика с бородой и посохом в руках» [11, с. 24]. Повторяется характерная деталь: Максимка видит «строгие глаза» чувашского языческого бога и «строгие глаза» христианского Николая Чудотворца, которого чуваши, как сообщает В.А. Сбоев, упоминали в своих молитвах, часто как «Никола-Тора». После того, как случилась беда – Феню увели в полицейский участок,– писатель передает тяжелое душевное состояние героя, который оказался во власти охватившей его нестерпимой обиды, безысходной ярости и одновременно страшного бессилия. Максимка готов убить «куштана» Курганова, защемить проклятого «хозя» между воротами, но связан нравственно христианским обещанием перед «Миколой-богом»: он поклялся Фене перед иконой, что не тронет Афанасия Львовича. В описании холодной снежной ночи писатель выделяет христианский символ – крест на колокольне, который «сиял и горел, будто его только что облили свежим золотом» [13, с. 288]. Однако крест не имеет власти над героем, не пробуждает в нем ни христианского смирения, ни терпения, к которым призывала его верующая Феня. Изображая сознание героя-чуваша, писатель передает «структуру мира и мышления» (Г. Гачев) народа. Н.Д. Телешов знаком с древней верой, с языче- скими представлениями чувашей, передавая то сокровенное, сохранившееся в глубинах существа Максимки, что идет от предков, изображая мифологизированное сознание героя. Максимка, «позабыв, что крещеный», в минуты страшного гнева и обиды, обращается к своему злому божеству, Керемети, которое чуваши задабривали, так как именно от него происходили многие несчастья, приносили в жертву жеребенка, быка, прося здоровья и благополучия. Следует отметить в произведении очень важный момент, характерную деталь: Максимка молит «Хаяр-Кереметь», как поясняет писатель, «самое свирепое божество, приносящее скорбь и бедствия, имя которого небезопасно упоминать даже в молитве» [13, с. 289]. В.А. Сбоев квалифицирует Хаяр-Кереметь как «самое свирепое и самое грозное божество»: «Наносить людям всевозможные бедствия и страдания для хаяр-керемети – наслаждение. Но для того, чтобы Чувашенин мог заставить ее покарать своего недруга, обрушить на его голову всевозможные скорби и бедствия, не нужно было жертвоприношений: ему стоило только явиться в хаяр-кереметь и с известными заклинаниями попросить ее наказать и даже, если нужно, умертвить его недруга,– и все исполнялось по его желанию. Заклинатель своими молитвами распалял ее гнев и ярость до такой степени, что она в бешеном ослеплении готова была поразить всякого, кто попадется ей под руки. Горе Чувашенину, который будет находиться в хаяр-керемети или близ нее в то время, когда заклинатель будет просить ее наказать своего врага! Ужас, внушаемый ею, был причиною того, что только весьма немногие из чуваш осмеливались являться пред нею для заклинания или призвания бедствий на своих врагов [12, с. 87-88]. Максимка – один из тех «немногих», кто, в состоянии трагической безысходности, просит своего злого чувашского бога. Вот почему обращение к Хаяр-Керемети буквально сотрясает все существо героя, он впадает в состояние суеверного страха: «Сердце в нем билось до боли, замирало, душило его, и было так жутко, что он не смел поднять головы» [13, с. 290]. Не в священной древней роще, по издревле заведенному предками ритуалу, а в уральском русском городке, на дворе злой Емельянихи, сорвав шапку, бросившись ниц и воздев руки к небу, Максимка просит Хаяр-Кереметь погубить врага, чтобы «куштан» сгинул бы, провалился («тёпь пулдор»), непременно попал бы в ад («тамок хуран»). Герой от всей души желает Курганову адского котла, который он представляет в духе старинных чувашских верований: «Там будет ему голодно и холодно, там не найдет он ни дома, ни воды, чтобы утолить жажду, ни друга, ни брата, ни отца, ни детей» [13, с. 290]. В.А. Сбоев в «Заметках о чувашах» излагает народное языческое представление об аде: «…грешному человеку на том свете будет и горько, и голодно, и скорбно. Его отведут в тамык-хоран, в котлообразную бездну, в ад. Напрасно будет он употреблять все усилия выстроить себе дом, возделать землю, обзавестись добрым хозяйством,– ни в чем ему не будет спорыньи. Напрасно станет он вызывать с этого света к себе в помощники своих детей, родственников и досов; одни из них, именно добрые, поселятся в раю и, следовательно, не будут иметь с ними никакого сношения, а другие, порочные, будут такими же бедными, горемычными скитальцами, такими же вечно бедствующими и вечно мучимыми голодом и жаждою обитателями ада, как и он сам» [12, с. 98, 99]. Однако герой у Телешова уже понимает, что его чувашский бог, даже такой, как Хаяр-Кереметь, не властен над богатым и всесильным Кургановым, поэтому обращение к Керемети не только не успокоило Максимку, но и усилило его обиду и состояние беспомощности. В момент тяжелейшего душевного потрясения, как замечает писатель, «все, что было русского привито к его душе», «отдалилось и умерло», герой почувствовал себя «настоящим свободным чувашином, каким были его отец, дед, прадед». Чувство оскорбленной справедливости, гнева и бессилия приводят Максимку к единственно возможному, чувашскому, идущему от предков способу мести обидчику – «тыпь-шар» («сухой беде»). Герой решает отомстить врагу самоубийством, которое сделает последнего, как он считает, несчастным на всю жизнь, заставит мучиться и приведет к смерти. По языческому представлению повесившийся человек поселится в доме обидчика, будет являться к нему, обречет на тяжелейшие нравственные страдания и доведет его таким образом до гибели. Н. Телешов дает пояснение задуманного Максимкой мщения: «Тыпь-шар – сухая беда, то есть непредвиденное и неодолимое несчастье. «Тащить сухую беду» – это значит, что назло своему заклятому врагу нужно повеситься у него во владении, чтобы заставить его мучиться всю жизнь» [13, с. 291]. Русский писатель, изображая мировидение Максимки, в чувашском «тыпь-шар» выделяет прежде всего нравственно-этический момент: наказание обидчика и его прозрение, осознание вины и расплата за содеянное, невыносимые душевные терзания и муки. Древнее чувашское «тыпь-шар» для Максимки – это прежде всего победа над «проклятым куштаном» Кургановым, долгая и мучительная гибель врага, его нравственная самоказнь: «О, тогда уже ничем нельзя будет избавиться от Максимки! Его не прогонишь, не ударишь, не выживешь! Он станет всюду преследовать врага, всюду мешать ему, пугать по ночам, отнимать у него всякую радость, отгонять сон и без устали мучить его душу, пока тому не опротивеет белый свет, пока не престанет он пить и есть и не засохнет от горя и злобы» [13, с. 292]. Результатом тяжелейших нравственных терзаний, угрызений совести естественно явится смерть обидчика, его невозможность жить: «Выплачет он свои глаза, изорвет свои волосы, иссохнет, завянет и умрет хуже всякой собаки, с проклятием и злобой на самого себя» [13, с. 292]. Наивный и добрый, суеверный Максимка полагает, что муки совести будут столь нестерпимы, что они приведут к гибели Курганова, в комнате которого герой и повесился. В письме к чувашским писателям Федору Уяру и Ивану Мучи Н.Д. Телешов дает объяснение этого обычая, отмечая в нем глубокое общечеловеческое начало и распространяя «тип-шар» на русскую жизнь: «…я пытался понять самую сущность, психологию этого явления, чтобы стать на точку зрения моего героя, чтобы хоть чем-нибудь объяснить смысл этой страшной жертвы. Не знаю, удалось ли мне такое объяснение, но лично я как будто понял, в чем дело. И помню, пришел невольно к заключению, что большинство самоубийств, в то время довольно нередких в русской жизни, в среде интеллигентной, есть в сущности та же «сухая беда», с желанием «наказать» виновника горя; особенно это чувствовалось в несчастной любви» [10, c. 560]. Таким образом, в русской литературе XIX в. появляется многоаспектная картина чувашского мира жизни, религиозно-мифологические и христианские верования, обычаи и обряды, которые предстают в социально-гносеологической самобытности и типологической общности. Литература 1. Вишневский В.П. О религиозных поверьях чуваш / В.П. Вишневский. Казань, 1846. 26 с. 2. Владимиров Е.В. Межнациональные связи чувашской литературы / Е.В. Владимиров. Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 1970. 200 с. 3. Владимиров Е.В. Голоса участия и дружбы / Е.В. Владимиров. Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 1992. 208 с. 4. Гарин-Михайловский Н.Г. В сутолоке провинциальной жизни. Собр. соч.: в 5 т. / Н.Г. Гарин-Михайловский. М.: ГИХЛ, 1958. Т. 4. 721 с. 5. Даль В.И. Повести и рассказы / В.И. Даль. М.: Сов. Россия, 1983. 428 с. 6. Лесков Н.С. Очарованный странник. Собр. соч.: в 12 т. / Н.С. Лесков. М.: Правда, 1989. Т. 2. 415 с. 7. Магницкий В.К. Материалы к объяснению старой чувашской веры / В.К. Магницкий. Казань, 1881. 267 с. 8. Маслов. Донесение Симбирского жандармского полковника шефу жандармов графу Бенкендорфу / Маслов // Восстание чувашского крестьянства в 1842 г. Сб. документов. Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 1943. С. 23-31. 9. Родионов В.Г. Послесловие / В.Г. Родионов // Русские писатели о чувашах. Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2009. С. 574-585. 10. Русские писатели о чувашах. Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2009. 590 с. 11. Салмин А.К. Система верований чувашей / А.К. Салмин. Чебоксары: Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук, 2004. 207 с. 12. Сбоев В.А. Заметки о чувашах / В.А. Сбоев. Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2004. 142 с. 13. Телешов Н.Д. Сухая беда. Избр. соч.: в 3 т. / Н.Д. Телешов. М.: ГИХЛ, 1956. Т. 2. 382 с. 14. Фукс А.А. Записки о чувашах и черемисах Казанской губернии / А.А. Фукс. Казань, 1840. 329 с. САРБАШ ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА – доцент кафедры русской литературы, Чувашский государственный университет, Россия, Чебоксары (sarbash.lu@yandex.ru). SARBASH LYUDMILA NIKOLAEVNA – associate professor of Russian literature Department, Chuvash State University, Russia, Cheboksary.