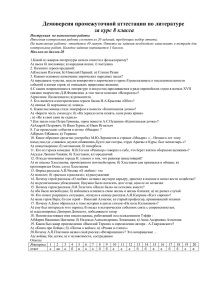Ч т е н и е - Кемеровский государственный университет
advertisement
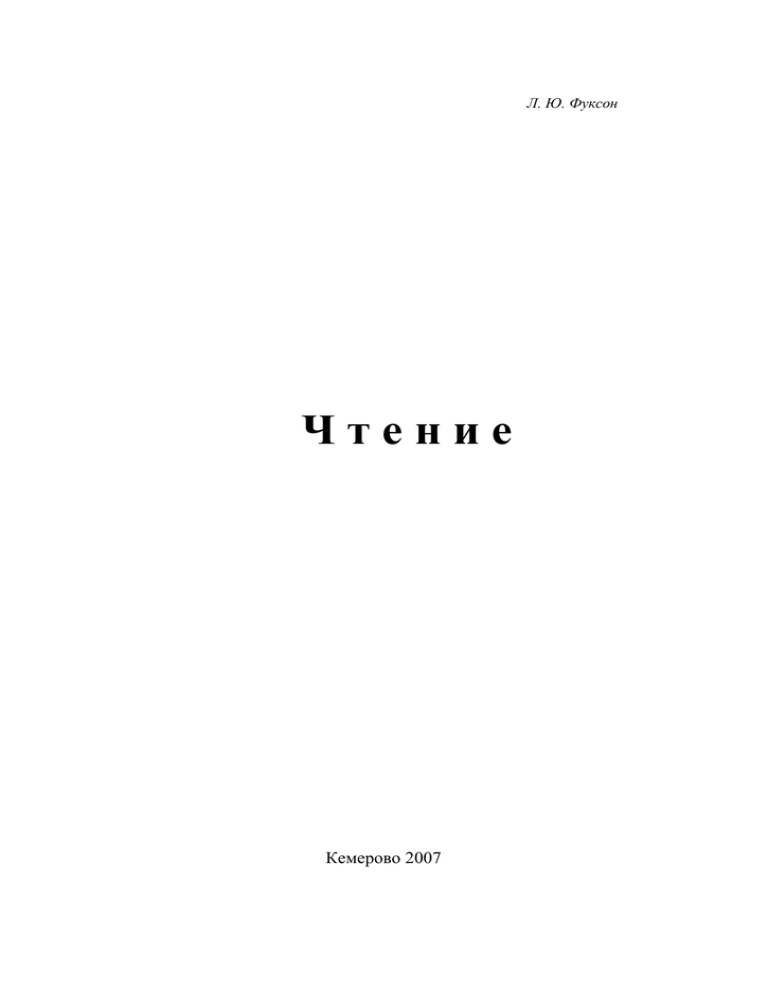
Л. Ю. Фуксон Чтение Кемерово 2007 ББК 83.09 Фуксон, Л. Ю. Чтение: научное издание / Л. Ю. Фуксон; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007. – с. ISBN 5-8353-0399-8 В работе исследуются параметры и правила чтения художественных текстов. Она ориентирована в большей степени не на специальное литературоведение, а на герменевтику и аксиологию и содержит интерпретацию многих произведений классической и современной литературы. Исследование адресовано филологам, интересующимся рецептивной эстетикой, преподавателям вузов и средних школ, а также всем тем, кто читает художественные книги и учит читать других. ISBN 5-8353-0399-8 ББК 83.09 © Л. Ю. Фуксон, 2007 2 ВВЕДЕНИЕ Порой опять гармонией упьюсь, Над вымыслом слезами обольюсь … А. Пушкин Если я хочу, чтобы дверь отворялась, петли должны быть закреплены. Л. Витгенштейн Реальная наша жизнь представляет собой постоянную разорванность уже налично действительного и ещё возможного. Настоящее осуществление каких-то возможностей, то есть переход их в статус действительности, не устраняет этого разрыва, так как продолжение жизни означает возникновение новых возможностей. Говорят в связи с этим о постоянно меняющемся смысловом жизненном горизонте и о напряжённом несовпадении наличного бытия и смысла. Это обстоятельство заставляет в очередной раз вспомнить аристотелевскую мысль о назначении поэзии. Если, по Аристотелю, поэт, в отличие от историка, говорит не о «том, что было», а «о том, что могло бы быть» (См.: Аристотель. Соч. в 4 т. Т. 4. М., 1984. С. 655), то это вовсе не означает, будто поэзия – сфера лишь возможного, а не действительного. В аристотелевской формулировке важно понятие бытия, то есть момент осуществлённости возможности как сбывшегося смысла. Поэзия (и искусство вообще) как раз преодолевает указанный разрыв благодаря созданию другой – параллельной, вымышленной – реальности, где то, что «могло бы быть», дано именно как сбывшееся, но сбывшееся в жизни другого – героя. Эта вымышленная реальность может существовать, как известно, лишь благодаря усилиям воображения читателя (зрителя, слушателя). Известные строки Пушкина, взятые нами в качестве эпиграфа, точно схватывают ситуацию чтения художественного произведения, в которой соединяются «вымысел» и самые что ни на есть настоящие, 3 «всамделишные» слёзы, то есть возможность и действительность, взятые уже по отношению не к герою, а к читателю. Причём «слёзы» вовсе не обязательно указывают на печальный характер «вымысла». Это знак того, что искусство - нечто захватывающее, трогательное в широком смысле слова, прорывающееся в сферу бытия. Уместно здесь вспомнить, как Печорин накануне дуэли, открыв «Пуритан» В. Скотта, «читал сначала с усилием», но потом «забылся, увлечённый волшебным вымыслом». Забыться, конечно, вовсе не означает оказаться за бытием, по ту сторону бытия. Это указывает на то, что искусство «отключает» лишь заботы обыденной жизни (даже такие важные, как предстоящая дуэль) и совершенно реально увлекает читателя в другое (не наличное) измерение бытия. В преодолении обычного жизненного разрыва идеального и реального, игры и действительности как раз и состоит художественная «гармония», которой «упивается» читатель. Чрезвычайно существенно то, что чтение (и художественное восприятие вообще) – это не «простое» переживание воображаемого, а понимающее, толкующее: ведь предмет его – вы-мысел – смысл. При этом непрерывную работу толкования, которая осуществляется в чтении художественных текстов, нельзя путать с научным анализом. О строгом различении «понимания и научного изучения» писал Бахтин (Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 349). Это не исключает возможности интеграции анализа и истолкования, но - как принципиально различных акций, целью одной из которых является объяснение «устройства» структуры произведения, а с другой - понимание его смысла. Определение Ю. М. Лотманом стихотворения как «сложно построенного смысла» (Ю. М. Лотман и тартускомосковская семиотическая школа. М., 1994. С. 88) совершенно справедливо утверждает единство смысла художественного произведения и его структуры. Однако это неправильно было бы понимать как тождество. Поэтому анализ, направленный на «построенность» произве4 дения, сам по себе не открывает смысл. Смысл обнаруживает только интерпретация. Часто сам анализ понимается расширительно - с включением в него и истолкования. Но это затушёвывает специфику герменевтических процедур и правил, а также - специфику самого анализа в точном смысле этого слова. Вопросы научно-специального анализа проецируют общие понятия на текст. Вопросы понимания обращены к тексту непосредственно: сам текст опрашивается. Научный анализ – это прежде всего разложение целостного художественного впечатления на объективную действительность с её различными аспектами и субъективную исследовательскую установку, регистрирующую эти аспекты и их взаимосвязи. Сама аналитическая акция осуществляется при молчании произведения. Чтение же – это как раз акт звучания произведения. Литературное произведение отнюдь не только то, что произведено (автором), но и то, что производит (читателя). В момент звучания слова произведения читатель, не как потенциальный (умеющий читать), а как реальный, и производится. В предлагаемой книге речь идёт именно о чтении как об особой – неспециальной – установке по отношению к художественным текстам и об усилиях преодоления своего рода герменевтической беспомощности, присущей любому читателю. Дело заключается не в научном изучении читаемых текстов, а в читательской рефлексии, в оглядке на то, как мы читаем. Одно из фундаментальных положений современной герменевтики состоит в том, что понимание укоренено в предшествующем опыте, никогда не начинаясь, «с нуля», так сказать. По мысли Гадамера, «... проблеск смысла (...) появляется лишь благодаря тому, что текст читают с известными ожиданиями, в направлении того или иного смысла» (Гадамер Г. - Г. Актуальность прекрасного. М., 1991. С. 75). В своих «Лекциях по структуральной поэтике» Ю. М. Лотман употребляет очень точное выражение: «априорно заданная структура 5 ожидания», описывая ситуацию похода в кино и тех «контуров ожидания», которые «складываются из внешнего вида афиши, названия студии, фамилий режиссёра и ведущих артистов, определения жанра, оценочных свидетельств ваших знакомых, уже посмотревших фильм, и т.д.» (Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М., 1994. С. 221). Это очень близко понятию читательского «горизонта ожиданий», введённому в литературоведение Х. Р. Яуссом (См.: Яусс Х. Р. История литературы как провокация литературоведения // Новое литературное обозрение. 1995. № 12. С. 60). Степень определённости этой структуры смыслоожидания может быть различной. Можно представить себе ситуацию, когда мы ничего не знаем о книге, кроме того, что она художественная. Определяет ли это хоть как-то читательский настрой? На этот вопрос мы бы ответили утвердительно. Повидимому, имеются более общие, априорно заданные аспекты структуры предпонимания, связанные с ожиданием не какого-то определённого произведения искусства, а искусства как такового. Понятие a priori означает здесь не некую теоретическую «приправу» к восприятию художественных произведений, а лишь то, что любое из них дано нам именно как художественное и тем самым в горизонте непреложных «правил», определяющих саму возможность художественного восприятия. Нами имеется в виду некая обнаруженность-до разнообразных суждений о литературе и восприятия текстов эстетических установок, которые присутствуют как сами собой подразумевающиеся. Как писал Л. Витгенштейн, понимание – это не «душевный процесс», а действие по правилу (См.: Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1. М., 1994. С. 141 – 170). Близко этому тезису замечание Э. Д. Хирша: «Процесс понимания есть сам по себе процесс легитимации». См.: Hirsch E. D. The aims of interpretation. Chicago & London. 1976. P. 33). Представление о необходимости неких правил истолкования текстов постоянно сопровождает герменевтику – от предписаний 6 Аристарха Самофракийского и августиновских правил толкования Священного Писания до Э. Бетти с его четырьмя канонами интерпретации (См.: Кузнецов В. Герменевтика и её путь от конкретной методики до философского направления // Логос # (1999) 20. С. 71 – 72). У Э. Бетти, как и у его многочисленных предшественников, акцент сделан на сознательной установке понимания. Нас же здесь интересуют те условия чтения художественных произведений, которые чаще всего непроизвольно, «анонимно» содержатся в толковании как «очевидные». Поэтому слово «правила» означает не то, посредством чего мы у-прав-ляем своим пониманием художественных текстов, а то, что им управляет независимо от нас. Априорные аксиоматические принципы читательского поведения могут быть сформулированы лишь в самом общем виде, так как чтение и истолкование по своей природе не может иметь чёткого набора процедур – универсальных «отмычек», ибо имеет дело не с объектом (как анализ), а с уникальным смыслом. Указанная, чаще всего безотчётная, «законопослушность», правилосообразность чтения художественных произведений и является предметом нашего внимания. 1. УДИВЛЕНИЕ В одно прекрасное утро, не отворив дверей гостиной и не призвав никого в свидетели чуда, Пьетро Креспи вставил в пианолу первый цилиндр, и надоедливый стук молотков, несмолкающий грохот падающих 7 досок вдруг замерли и уступили место тишине, исполненной удивления перед гармонией и чистотой музыки. Г. Г. Маркес. Сто лет одиночества. Прохожий, остановись! М. Цветаева Что даёт нам искусство и, в частности, чтение художественных книг? Так поставленный вопрос имеет историческое измерение, в котором обнаруживается одна современная тенденция. Параллельно процессу снижения интереса к чтению художественной литературы и угасания эстетического интереса вообще происходит вытеснение тайны из нашей жизни. Мы, взрослея, постепенно разучиваемся удивляться, а мир становится всё более плоским – «понятным». Искусство как раз пытается противопоставить такому опыту обживания мира как его прозаизации свой особый опыт – опыт удивления. Последнее выражение, правда, звучит парадоксально. Ведь обычный опыт, кажется, наоборот, отучает удивляться, делает нашу жизнь автоматичной, отнимает у неё характер приключения. Обжитый участок мира – дом. Искусство напоминает о том, что освоенный нами участок реальности не вся реальность. Оно заставляет как бы «выглянуть наружу», открывает неохватность мира, превращает нас в странников. Оно само странно, то есть находится «в стороне» от обжитого, и нас делает странными, непривычными для себя самих. Чтение – это вовсе не только разгадывание и дешифровка как сведение чего-то непонятного к понятному. Читать художественные книги прежде всего означает видеть саму загадку. Недавно умерший философ Г. - Г. Гадамер неоднократно писал об общности между художественной литературой и философией. И та, и другая дистанцируются от привычного, готового ракурса видения вещей, пытаясь прорваться в иную, ранее неведомую, действительность. Такой прорыв воспринимается как чудо и автором, и читателем художественно- 8 го произведения. Поэтому удивление является началом не только философии, как об этом писали Платон и Аристотель, но и искусства. У А. Фета есть такие стихи: В моей руке – какое чудо! – Твоя рука… Бросается в глаза контраст между словом «чудо» и обычностью ситуации. Что тут чудесного? Вопрос порождён замеченной странностью и открывает границу различных точек зрения. Восклицание как выражение удивления и является здесь межевым, пограничным знаком. Влюблённый (кому принадлежит восклицание) способен разглядеть чудо там, где все остальные (равнодушные) не видят ничего особенного. Стихи эти об удивлении. Однако и поняты они могут быть лишь с помощью удивления. Умение видеть странности текста – предрасположенность к его пониманию, а точнее – необходимое условие такового. Удивление есть событие остановки. Это то первое, чего требует художественное произведение. Имеется в виду не просто физическая остановка (например перед картиной в музее), а нарушение инерции обыкновенности жизни. Формула такой инерции пребывания-в-привычном – прохождение-мимо. (См. глубокие размышления Е. Финка на этот счёт: Проблема человека в западной философии. М., 1988. С. 384). Удивление, открывающее странность, и прерывает инерцию прозы жизни. Очень точно выразил это поэт, герой цикла стихотворений Ахматовой «Тайны ремесла»: По мне, в стихах всё быть должно некстати, Не так, как у людей. Загадочность любого художественного произведения не отменяется его толкованием. Причём эта неисчерпаемость тайны произведения вовсе не свидетельствует о плохом качестве интерпретации. Напротив, если читателю всё понятно, то он как раз плохо читал, зна9 чит, он прошёл мимо сокровенного содержания произведения. В процессе понимания смысл не только открывается, но и скрывается одновременно. (Здесь следует вспомнить учение М. Хайдеггера об истине). Смысл не конечный пункт, а направление такого своего открытия. Читатель, не умеющий удивляться, постоянно занят приспосабливанием произведения к своим готовым представлениям, используя своего рода решето для отсеивания всего «мелкого» («неважного»). При этом остаётся лишь с ходу опознанное, иллюстрирующее уже известное. В таком чтении нет попытки услышать голос самого произведения. Настоящее чтение не приспосабливает произведение к своим понятиям, а пытается почувствовать и выявить его собственную загадочную логику. Поэтому оно особенно внимательно к самому странному: это дорога, ведущая к тайне произведения, вечно «совершающейся», по слову поэта, в нём. Указанная читательская установка вполне отвечает патетическому призыву Иоанна Скотта Эриугены: «Так услышь божественную и несказанную странность, неразрешимую загадку, незримую, глубокую, непостижимую тайну…» (Иоанн Скотт Эриугена. Гомилия на Пролог Евангелия от Иоанна // Историко-философский ежегодник, 94. М., 1995. С. 228). В известном стихотворении Пушкина «На холмах Грузии лежит ночная мгла…» есть следующие строки: (…) унынья моего Ничто не мучит, не тревожит (…) Нельзя не заметить странности этого выражения. Ведь речь идёт вовсе не о том, что унынье само может быть мучительным или тревожным для героя, – наоборот, подразумеваются какие-то возможные муки и тревоги по отношению к унынью. «Унынье» обнаруживает в стихотворении Пушкина непривычный позитивный характер: это состояние оказывается родственным покою, будучи антонимом тревоги 10 и мучения. Случайно ли такое специфическое словоупотребление? Читая стихотворение, мы находим ряд аналогичных странностей: грустно и легко, печаль светла. Понятие унынья связано с безнадёжностью (унывать – отчаиваться, как утверждает словарь Даля). Поэтому унынье, наоборот, может мучиться и тревожиться надеждой, «чаянием». «Печаль моя полна тобою» – ещё одна таинственная строка. Печаль оказывается не чувством, наполняющим душу, а чем-то наполняемым, неким вместилищем, как бы самой душой, исходным, изначальным ее состоянием. Это совершенно аналогично «унынью», которое «ничто не мучит, не тревожит», которое дарует спокойствие и лёгкость, освобождая любовь от любого рода мотивировок, выявляя как бы чистую (causa sui) субстанцию любви, о чём речь идёт в последних стихах. Любовь – это внутренний источник света, увиденный именно во мгле безнадёжности (на это указывает рифма: мгла – светла). Здесь, как и всегда, необычность использования каких-то понятий вовсе не означает случайного их характера. Повторяющиеся странности образуют непрерывный смысл художественного текста, о чём речь впереди. Так же можно «споткнуться» о странности, начав читать стихотворение Пастернака: Февраль. Достать чернил и плакать! Писать о феврале навзрыд (…) Почему в феврале непременно нужно плакать? При чём тут чернила? «Слёзы» как сентиментальность творчества («Писать о феврале навзрыд») связываются, «рифмуются» с весенней слякотью и ливнем (плакать – слякоть) так же, как чернила – с чернеющими проталинами. Таким образом, о феврале здесь как бы «пишет» сам февраль. Оказывается, что природа не только предмет, но и субъект творчества. Весеннее творческое состояние природы «слагает стихи» на снегу, как 11 на чистом листе бумаги. Непреднамеренность («... чем случайней, тем вернее...»), органичность творчества естественна, как плач: это «стихи навзрыд». Ещё один «удивительный» пример из Мандельштама: Звук осторожный и глухой Плода, сорвавшегося с древа, Среди немолчного напева Глубокой тишины лесной ... Даётся довольно странная характеристика звука: он не прерывает тишины (так как она «немолчная»), но, в свою очередь, сама тишина почему-то звучит («напев»). Важно, что здесь плод не кем-то сорван, а срывается сам как созревший. Поэтому напев тишины, «среди которого» рождается звук падающего плода, не что иное, как процесс творения. Тишина – не отрицательное качество бытия. Это не просто отсутствие звука, но его предвестие и созревание. Тишина онтологически первична («глубокая»). Это объясняет такое определение звука, как «осторожный», то есть как бы сам находящийся на страже тишины. Важно, что тишина «лесная». Мир, развёртывающийся в стихотворении, – естественный мир, куда ничто не вмешивается. Вместе с тем понятие напева уподобляет созревание лесного плода процессу художественного творения. О том же говорит отсутствие сказуемого в этом поэтическом высказывании: звук падающего лесного плода оказывается одновременно звуком поэтического слова. Странность, с которой мы начали, приводит нас к прояснению каких-то важных оттенков смысла. Случайно ли это? По-видимому, нет. «Странности» – это не просто отрицательное свидетельство недоумения, не-понимания. Это сигнал приближения тайны, прикосновения её к нам. Так мы понимаем суждение Ортеги-и-Гассета: «Удивление – залог понимания» (Ортега-и-Гассет Х. Избранные труды. М., 1997. С. 44). По верному замечанию Б. М. Цейтлина, «... чем стесняет текст наше в него вхождение, тем же самым и помогает себя понять» (Человек. 1996, №1. С. 121). Само понимание, стало быть, не 12 осуществится, если мы не окажемся «введёнными» в непонимание (Хайдеггер). В уникальных особенностях произведения (а с ними и связаны его так называемые странности) скрыт важный, внутренний, то есть актуальный лишь для данного произведения, смысл. Можно ли этот смысл назвать, сформулировать? Мы сталкиваемся здесь с непреодолимой трудностью: любая, по необходимости конечная, формулировка неизбежно огрубляет и искажает смысл именно из-за его бесконечности. Можно в постижении внутренних связей произведения приближаться к его тайне, делая какие-то попутные заметы, указатели, ибо понимание всегда есть путь. Истинное завершение толкования произведения - многоточие, выражение «и так далее». Причём важен точный смысл этих слов. Имеется в виду не любое возможное продолжение интерпретации («далее»), а лишь следование по уже намеченному, проложенному («так»), найденному пути - в совершенно определённом направлении. Здесь, по-видимому, необходимо сослаться на Гуссерля, который, по свидетельству А. Шюца, впервые терминологически использовал выражение «und so weiter» (Культурология. ХХ век. Дайджест. Философия культуры. 2 (6). М., 1998. С. 276). Рассмотрим с точки зрения утверждаемой в данной главе «презумпции странности» упомянутое ранее стихотворение Ахматовой: Мне ни к чему одические рати И прелесть элегических затей. По мне, в стихах все быть должно некстати, Не так, как у людей. Когда б вы знали, из какого сора Растут стихи, не ведая стыда, Как желтый одуванчик у забора, Как лопухи и лебеда. Сердитый окрик, дегтя запах свежий, Таинственная плесень на стене... И стих уже звучит, задорен, нежен, На радость вам и мне. 13 Первая строфа стихотворения построена полемически: «Мне ни к чему», «некстати», «не так». В чём суть этого спора? Если присмотреться, какие образы вступают здесь в «полемику» (я – люди; некстати – рати, затеи; стихи – оды, элегии), то оказывается, что готовому жанровому содержанию (героическому либо элегическому) противостоит оригинальность творчества. Выражение «одические рати» означает строгое соответствие военно-героического содержания стихотворения жанровой форме оды. То же самое можно сказать и о «прелести элегических затей». Однако в последнем есть ещё смысл: «затеи» – нечто искусственное, то есть сочинение произведения по заданным правилам (жанра элегии), придумывание. Неслучайна здесь, повидимому, перекличка с окончанием 6 главы «Евгения Онегина», где «элегические затеи» фигурируют в связи со стихами: Мечты, мечты! Где ваша сладость? Где вечная к ним рифма младость? Как ироническая интонация цитируемого романа в адрес поэтического шаблона, искусственность «элегических затей» противопоставляется естественности, глубокой органичной связи поэта и окружающего мира в процессе творчества. Последнее подтверждается и развертывается далее во второй строфе сравнением стихов с растениями: стихи «растут». Очень важно, что здесь не садовые, искусственно выведенные цветы (розы, например), а желтый одуванчик у забора – дикий цветок – и сор-няки: лопухи, лебеда. Образ забора значим, во-первых, как образ границы, а во-вторых – как границы искусственной, человеком возведенной. Забор является контрастным фоном для дикорастущих одуванчиков, лопухов и лебеды. Это существенно, однако недостаточно. Ведь если принять к сведению то, что растения возле забора сравниваются со стихами, то образ забора также закономерно ассоциируется с искусственными границами жанров, в которые не помещаются стихи, не ведающие «стыда». 14 Стыд, таким образом, – это искусственный забор приличий, в данном случае - литературных, жанровых. Бесстыдство стихов означает природу, естественность, нарушающую литературный этикет. Поэтому понятие «сор», родственное в данном стихотворении понятию бесстыдства, перекликается с другим своим окказиональным синонимом: «некстати». Можно предположить, что «сор» – не что иное, как различные черновые варианты, наброски стихотворения. И это, по-видимому, не лишено оснований. Однако смысл здесь более глубокий, так как почва, на которой «растёт» литература, глубже самой литературы. «Сор» есть непредсказуемость и не загоняемая ни в какие границы пестрота жизни, из которой и «растут» стихи. Это подтверждается в последней строфе, как бы отчётливо разделенной пополам. Первая половина четверостишия содержит перечисление очень разнородных ощущений (слуховых, обонятельных и зрительных), которые, вроде бы, никак не связаны между собой. Такая беспорядочность как раз передает впечатление сора жизни. Закономерно поэтому продолжение: «И стих уже звучит...». Странная строчка «таинственная плесень на стене» очень легко «расшифровывается», будучи включённой в контекст ранее сказанного – в уже обнаруженную ценностную логику произведения: «плесень» в мире стихотворения продолжает ряд: «некстати», «сор», «не ведая стыда», «одуванчик», «лопухи», «лебеда». Образ стены оказывается понятным при сравнении двух близких выражений: «жёлтый одуванчик у забора» и «таинственная плесень на стене». «Стена» = «забор» = «стыд» = «так, как у людей» (то есть как принято) – единый ценностно-смысловой ряд. Плесень на стене за пределами стихотворения – нечто антипоэтическое, безусловно отрицательное. В мире произведения Ахматовой, где всё «не так, как у людей» (а такова поэзия вообще), это живое на мёртвом и сама тайна жизни, без присут- 15 ствия которой стихи могут быть правильными, жанрово безупречными, но мёртвыми. Но, наверное, самая удивительная строка девятая: «Сердитый окрик, дёгтя запах свежий...». С одной стороны, это, как уже отмечалось, обрывочные, непредсказуемые впечатления жизненного потока. Но почему именно эти? Нетрудно заметить, что все жизненные впечатления имеют подчёркнуто сниженный характер. Жизнь представлена нарушающей литературное благообразие и именно в своей беспорядочности, дикой естественности и даже горечи воспринимается как жизнь. Запах дёгтя стоит в том же образном ряду, что «сор», «лебеда», «плесень» и тому подобное. Достаточно вспомнить его горечь из пословицы о бочке мёда, а также – способ позорить невест. Но на месте его ожидаемых, расхожих, привычно отрицательных или хотя бы нейтральных характеристик появляется положительно-оценочное определение «свежий». Однако «сор» жизни – это и «сердитый окрик». Из этого «сора» растёт стих, названный «задорным», «нежным». Ненависть превращается в любовь, как все отрицательные и прозаичные качества жизни превращаются в поэзию. «Странности» читаемого стихотворения открывают определённую закономерность. Понимание художественных текстов совершается, таким образом, не «поверх» их странностей, а именно благодаря их распознанию и учёту. Совершенно бесспорен тот факт, что художественное произведение связано с жизненным и культурным контекстом множеством связей. Это даёт основание рассматривать его как выражение определённой эпохи либо душевной жизни автора, как реализацию творческого манифеста либо некоего архетипа и так далее. Однако произведение означает и что-то само по себе. Загадка произведения ведёт не к чему-то вне его, а к нему самому. Поэтому произведение может рассматриваться и как феномен. При этом «выносятся за скобки» истори16 ко-литературный, общественно-политический и биографический контексты, а также творческая история текста без отрицания наличия и значимости всего этого. В этом мы полностью солидарны с К. Дальхаузом (см.: К. Дальхауз о ценностях и истории в исследованиях искусства // Вопросы философии. 1999. № 9. С. 131). Уместна здесь аналогия с тем, что А. Бергсон в самом начале своего «Введения в метафизику» пишет о двух способах познания вещи: «Первый способ предполагает, что вращаются вокруг вещи; второй – что в неё входят» (Бергсон А. Собр.соч. Т. 5. СПб., 1914. С. 3). Именно так – как неповторимый феномен – художественное произведение обращено к непрофессиональному читателю, а также – к толкователю. С фиксации странности начинает свою интерпретацию чеховского рассказа «Студент» В. В. Фёдоров: «Вера в то, что человеческую жизнь всегда направляли «правда и красота», рождается и укрепляется у Ивана Великопольского, героя рассказа, по мере того, как он рассказывает о самой, пожалуй, грустной вещи в мире – об отступничестве…» (Природа художественного целого и литературный процесс. Кемерово, 1980. С. 183). С. Г. Бочаров свои работы о Баратынском и Платонове тоже начинает с выделения странных особенностей поэтической манеры первого и поразительного языка второго (Бочаров С. Г. О художественных мирах. М., 1985. С. 69, 249). Это примеры особой установки по отношению к художественному тексту, в основе которой лежит удивление. Конечно, речь идёт здесь вовсе не о том, что отдельные тексты или отдельные авторы производят странное впечатление. Иногда странность вообще незаметна. Но это означает, что произведение ещё не стало с нами «откровенным» и мы видим в нём пока лишь нечто ожидаемое, обычное. Каждое произведение требует особых усилий и в определённом смысле руководит ими. Ницше писал: «Бросающиеся на Гомера филологи думают, что можно взять силою. Древность говорит с нами, 17 когда ей это угодно, а не тогда, когда это нам угодно» (Ницше Ф. Философия в трагическую эпоху. М., 1994. С. 297). Так, по-видимому, можно сказать о любом художественном произведении. Понимание – это не столько умение что-то формулировать, сколько умение слушать само произведение, слушать и не перебивать. Ведь только так и можно что-то услышать. Как справедливо утверждает Г. Зедльмайр, «не приватное мнение о произведении должно получить слово, но само произведение должно заговорить» (Зедльмайр Г. Искусство и истина. СПб., 2000. С. 176). Приведём загадочные заключительные слова рассказа Борхеса «Конец»: «Завершив своё праведное дело, он снова стал никем. Точнее, незнакомцем, которому уже нечего делать на земле, ибо он убил человека» (пер. Ю. Стефанова). Это, по-видимому, надо понимать так, что завершение дела жизни завершает саму жизнь как нечто уже потерявшее смысл. Таким «праведным делом» в рассказе оказывается месть за убитого брата. Схватка негра и Мартина Фьерро увидена глазами владельца лавки и дана как событие на фоне абсолютно бессобытийной повседневности жизни разбитого параличом Рекабаррена, который является не просто наблюдателем, а обречённым на лишь-наблюдение, не способным ни на что другое. Характерна, с этой точки зрения, разница между пончо на скачущем навстречу своей гибели всаднике и пончо, обёрнутым «вокруг ног» неподвижного паралитика. Причём это не только противопоставление, но и сопоставление. Трое персонажей – убийца, убитый и наблюдатель – похожи тем, что все они, хоть и по-разному, выключаются из жизни. Похожесть Мартина Фьерро и негра подчёркивается тем, что сначала один называется незнакомцем, затем – второй. Мартин Фьерро уже до схватки такой, каким становится к концу его противник: он уже не видит смысла жизни в убийстве, говоря своим детям о том, что «чело18 век не должен проливать кровь человека». Неслучайна его «странная усталость». Мартину Фьерро «уже нечего делать на земле»: ведь он уже убил человека (брата негра). Поэтому он, как и негр после схватки, похож на Рекабаррена, которому уже тоже «нечего делать на земле». Процитированный фрагмент можно понять и по-другому, если сделать акцент не на исполнении предназначения, а на убийстве: после убийства человека уже невозможно жить. «Праведное дело» (месть) оказывается неправедным (убийством), но уже с какой-то иной точки зрения, внешней по отношению к схватке. На первой находится негр до убийства. Пролитие крови оказывается границей, разделяющей эти точки зрения: негр говорит о детях, выслушавших отцовские слова о недопустимости кровопролития: «Значит, они не будут похожи на нас». Отсюда ещё один смысл названия: уходит эпоха, когда пролитая в честном поединке кровь могла считаться «праведным делом». Взгляд разбитого параличом Рекабаррена отчасти сливается с воззрением самой современности на героическое и кровавое прошлое; в этом взгляде угадываются восхищение и ужас, а также сожаление по поводу своей никчёмной роли наблюдателя. В поисках ответа на вопросы о смысле заключительной фразы произведения мы вынуждены обращаться к самому рассказу. Готовые общие понятия находят в произведении только самих же себя, а произведение молчит перед таким учёным монологом как не имеющий права голоса объект. На вопросы о смысле отвечает само произведение: его образная, странная логика и есть искомый смысл. Указанный аспект понимания художественного текста хорошо поясняется марселевским разграничением проблемы и тайны. Имея дело с проблемой, мы, по мнению философа, находимся в чисто гносеологической плоскости отношения субъекта к объекту: «…там, где 19 есть проблема, я работаю с данными, расположенными передо мной, но в то же время всё происходит так, как если бы я вовсе не обращал внимания на себя в процессе решения…» (Марсель Г. Быть и иметь. Новочеркасск, 1994. С. 149 – 150). Тайна же выводит на первый план «онтологический статус исследователя» (с. 150), благодаря чему в ситуации понимания художественного произведения и происходит встреча, а не приём информации. Но именно поэтому с тайной художественного произведения, с его странностями имеет дело прежде всего не исследователь, а читатель, сам «онтологический статус» которого и ставится этими странностями под вопрос. Его удивление, таким образом, есть не просто психологический «аккомпанемент», эмоциональное сопровождение понимания смысла произведения, а сам горизонт и необходимое условие такого понимания. Как сплошная странность может быть воспринято «детское» стихотворение Д. Хармса: Человек устроен из трёх частей, /из трёх частей, / из трёх частей. Хэу-ля-ля, / дрюм-дрюм-ту-ту! / Из трёх частей человек. Борода и глаз, и пятнадцать рук, / и пятнадцать рук, / и пятнадцать рук. Хэу-ля-ля, / дрюм-дрюм-ту-ту! / Пятнадцать рук и ребро. А впрочем, не рук пятнадцать штук, / пятнадцать штук, /пятнадцать штук. Хэу-ля-ля, / дрюм-дрюм-ту-ту! / Пятнадцать штук, да не рук. Сама установка высказывания («Человек устроен из …») носит научно-рациональный, объективирующий характер, так как исходит из того, что человек вообще (в абстрактном, собирательном значении) – устройство. Такой сам по себе серьёзный подступ обещает некую классификацию. Так как далее эта установка постоянно в тексте опрокидывается, то речь должна идти об общем художественном механизме стихотворения как комическом. Ведь ещё Кант писал о смехе как о превращении напряжённого ожидания в ничто. Такая весёлая игра с читательскими ожиданиями и происходит в данном тексте (как и вообще зачастую у Хармса). Первая строфа стихотворения лишь обеща20 ет назвать части человека, однако в самом их заявленном количестве уже содержится странность – логическая произвольность числа. При этом сам текст «устроен» именно «из трёх частей» (строф). Далее к этому добавляется «асимметричность» чисел в упоминании человеческих органов: глаз один, а не два, а рук – кроме того, что много, – ещё и нечётное количество. Борода не родовой (общечеловеческий) признак, а лишь мужской (и то не обязательный). Ребро одно, что, наряду с количеством рук, продолжает ряд асимметричных неожиданностей анатомии. Но как только читатель привык к странному существу с пятнадцатью руками – оказывается, что это вовсе не руки. Образ человека, взятый как узнаваемый и измеримый, редуцируется до игры чистых чисел. Припев похож на детскую считалку, и этот контраст взрослого (мнимо серьёзного) и детского (игрового) имеет важнейшее значение. В припеве можно как раз выделить три части (1 – хэу-ля-ля; 2 – дрюм-дрюм-ту-ту; 3 – вариативный завершающий каждую строфу стих). Те три части человека, которые были обещаны в начале, являются в игровом облике. Припев – чистая игра – противостоит серьёзным попыткам анатомии и логики, так, что последние опрокидываются, а игровой ритм как жонглирование серьёзностями проходит через всё стихотворение и обеспечивает его чисто игровое – комическое – единство. Весёлый характер этой взрывающей саму себя таксономии проистекает именно из радостного ощущения необъективируемости, неисчисляемости человека. Игровая интонация слова выражает весёлое состояние творческого хаоса непредсказуемости и сплошной неготовости, «неустроенности» бытия. Странности, без умения замечать которые не состоится понимание, не являются синонимом всего непонятного. Когда мы признаём что-либо в художественном произведении непонятным, то под «понятностью» можем подразумевать разное. 21 Например: Духовной жаждою томим, В пустыне мрачной я влачился, И шестикрылый серафим На перепутье мне явился... Допустим, что нам неизвестно, кто такой шестикрылый серафим. Тогда всё высказывание вызовет определённое затруднение. Что за встреча происходит в мире стихотворения Пушкина? Таким образом, первое, что предстоит толкователю, – понять буквальное значение высказывания, понять произведение как феномен языка. Причём это повторимые моменты, объединяющие текст с любым другим на данном языке. Но есть, конечно, и то, что обособляет текст, делает его неповторимым. На различные аспекты понимания (непонимания) указывал Спиноза (См.: Спиноза Б. Избранные произведения. Т. 2. М., 1957. С. 107–108). О двух видах непонимания писал Витгенштейн, различавший во встрече с произведением живописи непонятность как незнакомость предметов либо как «их расположение» (Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. I. М., 1994. С. 228). То же применимо и к пониманию поэзии: «В одном случае мысль [заключённая] в предложении есть то, что является общим для разных предложений; в другом же - это нечто, выражаемое только этими словами в данной их расстановке» (Там же. С. 229). Непонятность языка, обнаружение так называемых глосс – исключение; непонятность смысла – правило, так как наличие глоссария, толкового словаря, объясняющего непонятные места, отнюдь не гарантирует откровение общего смысла. Когда нам непонятно значение какого-то места высказывания, то подобное затруднение разрешается по ту сторону текста – обращением к словарю. Например, в «Библейской энциклопедии» архимандрита Никифора (1891 год) говорится, что серафимы – это высшие духовные существа, ближайшие к Богу. Если нам это известно, всё 22 дальнейшее воспринимается как встреча лирического героя с посланцем Бога, помогающим превращению обыкновенного человека в пророка. М. М. Бахтин характеризовал различные аспекты понимания как «понимание повторимых элементов и неповторимого целого» (Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 347). Это перекликается с выделенными Ф. Шлейермахером грамматическим и психологическим направлениями интерпретации – к единству языка – объективное – и к личности автора – субъективное (См. об этом, например: Дильтей В. Собр. соч. Т. IV. М., 2001. С. 154–155, 221). Очень верно описал указанные аспекты семантики Хосе Ортегаи-Гассет: «…точный смысл любого слова всегда определяется теми обстоятельствами, той ситуацией, в которых они были произнесены. Таким образом, словарное значение каждого слова не более чем остов его подлинных значений, которые во всяком употреблении бывают в какой-то мере разными и новыми, облекая данный костяк живой плотью конкретного смысла в быстротекущем и постоянно изменчивом потоке речи» (Ортега-и-Гассет Х. Избранные труды. М., 1997. С. 669). Таким образом, семантика художественного произведения охватывает готовые, данные, опознаваемые значения и открывающийся лишь в момент чтения заданный смысл. «Повторимость» значения даёт возможность зафиксировать его в толковом словаре. Смысл же окказионален, ситуативен. Можно сказать, что если смысл – категория речи, то значение – категория языка. Значение отсылает к знаку, точнее – к системе знаков, к конвенции, смысл – к тексту, к высказыванию, к ситуации жизни, к событию. В. Айрапетян в своей книге «Герменевтические подступы к русскому слову» (М., 1992) определяет эти термины несколько иначе: «Значение относится к словесному толкованию, а смысл к мысленному пониманию, так их стоит различать. Значение – душа, «внутреннее тело» слова, а смысл – дух» (С. 45). 23 Приведённый пример с готовым, найденным в словаре значением демонстрирует первый аспект – понимание «повторимых элементов», то есть языка, на котором написано произведение. «Язык» здесь следует понимать в широком смысле – как код, например, жанровый и т. д. Более сложный аспект понимания – второй: произведение как неповторимое целое, как авторский замысел (только к замыслу всё, конечно, не сводится). Продукт понимания такого рода не может быть зафиксирован в словаре как нечто окончательное. Различие понимания значения элементов и смысла целого – это и есть древнее различие понимания буквы и духа произведения. Причём как раз такая двойственность буквального значения и сокровенного смысла и принуждает к герменевтическим усилиям. Например, ещё для Оригена (III век) несовпадение духа и буквы Библии требует поиска «правильного пути (толкования Писания)» (См.: Ориген. О началах. Новосибирск, 1993. С. 280). Правда, трудно согласиться с оценочным противопоставлением того и другого, идущим ещё от апостола Павла. Например, Эразм Роттердамский писал о том, что все сочинения «вроде как из тела и духа – состоят из простого смысла и из тайны. Пренебрегая буквой, тебе прежде всего надо думать о тайне. Таковы сочинения всех поэтов, а из философов – у платоников. Однако более всего – Священное писание» (Эразм Роттердамский. Философские произведения. М., 1986. С. 143). Необходимо учитывать то, что первое столь же важно, сколь и второе, и нельзя «пренебрегать буквой», так как непонятность «простого смысла» (значения) пушкинского выражения «шестикрылый серафим» препятствовала бы пониманию остального. Однако, как уже было отмечено, это остальное – поиск смысла произведения в самом произведении – самое сложное. Это уже не опознавание знакомого, а встреча с новым, незнакомым – с «тайной» текста. 24 Разберём конкретный пример: Квартира тиха как бумага – Пустая, без всяких затей (…) Мандельштам Выражение «Квартира тиха…» понятно с точки зрения узнаваемости значения слов, которые составляют высказывание. Здесь опознаются и субъект (квартира), и его предикат (тиха). Это опознаваемое значение (которое можно найти в толковом словаре) встречается благодаря следующему сравнению со смыслом внесловарным, идущим от самого стихотворения Мандельштама. Тишина акустическая получает дополнительную характеристику: это очеловеченная тишина, молчание, невысказанность. Но это не всё. Понятие «затеи» сообщает образу тишины ещё одно значение – нетворческого состояния отсутствия вдохновения. Причём «бумага», взаимодействуя с отсутствующими «затеями», указывает на образ поэта, оторванного от мира, что, по-видимому, как-то связано с его творческим молчанием. Таким образом, смысл, которым читатель располагал до чтения стихов (значение знакомых слов), встречается со смысловыми «обертонами» данного текста. При этом узнаваемые, привычные предметы предстают в неожиданном, новом свете. Это как раз то, что В. Б. Шкловский называл остранением, – нарушение автоматизма читательского восприятия. Здесь приходится абстрагироваться от существенных различий искусства Нового времени и средневекового, на которые, например, проницательно указывал Д. С. Лихачёв: «Искусство средневековья ориентировалось на «знакомое», а не на незнакомое и «странное». Стереотип помогал читателю «узнавать» в произведении необходимое настроение, привычные мотивы, темы. Это искусство обряда, а не игры» (Лихачёв Д. С. Избранные работы в 3-х т. Т. 1. Л., 1987. С. 335). Близко этому различение Ю. М. Лотманом «эстетики тождества» и «эстетики противопоставления» (Ю. 25 М. Лотман и тартуско- московская семиотическая школа. М., 1994. С. 222–232). Различные акценты в этих типах искусства не зачёркивают наличия в них обеих указанных ранее сторон. Средневековое искусство иными, по сравнению с искусством Нового времени, способами, но также извлекает читателя (зрителя, слушателя) из обыденности течения его прозаической жизни, хотя это на самом деле больше похоже не на игру, а на обряд. Поэтому чудо является универсальной эстетической категорией. Присмотримся к расхождению смысла и значения понятия мудрости в стихотворении Баратынского «Мудрецу»: Тщетно меж бурною жизнью и хладною смертью, философ, Хочешь ты пристань найти, имя даёшь ей: покой. Нам, из ничтожества вызванным творчества словом тревожным, Жизнь для волненья дана: жизнь и волненье – одно (…) Необычен здесь сам спор с мудростью. Значение – готовая семантика – этого слова открывает позитивность приобретения опыта, некий глубокий урок, извлечённый из жизни, и т. п. Смысл же, то есть семантика, актуальная для данного текста, носит отрицательный характер напрасных («тщетных») усилий в достижении мудрости как некой смерти при жизни. Если для философа его покой – пристань устойчивости жизни, то логика стихотворения, отождествляющая жизнь как раз с волнением, относит такую пристань покоя к полюсу «хладной смерти». Попутно выявляется метафорический смысл слова «волненье» – движение чувств в противовес спокойствию рассудка. Понимание стихотворения Баратынского, таким образом, осуществляется не в обход странно негативной трактовки мудрости, а как раз на пути выявления и прояснения этой странности, ведущем от расхожего значения к окказиональному смыслу. У Пушкина есть такое стихотворение: Мне бой знаком – люблю я звук мечей; От первых лет поклонник бранной славы, Люблю войны кровавые забавы, 26 И смерти мысль мила душе моей. Во цвете лет свободы верный воин, Перед собой кто смерти не видал, Тот полного веселья не вкушал И милых жён лобзанья не достоин. Обычно с образами смерти, войны, крови связывается отрицательная оценка, однако в стихотворении всё наоборот: герой выражает своё отношение к этому словами «люблю», «мила». Эта странная влюблённость в смерть необъяснима без подключения контекста произведения. Между готовой (словарной, внетекстовой) семантикой слов смерть, кровь, война и семантикой этих понятий в данном тексте существует расхождение. Можно обратить внимание, например, на оксюморонное выражение «кровавые забавы». Достоинство и полнота жизни обнаруживается лишь на её границе – перед лицом смерти. Получается, что чем дальше мы от смерти, тем дальше – от подлинной жизни. Это подготавливает более позднее: «Есть упоение в бою…». (Конечно, в трагическом контексте пьесы «Пир во время чумы» семантика этих понятий иная). Странность, обнаруженная в пушкинском стихотворении, таким образом, не уводит нас куда-то в сторону, а как раз, наоборот, приводит к смыслу. Название рассказа Чехова «Скрипка Ротшильда» странно тем, что в нём соединяются совершенно различные темы – богатство и музыка, материальная и духовная стороны жизни. На первый взгляд, понятие богатства дано здесь в ироническом контексте: Ротшильд – «рыжий тощий жид с целою сетью красных и синих жилок на лице». Вместе с тем чеховский Ротшильд по ходу рассказа тоже становится богачом, получив в наследство от гробовщика Якова скрипку. Причём это богатство в буквальном, материальном, смысле слова: «…теперь в городе все спрашивают: откуда у Ротшильда такая хорошая скрипка? Купил он её или украл, или, быть может, она попала к нему в заклад?» Но этим не отменяется указанная странность соседства понятий на27 звания произведения. Причём на этом странности не заканчиваются, что показывает первое предложение рассказа: Городок был маленький, хуже деревни, и жили в нём почти одни только старики, которые умирали так редко, что даже досадно. Начало рассказа заставляет читателя как бы споткнуться: досада на редкость смертей есть досада на саму жизнь. Эта странность объясняется профессией героя, с точки зрения которого «от жизни человеку убыток, а от смерти – польза». Обычная реакция Якова на окружающее – сетования на убытки. Например, к убыточным герой относит все праздничные дни, когда «грешно было работать». Существование, таким образом, предстаёт как сумма упущенного дохода. Досада на жизнь выражается и в отношении к окружающим: к жене, которая радуется предстоящей смерти, к жиду Ротшильду. Видя незнакомую «полную краснощёкую даму», Яков подумал: «Ишь ты, выдра!» Странность такой реакции в её кажущейся немотивированности. Однако она вполне соответствует установке гробовщика: неслучайно дама полная и краснощёкая. Это олицетворение самого полнокровия жизни, досадного для героя. Попробуем проследить за тем, как в мысленном монологе Якова после смерти жены меняется смысл слова «убытки». Герой сначала жалеет о том, что не попробовал извлекать доход из торговли рыбой, из перегона барок, разведения гусей, то есть речь идёт о чисто материальных убытках. Но потом Яков суммирует все эти занятия и говорит о жизни вообще, которая «прошла без пользы, без всякого удовольствия, пропала зря…». Имеются в виду уже не просто убытки, а упущенные возможности целой жизни. В конце же монолога первоначальный материальный смысл слова «убытки» окончательно вытесняется: «Зачем вообще люди мешают жить друг другу? Ведь от этого какие убытки! Какие страшные убытки! Если бы не было ненависти и злобы, люди имели бы друг от друга громадную пользу». То есть Яков 28 обнаруживает не столько материальные, сколько духовные упущения. Через чисто профессиональные категории «пользы» и «убытков» просвечивает человеческое содержание. Указание на сложность смысла понятий богатство и убытки помогает лучше уяснить суть названия произведения. Сближение таких разнородных понятий, как «музыка» и «богатство», возможно, повидимому, если рассматривать скрипку как хорошую, дорогую вещь. И такой подход вполне соответствует тексту: наследник Якова Ротшильд, вероятно, извлекает немалый доход из игры на скрипке, так как его «приглашают к себе наперерыв купцы и чиновники», заставляя играть понравившуюся мелодию. Тем не менее, как это вытекает из сказанного прежде, буквальный смысл названия не единственный. Если гробовое ремесло Якова утверждает убыточность жизни, то музыка, наоборот, – её ценность, причём даже в самом что ни на есть меркантильном смысле: ведь кроме дохода от изделия гробов герой зарабатывает игрой на свадьбах, а это событие – антоним похорон. Но, опять же, музыка означает в мире данного произведения не только денежные доходы, но и духовную ценность жизни: звук скрипки отвлекает героя от мыслей об убытках; песни под вербой поют молодые Марфа с Яковом; взгляд на скрипку вызывает нежелание умирать, так как «она останется сиротой», то есть прекратится, замолкнет её мелодия. Наконец, к Ротшильду переходит не только скрипка (вещь), но и мелодия, когда он «старается повторить то, что играл Яков». К тому же, само это наследство – знак примирения и прекращения убыточной (в духовном смысле) вражды, ненависти. Вот почему «скрипка Ротшильда» в конечном счёте оказывается не ироничным, а вполне серьёзным выражением, открывающим глубокий смысл понятия «богатство» и разницу ценностей в мире произведения Чехова. 29 Готовый смысл слов «убытки», «доход» и других, употребимых за пределами данного текста, преломляется в нём. При этом, как мы видим, заданное общеупотребительное значение отнюдь не отменено, а вступает в сложные напряжённые отношения с новыми смысловыми оттенками. Прочтём начало стихотворения Пастернака «Поэзия»: Поэзия, я буду клясться Тобой и кончу, прохрипев: Ты не осанка сладкогласца, Ты – лето с местом в третьем классе, Ты – пригород, а не припев (…) Зададимся следующими вопросами: при чём тут смерть («кончу, прохрипев»)? В чём странность и нелогичность намеченного в строфе противопоставления? Почему «место» непременно «в третьем классе»? 1. Предсмертная клятва обладает здесь как бы большей весомостью: перед лицом смерти отпадает необходимость притворства. Это момент жизненного итога, истины без прикрас, открывающейся на фоне и в противовес «осанке сладкогласца» как внешней позы и настроенности на особое слово, возвышающееся над жизнью. Между тем поэзия как слово правдивое – это не сладкий голос, а именно хрип. 2. Любое соотнесение требует единого логического основания. Чтение художественного произведения зачастую (а в чём-то всегда) сталкивается с логическими непристойностями. Читательское сознание, находящееся до акта чтения на почве прозаической логики, ожидает чего-то вроде: «ты – пригород, а не город» (хотя этим странность соотнесения не отменилась бы полностью). Поэтическое слово выносит за скобки «город» как подразумеваемый отрицательный фон «пригорода», более близкого «лету с местом в третьем классе». Но при этом на место ожидаемого «города» попадает нечто «из другой оперы» - «припев». Это неожиданно и нелогично с прозаической точ30 ки зрения, но поэтической логике вполне соответствует: «припев» – понятие, сближающееся стихотворением с «осанкой сладкогласца» (то есть певца). Это повторяющаяся, «рефренная» часть песни (в третьей строфе – «перепев»), в которой как раз отсутствует нечто неожиданное, как и в готовой квазипоэтической позе, «осанке сладкогласца». 3. «Третий класс» по логике стихотворения отличается от «первого» тем же, чем «пригород» от города, – большей близостью к природе, а не к цивилизации, к «хриплому» и правдивому голосу жизни, а не к сладкому голосу приукрашивающего и искусственного искусства для избранных, ездящих исключительно в первом классе. Эта художественная логика, на которую мы ссылаемся, означает своего рода сдвиг обычных логических правил и превращение их в объект игры. Но вместе с тем сама эта игра идёт по не менее строгим правилам, без которых она просто невозможна. Уже начало повести Гоголя «Нос» настраивает на удивление: Марта 25 числа случилось в Петербурге необыкновенно странное происшествие. При этом можно сказать, что странность текста начинается раньше тематизированной странности происшествия, о котором текст рассказывает. Удивляет в начале повести не рассказываемое событие, а событие рассказывания. Читатель сталкивается с нарушением обычного порядка сообщения о времени. Во-первых, конкретность числа и месяца контрастирует с отсутствием указания на год. Во-вторых, название месяца опережает в сообщении число. Такое нарушение отчасти предвосхищает и моделирует последующую историю «Носа» – историю распада целого на части: налицо некая обособленность различных «частей» (число, месяц, год) от «целого» потока времени. Множество различных примеров приводится здесь для развёртывания тезиса об удивлении как единственной возможности понима31 ния художественных текстов. Причём нас интересует, как уже отмечалось, не столько психологическая сторона, сколько герменевтическая: сама смысловая структура художественного произведения требует совершенно особого, готового ко всяким неожиданностям, взгляда. Умение удивляться здесь означает умение узнавать и признавать нечто странное как не простую помеху для понимания (шум в канале связи), а как указатель тайны произведения. Эта читательская установка совершенно соразмерна готовности к неповторимости, уникальности идущего навстречу или обратившегося к нам человека. 2. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СМЫСЛА Художник воспроизводит в своём творении чистую идею, выделяет её из действительности, устраняя все мешающие этому случайности. А. Шопенгауэр Одна из расхожих характеристик произведения искусства – совершенство. Воспользуемся древним классическим пониманием совершенства, принадлежащим Аристотелю, который определял это понятие через середину «между избытком и недостатком» (Аристотель. Соч. в 4 т. Т. 4. М., 1984. С. 85). Зрелище опубликованных черновиков поэтов с многочисленными зачёркиваниями и добавлениями даёт наглядное представление о попытках того или иного автора достичь этой «середины». Гегель понимает совершенство в искусстве как идеал, то есть воплощённую идею, пронизанность художественного творения смыслом: искусство «выявляет дух и превращает любой образ во всех точках его видимой поверхности в глаз, образующий вместилище души» (Гегель Г. В. Ф. Эстетика. Т. 1. М., 1968. С. 162). Эти слова философа помогают понять то, что художественное произведение как запечатлённая попытка достижения совершенства, 32 как установка на устранение всего «лишнего» есть неотделимость художественного образа от смысла. Смысл не существует в художественном произведении наряду с чем-то иным, бессмысленным. Он непрерывен. Поэтому устранение всего «лишнего» в процессе творчества – это устранение всего бессмысленного. Рассмотрим начало стихотворения Пастернака «Вокзал»: Вокзал, несгораемый ящик Разлук моих, встреч и разлук (…) Обращает на себя внимание странное выражение: несгораемый ящик встреч и разлук. Можно попробовать заменить его на более понятное: место встреч и разлук. Мы, кажется, добыли смысл высказывания, но при этом пожертвовали одной странной деталью. На самом деле вместе с ней улетучился и сам поэтический смысл. Предыдущая глава как раз и доказывала неотменяемость удивления в попытке понять художественное произведение. Поэтому любая странность текста должна быть не только опознана и признана в качестве таковой, но и учтена в поисках смысла. Несгораемый ящик – это сейф для сохранения ценностей. Здесь, по-видимому, имеется в виду то, что вокзал хранит воспоминания о встречах и разлуках. Но также важно, что в этом образе соединено что-то личное («мои» встречи и разлуки) и публичное, сокровенное и открытое, интимное и казённое. Соединяются также некое постоянство, сохранность воспоминаний и, с другой стороны, мимолётность. Однако с этим связана сама суть вокзала, соединяющего несоединимые категории дома и дороги. Как можно увидеть из приведённого примера, смысл художественный – и в этом его специфика – неотделим от самого конкретного образа, так, что невозможна замена «несгораемого ящика» абстрактным «местом». Поэтому понимание художественного произведения – это не формулировка некой главной мысли, как бы «спрятанной за» определёнными деталями. Если мы ищем «главную идею» (в художе33 ственном произведении таковой нет), то мы как будто смотрим «сквозь» детали, частности, воспринимая их как иллюстрации искомой идеи. Но вынеся за скобки сами конкретные образы, мы тут же упускаем художественный смысл, подменяя его какой-то формулой. Если каждая деталь произведения причастна его смыслу и смысл, таким образом, непрерывен, то отсюда вытекает то правило чтения, согласно которому художественный текст не содержит ничего случайного. То, как трактовал категорию случайности Спиноза, вполне применимо для характеристики художественной реальности. По его мнению, нет ничего действительно случайного: нам что-то лишь кажется случайным до тех пор, пока мы не поймём неслучайности этого. То есть это не свойство вещей, а «недостаток разума» (См.: Спиноза Б. Избранные произведения. Т. 1. М., 1957. С. 276–277, 441). Рассмотрим некоторые детали пьесы Пушкина «Русалка» с точки зрения их неслучайности. Обратим сразу внимание на название произведения, указывающее на важность образов воды, и место действия – «Берег Днепра. Мельница». Это граница воды и земли, но, одновременно, природной (речной) стихии и искусственного приспособления. Для мельника вода – нечто полезное, что крутит жернова его мельницы. Как можно понять неслучайность образа воды и самой профессии героя? Сам текст подсказывает. Мельник сетует на глупость дочери, которая заключается в безоглядности и бескорыстности её чувств, в её нерасчётливости: Вы тотчас одуреете; вы рады Исполнить даром прихоти его… (Курсив мой – Л. Ф.) Как видим, разумное поведение состоит в извлечении из чувств «барыша» (слово самого героя из монолога в начале пьесы). 34 Таким образом, аналогично тому, как мельник получает пользу из стихийного течения реки, он хотел бы извлечь выгоду из чувств князя к его дочери. Вода здесь, как и вообще в пьесе, оказывается символом естественного чувства. Мельница как хитроумное искусственное устройство, использующее силу природы для блага человека, олицетворяется в мельнике – персонаже, проповедующем расчётливость поведения, использование любви. Течение Днепра и стихийность, неуправляемость чувства персонифицированы в дочери мельника. Та же коллизия связана с образом князя. В самом решении князя жениться чувства побеждаются расчётом: …Сама ты рассуди. Князья не вольны, Как девицы – не по сердцу они Себе подруг берут, а по расчётам Иных людей, для выгоды чужой… В этом князь похож на мельника: над природным чувством, уравнивающим людей, торжествуют разделяющие их сословные или профессиональные интересы. Поэтому важно, что один – мельник, а другой – князь. Когда дочь мельника говорит ему «…Впрок тебе пойдёт моя погибель», она имеет в виду то самое извлечение выгоды из чувств, о чём говорил её отец. Именно с этими словами она подаёт ему мешок с деньгами, принесённый князем. В конце первой сцены, после того, как дочь мельника бросается в реку, мельник назван уже «стариком». Конечно, одно не противоречит другому: профессия и возраст лежат в разных плоскостях. Но то, что сначала герой назван по своей профессии, а потом – по возрасту, отнюдь не случайно. В момент самоубийства дочери мельник просто перестаёт быть мельником: ведь здесь налицо торжество чувства над расчётом. Поэтому он (как уже старик) падает со словами: «Ох, горе, горе!» Профессия в этот миг потеряла своё значение. Его новое имя – 35 ворон – совершенно непонятно с прозаической точки зрения: абсурдное, бессмысленное имя обез-ум-евшего старика. Но оно становится понятным, обнаружив свою неслучайность в общей художественной логике пьесы: мельник = человек = разум ® ворон = природа = чувство. Причём важно, что это именно ворон – вестник горя. Если сравнить две песни, спетые на свадьбе князя, то можно увидеть их полную противоположность. Первая песня исполняется хором, вторая – одиноким, нераспознанным голосом. Место действия первой – огород (земля), второй – вода; первая – о деньгах, об официальном сватовстве, вторая – о любви, о грешном чувстве. Герой первой песни – сват (человек), второй – рыбка-сестрица (природа). В пиршественные «мажорные» интонации прославления законного брака вторгается, как «ложка дёгтя», чуждая печальная мелодия незаконной любви. Старик говорит о том, что отдал деньги «на сохраненье» дочери. Образ богатства в пьесе связан всегда с миром рассудка. Как только мельник избавляется от денег – он перестаёт быть мельником, то есть покидает позицию расчёта и выгоды. Но одновременно происходит неслучайная обратная метаморфоза с его дочерью: став хранительницей сокровищ, она становится расчётливой и обдумывает план мести, делая свою дочь орудием этого плана: …С той поры, Как бросилась без памяти я в воду Отчаянной и презренной девчонкой И в глубине Днепра-реки очнулась Русалкою холодной и могучей, Я каждый день о мщенье помышляю, И ныне, кажется, мой час настал. В признании князя в финальной сцене на берегу Днепра – «Я счастлив был, безумец!.. и я мог так ветрено от счастья отказаться» – смысл понятия «безумие» кажется противоречивым. Если в начале пьесы безумие было связано с нерасчётливостью и безоглядностью 36 чувства, то в последнем признании князя определить семантику этого понятия сложнее, так как оно, с одной стороны, характеризует «счастье» (то есть имеет тот же прежний смысл), но с другой – сливается с «ветреностью» отказа от счастья и, таким образом, смысл слова «безумие» меняется на противоположный. По этой смысловой метаморфозе можно «вычислить» дальнейшую судьбу героя в этой незаконченной пьесе. Обнаруживается определённое «перемещение» образа князя из «расчётливой официальной зоны» терема к опасной зоне стихийного течения реки. Причём так как вода в пьесе – символ природного чувства, то такое перемещение означает и торжество последнего: Невольно к этим грустным берегам Меня влечёт неведомая сила (…) Пьеса заканчивается встречей князя и русалочки. По плану мести русалки её дочь должна заманить князя в глубины Днепра, так что план героини начинает осуществляться. Образ каждого из персонажей пьесы парадоксально соединяет несоединимое: расчётливый мельник – обезумевший от горя отец (человек – ворон); безрассудная влюблённая дочь мельника – холодная, расчётливо готовящая план мести русалка (да и сама русалка – полуженщина-полурыба); образ князя можно понять как находящийся на границе терема («зоны разума», брака по расчёту), где его ждёт законная жена, и Днепра (зоны природного чувства, «неведомой силы»). Русалочка выходит на берег реки к князю, своему отцу, чтобы «к нему нежнее приласкаться» (любовь), но этот совет матери оказывается частью обдуманного плана мести (ненависть). Итак, двойственность, своеобразное совмещение несовместного является «сквозной», «непрерывной» особенностью построения всех образов персонажей пьесы «Русалка», то есть её художественно-смысловой логикой. 37 Мы воспринимаем всё в художественном произведении с точки зрения неслучайности, даже если объективно в нём есть нечто случайное. Как писал Ю. М. Лотман, «стоит нам подойти к тексту как к художественному, и в принципе любой элемент – вплоть до опечаток [...] – может оказаться значимым» (Лотман Ю. М. Избранные статьи. Т. I. Таллинн, 1992. С. 204). Мы бы только уточнили модальность этого утверждения: не «может», а «должен». Не подозревающее об опечатке читательское сознание вплетает всё в общую смысловую картину: понять что-то возможно лишь как неслучайное. Неслучайность – не итог понимания, не то, в чём мы как бы должны убедиться, а то, в чём мы заранее уверены, – предпосылка понимания. Мы понимаем именно «из» и «благодаря» этой уверенности, находясь на её почве. При этом совершенно справедливо положение Канта: «Изящное искусство есть искусство, если оно кажется также и природой» (Кант И. Критика способности суждения. СПб., 1995. С. 237). Но впечатление непреднамеренности («натуральности») художественного произведения возникает тогда, когда в его образах видится некая доля случайности, необязательности. По-видимому, читатель способен это ощутить ровно настолько, насколько ему доступен кругозор персонажей, точка зрения изнутри художественного мира. Можно сказать, что случайность – это то, что могло бы не случиться, но случилось; это происходящее в открытом горизонте жизни персонажей. Но автором предопределённое событие не случается, а совершается (и закрывается как судьба). В художественный мир, где что-то случается, мы входим как читатели, знающие о его сотворённости. Это знание предопределяет как бы непрерывный перевод с языка случая на язык свершения, с языка жизни («природы») на язык искусства. Лекция Умберто Эко о книгах и гипертексте, прочитанная в МГУ в 1998 году, заканчивается 38 возданием должного именно этому аспекту художественной литературы: «Предположим, вы читаете «Войну и мир». Вы безумно хотите, чтобы Наташа отвергла этого мерзавца Анатоля и вышла замуж за князя Андрея, который бы при этом не умер, и чтобы они жили долго и счастливо. С помощью компьютера вы сможете переписывать эту историю сколько угодно раз и придумать сколько угодно своих «Войн и миров» – где Пьер Безухов убивает Наполеона или (если вы придерживаетесь иных взглядов) Наполеон побеждает Кутузова. Но увы! С книгой ничего не поделаешь. Вам придётся смириться с законами рока. И признать неотвратимость судьбы» (http://www.rinet.ru:8080/~ katabv/time/t_eco.htm). Художественное произведение – телеологическая зона в том смысле, что по отношению к любой его детали закономерен вопрос: какова её художественная цель? О том, что структура эстетического объекта носит телеологический характер, писал, например, В. Сеземан (см.: Сеземан В. Эстетическая оценка в понимании произведения искусства // Мысль. Журнал петербургского философского общества. № 1. Пб., 1922. С. 130), а позже – А. Скафтымов (Скафтымов А. П. Нравственные искания русских писателей. М., 1972. С. 23). Разумеется, это не означает, что художник обязан отдавать себе отчёт в любой своей творческой акции и сознавать целесообразность каждой детали своего произведения. Однако действуя безотчётно и зачастую неосознанно, автор произведения всегда интуитивно чувствует эту целесообразность (или нецелесообразность), отбрасывая то, что не соответствует его творческой установке. Поэтому относительно любой детали произведения мы вполне вправе спросить: «Зачем здесь именно это? Почему именно так, а не иначе?» Такие вопросы задаёт, например, неоплатоник Порфирий, истолковывая эпизод гомеровской «Одиссеи» (См.: Порфирий. О гроте 39 нимф // Человек. 1993. № 3). Интерпретация у Порфирия является именно преодолением кажущейся случайности. Почему в романе «Обломов» при описании внешности героя несколько раз используется образ круга? Зачем читателю пушкинского «Гробовщика» сообщается о цветах нарядов дочерей героя? Каково назначение рассказа няни Татьяны Лариной о своём замужестве? Подобные вопросы, возникающие при чтении, ведут к восприятию всего в тексте как имеющего смысл, даже если этот смысл нам пока недоступен. Чтение, если можно так выразиться, безотчётно телеологично, то есть всё время интуитивно пытается нащупать художественную цель. Но эта «цель» вне самого произведения не существует. Так мы понимаем определение Кантом искусства как целесообразности без цели (Кант И. Критика способности суждения. СПб., 1995. С. 236). Попытаемся телеологически рассмотреть рассказ М. Твена «Укрощение велосипеда». [В связи с проблемой корректности использования переводных (неоригинальных) текстов в качестве материала можно поставить вопрос: Стоит ли вообще читать переводы зарубежных авторов? От ответа на него зависит и выбор материала. Мы отвечаем на этот вопрос положительно]. Какова художественная цель странного названия рассказа? В названии неживая машина предстаёт чем-то живым, нуждающимся в укрощении. Очень важно то, что оживание неживого, присутствующее в названии, наблюдается и дальше в тексте (пер. Н. Дарузес): а) «Велосипед у меня был не вполне взрослый, а так, жеребёночек – дюймов пятидесяти, с укороченными педалями и резвый, как полагается жеребёнку»; б) «…сел ему на спину…»; в) «Вдруг стальной конь закусывает удила и, взбесившись, лезет на тротуар…». Выходит, что странная особенность названия является звеном непрерывной смысловой цепи. Размывание границы живого и неживого выражается также в сравнении велосипеда и «укротителя». Рассуждения рассказчика о 40 своей натуре (I глава) переносят характеристику велосипеда, который «писал восьмёрки, и писал очень скверно», на самого велосипедиста. Общая их черта – непредсказуемость, неукрощаемость, торжество индивидуальной («моей») природы над общими законами природы. Заявление «С каждым днём ученик делает заметные шаги вперёд» опровергается последующей картиной поэтапного освоения велосипедной езды (I глава), из которой выясняется, насколько «заметные шаги вперёд» удаётся сделать ученику. Каждый из этапов обучения описан как освоение какого-либо элемента. Причём оптимистичному выражению «заметные шаги вперёд» соответствует целый ряд аналогичных: «уверенно», «до полного совершенства», «легко и просто». Однако основное событие всех этапов обучения – падение, которым заканчивается каждый «шаг вперёд». Таким образом, прогресс оказывается сомнительным, а рассматриваемая фраза обнаруживает свой иронический характер. Велосипедная езда сравнивается в рассказе с укрощением необъезженного коня, с изучением немецкого языка и, шире, с изучением курса любой науки (начало II главы) и приобретением любого опыта. Само понятие «жизненного опыта» ставится в рассуждениях рассказчика во II главе под сомнение: Велосипед в руках новичка невероятно чувствителен: он показывает самые тонкие и незаметные изменения уровня, он отмечает подъём там, где неопытный глаз не заметил бы никакого подъёма… В приведённом отрывке привычное понятие опыта переворачивается: новичок оказывается опытнее того, кто умеет ездить на велосипеде; опыт чувствительности к неровностям на дороге – это опыт падений, несчастливый опыт. Данный фрагмент перекликается с пассажем в начале II главы: «Некоторые воображают, будто несчастные случаи в нашей жизни, так называемый «жизненный опыт», приносят нам какую-то пользу». Отрицательная оценка опыта в мире 41 произведения связана с образом неконтролируемых и непредсказуемых ситуаций езды на велосипеде. Неповторимость жизненных ситуаций делает непредсказуемой жизнь, делает неприменимыми, бесполезными уроки прошлого. Ситуация освоения велосипеда как раз подтверждает такую скептическую точку зрения. Это ситуация тотальной неустойчивости, делающей бесполезными любые предусмотрения и опрокидывающей саму возможность опыта. Насмехающийся мальчишка оказывается отчасти в ситуации укротителя велосипеда. Придя «на выручку» велосипедисту и желая предотвратить столкновение велосипеда с фермерской повозкой, он пытается взять под контроль ситуацию: « – Налево! Сворачивай налево, а не то этот осёл тебя переедет…». В этом эпизоде, как и в других, выявляется невозможность такого контроля: «…– Нет, нет, направо! Стой! Не туда! Налево! Направо! Налево, право, лево, пра… Стой, где стоишь, не то тебе крышка!» Само речевое поведение персонажа копирует непредсказуемое и неустойчивое движение велосипеда. Укрощение велосипеда и связанные с ним неустойчивость и неуправляемость – модель мира рассматриваемого рассказа, в центре которого происходит событие непрерывного и внезапного поворота («Налево, право, лево, пра…»), тотальной превратности бытия. Понятие укрощения относится поэтому не только к велосипеду, но и к жизни вообще. Такова художественная цель отмеченной странности названия. К концу рассказа читатель не может утверждать, что укрощение состоялось. На это указывает последний совет: «Купите себе велосипед. Не пожалеете, если останетесь живы». Уроки езды на велосипеде являются образом неустранимой неустойчивости жизни, невозможности каких-то гарантий, и насколько неуправляемость велосипеда оценивается отрицательно с точки зрения рассказчика- велосипедиста, жертвы непрерывной игры случая, настолько же неук42 ротимость и непредсказуемость самой жизни принимается как её достоинство с точки зрения автора (читателя). Как справедливо утверждает И. Б. Роднянская, ссылаясь на Гегеля, «художественная действительность насквозь концептуальна и являет сомкнутое, «сосредоточенное единство» (Гегель Г. В. Ф. Соч., т. 14. 1958. С. 190)…» (КЛЭ. Т. 8. Ст. 341). Всё, что находится в художественном мире, и сам он – понятие, но не как предмет науки логики, а как то, что адресовано пониманию, то, что подлежит интерпретации. Всё произведение есть смысл, но не как некое суждение о бытии, а как «суждение» самого бытия. Здесь необходимо вспомнить понятие судьбы, в котором всегда ощущается эстетический момент завершённости. В отношении к чему-то как к судьбе, писал Г. Зиммель, «снимается та случайность, которая стоит между событием и смыслом нашей жизни» (Зиммель Г. Избранное. Т. 2. М., 1996. С. 188). Доказывает справедливость этого сам русский язык: судьба – это суждение, суд бытия. С этим связана одна особенность ряда лирических произведений, в которых отсутствует сказуемое (Мандельштам. Звук осторожный и глухой… Фет. Шёпот, робкое дыханье… И др.). В таком случае смещается акцент с говорящего субъекта на предмет изображения, которому как бы предоставляется слово. Это создаёт впечатление, что не поэт говорит о мире, а мир сам говорит; подлежащее не подлежит высказыванию, а высказывается само. Художественный мир – откровенное бытие, некий «просвет» бытия. Действительное читательское впечатление складывается из того, что кажется случайным, и того, что осознано как необходимое. Из соотношения в читательском восприятии случайного и неслучайного и вытекает степень непонятности текста (или, наоборот, понятности). Рассмотрим некоторые эпизоды повести Гоголя о ссоре Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем из сборника «Миргород». Как уже отмечалось, понимание художественного произведения – это пе43 ревод с языка «природы» (случая) на язык «искусства» (творения), судьбы. В самом начале произведения, где повествователь любуется бекешей Ивана Ивановича, упомянута Агафия Федосеевна, которая раньше «не ездила в Киев» (а потом, по-видимому, стала для чего-то туда ездить) и затем «откусила ухо у заседателя». Если вспомнить последующие происшествия повести, предметом которой является, как это сказано в названии, ссора, то указанная деталь обнаружит свою неслучайность. Вступительная рекомендация героев произведения о ссоре содержит ещё одну – «неразвёрнутую» – историю ссоры, дошедшей, вероятно, до судебной тяжбы, так как здесь фигурирует образ заседателя. Когда Иван Никифорович произносит роковое слово «гусак», то повествователь замечает: «Если бы Иван Никифорович не сказал этого слова, то они бы поспорили между собою и разошлись, как всегда, приятелями; но теперь произошло совсем другое...». То же самое помешало состоявшемуся было примирению героев на обеде у городничего. Аналогичное рассуждение повествователя о возможном другом варианте развития событий находится в III главе: «Весьма могло быть, что сии достойные люди на другой же бы день помирились, если бы особенное происшествие в доме Ивана Никифоровича не уничтожило всякую надежду и не подлило масла в готовый погаснуть огонь вражды». (Имеется в виду приезд Агафии Федосеевны, отговорившей Ивана Никифоровича мириться с Иваном Ивановичем). Все приведённые эпизоды, в которых обнаруживаются как бы «развилки» на пути повествования, различные возможности его развёртывания, открывают определённую авторскую художественную концепцию действительности. Лавинообразный характер усугубления ссоры, её необратимость подчёркивается этими оговорками – как могло бы по-другому произойти, но не произошло. 44 «Неразвёрнутые» истории на заднем плане повести в определённом смысле повторяют схему раздора на переднем плане. Это, вопервых, уже упомянутое происшествие с откушенным ухом заседателя. Кроме того, во II главе Иван Иванович и Иван Никифорович говорят об объявлении России войны тремя королями, желающими, по мнению Ивана Ивановича, «чтобы мы все приняли турецкую веру» (ссора в мировом государственном масштабе). Повесть Гоголя, как и любое художественное произведение, демонстрирует единство указанных ранее двух измерений. С одной стороны, это цепь событий как бы непреднамеренных («жизненных»), которые якобы могли бы и не случиться. Здесь это первоначальный спор из-за ружья и оскорбление Ивана Ивановича, разрушение хлева, обмен судебными исками, происшествие с бурой свиньёй, неудачная попытка примирения и т. п. С другой стороны, повесть представляется Событием, завершённым авторской художественной волей и поэтому неумолимо свершающимся. В таком ракурсе рассмотрения ссора героев теряет свой частный («эмпирический») характер, перемещается в центр мира, становится событием глобального раздора и деградации («поскучнения») жизни, что подчёркивается заключительной фразой повествователя. Эта тенденция неотвратимого упадка отражена и в «маленьких» историях, составляющих фон основных событий. Антон Прокофьевич Голопузь, продав свой дом, путём дальнейших обменных операций дошёл до владения кисетом, «какого ни у кого нет» (можно здесь обратить внимание на говорящую фамилию героя). Эта история имеет тот же смысл упадка, ущерба бытия, что и малозаметное событие безвозвратной потери пуговицы с мундира городничего, образы населяющих мир произведения калек: «искалеченная» баба, с которой разговаривает Иван Иванович; инвалид с кривым 45 глазом и повреждённой рукой, помогающий втолкнуть Ивана Никифоровича в присутственную комнату; городничий с простреленной ногой; «кривой» Иван Иванович; инвалид в будке, который чинит «серые доспехи свои». Здесь героически-возвышенные «доспехи» даны в снижающем контексте: 1) серые («скучный» цвет); 2) принадлежащие инвалиду, а не богатырю; 3) требующие починки, прохудившиеся. Находясь в одном плане с героями произведения Гоголя, мы воспринимаем всё просто однажды случившимся. Но вместе с тем, сделанные наблюдения убеждают в том, что это не просто «скучный» случай, а то, что вообще происходит «на этом свете». Выражаясь на языке гегелевской эстетики, в изображённом «прозаическом состоянии мира» повести мы видим как бы отсвет ушедшего безвозвратно в прошлое «века героев». Такое видение означает переход в авторскую – эстетическую – плоскость, где случившееся воспринимается как то, что не могло не случиться. Если понимание художественного образа означает обнаружение его неслучайности, то, наоборот, непонимание связано с восприятием в тексте чего-то как ненужного. Модель такого герменевтического бессилия – неумение собрать разобранный механизм и установить назначение «лишних» деталей. Единственной опорой читателя является здесь то, что можно назвать вслед за Г. - Г. Гадамером «презумпцией совершенства» (Гадамер Г. - Г. Актуальность прекрасного. М., 1991. С. 78): ничего лишнего или недостающего в художественном произведении a priori быть не может. Как и назначение любой детали в работающем механизме, неслучайность того или иного художественного образа выясняется по той роли, которую он играет в произведении. Попробуем задать этот первый и универсальный вопрос (Зачем здесь это?) по отношению к различным деталям нескольких художественных произведений. 46 Вспомним стихотворение Н. Заболоцкого: Всё, что было в душе, всё как будто опять потерялось, и лежал я в траве, и печалью и скукой томим. И прекрасное тело цветка надо мной поднималось, и кузнечик, как маленький сторож, стоял перед ним. И тогда я открыл свою книгу в большом переплёте, где на первой странице растения виден чертёж. И черна, и мертва, протянулась от книги к природе то ли правда цветка, то ли в нём заключённая ложь. И цветок с удивленьем смотрел на своё отраженье и как будто пытался чужую премудрость понять. Трепетало в листах непривычное мысли движенье, то усилие воли, которое не передать. И кузнечик трубу свою поднял, и природа внезапно проснулась, и запела печальная тварь славословье уму. И подобье цветка в старой книге моей шевельнулось так, что сердце моё шевельнулось навстречу ему. Почему кузнечик назван здесь «печальной тварью»? Может быть, причина этой печали заключена в некой отчуждённости от предмета «славословья»? В справедливости такого предположения убеждает событие, происходящее в мире произведения. Взаимная отчуждённость природы и книжной «премудрости» дана здесь как с усилием преодолеваемое отрицательное состояние: распад бытия на красоту и истину («цветок» и «растения чертёж»). Обе стороны этого распавшегося мира оказываются в стихотворении напротив друг друга: во второй строфе, где появляется «книга в большом переплёте», указано направление «от книги к природе», а в третьей, наоборот, природа смотрит «на своё отраженье». Как «чертёж» цветка означает попытку понять природу, так и сама природа «пытается» понять «чужую премудрость». Четвёртое четверостишие соединяет эти два встречных усилия. Но «космос» стихотворения оказывается подобным «микрокосму» образа человека. Распад мира – это в то же время распад человека: в первой строфе говорится не «цветок», а «прекрасное тело цветка». Тело здесь воспринимается отдельным от души, томи47 мой «печалью и скукой». Но именно эта отделённость и есть причина «печали и скуки»: ведь пробуждение природы и оживание «подобья цветка в старой книге» и порождают пробуждение сердца в финале произведения. Поэтому выражение «печальная тварь» относится не только к кузнечику в четвёртой строфе, но и к самому герою – в первой. Таким образом выявляется неслучайный характер слова, на которое мы обратили внимание. На нём смысл стихотворения не обрывается, а, наоборот, обнаруживает свою «работу». Почему в рассказе Чехова «Каштанка» пьяный Лука Александрыч говорит Каштанке: «Супротив человека ты всё равно, что плотник супротив столяра»? Можно говорить о горделивом сознании Лукой Александрычем своего человеческого и профессионального достоинства, ибо он как раз столяр. Однако так ли уж необходима эта фраза применительно ко всей истории Каштанки? Присмотримся к описанию как бы второй её жизни у нового хозяина. Каштанка новым своим именем (Тётка) уподобляется человеку, как и остальные обитатели второго её дома: гусь Иван Иваныч, свинья Хавронья Ивановна, кот Фёдор Тимофеич. Сама соль циркового номера, в котором принимает участие Каштанка-Тётка, состоит в том, чтобы зверям изображать людей: плясать камаринского, петь, курить, звонить в пожарный колокол и так далее. Поэтому когда уже после сорванного выступления Каштанка идёт со своим первым хозяином и тот опять говорит ей, что «супротив человека» она «всё равно, что плотник супротив столяра», эта фраза связывается с неудавшейся артистической карьерой Каштанки, оказавшейся по обстоятельствам «супротив человека», Тёткой. Причём как бы «человеческая» жизнь вместо собачьей, связанной с голодом и побоями, представляется в конце рассказа Каштанке «длинным, перепутанным, тяжёлым сном». Таким образом, слова Луки Александрыча оказываются совершенно 48 справедливыми и имеющими неожиданно положительный смысл возвращения героини в родной дом и в натуральное состояние. Но этот смысл, конечно, обнаруживается по ту сторону сознания персонажа. Неслучайность рассматриваемого высказывания носит сугубо эстетический характер. Она принадлежит кругозору автора или читателя (который её должен бы заметить). Обратимся к рассказу Чехова «Тоска». В первом его абзаце герой противопоставлен всему окружающему. Он дан крупным планом, отличается своей неподвижной и задумчивой позой: «Кого оторвали от плуга, от привычных серых картин и бросили сюда, в этот омут, полный чудовищных огней, неугомонного треска и бегущих людей, тому нельзя не думать…». «Бегущие люди» – фон большого города, на котором выделяются неподвижные герой и его лошадь. Однако если неподвижная поза героя в начале рассказа выделяется на фоне мира «бегущих людей», то его профессия извозчика, «служителя движения», как раз объединяет его с суетой окружающей жизни. Таким образом намечен конфликт героя с самим собой. Иона выполняет свои профессиональные обязанности автоматически, как бы внутренне не участвуя в этом: «…больше по привычке, чем по нужде, машет кнутом»; «…водит глазами, как угорелый, словно не понимает, где он и зачем он здесь». «Двугривенный цена не сходная, но ему не до цены…Что рубль, что пятак – для него теперь всё равно, были бы только седоки…». Безразличие к деньгам превращает для Ионы «седоков» из клиентов в просто людей. Профессионал и человек в герое не совпадают, спорят. В отношениях извозчика и пассажиров повторяется (и тем самым отменяет свою случайность) одна и та же ситуация. Желание поговорить с людьми, рассказать о своём горе заставляет Иону перейти из профессионального плана отношений с клиентами в человеческий. Это выражается в самой его позе, когда он делает попытку обернуть49 ся. В этот момент движение замедляется, а люди оказываются лицом к лицу друг с другом, отвлекаясь от делового разобщающего движения, которое растворяет человека в толпе. Все же, к кому обращается герой, возвращают его к профессиональным обязанностям. «Поезжай, поезжай… Этак мы и до завтра не доедем. Подгони-ка!» – говорит Ионе военный. Несколько раз торопят извозчика молодые люди. Дворник, с которым решает заговорить Иона, тоже обрывает разговор: «…Чего же стал здесь? Проезжай!» Пассажиры видят в Ионе только кучера, поворачивают его к себе спиной, возвращая к обычной кучерской позе. Эти эпизоды, данные крупным планом, перекликаются с фоном описания, где читатель видит «тёмную движущуюся взад и вперед массу», бегущие мимо неподвижного Ионы толпы, не замечающие «ни его, ни тоски…». Движение в рассказе – бессмысленное «броуновское» мельтешение, суета большого города, в которой теряется лицо человека. Обращённость человека к человеку, миг преодоления одиночества связывается с кратковременным замедлением движения или остановкой. В описываемой ситуации само горе кучера дано на заднем плане, так как в центре внимания оказывается невозможность им с кем-то поделиться. Означает ли это, что содержание несчастья не имеет значения? В этом случае наблюдалось бы прерывание художественного смысла на этой «незначительной» детали. Смерть ребёнка в рассказе, однако, важна как противоестественное событие, нарушение природного хода времени, когда сын умирает раньше отца. Это проецируется на всю ситуацию произведения, в мире которого естественный человеческий контакт оттесняется условными отношениями извозчика и клиента. Необходимым звеном этой общей сентиментальной ситуации является образ лошади. Лошадь в городе как искусственном про50 странстве является чем-то вроде частицы природы и естественности. Не случайно говорится об оторванности «от плуга» (то есть от деревни) и брошенности «в этот омут, полный чудовищных огней, неугомонного треска и бегущих людей» (город). Поэтому у героя так и не получается поговорить с людьми, но зато ему удаётся всё рассказать лошади. В финале подчёркнута непосредственность живого контакта, его тепло на фоне холодного равнодушия мира: «Лошадёнка жуёт, слушает и дышит на руки своего хозяина». Сравним названия повести Л. Толстого «Смерть Ивана Ильича» и рассказа Чехова «Смерть чиновника». Насколько существенна их разница? Ведь Иван Ильич – тоже чиновник. Названия этих произведений являются первыми характеристиками их персонажей. Сочувствие, которое вызывает герой Толстого, объясняется наличием персонального, внутреннего аспекта его существования, тем, что он не только чиновник, но и Иван Ильич, человек, осознавший приход смерти и благодаря этому впервые открывший свою жизнь. Герой как бы успевает перед смертью снять свой вицмундир. Поэтому повесть Толстого называется именно «Смерть Ивана Ильича». Чеховский чиновник умирает, «не снимая вицмундира», то есть здесь нет смерти человека. Анонимность героя в названии рассказа есть знак его безличности. Эта смерть не обнаруживает внутреннего измерения человеческой жизни. Поэтому она и не способна вызвать сочувствие. Таким образом, прояснение неслучайности деталей названий текстов Л. Толстого и Чехова открывает непрерывность, «вездесущность» художественного смысла. Многочисленные подробности рассказа И. Бабеля «Переход через Збруч» обнаруживают свою неслучайность, если обратить внимание на объединяющий их принцип. Збруч – сам звук этого слова, называющего реку, напоминает «вброд»: скопление согласных как пре- 51 пятствие на пути голоса даёт образ с затруднением преодолеваемой границы, чем и является переход бурной реки. Этот переход связан и с преодолённым сопротивлением врага (отбитый у поляков Новоград-Волынск). Образ шоссе, построенного «на мужичьих костях Николаем Первым», открывает конфликтные отношения социального и натурального аспектов существования, как и само состояние войны, – расколотости, немирности мира. Причём «социальные» характеристики вторгаются в само описание природы: у Волыни «ослабевшие руки», солнце сравнивается с отрубленной головой, закат – со штандартами; луна обхватила «синими руками» свою голову и т. д. Таким образом, можно говорить о нарушении границ социального и натурального, военного и мирного. «Вчерашнее» вторгается в сегодняшний вечер, запах крови – в вечернюю прохладу. В том же ряду – «почерневший Збруч». Кроме того, выражение «запах …каплет» означает смешение различных состояний вещества. Вчерашняя битва продолжается, и как бы сама кровь «каплет» ещё по инерции. Аналогичная деталь в конце рассказа: «…синяя кровь лежит в его бороде, как кусок свинца». В описании покой смешивается с движением, а верх – с нижней зоной пространства: «Величавая луна лежит на волнах». Инерция битвы, времени смерти, наблюдается во сне героя, который не погружён в состояние покоя, а «кричит» и «бросается». Следы разрушения в доме соединяются с темой осквернения и кощунства. Дом – зона мира, куда вторгается война. Убийство отца на глазах дочери носит неслучайный, демонстративный характер, приобретая оттенок кощунства. К этому же ряду относится образ «черепков сокровенной посуды» рядом с человеческим калом, а также деталь перехода реки, когда «кто-то тонет и звонко порочит богородицу». 52 Нарушается граница не только между сном (покоем) и бодрствованием (движением), но и между жизнью и смертью, когда мёртвый дан вначале как «заснувший», рядом с которым кладут героя. Первые слова рассказа «Начдив шесть донёс…», а последние – «мой отец». Налицо противоположные образы человека: как заменимой, исчисляемой боевой единицы и, напротив, неповторимой личности («где ещё на всей земле вы найдёте такого отца, как мой отец…»). Война дана не наряду с рассказом дочери об отце, а именно как отрицание, попирание семейных ценностей. Повторяющееся разрушение всех границ – средство выражения торжества состояния войны. Разрушенные границы между вещами мира означают его крушение (оба значения понятия «мир» совпадают). Збруч разделяет в произведении кавалерийский путь и разорённый еврейский дом. Это как бы граница войны и мира, которая разрушена, так как на «зоне мира» – следы прошедшей здесь войны, стирающие разницу между вещами и людьми: распоротая перина и – разрубленное «пополам» лицо старика. Старик как раз хотел оградить свою дочь от зрелища смерти: «убейте меня на чёрном дворе…» – вывести смерть за пределы дома - зоны жизни. Переход через Збруч кроме кавалерийского манёвра означает и событие познания – проникновения в трагическую суть происходящего. Зрелище смерти обычно для состояния войны, описанного в рассказе. Но изображается смерть не солдата, а мирного старика. Тем самым смерть (и сама война) лишается героического ореола. Она здесь сопряжена с бессмысленной жестокостью и кощунственным попиранием самих основ жизни. Рассказ о старике не случайно принадлежит беременной женщине. Это как бы голос самой природы. Налицо образ творения, богородицы. Её поминальное слово последнее в рассказе. Это слово люб- 53 ви, составляющее оппозицию слову ненависти, порочащему богородицу. Таким образом, в неслучайностях приведённых подробностей просматривается определённая внутренняя логика произведения, что и есть его смысл. Прочитаем начало стихотворения Е. Баратынского «Череп»: Усопший брат! кто сон твой возмутил? Кто пренебрёг святынею могильной? В разрытый дом к тебе я нисходил, Я в руки брал твой череп жёлтый, пыльной! Ещё носил волос остатки он; Я зрел на нём ход постепенный тленья. Ужасный вид! как сильно поражён Им мыслящий наследник разрушенья! (…) Имеет ли сколь-нибудь существенное значение то, что в произведении могила мертвеца названа его домом? Читатель может легко проскочить мимо этого выражения, будучи настроенным на метафоричность как привычный общий признак так называемой «поэтической речи». Однако художественное уравнение могила = дом имеет конкретное обоснование, связанное с ситуацией именно данного стихотворения, и, следовательно, обнаруживает свою неслучайность. Выражение «разрытый дом» не просто проводит аналогию между местом живого (домом) и местом мёртвого (могилой). Оно стирает границу между жизнью и смертью. Как раз нарушение этой границы и происходит в мире стихотворения Баратынского начиная с обращения «Усопший брат!..». Причём это нарушение дано как кощунственное («пренебрёг святынею») возмущение покоя («сна»), а сон здесь – такая же метафора смерти, как «разрытый дом» – могилы. «Мыслящий» герой заглядывает по ту сторону жизни, в «запретную зону». При этом осознание себя «наследником разрушенья» означает заглядывание в будущее как своё. Поэтому возмущение сна усопшего одновременно разрушает душевный покой живого человека. Смерть здесь внушает 54 ужас не как что-то чуждое, а наоборот – как что-то родное. Отсюда обращение – брат. В рассказе Чехова «Мальчики» описывается чаепитие только что приехавших на рождественские каникулы героев: Немного погодя Володя и его друг Чечевицын, ошеломлённые шумной встречей и всё ещё розовые от холода, сидели за столом и пили чай. Зимнее солнышко, проникая сквозь снег и узоры на окнах, дрожало на самоваре и купало свои чистые лучи в полоскательной чашке. В комнате было тепло, и мальчики чувствовали, как в их озябших телах, не желая уступать друг другу, щекотались тепло и мороз. Многие подробности этого описания лишь на первый взгляд кажутся факультативными. Чтение, допускающее необязательность некоторых с виду малосущественных деталей, ищет художественный смысл где-то «за» ними и после них. Между тем a priori смысл текста весь сполна присутствует в каждой его «точке». Можем ли мы утвержать, что данный фрагмент приоткрывает смысл рассказа, как одна из тех дорог, которые все «ведут в Рим»? Согревающее действие чая кажется вполне обычным, однако борьба домашнего тепла и уличного мороза подчёркивает границу пути и дома, на которой и развёртывается коллизия произведения, спор авантюрных (далёких) и домашних (близких) ценностей. Всё описание дано с точки зрения любования, показывая предметы домашней утвари в солнечном свете, как бы приподымая их, что соответствует приподнятому настроению «шумной встречи». Однако такое «освещение» (и «освящение») домашнего быта вписывается в художественную логику всего рассказа: неслучайно дом, в который вместе с героями попадает читатель, охвачен предрождественскими хлопотами, отменяющими будничный характер происходящего. Домашний быт дан в рассказе с контрастно противоположных точек зрения – повествователя и мальчиков, для которых домашнее – синоним обыденного и скучного: Девочки заметили, что и Володя, всегда весёлый и разговорчивый, на этот раз говорил мало, вовсе не улыбался и как будто даже не рад был тому, что прие55 хал домой. Пока сидели за чаем, он обратился к сёстрам только раз, да и то с какими-то странными словами. Он указал пальцем на самовар и сказал: - А в Калифорнии вместо чаю пьют джин. В этом фрагменте тоже обнаруживается борьба тепла и холода, только уже не физических. Но, как и в предыдущем описании, подразумевается граница родного дома и чужого («странного») мира. Указание Володи – жест предпочтения: в чае для него нет ничего особо интересного. И сам побег мальчиков – жест предпочтения авантюрных (дальних) ценностей семейным (близким). «Калифорния» в приведённой фразе не реальное, а идеальное место. Это Америка Майн Рида и Фенимора Купера, куда реальный побег в принципе не может состояться, в отличие от виртуального путешествия по географической карте, предпринятого мальчиками. Разница представления домашнего быта в приведённых отрывках даёт читателю необходимую широту горизонта, на котором авантюрная попытка героев воспринимается как следствие их своего рода ценностной дальнозоркости. Более подробному рассмотрению рассказа «Мальчики» здесь нет места. Ограничимся лишь напоминанием тезиса, заимствованного нами у Спинозы и применённого к ситуации чтения: если что-то в художественном произведении кажется нам случайным, то это «не свойство вещей, а недостаток разума». Попробуем прочесть отрывок стихотворения Баратынского «Последний поэт», стараясь при этом обратить внимание на все его слова как совершенно необходимые. Век шествует путём своим железным, В сердцах корысть, и общая мечта Час от часу насущным и полезным Отчётливей, бесстыдней занята. Исчезнули при свете просвещенья Поэзии ребяческие сны, И не о ней хлопочут поколенья, Промышленным заботам преданы (…) 56 Первый стих указывает определением «железный» на давно оставленное «золотое» состояние жизни, «путь» которой направлен от лучшего к худшему. Причём важна разница между этой печальной точкой зрения, как бы возвышающейся над своим временем, и позицией самого «века». Слово «шествует» выражает уверенность и исторический оптимизм. Книжное выражение «век шествует» сменяется разговорным «час от часу», и сам «век» разменивается на мелкие отрезки времени, пригодные лишь для схватывания «насущного», злободневного, как родовая сущность человека разменивается на «поколенья». Понятие «польза» развёртывает у Баратынского свой смысл не по отношению к противоположному понятию «вред», а в связи со своими окказиональными синонимами: «корысть», «бесстыдство». Отсюда налицо сдвиг смысла понятия к отрицательному полюсу: «полезное» и «железное» здесь рифмуются как сближаемые понятия, составляющие противоположность «золотому» как идеальному и бескорыстному. Слово «мечта», обычно обозначающее нечто идеальное, связывается здесь с противоположным, то есть как бы спускается с небес на землю, а также отказывается от будущего в пользу «насущного». Кроме того, «мечта» теряет свою обычную туманную неопределённость и приобретает «отчётливость» практических планов и хлопот. «Свет просвещенья» оказывает губительное действие на поэзию, которая, получается, может существовать лишь в темноте. Но что это за темнота? – Не абстрактная противоположность света, а изгоняемая светом просвещенья, темнота как непознанность, таинственность, недоступная, невычерпываемая глубина мира. Поэзия – нечто сокровенное, существующее по ту сторону сознания («сны»), иррациональное, волшебное. 57 С этим смыкается определение «ребяческие». Поэзия ближе детскому мироощущению, нежели взрослому. Почему? Поэзия ближе детской увлечённости, самозабвению, нежели взрослой трезвой хлопотливости. «Ребяческие» – синоним наивных (плодов древа жизни, а не познания). «Сны» – нечто идеальное, в противовес материальному промыслу. Здесь это антоним «мечты». Исчезновение снов – пробуждение, переход от возможного к действительному, от ночных грёз к дневной деловой активности. Сны, открывающие мир возможного, близки игре – «ребяческому» миру. Беззаботность игры противостоит заботам труда («промышленным»); сказочное «как будто» – реальному «на самом деле»; фантазия – наличной повседневности. В выражении «промышленным», во-первых, скрывается «мысль» (что соотносимо с «просвещеньем»), а во-вторых – «корысть» (промышлять – преследовать корыстные цели). Таким образом, «промышленные заботы» соединяют мысль с корыстью. Уходящая красота (золото) поэзии и идущая на смену прозаическая польза (железо) – именно об этом печальном событии говорит поэтическое слово. Слово поэзии говорит о своём исчезновении на наших глазах, в то время, когда мы его слышим. Поэтому закономерно определение «последний» в названии произведения. Причём последний поэт обращается здесь – по той же логике – к последнему читателю, живущему в том же – последнем – времени. Этот событийный момент, вовлекающий читателя в происходящее, как раз и есть то, что Гадамер называет «актуальностью прекрасного». Почему пьеса Шекспира называется не «Лир» (аналогично остальным трагедиям), а «Король Лир»? Априорная неслучайность такого названия указывает на королевство Лира как на его сущность («Король, и до конца ногтей – король!..» – IV, 6 – пер. Б. Пастернака), а не внешнее социальное положение. В связи с этим важно обратить внимание на сходство Лира и его младшей дочери Корделии: он отка58 зывается от своего «внешнего» королевства во имя «внутреннего». Однако от Корделии он, противореча самому себе, требует как раз внешней, показной любви, любви на словах, в то время как она любит «безгласно» (I, 1). Эта ситуация распада внешней и внутренней сторон жизни, так важная в пьесе и определяющая конфликт её действия, схватывается в неслучайной подробности названия. В повести Гоголя нос разоблачается близоруким. Если подойти к этой подробности как к a priori неслучайной, то получается, что близорукому в мире произведения дано увидеть не меньше, как обычно, а больше, что говорит о специфическом характере этой близорукости. Но не только. На фоне частного физического дефекта зрения выясняется более глобальное искривление самой действительности, где часть (нос) всеми принимается за целое («за господина»). То есть чтобы видеть по-настоящему, необходимо быть близоруким. Здесь, как всегда, именно восприятие чего-то в художественном произведении в горизонте неслучайности и ведёт читателя к смыслу. Попробуем подойти телеологически к приведённому ниже стихотворению Бродского, истолковывая отдельные его детали как неслучайные, то есть работающие на единую художественную цель. Собственно, именно этим, кажется, и занят обычно читатель. В городке, из которого смерть расползалась по школьной карте, мостовая блестит, как чешуя на карпе, на столетнем каштане оплывают тугие свечи, и чугунный лев скучает по пылкой речи. Сквозь оконную марлю, выцветшую от стирки, проступают ранки гвоздики и стрелки кирхи; вдалеке дребезжит трамвай, как во время оно, но никто не сходит больше у стадиона. Настоящий конец войны - это на тонкой спинке венского стула платье одной блондинки да крылатый полет серебристой жужжащей пули, уносящей жизни на Юг в июле. Мюнхен Читателю, столкнувшемуся с загадочным «городком» в первом стихе, дана подсказка в виде сообщения места написания стихотворе59 ния – Мюнхен. Смерть, расползающаяся «по школьной карте», приобретает благодаря такому указанию историко-географическую конкретность: это прошедшая мировая война. Именно в Мюнхене начиналась политическая карьера Гитлера. В первой строке осуществляется сближение реальности смерти, с одной стороны, и виртуального (ненастоящего) характера распространения войны «по школьной карте» – самой Европы и карты Европы. Жизнь и школа соединяются в этом образе как военное (взрослое, действительное) и мирное (детское, учебное). Происходит смешение масштабов глобальной истории и камерного урока, целого мира и провинциальности «городка». Пересечение в одном месте прошлого и настоящего, великого и малого задаёт смысловые параметры мира произведения Бродского. Сравнение булыжников мостовой с чешуйками карпа перемещает читателя из у-личного (пуб-личного) пространства в личное, домашнее, кухонное. Граница между ними, хотя и стирающаяся сравнением («как»), является для стихотворения весьма существенной именно потому, что два времени (военное и мирное), о которых здесь идёт речь, как раз и различаются в зависимости от того, какой аспект жизни – общественный либо частный – становится главным, определяющим. Образы «городка» связывают его прошлое и настоящее, но, вместе с тем, противопоставляют. «Столетний» возраст каштана – знак старости как присутствия давнего прошлого в настоящем. К этой характеристике примыкает оплывание тугих свеч, то есть отцветание (соцветия каштана имеют свечеобразную форму). Здесь старость и молодость представляют соответственно понятия «оплывают» и «тугие». Причём «работает» и буквальное значение слова «свечи»: оплывание свеч – их догорание, с которым и ассоциируется старость. Глобальный («столетний») масштаб времени совмещается с кратким вре60 менем горения свечи аналогично смешению пространственных масштабов (мира и школьной карты). В контекст натурального времени, обозначенный столетним каштаном, вводятся социально-исторические характеристики, связанные с образом чугунного льва. Постарение соотносится здесь с уходом возраста «пылкой речи». Время страстей сменяется временем скуки. Однако очень важно здесь подчеркнуть общественный, сверхличный характер «пылких речей», по которым «скучает» чугунный лев – у-личная статуя, олицетворяющая власть, господство. Эпоха именно политических страстей ушла. Страсти уходят с улиц – общественного пространства – в дома, то есть на территорию частной жизни. Забегая вперёд, можно сказать, что торжество этой последней и есть «настоящий конец войны». Окно в пятом стихе делит изображаемое пространство на внутреннее (домашнее) и внешнее (уличное). Однако эта граница дана сразу же как проницаемая – в виде прозрачной марли, через которую взгляд лирического героя проникает наружу. Такому нарушению пространственной границы соответствует смешение характеристик мирного настоящего и военного прошлого. «Выцветшая от стирки» марля – подробность домашнего мирного быта. Но выражение «ранки гвоздики» заставляет разглядеть в этой безобидной детали кровь, проступающую «сквозь» повязку. На один миг мирная «марля» превращается в бинт раны, полученной на прошлой войне. Этот миг воспоминания делает проницаемой границу времени. В одно высказывание сводятся очень разные темпоральные планы. Выцветание «от стирки» открывает неспешный ход цикличного домашнего времени: стирка здесь не однократное, а регулярно повторяющееся событие. Слово же «ранки» ассоциируется с исторически конкретным моментом линейного, необратимого времени, складывающегося из неповторимых, экстраординарных событий. 61 Вместе с тем, такое пересечение примет различных эпох демонстрирует их взаимную чуждость. Прошлое и настоящее говорят на разных языках. «Пылкая речь» – патетика «века героев», то есть времени катаклизмов большой Истории, соответствующая серьёзности события действительного «расползания» смерти. Эта патетика, охватываясь контекстом современной мирной жизни и частных «маленьких» историй, опредмечивается как стилистический анахронизм. Современный язык – язык иронии, развенчивающей серьёзность, то есть действительный, актуальный характер, события смерти. «Мирные» образы, соседствуя с «военными» воспоминаниями, лишают эти последние высокопарности: как само по себе серьёзное событие войны, «расползания» смерти охватывается контекстом школьного урока и, тем самым, деактуализуется, оттесняется в прошлое, так и раны войны превращаются в «ранки гвоздики». На месте медицинской страшной подробности проступающей крови (границы жизни и смерти) – спокойная красота цветка. Сами уличные образы, увиденные «сквозь оконную марлю», оказываются соразмерными домашней, бытовой точке зрения: «кирха» с её готическими «стрелками» рифмуется со «стиркой». Стадион, у которого «никто не сходит больше» и мимо которого «дребезжит» трамвай, воспринимается здесь не как место спортивных зрелищ, а как опустевшее пространство каких-то пропагандистских акций, «пылких речей». Пассажиры трамвая едут мимо пустого публичного пространства по личным делам. Время «пылкой речи» – это и есть «время оно», о котором напоминает дребезжание трамвая, похожее на старческий голос. Абсолютная эпическая дистанция, отделяющая прошлый «век героев» от современного «прозаического состояния мира», дана здесь не в серьёзной патетической форме, а иронически – «время оно». «Настоящее» расставание с прошлым – лишение его серьёзности. 62 Последние четыре стиха представляют собой нечто вроде подведения итога благодаря обобщающей интонации. Выражение «настоящий конец войны…» звучит полемически и отграничивает всё последующее от ненастоящего, мнимого конца войны. Эта полемика расширяет смысл понятия «война», воспринимающегося здесь не просто как историческое событие, а как перевес значимости общего над частным. Поэтому «настоящий конец войны» – это не победное завершение сражений или не подписание акта о капитуляции побеждённой армии, а выдвижение на передний план отодвинутых военным временем ценностей частного, интимного существования. Конец эпохи, мыслящей и манипулирующей геополитическими категориями и массами людей, воплощается в «платье одной блондинки», что означает победу личного над публичным. Жизнь, «выведенная из себя», поставленная на границу со смертью, возвращается к себе самой, от экстраординарности – в глубь обычных (ординарных) человеческих переживаний, оформленных топологически через деталь домашнего интерьера. Это, как в предшествующих стихах, и ставит человека (героя, а вслед за ним – и читателя) на внутреннюю, «домашнюю» точку зрения. «Тонкая спинка венского стула» – образ, создающий впечатление лёгкости и изящества, своего рода контраст образу чугунного льва. Через эти образы читатель может почувствовать напряжённый спор в мире произведения: неподатливого металла и податливого (гнутого) дерева; прошлого и настоящего; социального и природного; политики и любви; мужественного и женственного; общего и частного; мощи и красоты; серьёзной патетики и легкомысленности; уличного и домашнего; риторического и чувственного; публичного и интимного и т. д. На полюсе тяжести в мире стихотворения находится образ расползания смерти не «по школьной карте», а как действительного 63 исторического процесса второй половины тридцатых годов, ассоциирующегося с гнётом оккупации европейских стран немецкой армией, с буквально тяжёлой военной техникой, «заползающей» в города. Перенос этих событий в мирную современность, на школьный урок, приводит к их облегчению, лишению их актуальной жизненной весомости. В финале стихотворения мы находим похожий иронический жест облегчения: пуля, «уносящая жизни», – образ мнимой смерти. Военная ассоциация используется для подчёркивания контраста с настоящей мирной жизнью. Страшное оборачивается смешным. Не случайно взята ситуация беззаботного отдыха, летнего отпуска. Образ такой беззаботной лёгкости – «крылатый полёт». Здесь «серебристый» цвет самолёта контрастирует с матово-серым цветом настоящей пули, а лёгкость алюминия – с суровой тяжестью свинца. Кроме того, на месте глухого свиста пули – не названного, но предполагаемого – читатель обнаруживает звонкое жужжание. Эти глухость и звонкость репрезентируют смерть и жизнь, актуализируя одновременно серьёзное, буквальное значение слова «пуля» и фигуральное, несерьёзное. Стихотворение не развёртывает сам переход от войны к миру. В центре изображения находятся не какие-то события, а современное установившееся состояние бессобытийности. Точнее говорить о том, что общие события как нечто громкое и экстраординарное вытеснены повседневной жизнью, тем, что обычно бывает. Эта жизнь может показаться «скучной», но только с той точки зрения, которая уже потеряла актуальность и стала безжизненной, как статуя скучающего «по пылкой речи» чугунного льва. «Речь» в контексте рассматриваемого произведения оказывается на полюсе внешнего, социального аспекта жизни. Это уличная пропагандистская риторика, которой противостоит бессловесная, но не менее красноречивая интимная деталь. «Настоящий конец войны», таким образом, предстаёт как смена публичного – громкого – слова на 64 личное, не слышное никому, кроме разве что «одной блондинки». Интимность защищает себя умолчанием как закрытая, потаённая для всего по ту сторону, отдельная сфера частной жизни. С образом слова связана такая особенность, как отсутствие одушевлённых персонажей в мире рассматриваемого произведения, если не считать самого субъекта высказывания. Эта особенность должна, на наш взгляд, интерпретироваться с учётом намеченных смысловых параметров. Образ человека, о котором читатель может здесь судить лишь по косвенным следам его присутствия, аналогично изображению слова, поляризован. На одном полюсе обнаруживаются безликость и имперсональность социального плана существования, на другом – потаённость, спрятанность частной жизни от посторонних глаз. Сделанные наблюдения исходили из априорной уверенности в том, что любая деталь произведения имеет некое «зачем» и все эти «зачем» должны как-то взаимодействовать. Последний тезис будет подробно рассмотрен в следующей главе. Рассказ Чехова «Детвора» содержит описание стола, за которым дети играют в лото: Стол, освещаемый висячей лампой, пестрит цифрами, ореховой скорлупой, бумажками и стёклышками. Перед каждым из играющих лежат по две карты и по кучке стёклышек для покрышки цифр. Посреди стола белеет блюдечко с пятью копеечными монетами. Возле блюдечка недоеденное яблоко, ножницы и тарелка, в которую приказано класть ореховую скорлупу. Можно задуматься над назначением некоторых деталей этого описания. Так как перед нами фрагмент художественного произведения – a priori зоны сплошного смысла, – случайность любой подробности исключается. Поэтому по отношению к чему угодно в художественном тексте мы вправе поставить вопрос: зачем? Какое значение, например, в приведённом отрывке имеют недоеденное яблоко, ножницы, тарелка? Зачем автор «разместил» всё это на столе? 65 Нетрудно заметить, что тарелка, куда «приказано» класть скорлупу, не используется по назначению, так как скорлупа просто валяется на столе. Приказание, в котором обнаруживается забота о порядке, явно носит внешний по отношению к игре характер. Порядок на столе – это скорее взрослое требование, которое в пёстром мире игры отменяется. Как ещё один знак поглощённости игрой можно понять недоеденное яблоко, находящееся в том же ряду, что и надобность Алёши «коекуда сбегать». Зачем здесь ножницы? Понятно, что в игре они никак не участвуют и валяются здесь именно как совершенно ненужная, посторонняя вещь. Неслучайный характер этого образа обнаруживается в связи с тем, что рядом, на кухне, няня учит кухарку кроить: там, во взрослом мире, где царит не игра, а серьёзное дело, ножницы необходимы. Мы видим, что деталь кажется случайной лишь рассматриваемая изолированно, сама по себе. Это чрезвычайно важное наблюдение ведёт нас уже к следующей аксиоме чтения. 3. ПОНИМАНИЕ – СВЯЗЫВАНИЕ Можете, если хотите, считать меня фантазёром, но должен сказать, что уже в ту минуту я установил некоторую связь событий. Э. А. По. Золотой жук. Как мы убеждаемся на многих примерах, невозможно понять неслучайность какой-то детали, понять её смысл, опираясь лишь на неё саму. Сама по себе деталь произведения ничего не означает, то есть художественно бессмысленна. Отсюда вытекает такое обязательное положение: в художественном произведении всё связано со всем. Поэтому понимание – это не что иное, как установление «некоторой связи событий». Смысл ищется не В детали, а как бы «на пути» от одной детали к другой, в зоне их взаимодействия. 66 Очевидна недостаточность толкования художественных деталей из своего жизненного и эстетического опыта: художественное произведение как раз раздвигает границы последнего. Переходя от одной детали к другой, мы начинаем ощущать стягивающую силу, которая их держит как части целого. Например, иронический смысл пожелания пушкинским будочником Юрко доброй ночи гробовщику обнаруживается лишь в шутливом контексте предшествующей пирушки и последующих «недобрых» событий. Только эта стягивающая различные детали сила и является отправным пунктом для толкования. Исходя только из своего опыта, мы движемся по касательной к тексту (точка касания – толкуемая деталь, взятая изолированно), мы пытаемся собрать его смысл из отдельных «смыслов», то есть ищем не в тексте, а за его пределами, не произведение слушаем, а анонимный и безликий толковый словарь. Художественный смысл, таким образом, – это не готовый, извлекаемый продукт («содержимое»), а усилие собирания деталей в фокус целого – сначала авторское, а затем – читательское. Углубляясь в какую-либо из частностей, мы каждый раз в истолковании её вынуждены исходить из первоначального целостного впечатления, каким бы оно ни было неточным и аморфным. Однако в процессе такого проецирования общего на частное сам этот предварительный «черновик» смысла подвергается уточнению и конкретизации. Как писал Шлейермахер, «…чем дальше мы продвигаемся, тем больше освещает предыдущее всё последующее…» (Шлейермахер Ф. Д. Э. Академические речи 1829 года // Метафизические исследования. Вып. 3, 4. СПб., 1998. С. 254. Выделено мною – Л. Ф.). Вспомним стихотворение А. Фета: Только в мире и есть, что тенистый Дремлющих клёнов шатёр, Только в мире и есть, что лучистый, Детски задумчивый взор. Только в мире и есть, что душистый 67 Милой головки убор. Только в мире и есть этот чистый Влево бегущий пробор. Важно обратить внимание на странность утверждения героя. Реальный прозаический мир, в котором мы сами пребываем до чтения этого стихотворения, намного шире, чем «тенистый / Дремлющих клёнов шатёр»; иначе говоря, не только это есть в реальном мире. И тем не менее горизонт героя почему-то замыкается на небольшом фрагменте мира как на единственно существующем. К отмеченной странности сужения мира до части мира добавляется то, что в последующих стихах этот единственно существующий фрагмент мира постоянно меняется, а точнее – продолжает сужаться: от «дремлющих клёнов шатра» до «влево бегущего пробора». Укрупнение плана изображения выявляет всё более мелкие подробности, что определяется приближением предмета. Причём имеется в виду не столько пространственная близость, сколько близость любования. Это уменьшительно-ласкательный горизонт. Повторяющаяся фраза «Только в мире и есть…» является речевым объятием, отделяющим важное от несущественного, любимое от безразличного. Точка зрения героя оказывается взглядом влюблённого. Выражение «дремлющих клёнов шатёр» указывает на состояние покоя природы, близкое «задумчивому» состоянию человека. Клёны очеловечиваются. Граница человека и природы стирается, что подчёркивается рифмами стихотворения: тенистый – лучистый, шатёр – взор. Наверное, поэтому в центре изображения именно детская задумчивость как натуральная непосредственность и естественность. Такое единство человека и природы и позволяет найти в бесконечно малом бесконечно значительное – целостность, полноту мира, сведённого к одной чёрточке «влево бегущего пробора». Но важно то, в чьём горизонте всё это дано. 68 Если всё, что только в мире и есть, увидено с точки зрения влюблённого, то, стало быть, всё остальное (безразличное, «никакое», постылое) лишь кажется, обладает мнимым, призрачным существованием. Подлинное же существование достижимо лишь в любви. Только взгляду влюблённого открыто то, что «в мире и есть». Можно вспомнить здесь, как М. Пришвин перефразировал высказывание Декарта cogito ergo sum: «я люблю – значит я существую». Попытка связать несколько наблюдений даёт возможность наметить смысловую версию. С этой точки зрения, читатель всегда находится отчасти в положении детектива (независимо от того, что именно он читает). Ведь если понимание вообще имеет структуру наброска (Хайдеггер), а набросок и версия суть одно и то же, то такая аналогия вполне возможна. Следователь выбирает наиболее убедительную версию – мысленный возможный вариант картины происшедшего, – опираясь на взаимосвязь мотивов преступления, имеющихся улик, свидетельских показаний – фактов. Но читатель тоже непрерывно сверяет свои предположения («смыслоожидания») с появляющимися на горизонте чтения всё новыми деталями: вписываются они в его смысловую версию или уточняют (меняют) её. Конечно, работа детектива как «чтение следов» преступника носит преимущественно интеллектуальный характер, но эстетическая деятельность читателя тоже является одновременно (а может быть, и прежде всего) интуитивным «расследованием», герменевтической работой осмысления читаемого. Итак, смысл целого произведения – это не что иное, как узел связи его частностей. Это близко тому, как Августин определял вообще обдумывание: «процесс собирания, то есть сведения вместе» (Августин Блаженный. Исповедь. 10, XI). Гадамер возводит этот принцип ко «всей герменевтическориторической традиции», находя его у Шлейермахера (См.: Гадамер 69 Х. – Г. Истина и метод. М., 1988. С. 237). Иначе можно сказать, что художественный мир – зона целостности. Данная характеристика является критерием определения подлинности произведения искусства. Очень точно поддельные поэтические произведения характеризует Гегель в своих «Лекциях по эстетике», говоря о попытке облечь прозаическую мысль в образы, рифмы и так далее, «так что образная форма служила бы лишь украшением и внешним нарядом абстрактных размышлений» (Гегель Г. В. Ф. Эстетика. Т. I. М., 1968. С. 46). По-настоящему художественным произведение делают его внутренние связи, переклички образов его мира, представляющие этот мир целостным. При этом, разумеется, такая цельность – продукт не рассудочного конструирования, а интуитивного, органического творения. Попытаемся обнаружить связи некоторых деталей рассказа Чехова «Шуточка». Есть ли что-то особенное в любовном признании его героя? Сами слова эти вполне обычны, однако субъект высказывания прячется, делает вид, что он сам тут ни при чём, и фраза становится безликой, лишённой обратного адреса. Налицо без-ответное и безответственное слово, направленное по касательной к жизни, «брошенное на ветер». Неслучайна форма первого лица рассказывания. Первое лицо менее всего связано с планом изображаемого, находится почти на границе с ним. Мы ничего конкретного не знаем о рассказчике. Но такой неопределённый статус героя вполне согласуется с его позицией анонимной безучастности, позицией алиби в бытии (Бахтин) стороннего наблюдателя. Название произведения намечает тему смешного и серьёзного. Важно заметить, что шутит именно рассказчик, а позиция автора вовсе не совпадает с шутливым тоном рассказа, прекращающимся в конце: «А мне теперь, когда я стал старше, уже не понятно, зачем я говорил те слова, для чего шутил…». Между читателем и Наденькой 70 вводится ироническая снисходительная улыбка взрослого по отношению к ребёнку. Исчезновение же её в финале обнаруживает, что шуточка – это лишь предмет в авторском, вполне серьёзном, горизонте целого произведения, развенчанная позиция героя. Игра с жизнью оказывается упущенной жизнью, шутовство обращается против самого шутника. Параллельно изображению смеха в рассказе Чехова развёртывается тема страха. Многочисленный ряд образов страха связан с героиней. В «малодушии, трусости» как раз и упрекает её герой, уговаривая съехать с горы на санках. Однако этот упрёк совершенно несправедлив: ведь Наденька именно преодолевает страх перед «бездной», как иронически называет спуск с горы рассказчик. А вот сам он, всё время находясь в стороне и всё время прячась, отрекаясь от своих слов, малодушно избегает самой жизни. Поэтому финальное признание неожиданно опрокидывает всю эту снисходительную и пустую игру с жизнью. Для рассказчика в прошлом («Это было уже давно») несерьёзное отношение к героине и к словам, которые он ей говорит, означает то, что он не придавал этому особого значения. Это была игра, синоним чего-то детского. Однако «теперь», как показывает финал рассказа, тот давний шутливый настрой снимается как непонятный, бессмысленный. Поэтому в горизонте целого рассказа значительность эпизода прошлого воспринимается как не замеченная, упущенная героем. Любое художественное произведение есть композиция (не в узком специальном значении этого слова, а как единство всех компонентов, частностей). Это вытекает из самой природы искусства, как её определял, например, Зиммель: «В реальной действительности каждое явление и событие помещены в движущиеся ряды (…). Поэтому каждая отдельная определяемая действительность – фрагмент, ни од71 на не составляет замкнутого в себе единства. В том, чтобы соединить содержание бытия в такое единство, состоит сущность искусства» (Зиммель Г. Избранное. Т. 2. М., 1996. С. 293). Г.- Г. Гадамер писал о главной задаче художника как о «засвидетельствовании порядка»: «В произведении искусства с образцовой ясностью совершается то, что делаем все мы, поскольку присутствуем: постоянное возвещение мира. Художественное произведение стоит посреди распадающегося мира привычных и близких вещей как залог порядка и, может быть, все силы сбережения и поддержания, несущие на себе человеческую культуру, имеют своим основанием то, что архетипически предстаёт нам в работе художников и в опыте искусства: что мы всегда снова упорядочиваем то, что у нас распадается» (Гадамер Г.- Г. Актуальность прекрасного. М., 1991. С. 242). Из так очерченной миссии художника как раз и вытекает обсуждаемое a priori чтения как усилий выявления связности, смыслового единства читаемого. Рассмотрим с точки зрения необходимости учёта внутренних связей художественного произведения рассказ Э. По «Сфинкс». Герой его, неправильно определив расстояние до замеченного через окно насекомого, принял его за страшное чудовище громадных размеров. На эту ошибку указывает герою хозяин дома, где он гостит. Смысл новеллы кажется, на первый взгляд, ничтожным, если принять за него мнение героя-резонёра, быстро догадавшегося обо всём и объяснившего причину недоразумения. Сведение смысла произведения к точке зрения персонажа, конечно, очень обедняет понимание новеллы Э. По, которое тем самым сводится к поговорке «У страха глаза велики». Данная интерпретация исходит не из целого произведения, а из того курьёза, который находится в центре внимания и обсуждается персонажами. При этом игнорируются внутренние связи центрального события с другими, столь 72 же важными, хоть и находящимися на периферии повествования, моментами. Ошибка героя, от лица которого ведётся рассказ, изображается в новелле как логическое следствие спора рассказчика с хозяином дома. Эта ошибка выглядит как фактическое опровержение его позиции и подтверждение точки зрения оппонента. В чём суть спора? Рассказчик отстаивает веру в народные приметы, различные знамения; хозяин дома говорит об их совершенной беспочвенности. При этом персонажи вообще противопоставляются друг другу: меланхоличное, мрачное умонастроение одного и спокойствие, уравновешенность другого; впечатлительность, болезненное воображение и – трезвый рационализм; мистика и рассудок. Этот спор как бы продолжается на книжных полках библиотеки, где находятся два типа книг. С одной стороны, рассказчик упоминает обнаруженные им книги, содержание которых «было способно вызвать к жизни все семена наследственных суеверий» (пер. З. Александровой), таившиеся в его душе. С другой стороны – «Элементарный курс естественной истории», который содержит научное бесстрастное описание насекомого. В новелле имеется два описания этого существа. Вначале оно предстаёт как жуткое чудовище в увеличивающей зрительной перспективе рассказчика, затем – как насекомое в упомянутой естественнонаучной книге. Сравнивая эти два описания, можно заметить не только чисто количественную разницу масштабов изображения: чудовище – насекомое, пасть – ротовые органы, косматая шерсть – щетинки и так далее. Объект первого описания – сплошная загадка, нечто ужасающее, таинственное. Портрет насекомого напрочь этой загадочности лишён. Здесь, правда, тоже сказано об ужасе, но как о простонародном суеверном отношении к «эмблеме смерти на грудном покрове» (пер. В. Хинкиса). Отмеченная качественная разница (таинст73 венность либо её отсутствие) связывает данные описания с названием новеллы. Очень важно учесть то обстоятельство, что в названии тоже как бы в свёрнутом виде присутствует указанный спор науки и мистики. Сфинкс, во-первых, – научно-биологический термин, обозначение рода насекомых. Во-вторых, это имя чудовища, которое в греческом мифе является олицетворением загадки. Мифологическое чудовище Сфинкс – воплощённая тайна природы – есть одновременно загадка о человеке, разгаданная Эдипом. Всё, кажется, говорит в пользу того, что в названном споре побеждает научно-рациональная точка зрения. За нею остаётся в рассказе последнее слово (заключительная реплика хозяина дома об истинных размерах существа, напугавшего гостя). Это всё, на первый взгляд, и делает оправданным истолкование новеллы как события демистификации, разоблачения тайны. Загадки природы отступают перед пытливостью человеческого разума, как в мифе, в котором Эдип побеждает чудовище, освобождая от него город Фивы. Существует, вместе с тем, связь между событием демистификации, освобождения от беспочвенного страха и эпизодом, находящимся до сих пор вне нашего рассмотрения, точнее, описанием, с которого начинается новелла. Речь в нём идёт о страшной эпидемии холеры в Нью-Йорке, вести о которой каждый день приходят в дом, где гостит рассказчик. Здесь природа предстаёт уже не чем-то ясным, подчинённым человеку, разложенным по полочкам научных классификаций. Природа – нечто громадное, непостижимое, ужасное, а человек находится в её власти. Большой город (Нью-Йорк) оказывается «под владычеством» холеры, как Фивы – под властью загадочного чудовища. Если в рассмотренном раньше эпизоде курьёзной ошибки персонаж как бы смотрит на маленькое насекомое в увеличительное стекло, «делая из 74 мухи слона», то в описании холерной эпидемии налицо не иллюзорная, а реальная угроза смерти, действительно громадный её масштаб. Для того, чтобы воспринять новеллу в её художественной целостности, мы должны не ограничиваться рассмотрением центрального события, а учесть также то, что кажется всего лишь предысторией. Обрубив связь истории с предысторией, мы исказим авторский замысел, отождествим его точку зрения с позицией персонажа-резонёра. Однако автор, как мы видим, не присоединяется ни к одному из спорящих персонажей. Он воздаёт должное и могуществу человеческого разума, и неисчерпаемой таинственности природы. Таким образом, узел, в который связаны все эпизоды повествования, находится по ту сторону сознания обоих героев – в авторском горизонте (то есть горизонте целостности). Очень точная формулировка обсуждаемого аспекта литературного произведения содержится в известном письме Л. Толстого Страхову: «Во всём, почти во всём, что я писал, мною руководила потребность собрания мыслей, сцепленных между собою для выражения себя, но каждая мысль, выраженная словами особо, теряет свой смысл, страшно понижается, когда берётся одна из того сцепления, в котором она находится» (Толстой Л. Н. ПСС. Т. 62. М., 1953. С. 269). Поэтому понимание художественного текста сопряжено всегда с преодолением того, что можно назвать бессвязностью. Смысл произведения никогда не «складывается» из значений его отдельных слов, а интерпретация – это процесс ассоциирования (связывания). Конечно, при этом должны быть приняты во внимание лишь те связи, которые определяются или, по крайней мере, допускаются самим текстом. Первое предложение стихотворения Лорки «Гитара» в переводе Цветаевой – «Начинается плач гитары...» – означает, вероятно, просто печальный характер музыки, сравниваемой с плачем, – не более того. Когда мы читаем следующее предложение («... Разбивается чаша ут75 ра...»), предварительный «черновой» смысл начинает усложняться и конкретизироваться, ибо второе предложение a priori связано с первым. Печаль музыки получает своё обоснование: ход времени предстаёт как разрушительный процесс, как движение к уничтожению, утрате цельности. Это подтверждается строкой: «Так плачет закат о рассвете». Выражение «чаша утра» обнаруживает ещё безмятежное и немое счастье детства, не ведающее времени и смерти состояние полноты существования. Смысл первого предложения раскрывается по-настоящему именно в связи со вторым. Это настоящее развёртывание смысла части есть прорыв к смыслу целого. Если исходить из хайдеггеровского определения понимания как раскрытия, размыкания (см., например, § 33 «Бытия и времени»), то следует задуматься над тем, что, напротив, означает сомкнутость, сокровенность. Применительно к ситуации чтения и осмысления художественного произведения (при всей кажущейся головокружительности скачка от аналитики Dasein к читательской рефлексии) можно представить такую закрытость как непрозрачность, непросматриваемость связи, единства. Эта непонятность как своего рода неприступность есть, во-первых, внешняя замкнутость, то есть темнота и «непроглядность» внешних связей. Это не что иное, как «языковой барьер», представляющий произведение как бы выкорчеванным из почвы, где укоренён сам приступивший к его чтению. Во-вторых, непрозрачность произведения предстаёт как внутренняя – в том случае, когда оно как бы распадается: различные его частности воспринимаются отгороженными друг от друга, и эта загороженность гасит свет целого. Понимание размыкает понимаемое в себе самом, тем самым собирая его как единое, и размыкает «пространство между» понимаемым и понимающим как пространство найденного общего языка. Благодаря такому раскрытию связей преодолевается неприступность произведе76 ния и обнаруживается прозрачность – не как невидимость, а в буквальном значении – про-зрачность, про-зреваемость – как раз видимость, просвет. На территории художественного произведения все образы находятся в положении взаимоосвещения, взаимообъяснения, как об этом очень точно писал А. П. Скафтымов: «Вне связи с целым, действительно, нет опоры в толковании функциональных отправлений художественных элементов, но через целое они взаимно объясняют друг друга и сообщают друг другу определённый и единый смысл. Противоречивые толкования возможны только лишь в отрыве от целого» (Скафтымов А. П. К вопросу о соотношении теорет. и истор. рассмотрения в истории л-ры // Уч. зап. Гос. сарат. ун-та. Т. 1. Вып. 3. Саратов, 1923. С. 60). Поэтому смысл обнаруживается на пути от одной детали к другой, «как бы в интервале между словами» (МерлоПонти М. Знаки. М., 2001. С. 47). Приведём небольшой отрывок из повести А. Платонова «Котлован»: Сельские часы висели на деревянной стене и терпеливо шли силой тяжести мёртвого груза; розовый цветок был изображён на облике механизма, чтобы утешать всякого, кто видит время. Описание устройства часов связывает образ времени с мыслью о смерти и тем самым делает понятной нужду в утешении при зрелище хода времени. Изображение розового цветка, пребывающее как бы вне времени (красота, убегающая тленья), противостоит мёртвому грузу механизма, обеспечивающему его неумолимый ход. Этот пример, как и предыдущие, показывает, что понимание произведения есть акция связывания. Как писал Хайдеггер, «...чтение – собирание» (Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. М., 1993. С. 258). Важно при этом оговориться, что связи эти не создаются, а открываются, так как читатель не столько придаёт смысл, сколько становится ему причастным. Так, по-видимому, и следует понимать мысль Хай77 деггера: «Настоящее чтение – это собирание ради того, что уже и помимо нашего ведения приняло наше существо в свой требовательный зов, независимо от того, соответствуем ли мы ему или оказываемся несостоятельными» (Там же). Понимание произведения, как это следует из аксиомы тотальной взаимосвязи всего со всем, есть интегрирующая акция. Это не означает существования «главного» смысла, подчиняющего себе все прочие. Это означает, что территория произведения – зона схождения смыслов. Как писал Р. Барт, «дискурс тщательно замыкается в некотором кругу солидарностей, и этот круг, где «всё взаимосвязано», есть не что иное, как круг текста-чтения» (Барт Р. S/Z. М., 1994. С. 175–176). Когда художественный образ пытаются понять сам по себе, такое «центробежное» толкование, уводящее в сторону от произведения, обречено на неудачу. Возьмём снова первую строфу стихотворения Пушкина «Пророк»: Духовной жаждою томим, В пустыне мрачной я влачился, И шестикрылый серафим На перепутье мне явился (…). Если мы просто «складываем» внутреннее состояние пушкинского героя и внешние обстоятельства, в которых мы его застаём, то понятия духовной жажды и мрачной пустыни остаются абстрактными, неопределёнными. Непонятно, чего жаждет душа героя и что это за «пустыня мрачная». Однако при читательском настрое на всеобщую связь всего со всем эти понятия взаимно объясняют друг друга. При такой обоюдной проекции мрак и пустота становятся как раз характеристиками того душевного состояния, которое «томит» героя и от которого он жаждет освободиться. Иначе говоря, это жажда света и наполненности души, то есть жизненного смысла, отсутствие которого объясняет ещё одну подробность описываемого состояния: «влачился». Поэтому в стихотворении дальше встречаются слова «наполнил», 78 «исполнись», передающие как раз заполнение исходной пустоты души. Тот же механизм выявляется и в чтении второй половины начальной строфы «Пророка». Встреча героя с ангелом, воспринимаемая отдельно от предыдущего, совершенно случайна и прозаична (при всей экстраординарности такой встречи). Но увиденное в единстве смысловой перспективы событие первой строфы стихотворения Пушкина обнаруживает свою неслучайность: именно «духовная жажда» вызывает появление «шестикрылого серафима». Здесь мы снова видим то сопряжение внутреннего и внешнего планов, которое оказывается важным и для понимания выражения «на перепутьи». Это и некая внешняя пространственная характеристика (перекрёсток дорог), и, одновременно, ситуация духовного выбора. В рассказе Чехова «Гриша» описание комнаты содержит тёмное пятно на ковре, «за которое Грише до сих пор грозят пальцами». Легко понять, что это за пятно, однако зачем эта деталь введена в рассказ? Ответить на этот вопрос, исходя из самого этого образа, невозможно. Изолированная деталь воспринимается как совершенно случайная. Смысл приоткрывается не раньше, чем мы свяжем замеченную подробность со всей ситуацией произведения. Пятно на ковре и жест, выражающий недовольство, указывают на границу детского и взрослого сознаний, развёртываемую в рассказе. Причём это граница непреодолимого непонимания, что выявляется, когда читатель интуитивно связывает, например, совершенно ненужную ложку касторки в конце рассказа («Вероятно, покушал лишнее… – решает мама») и пятно на ковре – в начале. Стихотворение Лермонтова «Смерть поэта» можно рассмотреть как отклик на действительный факт жизни А. С. Пушкина. В этом случае целостность стихотворения распадается на реальное единство (по ту сторону произведения) исторического события (объект) и ав79 торское негодование (субъект). Сведение содержания художественного события к единичному случаю реальной жизни весьма обеднило бы наше восприятие стихотворения. Стихотворение, как и любое другое художественное произведение, само по себе является не только предметом, но и почвой истолкования. Каждый его образ может и должен быть осмыслен как принадлежащий данному художественному единству. Судьба А. С. Пушкина, откликом на которую является стихотворение «Смерть поэта», есть исторический факт. В мире лермонтовского произведения образ судьбы, сохраняя связь с реальной пушкинской биографией, несёт обобщённый, трансисторический художественный смысл, открывающийся во внутренних связях. Обратимся к некоторым из них. В словах «Судьбы свершился приговор!» судьба воспринимается как неправый земной суд, противоположный небесному: «Но есть и божий суд, наперстники разврата!» и так далее. Неправота приговора судьбы заключается отнюдь не только в гибели Поэта, в том, что «замолкли звуки чудных песен». Понять это помогает образ Дантеса. Убийца Поэта – исполнитель приговора судьбы, её орудие, то есть в буквальном смысле палач (не случайны далее слова: «Свободы, Гения и славы палачи!»). Дантес «заброшен к нам по воле рока». Понятно, что «рок» и «судьба» здесь суть одно и то же. Из образа убийцы Поэта устранены жизнь и душа: Его убийца хладнокровно Навёл удар... спасенья нет: Пустое сердце бьётся ровно, В руке не дрогнул пистолет. Перед нами олицетворение судьбы как бессмысленной и бесчеловечной механической необходимости. Рука как бы сливается с пистолетом. Почему она могла бы дрогнуть? Мы можем с полным основанием предполагать в этой ситуации возможного убийства различные человеческие чувства, которые как раз отрицаются: «пустое 80 сердце бьётся ровно...». Убийца здесь – продолжение бездушного и безупречно действующего механизма. Однако о Дантесе сказано также то, что он ловец «счастья и чинов». «Счастье» здесь – ещё одно наименование судьбы – как фортуны. Об этом идёт речь и в конце стихотворения: А вы, надменные потомки Известной подлостью прославленных отцов, Пятою рабскою поправшие обломки Игрою счастия обиженных родов! «Игра счастия» – бессмысленная и безличная фортуна, превращающая в «обломки» древние фамилии. Смерть гения перекликается с гибелью рода. Слова «род» и «гений» означают одно и то же. Конечно, здесь понятие рода связано не просто с дворянской сословной гордостью, а с укоренённостью человека в родной истории, с неразрывностью поколений – с понятием «родина». Недаром безродный Дантес совершает кощунство не только по отношению к «дивному гению», но и по отношению к его отечеству: Смеясь, он дерзко презирал Земли чужой язык и нравы... Так как Дантес – ловец «счастья и чинов», то понятию «род» в произведении Лермонтова противостоит понятие «чин», а гениальной личности – «жадная толпа, стоящая у трона». Род – нечто органичное. Достаточно вспомнить однокоренные слова: «рождение», «природа». Чин – внешняя роль, безличное место в государственной иерархии, где «трон» – высшая ступень. Поэтому «род» и «чин» соотносятся как «живое» и «мёртвое». В стихотворении есть два образа смерти. Одна смерть – Поэта, падающего «с свинцом в груди и жаждой мести». Это смерть живого человека, что подчёркивается контрастом мёртвого металла и живого чувства. В образе Дантеса тоже запечатлена смерть, но другая: безжизненность и хладнокровие автомата. С одной стороны – погибающая 81 личность, с другой – изначальная мертвенность государственной машины, орудием которой является Дантес. Внутренние художественные связи стихотворения обнаруживают то, что в нём речь идёт о вещах более глубоких, нежели единичный факт биографии А. С. Пушкина. В той же степени ситуация произведения касается, например, Мандельштама или Заболоцкого. Этим в очередной раз подтверждается старое положение Аристотеля о том, что поэзия философичнее истории. «Философичность» художественного произведения означает неслучайность любого его образа. Однако открывается эта неслучайность, как мы убеждаемся, лишь в усилии понимания, направленном к другим деталям произведения. Рассказ Киплинга «Ворота Ста Скорбей» представляет собой описание курильщиком опиума заведения, которое он посещает и именем которого названо произведение. В чём смысл этого описания? Можно предположить наличие некоего нравоучения, предостережения, увидеть здесь как бы «подъятый перст»: «Вот что в таких случаях бывает». Такой смысл («мораль») находится вне произведения. Но что и как можно «извлечь» из него самого? В попытке понять внутренний смысл целого мы не можем обойтись без частностей. Возьмём первый абзац рассказа: Это не моё сочинение. Приятель мой, Габраль Мисквитта, смешанной касты, изложил весь этот рассказ целиком, между заходом луны и утром, за шесть недель до своей смерти; я лишь записал рассказ по его ответам на мои вопросы. (Пер. Е. Н. Нелидовой). Это сообщение повествователя невозможно понять само по себе. Факты, которые оно содержит, кажутся случайными, не идущими к делу, совершенно «нейтральными». Действительно, сам по себе этот фрагмент не значит ничего. Какую важность в свете целого приобретают сообщения первого абзаца? Вместо обычного рассказа от первого лица при входе в художественный мир произведения мы сталкиваемся с демонстративной сменой субъектов повествования. Это едва 82 заметное событие заставляет обратить внимание не только на предмет рассказа, но и на манеру рассказывания, точку зрения рассказчика. Эта дополнительная характеристика происходящего в «Воротах Ста Скорбей» – невольная самохарактеристика. И первая особенная черта манеры рассказывания заключается в том, что это вообще не рассказ, а ответы на вопросы, записанные в форме связного рассказа. Принципиальная разница между этими двумя формами речи заключается в их побудительных стимулах: внутренних (если это рассказ) либо внешних (ответы на вопросы). Форма ответов на вопросы не связана с установкой на общение, в отличие от рассказа (некоего намерения поделиться тем, что на душе). Внутренний стимул речи (общение) отсутствует. Характеристика первого лица повествования, данная в первом абзаце, проецируется на всю ситуацию в целом: ведь рассказ развёртывает мир наркоманов, увиденный глазами наркомана. А это мир одиночества, мир людей, без остатка погружённых в себя, безразличных ко всему кроме чёрного курева. Так смысл подробности выясняется только по направлению к другим подробностям текста. Описание местоположения «Ворот» тоже раскрывает свой смысл лишь при проецировании на него общей ситуации рассказа. Труднонаходимость входа в заведение – знак непроницаемой замкнутости описываемого – как бы «параллельного» мира. Своеобразным двойником неприступного пространства «Ворот Ста Скорбей» является гроб хозяина заведения, китайца: В одном из углов стоял божок Фун-Чина, и перед его носом всегда курились свечки, но запах их заглушался дымом трубок. Напротив божка стоял гроб Фун-Чина. Он истратил на него немалую долю своих сбережений, и всякий раз, как Ворота посещал новичок, его неизбежно знакомили с гробом. Гроб Фун-Чина – в известной степени разгадка Ворот, истинная их суть, откровение их тайны. Важно здесь то, что хозяин заведения ещё жив. Он, живущий в тени своего гроба, как бы живой покойник. Но когда он умирает, гроб вместе со стариком возвращается в Китай с 83 «двумя унциями курева внутри, на случай, если бы оно понадобилось покойнику в дороге». То есть ничего после смерти не меняется. Между смертью и жизнью отсутствует чёткая граница. Человек в мире рассказа – живой мертвец. В этом смысловом фокусе целого показ гроба новичку-посетителю заведения оказывается не простым знакомством с достопримечательностью, а неким обрядом посвящения, что подчёркивается фигурой идола. Казалось бы, незначительная деталь начала рассказа получает в связи с общей картиной жизни как смерти важное значение. Читателю заранее сообщается, что того, чей рассказ он услышит, уже нет. Это голос живого мертвеца. Причём то, что он как бы мертвец при жизни, выражается не только в так обозначенной его судьбе, но, главным образом, в его речевом поведении. Жизнь рассказчика помимо курева лишь эпизодически проникает в горизонт рассказывания. Это либо воспоминания (о смерти жены, об оставленной работе), либо предвосхищение будущего – смерти на циновке. И в таких случаях звучит рефрен: «Это неважно». Например: «Но теперь её нет в живых. Уверяют, будто я убил её тем, что пристрастился к чёрному куреву. Возможно, что и так, но это случилось так давно, что теперь уже неважно». Или: «...ничто не кажется странным тому, кто во власти чёрного курева, за исключением самого чёрного курева. А если бы даже и было что странное, то это неважно». И в самом конце рассказа: «...Ну, да это неважно. Ничто не представляется мне особенно важным, хотелось бы только, чтобы Цин-Лин не подмешивал отрубей в чёрное курево». Этот повторяющийся словесный жест создаёт образ замыкания. Сфера имеющего значение в жизни – «важного» – сужается до чёрного курева, которое, как говорит герой, «не допускает других занятий». Перед нами герметично закупоривающийся мир, напоминающий гроб для живого человека. Поэтому в моменты, когда рассказчик говорит о 84 чём-то как неважном, читатель воспринимает эти слова, будто они доносятся с того света (как оно и есть на самом деле: читатель уже знает, что герой умер). Если речь рассказчика – речь живого покойника, то его фразы как бы расслаиваются: живой взгляд на окружающее спорит в них с безучастностью, замыканием на своей привычке, например: старик «должно быть, хорошо на мне нажился, но он всегда давал мне чистые подушки и циновки и товар, лучше которого нигде не достанешь». До союза «но» герой как бы находится в большом мире, где имеет значение нажива (от слова «жизнь»). После «но» кругозор говорящего замыкается на нескольких ближайших и важнейших для него предметах. Так как в изображённом мире граница между жизнью и смертью стирается, то сообщения о смертях, которых много, носят предельно будничный характер: смерть не является важным событием точно так же, как сама жизнь «не имеет значения». Смерть – постепенный, спокойный и незаметный процесс, смерть при жизни. Такова смерть в рассказе Киплинга. Однако при этом нельзя говорить о полном тождестве смерти и жизни в мире произведения. Своего рода подспудный спор их обнаруживается по ту сторону сознания героя. Чтобы убедиться в этом, можно рассмотреть, например, цветовые детали изображения. Зачем «раскрашен» мир «Ворот Ста Скорбей»? Какое это имеет значение? Эти вопросы о смысле цвета суть вопросы о нитях, которыми частные (цветовые) детали связаны с художественным целым. Что это за цвета? Прежде всего (если учесть частоту появления) – чёрный и красный. Как их истолковать? Если пуститься на поиски каких-то закреплённых за этими цветами символических значений или на охоту за своими субъективными ассоциациями, то интерпретация направится в дурную бесконечность по касательной к произведению Киплинга. Единственно правильным путём является выяснение того, что окра85 шено данным цветом в самом произведении, только в нём. Чёрного цвета в рассказе курево, лак на гробе Фун-Чина и драконы на подушечках посетителей «Ворот Ста Скорбей». Причём там ещё и красные драконы: «...каждый из нас имел отдельную циновку с ватным шерстяным изголовьем, покрытым чёрными и красными драконами и всякими штуками, точь-в-точь как на гробе в углу. В конце третьей трубки драконы принимались шевелиться и драться между собой...». Эта битва цветов в сознании героя отражает битву реальную. Наркотическая грёза оборачивается нешуточной схваткой жизни и смерти, чем заканчивается сам рассказ: Хотелось бы мне умереть так, как умерла торговка – на чистой, прохладной циновке, с трубкой хорошего курева в зубах. Когда почувствую, что пришла пора, я попрошу Цин-Лина дать мне то и другое, а он за это может получать мои шестьдесят рупий один месяц за другим, сколько его душе угодно. Тогда я улягусь спокойно и уютно и буду смотреть, как чёрные и красные драконы сойдутся в последней великой битве; потом... Ну да это неважно.... После слова «потом» на месте многоточия подразумевается, конечно, смерть, так как битва чёрных и красных драконов «последняя». Но следующее утверждение бессмысленности жизни переносит акцент со смерти как биологического события на смерть, наступившую раньше, – духовную. Эта последняя и является настоящим предметом художественного изображения у Киплинга. Разумеется, указание на некоторые связи рассказа Киплинга вовсе не означает, что непонятность его теперь совершенно отменяется и что мы рекомендуем его считать теперь «понятным». Это относится и ко всем другим привлекаемым текстам. Нашей задачей было показать, от чего зависит понимание художественного произведения: чем больше выявлено внутренних перекличек, тем ближе нам текст как смысловое целое. И процесс такого приближения, как уже говорилось, бесконечен. В процессе чтения, представляющем собой непрерывное умножение связей всё новых и новых образов, происходит неизбежное 86 «умножение» (или расширение) смысла, которое Р. Барт называет «семантической экспансией» (Барт Р. S/Z. М., 1994. С. 110). При этом Барт не говорит о противоположной тенденции. С каждым новым образом в горизонте чтения происходит не только некоторое «приращение» смысла, но и его уточнение, о-предел-ение, отсекающее, исключающее какие-то оттенки. Возьмём в качестве примера первую строфу стихотворения Тютчева «Рим ночью»: В ночи лазурной почивает Рим. Взошла луна и овладела им, И спящий град, безлюдно-величавый, Наполнила своей безмолвной славой... Здесь образы Рима и ночи демонстрируют не только семантическое расширение, как об этом писал Р. Барт, но и взаимное смысловое ограничение – вместе с конкретизацией. Рим не просто обозначение места. За ним тянется целый шлейф значений. Ночь, с одной стороны, придаёт «вечному» городу определённость («этость»), а с другой – отсекает будничный дневной аспект. Так открывается спрятанная шумным днём истина: Рим как Рим (во всём объёме этого понятия) мёртв: он величав именно в безлюдии и славен в безмолвии, напоминающих о прошлом. И поэтому как раз сон делает город градом. То есть, как видно из приведённого примера, в ходе смыслового взаимодействия образов произведения происходит исключение определённых оттенков смысла, актуальных для других возможных ситуаций и образных связей. В данном случае «за скобки выносится» современная жизнь Рима, которой больше соот- ветствовало бы дневное время суток. По мере понимания смыслового единства происходит, как писал Г.- Г. Гадамер, «постепенное затухание колебаний значения слова» (Гадамер Г.- Г. Актуальность прекрасного. М., 1991. С. 58). Правда, если говорить о понимании художественного текста, то такое «затухание колебаний значения» никогда не приведёт к однозначности. 87 Рассказ Ф. Кафки «Голодарь» начинается следующей констатацией: «За последние десятилетия интерес к искусству голодания заметно упал…» (перевод С. Шлапоберской). Смысл выражения «искусство голодания» в этом высказывании весьма расплывчат. Напрашивается, например, диетологическое его истолкование. Однако следующее предложение уточняет смысл предыдущего: «Если раньше можно было нажить большие деньги, показывая публике голодаря, то в наши дни это просто немыслимо». Возможный сначала лечебный смысл голодания как бы «отсекается», так как повествователь имеет в виду голодание как шоу, как коммерческое предприятие. Но впоследствии оказывается, что сам голодающий вовсе не печётся о своей выгоде, будучи заинтересованным лишь в совершенствовании «искусства». Тем самым первоначальный смысл ещё более конкретизируется, о-предел-яется. «Искусство» голодаря устремлено к своему пределу – полному отказу от еды = смерти. Предел искусства – конец жизни. Этим всё и заканчивается, когда, пошарив палками в гнилой соломе, находят «маэстро». Полумёртвому состоянию героя парадоксально соответствует пышный титул его «мастерства». Именно равнодушие публики, забывшей о голодаре, позволяет реализоваться его «искусству», в то время как во времена его славы голодовка, основываясь на правилах шоу-бизнеса, ограничивалась сорока днями, чем был недоволен сам герой. Получается, что жизнь поддерживается лишь спросом на «искусство», ставя предел совершенствованию этого «искусства». Перед самой смертью героя выясняется, что мотив голодания – невозможность найти вкусную пищу. Вкус еды здесь уравнен со вкусом самой жизни, отсутствие которого ведёт к искусству голодания (в пределе – к смерти от голода). 88 В приведённых первых предложениях оппозиция времени («раньше» и «наши дни») означает лишь падение интереса публики к «искусству голодания». Но к концу рассказа этот смысл уточняется: имеется в виду не просто пропажа интереса, а перенос его на другой предмет. Причём так как это новое зрелище (пантера) – полная противоположность зрелищу голодаря, налицо не просто смена времён, а некий слом, распад, тотальная переоценка ценностей: маэстро зверь старость молодость искусство природа безвкусность «пища по вкусу» лежал «забегал» покорность дикость слабость сила горечь «радость бытия» кости тело Образ пантеры, сменившей в клетке голодаря, конкретизирует смысл падения интереса к его «искусству». Каждый новый, возникающий в ходе чтения, образ в той или иной степени меняет смысл всего предыдущего, требуя с необходимостью учесть и его при истолковании произведения как целого (последнее выражение, по-видимому, тавтология: толкование не может не исходить из целого). При этом, как уже отмечалось, происходит не только некое «добавление» смысла, но и определённое его «убавление» как уточнение и конкретизация. 4. ВИДЫ СВЯЗЕЙ Но теперь «довольно простоты», как сказал драматург Островский. И – финита ля комедиа. Не всякая простота – святая. И не всякая комедия – божественая… Довольно 89 в мутной воде рыбку ловить, – пора ловить человеков!.. В. Ерофеев. Москва – Петушки В определённом смысле можно даже сказать, что в мире не происходит ничего нового, ибо всё что есть, – это всего лишь повторение прежних первичных архетипов… М. Элиаде Сформулированное нами правило чтения, определяющее понимание как связывание, прежде всего относится к внутренним связям текста. Вместе с тем в процессе чтения и понимания обнаруживаются не только ассоциации художественных образов читаемого произведения, но и внешние ассоциации, возникающие благодаря укоренённости текста в культурной традиции, а также в архаической культовой предыстории. Если внутренние связи произведения (контекстуальные) можно назвать телеологическими, то внешние связи находятся в двух направлениях: это или диалогические (в узком смысле), то есть интертекстуальные, указывающие на другие тексты, или археологические (открывающие ритуально-мифологический подтекст). Мы принимаем мысль П. Рикёра о взаимной дополнительности телеологической и археологической герменевтик (См.: Рикёр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М., 1995). При этом телеология для нас не сводится к сознательному замыслу, а означает контекст целого, уникальность, «этость» произведения. Археологический же подтекст ведёт читателя не к психологической фрейдо-юнгианской проблематике глубин душевной жизни, а к реликтовым слоям смысла, обозначающим вечно актуальные, универсальные ситуации человеческого существования: возвращение домой, поединок, разгадывание тайны, предательство и т.д. Эти ситуации, в свою очередь, коренятся в древнейших религиозных символах (см. работы М. Элиаде). Обратимся вначале к ситуации диалога между различными произведениями, то есть к так называемым интертекстуальным связям. 90 Читаемый текст часто сам выводит за свои пределы, указывая на другие тексты, как, например, стихотворение Пастернака «Вариация»: Мчались звёзды. В море мылись мысы. Слепла соль. И слёзы высыхали. Были тёмны спальни. Мчались мысли, И прислушивался сфинкс к Сахаре. Плыли свечи. И казалось, стынет Кровь колосса. Заплывали губы Голубой улыбкою пустыни. В час отлива ночь пошла на убыль. Море тронул ветерок с Марокко. Шёл самум. Храпел в снегах Архангельск. Плыли свечи. Черновик «Пророка» Просыхал, и брезжил день на Ганге. Можно сразу заметить, что лирический напор произведения, начиная с первого слова, схватывает одновременно разные точки мира – в одном горизонте. Это взгляд, в котором умещаются сразу спальни и звёзды, Сахара и Архангельск, море и пустыня. Зачем здесь упоминается стихотворение Пушкина? Это образ, который соединяет Россию и Африку, оплывающие свечи у черновика «Пророка» и заплывающие губы потомка «арапа». Неслучайно то, что речь идёт именно о стихотворении «Пророк». Сверхчуткость его героя к различным точкам космоса (и «горним», и «дольним») подобна той, которая позволяет связать движение звёзд и мыслей, моря и слёз. Как в одном, так и в другом стихотворениях обходящий «моря и земли» пророческий «глагол» открывает космический горизонт поэта. Фраза «И слёзы высыхали» кажется совершенно непонятной и случайной до тех пор, пока не обнаруживается связь образов высыхающих слёз и просыхающего черновика «Пророка». Это объединение позволяет говорить о неких мучениях, слезах творчества, подобных слезам рожениц. Тем самым открывается ещё один аспект неслучайности присутствия в мире произведения Пастернака пушкинского «Пророка», где 91 человек, превращаясь в пророка, претерпевает мучения, умирает («Как труп в пустыне...») и заново рождается. Строка «В час отлива ночь пошла на убыль» сближает такие понятия, как море и ночь. Кроме того, с наступлением дня здесь связано просыхание черновика «Пророка». Поэтому как море, так и ночь в стихотворении Пастернака можно считать выражением стихийной бесформенности и темноты творческого процесса. Итак, чужое слово в тексте подсказывает тему – творчество, – по отношению к которой сам текст оказывается вариацией. Отсюда его название. В истолковании произведения мы неизбежно исходим из «внешней» ему реальности языка и культурного контекста, в которой укоренены сами. Рассматриваемое стихотворение Пастернака, как мы видим, само выводит за свои пределы указанием на пушкинского «Пророка». Но даже если нет такой буквальной переклички с культурным контекстом, бесчисленными связями с ним скреплено любое произведение. Однако все эти связи опосредованы внутренними связями, «овнутрены», преломлены в фокусе данного художественного целого. Сама возможность такого «овнутрения», то есть вовлечения внешних ассоциаций в контекст произведения, гарантируется символической многослойной природой художественного смысла, чему будет посвящена особая глава. Ситуация рассказа Чехова «После театра» и само его название указывает на границу искусства (театрального спектакля, с постановки которого возвращается домой героиня рассказа) и жизни. То есть налицо диалог текста Чехова и оперы по мотивам романа «Евгений Онегин». Получается, что понять произведение невозможно без учёта этих интертекстуальных связей, тем более, что рассказ открывается им сам, заставляя читателя пойти следом. 92 Начало рассказа говорит о закончившемся спектакле и настраивает читателя на то, что за ним должно последовать, – возвращение героини к прозаической реальности «после театра». Однако театральное настроение, продолжаясь по инерции, вторгается в жизнь: героиня «… придя к себе в комнату, быстро сбросила платье, распустила косу и в одной юбке и в белой кофточке поскорее села за стол, чтобы написать такое письмо, как Татьяна». Жест разоблачения здесь означает не освобождение от выходного театрального наряда и естественное желание отдохнуть, а прямо противоположное – вхождение в сценический образ Татьяны («распущенные власы» и т.д.). Причём тут же обозначается граница искусственного желания походить на несчастную Татьяну, страдающую от безответной любви, и реальных обстоятельств жизни героини, которая «ещё никого не любила», но «знала, что её любят…». Несчастье воспринимается Надей Зелениной как чтото поэтическое, возвышающее над «скучным» счастьем жизни. Такая «эстетическая» точка зрения спорит в рассказе с естественным чувством реальности. После первых слов письма о безответной любви героиня «засмеялась». Этот смех как раз и сбрасывает маску придуманного страдания, как и в дальнейшем наблюдается колебание героини на границе искусства и жизни. Письмо, которое героиня пишет в подражание пушкинской Татьяне, носит совершенно надуманный и шаблонный характер, однако обнаруживает и реальную жизненную подоплёку. Наде Зелениной не удаётся в письме сходство с Татьяной потому, что она не может убедительно выразить любовь (которой нет). И поэтому она в письме гораздо больше похожа на рассудочного (ещё не влюблённого) Онегина. Например, когда героиня перечисляет достоинства офицера, которому пишет, а затем говорит о себе как «неинтересной, ничтожной девушке», то это напоминает именно слова Онегина: Напрасны ваши совершенства: Их вовсе не достоин я (…) 93 Несчастье вымышленной чужой безответной любви из эстетической сферы («театр») незаконно вторгается на чуждую территорию жизни, обнаруживая здесь совершенно противоположную ситуацию переполненности невыразимым «скучным» счастьем. Читатель по необходимости воспринимает всё происходящее в мире чеховского рассказа «на фоне» ситуации «Евгения Онегина». Но при этом контекст читаемого рассказа является непосредственной почвой понимания, а интертекстуальная связь – вспомогательным средством, хотя и совершенно обязательным. События «Евгения Онегина» преломляются в рассказе «После театра», подчиняясь художественной логике последнего. Указание текста на другие тексты делает невозможным его понимание без учёта этих внешних ассоциаций, исключает их факультативность. Ведь диалог текста с другим текстом является существенным моментом его «внутреннего» содержания. Рассмотрим с этой точки зрения стихотворение О. Мандельштама: Как овцы, жалкою толпой Бежали старцы Еврипида. Иду змеиною тропой, И в сердце тёмная обида. Но этот час уж недалёк: Я отряхну свои печали, Как мальчик вечером песок Вытряхивает из сандалий. Начало произведения тематизирует ситуацию чтения, указывая на образ греческой трагедии. Причём этот образ дан в оценочном кругозоре героя, отрицательные переживания которого не мотивированы ничем, кроме содержания трагедии. Поэтому так как в самом тексте не указаны причины «тёмной обиды», читатель стихотворения Мандельштама (герой которого – тоже читатель) вынужден искать эту причину в «соседних» образах. Иначе это будут какие-то печали, ка94 кая-то обида. Единственное здесь направление объяснения – отрицательная интенция первых стихов, выражение досады в адрес слабости, беспомощности еврипидовских старцев. Причём обида означает личную задетость этой чужой «жалкой» слабостью, что и возникает здесь в событии чтения. «Змеиная тропа» стихотворения есть развёртываемое при чтении печальное произведение Еврипида. Тогда «этот час» знаменует как раз конец трагедии, её «тёмной» истории и возвращение в дом реальности со «змеиной тропы» воображаемого. Ведь конец дороги и обиды, с нею связанной, сравнивается с жестом вытряхивания песка из сандалий мальчика, возвращающегося вечером домой. Не названный, но присутствующий здесь образ дома предполагается как человеческая территория, граничащая с природной. На это указывает контраст сандалий и песка. Кстати, в сандалиях пересекаются современность и античность, детство мальчика и «детство человечества», как и в самой ситуации чтения древней трагедии. Обида в стихотворении – тёмное природное чувство. Неслучайна зооморфная оппозиция овцы – змея. Дорога редуцирована до «змеиной тропы», то есть отчуждена от человека. Поэтому ситуация возвращения (с концом «змеиной тропы») здесь оказывается просветлением человеческого, «заприродного» состояния. Указание на греческую трагедию предопределяет толкование произведения Мандельштама как образа чтения. Однако совершенно очевидно то, что стихотворение непонятно без учёта содержания упомянутого еврипидовского текста. Первые стихи указывают на трагедию «Геракл». Старцы в «Геракле» – воплощение беспомощной справедливости; мудрости, бессильной перед жестокостью безрассудства. Отсюда образ овцы – жертвенного животного, а с другой стороны – змеиной тропы – развёртывающейся безжалостной судьбы. 95 Образ Геракла ассоциируется с чредой героических побед над чудовищами, начатой ещё в младенческом возрасте, когда герой задушил двух змей, посланных ревнивой женой Зевса. Змея в этом мифе воплощает природное мстительное чувство, натуру на пути культурного героя. Еврипид перенёс Геракла из героической сферы в сферу частной жизни, где он оказывается (в отличие от возвращающегося Одиссея) уязвимым. Природа здесь побеждает человека (как и в мифе о смерти Геракла). Орудие такой страшной победы – насылаемое мстительной, ревнивой богиней безумие, в котором Геракл истребляет свою семью. В финале происходит следующий диалог героя с Тезеем: Тезей. Да, в горе ты не прежний славный воин. Геракл. А ты в аду такой же стойкий был? Тезей. Нет, я упал там духом, как ребёнок. Геракл. Ну, значит, и меня теперь поймёшь. (Пер. И. Анненского) Получается, что для понимания необходим момент слабости, сходства с ребёнком. Вообще это трагедия слабости сильного человека, уязвимости самой силы, обращающейся против себя. Герой побеждает всех, но главный и непобедимый враг – антигероический, частный, «сентиментальный» аспект – находится внутри. Поэтому глубоко неслучаен в произведении Мандельштама образ ребёнка и детский взгляд на мир. Это тот масштаб «измерения» происходящего, который позволяет адекватно его понять. Мы видим, что попытка истолкования стихотворения наталкивается на другой, упомянутый в нём, текст и невозможность понять одно без другого. Диалог произведений открывает, как это часто бывает у Мандельштама, живую встречу давно прошедшего и современного. Отсылка текста к другому тексту всегда означает интерпретацию последнего, и почвой толкования является именно от96 сылающий текст, его смысловой горизонт. Поэтому читатель стоит перед необходимостью не толкования двух текстов порознь, а определения зоны их взаимодействия при учёте существенной разницы «обнимающего» и «обнимаемого» произведений. Например, в романе «Обломов» обнаруживаются отсылки к различным библейским текстам. Вопрос о функции этих отсылок помещает диалогические связи романа в плоскость телеологической интерпретации. (Обратив внимание лишь на библейские интертекстуальные ассоциации произведения Гончарова, мы в полной мере сознаём то, что к этому диалогические связи романа «Обломов», конечно, не сводятся). Толкование предлагаемых ниже фрагментов строится на сравнении упомянутых библейских образов с ситуациями романа Гончарова. При этом, как уже отмечалось, присутствие в произведении чужого слова (Бахтин) предполагает его определённое смысловое преломление, то есть подчинение художественному заданию «обнимающего» контекста. 1. «…зеркала, вместо того, чтоб отражать предметы, могли бы служить скорее скрижалями, для записывания на них, по пыли, каких-нибудь заметок на память» (Ч. 1, гл. I. И. А. Гончаров. Обломов. Л., 1987. С. 10). «И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синае, дал ему две скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божиим» (Исход. 31, 18). Это сравнение пыльных зеркал со скрижалями носит комический характер, соединяя мелкую бытовую подробность с возвышенным событием завета, союза Бога и народа, определяющим судьбу последнего. Необходимо заметить, что позже в романе на пыльных «скрижалях» в самом деле возникают слова, означающие что-то важное для героя. В начале V главы второй части Обломов «задумался и машинально начал чертить пальцем по пыли, потом посмотрел, что написал: вышло Обломовщина. Он проворно стёр написанное рука97 вом…» (С. 146 указ. изд.); в VII главе второй части Илья Ильич, придя домой после свидания с Ольгой Ильинской, «сел в угол дивана и быстро начертал по пыли на столе крупными буквами: «Ольга». «Ах, какая пыль! – очнувшись от восторга, заметил он…». Таким образом, смысл слова «скрижали» поддерживается как до известной степени возвышенный и серьёзный, но при этом иронические, снижающие обертоны как бы не выпускают героя из сферы бытовой повседневности. 2. «Они сносили труд как наказание, наложенное ещё на праотцев наших…» (Ч. 1, гл.IX. С. 97). «…В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят…» (Бытие. 3, 19). Что даёт проекция истории грехопадения на изображение Обломовки? Во-первых, возникает художественное тождество: Обломовка – утраченный рай. Описание Обломовки начинается с резкой границы действительности и сна: «Где мы? В какой благословенный уголок земли перенёс нас сон Обломова? Что за чудный край!» (С. 79); «благословенный богом уголок» (81); «Измученное волнениями или вовсе незнакомое с ними сердце так просится спрятаться в этот забытый всеми уголок и жить никому не ведомым счастьем» (80). Во-вторых, очень важна связь образа утраченного рая и детства. Герой во сне возвращается к своему детству. Небо над Обломовкой «распростёрлось так невысоко над головой, как родительская надёжная кровля, чтоб уберечь, кажется, избранный уголок от всяких невзгод» (С. 79; выделено мною – Л. Ф.). Взрослые обитатели Обломовки описываются как дети: простодушными, счастливо беззаботными или, наоборот, боязливыми. Например, эпизод веселья обломовцев при воспоминании конфуза Луки Савича во время катания на салазках (С. 103–104). Или страх перед оврагом, где «предполагались и разбойники, и волки, и разные другие существа, которых или в том 98 краю, или совсем на свете не было» (86). Но смысл понятия детство, относящийся не только к главному герою, но и ко всем обитателям Обломовки, расширяется до обозначения детства человечества, когда обломовцы несколько раз сравниваются с «древними» людьми (С. 83, 93–95, 97 указ. изд.). Появление образа рая именно во сне указывает на действительность как на состояние повзросления, утраты детской невинности и беззаботности. Поэтому оценка труда как божьего наказания серьёзна в той мере, в какой она принадлежит «детскому» сознанию Обломова и обломовцев. Но она комична со «взрослой» точки зрения, например, повествователя, но чаще всего воплощающейся в образе смеющегося Штольца, который и появляется впервые в романе с хохотом при пробуждении Обломова. 3. «Сидят подолгу, глядя друг на друга, по временам тяжко о чём-то вздыхают. Иногда которая-нибудь и заплачет. – Что ты, мать моя? – спросит в тревоге другая. – Ох, грустно, голубушка! – отвечает с тяжким вздохом гостья. – Прогневали мы господа бога, окаянные. Не бывать добру. – Ах, не пугай, не стращай, родная! – прерывает хозяйка. – Да, да, – продолжает та. – Придут последние дни: восстанет язык на язык, царство на царство… наступит светопредставление! – выговаривает наконец Наталья Фаддеевна, и обе плачут горько». (Ч. 1, гл. IX. С. 105–106). «…Ибо восстанет народ на народ и царство на царство…» (Марк. 13, 8). Образ грядущего разрушения мира, предрекаемого Иисусом в 13 главе Евангелия от Марка, и введённое этим образом христианское историческое измерение охватывается художественным временем произведения Гончарова. Эсхатологические предчувствия обломовцев неслучайны. Идиллическое обломовское состояние жизни, увиденное во сне и отнесённое к детству героя, определяется в романе как безвозвратное прошлое. В четвёртой части идиллия на Выборгской стороне дана, вопервых, под знаком заката (болезнь и смерть героя), а во-вторых – как изолированный островок, куда вести из окружающего мира доходят в виде знаков непонятного языка: 99 «Вот вчера у Алексея Спиридоныча сын, студент, читал вслух… – Что ж он читал? – Про англичан, что они ружья да пороху кому-то привезли. Алексей Спиридоныч сказали, что война будет. – Кому же они привезли? – В Испанию или в Индию – не помню, только посланник был очень недоволен. – Какой же посланник? – Вот уж это забыл! – сказал Алексеев, поднимая нос к потолку и стараясь вспомнить. – С кем война-то? – С турецким пашой, кажется. – Ну, что ещё нового в политике? – спросил, помолчав, Илья Ильич. – Да пишут, что земной шар всё охлаждается: когда-нибудь замёрзнет весь. – Разве это политика? – сказал Обломов. Алексеев оторопел. – Дмитрий Алексеич сначала упомянули политику, – оправдывался он, – а потом всё сподряд читали и не сказали, когда она кончится. Я знаю, что уж это литература пошла” (С. 371 указ. изд.). Отметим в этом диалоге, во-первых, отчуждённость героев от смысла происходящего в «большом мире» («в людях», как выражается Илья Ильич) и, во-вторых, то, что содержание новостей, передаваемых Алексеевым, перекликается с реминисценцией из Евангелия в IX главе первой части романа: современные политические распри как раз показывают сбывшимся пророчество о восстании «народа на народ и царства на царство», а теория охлаждения Земли, поддерживая тот же эсхатологический смысл, соотносится с началом романа, где лежащий на диване Обломов говорит всем посетителям: «Не подходите, не подходите: вы с холода!» 4. «Это слово ( «обломовщина» – Л. Ф.) снилось ему ночью, написанное огнём на стенах, как Бальтазару на пиру». (Ч. 2, гл. V. С. 146). «И вот что начертано: МЕНЕ, МЕНЕ, ТЕКЕЛ, УПАРСИН…Вот и значение слов: МЕНЕ – исчислил Бог царство твоё и положил конец ему; ТЕКЕЛ – ты взвешен на весах и найден очень лёгким; ПЕРЕС – разделено царство твоё и дано мидянам и персам» (Даниил. 5, 25–28). Слово «обломовщина», принадлежащее Штольцу, объективирует Обломова, выносит за скобки его личность, сводя героя к типичному социальному явлению. (Это было самым важным аспектом романа для Добролюбова). Именно такое страшное овеществление своей личности испытывает Валтасар, увидевший на стене своего дворца слова, подводящие итог его «исчисленной», «взвешенной» и безнадёжной жизни. 100 5. «… и в любви нет покоя, и она всё меняется, всё движется куда-то вперёд, вперёд… «как вся жизнь», говорил Штольц. И не родился ещё Иисус Навин, который бы сказал ей: «Стой и не движись!»…». (Ч. 2, гл. Х. С. 207). «Иисус воззвал к Господу… и сказал пред израильтянами: стой, солнце, над Гаваоном, и луна, над долиною Аиалонскою! И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим» (Иисус Навин. 10, 12-13). В эпизоде из ветхозаветной книги, упомянутом в романе, Бог по просьбе Иисуса Навина останавливает солнце и луну, «доколе народ мстил врагам своим». Недолгая остановка небесных светил нужна израильтянам для завершения победы. Таким образом, Иисус Навин вовсе не ищет покоя, о котором тоскует Обломов: во время остановки солнца и луны идёт битва. Поэтому в мире романа Гончарова это желание остановки солнца имеет совершенно другое, более глобальное, значение – остановки самого времени. С образом главного героя неразрывно связана категория покоя. Само появление Обломова в мире произведения в лежачей позе является его рекомендацией: «Лежанье у Ильи Ильича не было ни необходимостью, как у больного или как у человека, который хочет спать, ни случайностью, как у того, кто устал, ни наслаждением, как у лентяя: это было его нормальным состоянием» (С. 8 указ. изд.). Сюжет романа представляет собой ряд событий, нарушающих, а затем восстанавливающих субстанциональное для Обломова состояние покоя (идиллия на Выборгской стороне, данная в IX главе; описание могилы в X главе четвёртой части). Желание остановить прекрасное мгновенье относится поэтому не только к эпизоду взаимоотношений Обломова с Ольгой Ильинской, но к самой сути характера героя. 6. «…всё, что скоплено было во всех углах, на всех полках этого маленького ковчега домашней жизни». (Ч. 4, гл. IX. С. 364). «И сказал Господь Ною: войди ты и всё семейство твоё в ковчег; ибо тебя увидел Я праведным предо Мною в роде сём» (Бытие. 7, 1). 101 В этом сравнении идиллии на Выборгской стороне с ковчегом важно отметить несколько моментов. Во-первых, момент изолированности изображаемого счастливого состояния. В той же IX главе говорится о «золотой рамке», в которой жил Обломов, и о том, что удалилось «всё враждебное из жизни Ильи Ильича» (С. 366). С последним связан ещё один существенный момент сравнения Обломов – Ной: это противопоставление доброты («голубиной нежности») героя и окружающего злого мира, как и в легенде о потопе, который по воле Бога губит неправедный мир и в котором спасается лишь праведник Ной. Образ Ноева ковчега можно разглядеть и в отзыве Штольца об Обломове: «…Ни одной фальшивой ноты не издало его сердце, не пристало к нему грязи. Не обольстит его никакая нарядная ложь, и ничто не совлечёт на фальшивый путь; пусть волнуется около него целый океан дряни, зла, пусть весь мир отравится ядом и пойдёт навыворот – никогда Обломов не поклонится идолу лжи, в душе его всегда будет чисто, светло, честно…» (С. 362; курсив мой. – Л. Ф.). Следующий важный момент обнаруживается в понятии «дом», обозначающем оплот покоя и территорию любви. Здесь существенно указание на малость и хрупкость «домашней жизни» в мире романа. В этой же IX главе четвёртой части идиллия на Выборгской стороне сравнивается с мышиной норкой (причём в связи с болезнью Обломова). Дом – ковчег в океане бездомности. Понятие «дом» совершенно неприменимо к Штольцу, для которого жизнь, как и для Ольги Ильинской, – это путь. Не случайно в романе Ольга Ильинская показана не столько как жена, сколько как спутница Штольца. 7. «Грезится ему, что он достиг той обетованной земли, где текут реки мёду и молока, где едят незаработанный хлеб…». (Ч. 4, гл. IX. С. 372). «И сказал Господь: Я увидел страдание народа Моего в Египте…и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течёт молоко и мёд…» (Исход. 3, 7–8). Выражение «незаработанный хлеб» связывает легенду Исхода с легендой Бытия – обещанную землю с утраченным раем. Перекличке 102 этих библейских образов соответствует сопряжение идиллии на Выборгской стороне и детства героя в Обломовке: «Его осеняет какая-то, бывшая уже где-то тишина… Настоящее и прошлое слились и перемешались…» (С. 372 указ. изд.). Слова из книги «Исход», с одной стороны, напоминают о блаженном обретении народом Израиля обещанной земли и о предшествующих мучениях египетского плена и бездомного существования. С другой стороны, чрезвычайно существенно то, что счастливое состояние покоя дано в романе как исходное, отнесено в прошлое, в беззаботное детство. Недаром библейское выражение соседствует со сказочными образами. Проекция библейской истории на героя романа Гончарова подчёркивает значимость для художественного смысла произведения понятий: дом – дорога; обетованная земля – утраченный рай; блаженный покой – мучительные волнения; сон (грёза) – действительность. Нетрудно заметить в этом схему сюжета романа «Обломов». Обычный пункт диалога текстов – эпиграф. Приведём в качестве примера эпиграф из повести «Гробовщик»: Не зрим ли каждый день гробов, Седин дряхлеющей вселенной? Державин. Название повести переносит возвышенное патетическое мироощущение слов Державина в бытовой план. Но дело не только в разнице масштабов. В эпиграфе жизнь воспринимается с точки зрения смерти – как умирание. В самой же повести, герой которой радуется, что страх, им пережитый, оказался сном, напротив, торжествует точка зрения жизни. Однако важно не только содержание приведённых стихов, но и произведение, откуда они взяты, – ода «Водопад». Это мысли старого воина, который засыпает и, подобно персонажу повести Пушкина, видит сон, где сбываются его мечты. Правда, это мечты возвышенного героя (героя в изначальном смысле этого слова), а не 103 озабоченного своей профессиональной выгодой гробовщика, ожидающего смерти купчихи Трюхиной. Но общее заключается в том, что герой Державина приходит к мысли о бренности славы, оказываясь, таким образом, шире своей роли храбреца, а персонаж Пушкина обнаруживает в финале повести внепрофессиональную радость, оказываясь тоже несводимым к своему мрачному ремеслу. Персонаж рассказа Чехова «Ночь на кладбище» начинает свою историю следующим признанием: «Встречал я Новый год у одного своего старинного приятеля и нализался, как сорок тысяч братьев». Последние слова обнаруживают интертекстуальный диалог. В пьесе «Гамлет» на похоронах Офелии, после того, как спрыгнувший в могилу Лаэрт выражает своё горе требованием, чтобы его похоронили вместе с сестрой, Гамлет произносит слова о своей любви к Офелии, большей, чем любовь сорока тысяч братьев. В диалоге двух текстов возникает параллель трагической и комической трактовок встречи со смертью. В шекспировской пьесе речь идёт о реальной смерти, чему соответствует серьёзный характер изображения встречи с ней. В рассказе Чехова, где подвыпивший герой принял монументную лавку за кладбище, смерть иллюзорна. Причём эта ошибка чеховского героя неслучайна. Новый год он воспринимает не как праздник жизни, а как праздник смерти: «По-моему, при встрече нового года нужно не радоваться, а страдать, плакать, покушаться на самоубийство. Не надо забывать, что чем новее год, тем ближе к смерти, тем обширнее плешь, извилистее морщины, старее жена, больше ребят, меньше денег…». Такая кладбищенская философия, представляющая жизнь как умирание и облекающая её в траурный наряд, закономерно приводит к тому, что герой принимает живых собаку и человека за «выходцев из могилы». Происходит смеховое отрезвление героя, весёлое наказание его страхом. Поэтому трагическое слово (и слово, заимствованное из трагедии) оказывается пародией. 104 Рассказ «Ночь на кладбище» перекликается с повестью Пушкина «Гробовщик», а также с его стихотворением «Вурдалак» из «Песен западных славян». Во всех трёх произведениях происходит обнаружение мнимого характера смерти, с которой неслучайно встречается герой, и переход от страшного к смешному. Но нужно отметить существенное различие интертекстуальной связи рассказа с трагедией «Гамлет» и переклички с упомянутыми пушкинскими текстами. Учёт последних при интерпретации носит вполне факультативный характер. Однако «сорок тысяч братьев» никак не обойти: ведь на них указывает сам рассказ. Приведём первую строфу стихотворения Мандельштама «Концерт на вокзале»: Нельзя дышать, и твердь кишит червями, И ни одна звезда не говорит, Но видит Бог, есть музыка над нами, Дрожит вокзал от пенья аонид, И снова паровозными свистками Разорванный, скрипичный воздух слит (…) Первые строки перекликаются со стихотворением Лермонтова «Выхожу один я на дорогу…». Причём если у Лермонтова «звезда с звездою говорит», то у Мандельштама «ни одна звезда не говорит». В начале стихотворения отрицается возможность дышать (то есть сама жизнь); устойчивость («твердь») бытия; высокий смысл (разговор звёзд), а также красота (лермонтовский стих), которой противопоставлен разлагающийся, кишащий червями мир («твердь» здесь может быть определением и земли, и неба). «Музыка над нами» соединяет несколько значений: во-первых, это гармония космоса, пифагорейская музыка сфер; во-вторых, это вечность красоты в противовес временности смертной жизни (эти значения вытекают из предыдущих отрицаний, после которых идёт «но»); наконец, это реально слышимая музыка оркестра на вокзале. 105 Образ дороги лермонтовского стихотворения соединён у Мандельштама с техническими реалиями конца XIX века: это вокзал, паровозные свистки. В этом обнаруживается закономерность: если у Лермонтова стихотворение насыщено образами природы, космической и земной гармонии, с которой сливается человек, то у Мандельштама на первом плане артефакты. В самом названии его произведения соединены искусство и техника – образы активности человека. Если продолжить намеченное самим текстом сравнение, герой Лермонтова – одинокий путник («я»), герой Мандельштама – собирательный образ человека («мы»). Тем самым на первом плане у Мандельштама оказывается культурно-историческая тема. Аониды – античное собирательное имя муз. Присутствие их в стихотворении означает соединение классической древности и современности («Дрожит вокзал от пенья аонид»), что важно для художественной логики всей строфы. Если в начале строфы слово «дышать» означало «жить», то постепенно смысловой объём слова расширяется. Уже в связи со второй строкой, отрицающей уже не жизнь, а смысл, сливаются физический и идеальный аспекты дыхания (жизни). В конце же строфы напрямую речь идёт о смысловом («скрипичном») воздухе, восстанавливающем разрушенную гармонию, побеждающем разорванность мира. Диалог текстов выявляет как определённую их близость, так и несовпадения. В картине мира стихотворения Лермонтова гармония объединяет все участки пространства: космический и ближайший земной. У Мандельштама гармония – результат временной победы над дисгармонией, хаосом, разорванностью мира. Во второй строке отрицается смысл мира без участия человека, гармония природы без культуры (в плоскости последующего «но»). Отсюда проистекает отсутствие в мандельштамовском произведении образов природы самой по себе. 106 Однако общий пафос соединения полярностей в мире лермонтовского стихотворения, как это обосновал в его проницательном анализе Ю. М. Лотман (см.: Лотман Ю. М. Избр. статьи. Т. III. Таллинн, 1993. С. 21–23), присутствует и у Мандельштама. И сам диалог с произведением классической литературы означает незыблемость культурной традиции и неразрывную связь прошлого и настоящего. Наряду с могущими иметь место прямыми перекличками между текстами существует и другая их соотнесённость, не определяемая сознательным художественным заданием. Имеется в виду то сходство художественно изображённых вещей, ситуаций и героев, которое проистекает из трансисторического и всенационального единства человеческой жизни, из универсальной повторяемости и постоянства основных её элементов. Эти элементы можно вслед за К. Г. Юнгом назвать архетипами, вынеся за скобки психологическое содержание данного понятия. При этом на первый план выступает укоренённость любого художественного произведения в культурной традиции и – далее – в культовой – ритуально-мифологической – предыстории. О. М. Фрейденберг писала о «сетке категорий первобытного мышления», сквозь которую дана картина мира «во всех видах идеологии» (Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997. С. 229). Архаические слои семантики художественного произведения, «осевшие» символические смыслы во время чтения могут «реактивироваться» (термин Э. Гуссерля). Возможность такой реактивации зависит объективно от указанных типичных аспектов художественного образа человека и мира, а субъективно – от самого настроя читателя на этот символический универсализм. Причём такой настрой читателя не следует отождествлять с его историко-культурной осведомлённостью. В тех случаях, когда читательское восприятие не может уловить «выпавший в осадок» «реликтовый» смысл древнего текста, необходима посредническая археологическая работа по реконструкции и ре107 активации смысла, которую проделывает филолог, историк, в общем – специалист. Например, толкование В. Я. Проппом сказки о Несмеяне построено на выявлении ритуальной функции смеха, без знания которой сказка непонятна (См.: Пропп В. Я. Фольклор и действительность. М., 1976). Такая «расшифровка» и введение реликтового смысла в современный горизонт как научная процедура может послужить углублению культуры чтения. Однако само чтение как непосредственное восприятие «невооружённым глазом» всегда не палеонтологично, а органично. Оно исходит из вечно насущных и поэтому никогда не устаревающих первообразов, прафеноменов (Гёте) жизни. Архетип – это образ, стоящий «в начале», но имеется в виду не хронологическое, а сущностное («субстанциальное») начало. Поэтому при любой степени осведомлённости читателя о ритуально- мифологической подоплёке художественных образов он должен быть во всяком случае готов к их открытости повторяющимся и универсальным аспектам человеческого существования. Такая открытость художественного образа порождает другого типа внешние связи. Речь идёт не о прямой и непосредственной перекличке текстов, а об их архетипическом родстве, о том, что они могут восходить к одному архетипу, ничего «не зная» друг о друге. Например, ситуация конца света имеется в различных мифах (германских, греческих, библейских и других). Но к ней восходят и многие образы искусства (часто при посредничестве мифологии): тема страшного суда в европейской живописи, картина К. Брюллова «Последний день Помпеи», фильм Джеймса Камерона «Титаник» вместе с самим жанром фильма-катастрофы. В литературе архетип конца света реализовался в той или иной степени в романе «Бесы» Достоевского, в гибели Макондо романа Г. Г. Маркеса «Сто лет одиночества», в погружении булгаковского Ершалаима во тьму, в повести А. Платонова «Мусорный ветер» и т.д. 108 Архетип губительного соблазна можно увидеть в мифических сиренах, в так называемом «готическом» романе, в пьесе Пушкина «Каменный гость», в героине повести Лермонтова «Тамань», в повести Гоголя «Портрет», в романе Набокова «Камера обскура» и многом другом. Архетип испытания верности обнаруживается в средневековом рыцарском романе, в «Одиссее» Гомера, в драме Клейста «Кетхен из Гейльброна», в фигуре Кента из шекспировского «Короля Лира», в образе Сольвейг Ибсена, в повести Андреева «Жизнь Василия Фивейского» и т. д. Можно говорить об архетипе бездомного сироты. К нему восходят Золушка, диккенсовский Оливер Твист, Нелли из «Униженных и оскорблённых» Достоевского, Ванька Жуков, герои многочисленных книг и фильмов о «беспризорниках» и др. Следующий пример архетипа: побег как освобождение: замужество Веры Павловны из романа «Что делать?» Чернышевского, «Хижина дяди Тома», поэма «Мцыри», «Слово о полку Игореве», «Кирджали» Пушкина, чеховский рассказ «Невеста» и т. д. Архетип таинственного незнакомца: капитан Немо Ж. Верна, чудище из сказки С. Т. Аксакова «Аленький цветочек», двойник Вильяма Вильсона Э. По, Воланд М. Булгакова, господин в сером рединготе повести Шамиссо «Удивительная история Петера Шлемиля», Чичиков из «Мёртвых душ». Архетип клада: мифические сокровища, охраняемые драконом, которого убивает Зигфрид, «Золотой жук» Э. По, гоголевский «Вечер накануне Ивана Купала», романы «Копи царя Соломона», «Остров сокровищ», «Граф Монте-Кристо» (в романе Дюма сходятся три из последних названных архетипов), «Двенадцать стульев», рассказ «Счастье» Чехова и др. 109 Утраченные иллюзии: «Дон Кихот», «Мадам Бовари», «Горе от ума», «Обыкновенная история», «Смерть Ивана Ильича», рассказ «В ссылке» Чехова, горьковская пьеса «На дне», и т. д. Архетип мести: «Орестея», «Гамлет», «Дубровский», рассказ «Эмма Цунц» Борхеса, гоголевская повесть «Страшная месть» и др. Это всего несколько примеров архетипов, которые взяты совершенно случайно и лишь как иллюстрации. В них нет претензии на какую бы то ни было классификацию, к самой возможности которой в данном случае мы относимся скептически. Но нам важно было лишь показать определённый угол зрения, схватывающий художественный образ в аспекте его типичности, универсальности, инвариантности. Обратимся непосредственно к археологическому истолкованию художественных текстов. Интерпретация М. М. Бахтиным романа «Гаргантюа и Пантагрюэль» по сути дела представляет собой выявление в произведении древней по своему происхождению смысловой структуры символических карнавальных форм, забытой, по мнению учёного, в ходе исторического процесса «разложения» ритуального смеха. Исследование М. М. Бахтина – образец археологического толкования. Ю. М. Лотман, говоря о типологических особенностях романа XIX века, отмечает «глубинное родство романа с архаичными формами фольклорно-мифологических сюжетов» (Лотман Ю. М. Избр. статьи. Т. III. Таллинн, 1993. С. 95). Здесь речь идёт и о «сюжетных архетипах» (С. 97), и о персонажах-архетипах («разбойник», «спаситель» и т. д.). Пушкинский текст «Повестей Белкина» сам указывает на евангельскую притчу о блудном сыне. Налицо интертекстуальный диалог. Учёт этой внешней связи обогащает понимание повестей. Но есть ещё более древний («реликтовый») смысловой слой, связанный с «ритуально-мифологическим подтекстом произведения», на который указал 110 В. И. Тюпа, подробно исследовавший цикл «Повестей Белкина» как художественное единство (Тюпа В. И. Аналитика художественного. М., 2001. С. 138). Речь идёт об обряде инициации, то есть испытания, приводящего героя к переходу в новое качество. Выявление атрибутов этой обрядовой схемы в пушкинских повестях и есть реализация археологического подхода, который, наряду с другими, присутствует в указанной работе. Архетип преображающего испытания, в основе которого лежит структура обряда инициации, чрезвычайно продуктивен. Как писал Г. А. Левинтон, следы этого ритуала можно обнаружить «практически в любом сюжете, включающем момент «становления» героя…» (Мифы народов мира. Т. 1. М., 1987. С. 244). Именно к этому типу сюжета относится сюжет романа М. Твена «Принц и нищий». Герои его не просто сталкиваются с внезапной переменой жизненных обстоятельств. Это переворот жизни, перемещение на противоположный её полюс. Поэтому испытания, которым они подвергаются, носят характер символической смерти (как и бывает в ходе инициации). Очень важен юный возраст центральных персонажей и уход их отцов в ходе повествования: отец Эдуарда король Генрих VIII умирает, а Джон Кенти исчезает с шайкой разбойников. Сыновья как бы занимают место отцов. Сюжет романа есть поэтому сюжет повзросления, что вполне характерно для архетипа преображающего испытания. Как писал М. Элиаде, инициация «равнозначна становлению духовной зрелости» (Элиаде М. Мифы, сновидения, мистерии. М.–Киев, 1996. С. 229). Для принца Эдуарда пределом его злоключений является даже не угроза реальной гибели, а опасность позора, так как в позоре он окончательно потерял бы себя и своё королевское достоинство, от чего его спасает Майлс Гендон. Принц испытывает на себе самом суровое отношение государства к своим подданным. В финале романа он 111 обращается к одному из придворных, отстаивающему закон как не причиняющий никому «чрезмерных стеснений и мук»: «Что ты знаешь об угнетениях и муках? Об этом знаю я, знает мой народ, но не ты» (Пер. К. И. Чуковского и Н. К. Чуковского. М. Твен. Собр. соч. в 8 т. Т. 5. М., 1980. С. 189). Это знание (не теоретическое, а о-пытное, то есть испытанное) и есть «духовная зрелость», итог осуществлённой инициации. Перед Томом Кенти, когда он оказывается в роли принца, тоже существует опасность окончательно потерять себя. Его испытания носят не физический, а чисто духовный характер. И главное здесь не тяжёлое бремя ответственности, сопряжённое с ролью главы государства, а испытание совести. Как только Том Кенти начинает «входить во вкус» своего нового положения, он на какой-то момент перестаёт быть самим собой. Поэтому появление матери, узнавшей своего сына, является для него главным испытанием. Если бы с его уст сорвались слова, которые уже готовы были сорваться («Женщина, я не знаю тебя!»), то это означало бы гибель. Стыд, омрачивший событие готовящейся коронации и напомнивший Тому Кенти о самозванстве как «краденом величии» (С. 168 указ. изд.), оказывается спасительным, возвращающим героя к самому себе. Внешнее сходство главных персонажей, легко обеспечившее смену ими ролей, является препятствием для возвращения, для идентификации личности. Воспоминание о местонахождении государственной печати дано в романе именно как последнее испытание, заканчивающееся безошибочным различением подлинного владельца печати и того, кто использует её для щёлканья орехов. Успешно выдержанное испытание расставляет героев по своим местам (и здесь они заодно). То есть смысл испытания как символической смерти героя заключается в уходе и дальнейшем возвращении, но преображённым, повзрослевшим, что мы и видим в романе «Принц и нищий». 112 Нетрудно заметить близость этого сюжета притче о блудном сыне, который «был мёртв и ожил» (Лука. 15, 24). В рассказе Андрея Платонова «Родина электричества» ряд образов, относясь непосредственно к исторически конкретным событиям летней засухи 1921 года, восходят к общей трансисторической ситуации: (…) во всей природе пахло тленом и прахом, будто уже была отверзта голодная могила для народа (…); Из расщелин земли, пугаясь влаги, полезли ящерицы, пауки, сухие членистые черви неизвестной породы и твёрдые мелкие насекомые, точно сделанные из меди, – они, следовательно, и должны наследовать землю, если тучи не соберутся в атмосфере, а люди вымрут. (…) жилища обветшали и уже загнивали нижними венцами срубов в земле. Военный империализм, прошедший по всему миру, сделал всё видимое (…) похожим на погост. (…) все растения были в изнеможении, они покрылись смертельной пылью знойных вихрей и клонились вниз, чтобы вернуться обратно в темноту праха и сжаться в своё первоначальное семя, уже мёртвое теперь. Солнце зашло в раскалённом свирепом пространстве, а внизу на земле наступила тьма и остались озабоченные люди с трудным чувтвом в сердце, поникшие в своих избах без всякой защиты от беды и смерти. Приведённые фрагменты, связанные в первую очередь с конкретной исторической реальностью послевоенной разрухи, обнаруживают архетип конца света. Сооружение водокачки, являющееся миссией героя, заканчивается в рассказе к концу шестого дня, так же, как и сотворение мира в книге «Бытие». Это означает присутствие, наряду с эсхатологией, космогонии, вступающих друг с другом в спор. Причём в сотворении мира место Бога занимает человек: «Не мы создали божий мир несчастный, но мы его устроим до конца». Юный возраст героя, сообщение о том, что он студент, изучающий электротехнику, наказ председателя губисполкома («Ступай туда…и помоги им, ты долго ел наш хлеб, когда учился») – всё это 113 указывает на архетип испытания, также реализующийся в рассказе. Герой, являющийся ещё и рассказчиком, оказывается в центре произведения, на самом острие спора смерти и жизни, гибели мира и его «устроения». От него зависит исход этого спора. Заснувшего рассказчика будит Степан Жаренов: «– Не время сна, не время спать, пора весь мир уж постигать и мёртвых с гроба поднимать! … Я в ужасе опомнился; поздняя жара солнца, как бред, стояла в природе». Здесь указанный спор жизни и смерти углубляется спором смысла («постигать») и «бреда», человека и природы. В финале рассказа возвращающийся домой герой дан как выдержавший испытание: «Я шёл один в тёмном поле, молодой, бедный и спокойный. Одна моя жизненная задача была исполнена». Как видим, общие архетипические схемы наполняются конкретным национально-историческим содержанием, а смысл подтекста охватывается контекстом художественного целого произведения. Рассмотрим стихотворение Заболоцкого «Начало зимы», в котором замерзание реки воспринимается как страшное зрелище её умирания: (…) Я вышел в поле. Острый, как металл, Мне зимний воздух сердце спеленал, Но я вздохнул и, разгибая спину, Легко сбежал с пригорка на равнину, Сбежал и вздрогнул: речки страшный лик Вдруг глянул на меня и в сердце мне проник (…). Параллельно описанию замерзания реки развёртывается мысль героя о смерти. Бросается в глаза контраст между «легко сбежал с пригорка на равнину» и последующим «Сбежал и вздрогнул…». Состояние, предшествующее встрече со зрелищем замерзания реки, связано с лёгкостью бега, обозначающей чувство беззаботности, молодости и свободы. Слово «вздрогнул» указывает на резкую границу этого состояния и сменяющего его страха, когда «речки страшный лик» проникает «в 114 сердце». Выражение «легко сбежал» следует сравнить с финальным «ушёл», что тоже выявляет смену состояний героя до и после встречи с замерзающей рекой. Чувство страха вначале дано как безотчётное и приходящее внезапно, из-за чего герой вздрагивает (непроизвольная телесная реакция). Но постепенно это углубляется: «я наблюдал…»; «в её сознанье, кажется, проник»; «кажется, прочёл»; «уловил». И, наконец, в предпоследней строфе речь идёт о понимании: «взгляд реки» сравнивается с предсмертным взглядом человека. Сравнивая беззаботность героя в начале («легко сбежал») с бременем знания, с которым он «ушёл», можно говорить о присутствии в стихотворении Заболоцкого архетипа преображающего испытания, инициации. Речь идёт о становлении героя причастным мысли о смерти, что и является межевым знаком перехода от юности к зрелости. В такой плоскости название произведения и первые два стиха следует понимать не только как приход нового времени года природы, но и как новый этап человеческой жизни – время отрезвления, прояснения печальной истины: Зимы холодное и ясное начало Сегодня в дверь мою три раза простучало (…). Можно говорить об архетипе спасительного жертвоприношения, например, залегающем на глубине рассказа Бунина «Лапти». В этом произведении жизнь больного ребёнка оказывается на границе со смертью. Такое объективное напряжение художественного мира персонифицируется в двух различных позициях взрослых персонажей. Изображение матери мальчика связывается с чувством страха, беспомощности и безнадёжности. Это дано на фоне «холодного» дома, где стоит «бледный сумрак», то есть на фоне проникновения снаружи тьмы и холода и победы стихийных, слепых сил природы («непроглядной вьюги») над человеком. Фигура старика Нефёда олицетворяет 115 надежду. Можно обратить внимание на то, как в его изображении акцентируется победа тепла над холодом: он заходит в дом с соломой «на топку», «отдуваясь, утираясь». Но, что ещё важнее, эта внешняя характеристика дополняется внутренней: « – Ну что, барыня, как? Не полегчало? – Куда там, Нефёдушка! Верно и не выживет!..» Вопрос Нефёда выражает надежду в противовес отчаянию матери. Однако и в его решении идти за красными лаптями, о которых бредит мальчик, присутствует желание опереться на внутренние, душевные ресурсы человека: «Значит, надо добывать. Значит, душа желает». Для понимания рассказа Бунина, как это часто бывает, чрезвычайно важно его название. Образ лаптей прежде всего обнаруживает грёзу больного ребёнка о лете (лапти – летняя обувь) и о выздоровлении (с обувью вообще ассоциируется активное движение, дорога, вертикальная поза человека). Кроме того, красный цвет лаптей составляет оппозицию господствующей белизне зимнего времени мира произведения. Белый цвет соединяется здесь у Бунина со смертью (замёрзший Нефёд). Но ещё дальше в толковании этого образа красных лаптей можно продвинуться, если соотнести его с валенками Нефёда. В рассказе говорится о том, что они «разбитые» (то есть старые) и «все в снегу» (то есть белые), в то время как за пазухой у замёрзшего героя находятся «новенькие ребячьи лапти» и пузырёк с красной краской. Таким образом, «разбитые» валенки старика и «новенькие» лапти для ребёнка означают в рассказе Бунина конец и начало жизненной дороги. Однако не менее важен и спасительный характер смерти героя в произведении. Правда, о выздоровлении мальчика ничего не говорится, но то, что смысл гибели Нефёда (добытые им лапти) относится к финалу, к последним словам рассказа, открывает этот финал надежде. Подтверждает такую трактовку и введённый эпизод спасения «новосельских мужиков», в котором тоже спорят отчаяние и надежда: герои, сбившиеся с дороги, «потонули» в снегу и «совсем было 116 отчаялись, решили пропадать, как вдруг увидали торчащие из снега чьи-то ноги в валенках …». Мужикам тело Нефёда показывает, что «жильё» рядом. Не случайно они «новосельские». Это значимое название из того же образного ряда старого и нового. Итак, смерть в произведении Бунина оказывается образом спасительной жертвы. Смерть старого является поддерживающей жизнь нового. О глубоком смысле древнего обряда жертвы, актуальном для рассматриваемого рассказа, писал М. Элиаде: «Смерть, сама по себе, не является определённым концом или абсолютным уничтожением, как иногда считается в современном мире. Смерть приравнивается к семени, которое засеивается в чрево Матери-Земли, чтобы дать рождение новому растению» (Элиаде М. Мифы, сновидения, мистерии. М.–Киев, 1996. С. 219). У Бунина здесь, конечно, отсутствует буквальное новое рождение, однако надежда на выздоровление ребёнка, как и спасение заблудившихся мужиков, здесь символически эквивалентны рождению. Этот древний смысл не лежит на поверхности произведения ХХ века, поэтому обнаружение его и можно связать с археологическим усилием понимания. Приоритет внутренних связей текста над внешними определяется необходимостью селекции последних. Акцент на интертекстуальных связях или на археологическом подтексте делает подчас беспомощным толкователя: смысл данного текста растворяется. Граница же толкования задана границей произведения как основанием для самого различения внешнего и внутреннего. Практически это означает, что в безбрежности интертекстуальных или археологических смыслов отбирается лишь текстом заданное. Произведение – место встречи и само событие встречи «внутренних» и «внешних» значений, но не любых, а лишь тех, которые способны встретиться. Любая ассоциация, выводящая за пределы читаемого произведения и его внут- 117 ренних связей, легитимна лишь в той мере, в какой она не противоречит последним. 5. ЧЕЛОВЕК ЕСТЬ МЕРА ВСЕХ ВЕЩЕЙ Подруга думы праздной, Чернильница моя … А. Пушкин Книга – это есть мир, видимый через человека. И. Бабель То самое единство бытия и смысла в художественном мире, которое не позволяет оторвать смысл от конкретных его образов, определяет следующую особенность произведения художественной литературы, которую невозможно обойти при чтении, – очеловеченность всех его предметов. Не имеет значения, пейзаж перед нами или натюрморт, нечто такое, что не обнаруживает непосредственного присутствия человека, – в любом случае, хотя бы как-то опосредованно, искусство говорит человеку именно о нём самом. Это положение классической (гегелевской) эстетики читатель может не знать, но от художественного произведения он безотчётно ждёт прежде всего того, что имеет отношение к его собственной жизни. Очень точно выразил эту мысль Ф. Ницше: «В сущности, человек смотрится в вещи, он считает прекрасным всё, что отражает ему его образ» (Ницше Ф. Соч. в 2х т. Т. 2. М., 1990. С. 603). Аристотель, по-видимому, справедливо порицал антропоцентризм Протагора в своей метафизике. Однако в эстетике тезис софиста, ставший названием этой главы, всецело работает. В стихотворении Пушкина «Анчар» пустыня «скупа» на какиелибо проявления жизни; как раз поэтому она «пустыня», но также ещё и «чахлая». (Ср.: «Там царь Кащей над златом чахнет…»). Очеловеченность анчара, сравниваемого с грозным часовым, придаёт 118 антропоморфный характер всей охраняемой – заповедной – зоне смерти. Это важно для понимания всего дальнейшего. Что означает «гнев» природы, о котором речь идёт во II строфе? Если не искать объяснений по ту сторону текста стихотворения, то сформулированный вопрос приводит нас к последним четырём строфам (VI–IX). Гнев природы предполагает некое преступление её законов, то есть обращает читателя «Анчара» к человеку. В связи с этим оказывается важным образ границы, появляющийся уже вместе с «грозным часовым» и развёртывающийся в последующем описании зоны смерти (II–V строфы). Преступлением природной границы жизни и смерти оказывается сам социальный – вертикально устроенный – мир. Первые пять строф стихотворения составляет описание «древа смерти», а следующие четыре – отношение человека к человеку («Но человека человек…»). Таким образом, сама композиция подсказывает художественное уравнение: анчар = князь. Князь, рассылающий гибель вокруг, как бы желает остаться, как анчар, «один во всей вселенной». Эта проекция образует символ, в структуре которого различные аспекты взаимно освещают друг друга: природный «гнев» и образ «непобедимого владыки», близость к которому так же смертоносна, как и близость к древу яда. Стихотворение Бальмонта «Дождь» начинается с описания, в котором, на первый взгляд, не выявляется присутствия человека: В углу шуршали мыши, Весь дом застыл во сне. Шёл дождь – и капли с крыши Стекали по стене (…) Однако человеческая мера обнаруживается здесь как раз в образе дома. Человек присутствует в мире произведения незримо, в пассивном (спящем, «застывшем») состоянии, если не считать самого 119 звучащего слова и стихового строя, трансцендентных изображаемому «застывшему» дому. Сон в приведённой строфе подобен смерти. Это немой, молчащий мир, а шуршание мышей лишь поэтому и слышно: мыши хозяйничают в спящем доме. Здесь господствует природное время, как бы ставшее зримым в течении капель дождя. С пространственной же точки зрения акцентируется область низа, ассоциирующаяся со сном, пассивностью, смертью. Дом как человекоразмерная топологическая «рамка» изображаемого мира соответствует человеческому слову звучащего текста. Рассмотрим знаменитое в истории японской поэзии произведение Басё: На голой ветке Ворон сидит одиноко. Осенний вечер. Легко принять это за простое описание того, что поэт однажды увидел в жизни, хотя известно, что автор этого стихотворения работал над ним в течение нескольких лет. Перед нами не действительная реальность, а художественная. Следовательно, во-первых, каждая её деталь имеет смысл, а во-вторых – этот смысл выявляется только путём установления взаимодействия деталей. Ясно, что голая ветка ассоциируется с названной в тексте осенью как временем увядания листьев дерева. Далее, можно обнаружить взаимодействие понятий «осень» и «вечер»: как осень предшествует зимнему засыпанию природы, так и вечер – это предпоследнее время суточного цикла, предваряющее погружение мира в ночную темноту. Ворон кажется случайной деталью пейзажа лишь на первый взгляд. Какие внешние ассоциации возникают с образом ворона? Чёрный цвет, старость (вороны живут 300 лет), мудрость, знак смерти. По поводу последнего можно вспомнить чтонибудь вроде русской песни или стихотворения Э. По. Конечно, из120 вестно, что Басё не слышал ни того, ни другого. Но когда мы читаем его стихотворение на русском языке – включаются уже помимо авторской воли русские ассоциации. Однако законны ли они? Ответ на этот вопрос находится, как уже говорилось, в плоскости определения взаимодействия внешних ассоциаций с внутренними. В самом произведении чёрный цвет ворона, а также мотивы старости и смерти можно связать с темнотой осеннего вечера. Осень жизни – обычная метафора старости, а вечернее погружение мира в темноту сравнивается с наступлением смерти. К этому же примыкает мотив одиночества. Мудрость ворона может ассоциироваться с уходом цветущей юности, весны жизни и с приходом осознания печальной неприкрашенной («голой») истины. Но все намеченные связи художественного текста «работают», как это видно из предпринятого толкования, лишь при условии их проекции на человеческую жизнь. Присутствие человека обнаруживается здесь лишь в самом поэтическом слове и взгляде, который собирает всё увиденное в целостную картину, выражающую описанное мироощущение. Понимание художественной книги, таким образом, осуществляется сугубо в категориях человеческой жизни, которая тем самым оказывается необходимой смысловой мерой. Здесь мы возвращаемся к положению о неотделимости художественного образа от смысла, понимая это теперь более ясно: именно образ человека представляет собой то единство бытия и смысла, которое присуще художественному произведению. Более конкретно, это означает следующее. Художественное произведение – зона одушевления неодушевлённого, а во-вторых – воплощения духовного, то есть инкарнации. Человек как образ литературы есть телесно-духовная целостность, что означает одновременную освещённость изнутри (как дух) и извне (как плоть). Вот поэтому 121 художественное произведение – это не голая мысль, но и не голое бытие. Это говорящее бытие (Бахтин). В искусстве не может быть приоритета сущности над существованием и наоборот. Здесь необходимо сослаться на Шеллинга, автора «Философии искусства»: «Нас, безусловно, не удовлетворяет голое бытие, лишённое значения, примером чего может служить голый образ, но в такой же мере нас не удовлетворяет голое значение; мы желаем, чтобы предмет абсолютного художественного изображения был столь же конкретным и подобным лишь себе, как образ, и всё же столь же обобщённым и осмысленным, как понятие» (Шеллинг Ф. В. Философия искусства. М., 1966. С. 111). Приведём несколько фрагментов повести Гоголя «Вий»: а) «Один раз во время подобного странствования три бурсака своротили с большой дороги в сторону…»; б) «Был уже вечер, когда они своротили с большой дороги»; в) «Философ попробовал перекликнуться, но голос его совершенно заглох по сторонам и не встретил никакого ответа». Сворачивание в сторону с большой дороги предшествует дальнейшему появлению нечистой силы, приводящей в конце концов героя к гибели. Поэтому «большая дорога» здесь – безопасный, надёжный и прямой путь человека, принадлежащего христианскому единству, а отклонение в сторону воплощает начало отрыва от этого единства. Требование ведьмы, чтобы бурсаки спали в разных местах, имеет тот же смысл: разъединить – сделать уязвимым. «Сторона» означает потерянность человека – не просто появление странных существ и событий, а странность самого героя, чуждость его самому себе. Состояние одиночества выражается в безответности глохнущего «по сторонам» голоса. Глухота по-сторон-него мира – знак его холодности и бездушия, чуждых для встречи и отклика. 122 Закономерно то, что сворачивание в сторону сопровождается наступлением ночи – времени активизации зла. Темнота – это символическая территория блуждания, угасания света истины. Фрагменты бытия наделены «человекоразмерным» внутренним смыслом, и наоборот – душевные опасности, предстоящие герою, намечаются в зримых образах «внешней» реальности. Гроб панночки называется «тесным домом». В этом выражении героиня незаметно оживает замертво. Ведь именно живому человеку, обитателю дома, может быть тесно. Мы видим сущностную неуспокоенность покойницы, которая проявится позже, когда героиня покинет свой «тесный дом». Приведённый перифраз повествования нарушает обычную границу жизни и смерти и заставляет самого читателя вслед за героем «своротить» с большой дороги, заглянуть по ту сторону, в область странного и страшного (в повести это синонимы). Церковь, в которой Хома Брут должен исполнить свою миссию, производит странное впечатление: «Церковь деревянная, почерневшая, убранная зелёным мохом (...), уныло стояла почти на краю села. Заметно было, что в ней давно уже не отправлялось никакого служения». Слово «уныло» очеловечивает церковь, то есть делает её не просто местом богослужения, а самим религиозным внутренним состоянием, которое, однако, в данном случае подавлено, побеждено. Уныние здесь – синоним отчаяния. Образ заброшенной церкви выражает душевное состояние потерянности, отторженности от жизненного смысла. Важно обратить внимание на положение церкви «почти на краю села», то есть в стороне. Чёрный же её цвет знаменует победу сил зла. Можно сказать, что церковь репрезентирует случившееся с героем (особенно если вспомнить описание её в финале повести). Перед смертью философа предостерегает некий «внутренний голос». Для понимания этого предостережения мы должны вспомнить обстоятельства, в которых философ его слышит. Хома Брут находится 123 внутри символического круга веры, который его оберегает от атаки зла. Предостерегающий внутренний голос поэтому («Не гляди!») хочет удержать героя в этой зоне неуязвимости. Получается, что философ гибнет не из-за того, что зло проникло внутрь очерченного круга, а из-за того, что герой сам этот круг покинул: «Не вытерпел он и глянул». Это событие ухода от внутреннего зова к по-ту-сторон-нему миру совершенно аналогично сворачиванию с большой дороги в сторону в начале повести. Мы видим запечатление внутренней неустойчивости души человека в телесном плане изображаемого, благодаря чему детализированная реальность представленной жизни оказывается не чем иным, как осуществлением, или инкарнацией, трагического смысла повести «Вий». Стихотворение А. К. Толстого построено на параллелизме я = море: Не верь мне, друг, когда, в избытке горя, Я говорю, что разлюбил тебя, В отлива час не верь измене моря, Оно к земле воротится, любя. Уж я тоскую, прежней страсти полный, Мою свободу вновь тебе отдам, И уж бегут с обратным шумом волны Издалека к любимым берегам! При такого рода художественных уравнениях происходит наделение какого-то общего качества (например, изменчивости чувств) определёнными – зримыми – чертами. Читатель видит эти перемены чувств сквозь морские приливы и отливы (как раз благодаря им). И наоборот: море, очеловечиваясь, одушевляет весь мир, где властвуют силы любви, побеждающие силы «измены». Текучесть, изменчивость состояний и, с другой стороны, верность и постоянство души воплощаются в стихотворении в образах 124 волнующейся стихии моря и устойчивости земли, «любимых берегов». Душевные раздор и примирение (как чередование приливов и отливов) при этом приобретают характер ритма самого бытия, психология становится космологией. Рассмотрим стихотворение А. Фета: Я тебе ничего не скажу, И тебя не встревожу ничуть, И о том, что я молча твержу, Не решусь ни за что намекнуть. Целый день спят ночные цветы, Но лишь солнце за рощу зайдёт, Раскрываются тихо листы, И я слышу, как сердце цветёт. И в больную, усталую грудь Веет влагой ночной… я дрожу, Я тебя не встревожу ничуть, Я тебе ничего не скажу. Сразу необходимо обратить внимание на внутреннюю противоречивость первой строки произведения. Обещание молчания здесь отчасти нарушается им самим. Налицо словесно оформленное молчание или бессловесное слово, которое затем появляется в третьем стихе: «молча твержу». Мир стихотворения ночной, что прежде всего соответствует установке на молчание, тайну, тишину. Цветы, спящие днём, ночью тихо раскрываются. Однако это не означает исчезновения тайны, которая продолжает оставаться собой – таиться. Мы можем лишь почувствовать молчаливое присутствие красоты в этом раскрывании листов. Закрытость их днём указывает на неподходящее для красоты время бодрствования чего-то другого – громкого, обыденного как антонима тайны. Уже во втором стихе называется причина молчания: слово несёт тревогу, нарушает некий покой. Беспокойство прячется как личная тайна (первая строфа). Установка героя – это нежелание соскользнуть 125 в «громкое» измерение дневного (обыденного) бытия, нежелание спугнуть тишину, в которой лишь и можно услышать, «как сердце цветёт». Отказ от слова есть здесь одновременно отказ от инициативы, от действия в пользу слушания самораскрытия мира, мира как покоя. «Встревожить», напротив, означает заставить что-то предпринимать. Подразумевается налагание бремени заботы, прогоняющей тихую красоту как самодостаточность, цельность бытия. Цветение сердца – это исполненность его красотой мира. Важно здесь понять назначение метафоры, то есть переноса характеристик внешнего мира («ночных цветов») на внутренние чувства. Происходит одновременно и очеловечивание цветов, и как бы «расчеловечивание» сердца. Это делается для стирания границы, разделяющей человека и мир, для уничтожения разницы того, что окружает человека, и того, что происходит внутри. Личная тайна, о которой речь идёт в первой строфе, - это, скорее всего, любовь, то, что хранит «я» к «ты». Образ цветения сердца подтверждает такое толкование. Однако третья строфа содержит образы болезни и усталости, указывающие на другую – печальную – тайну, могущую «встревожить» (дрожь здесь может одновременно означать и холод, и страх). Неоднозначность толкования оставляет ощущение неопределённости, неполноты откровенности тайны. По сути, мы имеем дело с неразличимостью откровения и утаивания, чем и является парадоксальное выражение «я тебе ничего не скажу», замыкающее стихотворение. Образ мира как приоткрывающейся и, одновременно, сохраняющейся тайны явлен в «молчаливом слове», в замыкании разомкнутых уст. Детали описываемого ночного состояния тишины природы создают не наличную и самодостаточную действительность, а мир, уви- 126 денный лишь благодаря особой смысловой установке лирического сознания – на отказ от активного вмешательства. С другой стороны, внутренний настрой на молчание становится зримым, осязаемым благодаря овнешнению, инкарнации в образах распускающейся несказанной красоты мира. Следующий пример очеловеченности художественных образов – произведение Ф. Сологуба: 1 Туман не редеет, Молочною мглою закутана даль, И на сердце веет Печаль. 3 Бледна и сурова, Столица гудит под туманною мглой, Как моря седого Прибой. 2 С заботой обычной, Суровой нуждою влекомый к труду, Дорогой привычной Иду. 4 Из тьмы вырастая, Мелькает и вновь уничтожиться в ней Торопится стая Теней. Лишённость зрительной перспективы в первых строках стихотворения передаёт отсутствие перспективы жизненной. Непроглядность мира есть знак его неприступности, вытекающая отсюда слабость человека и отторгнутость его от «дальнего» (метафизического) смысла. Эта неприступность «дали» и печальна. Печаль «на сердце» – единственное, что здесь выделяет человека из мира. Если в первой строфе акцент делается на недоступной «дали», на неизвестности, то во второй, наоборот, развёрнут «посюсторонний» доступный мир обычных забот. Как раз лишённость «дали» замыкает человека в мире стихотворения тесным кругом каждодневных, раз и навсегда определённых, повторяющихся занятий. Выражение «нуждою влекомый» указывает прежде всего на бедность, но имеет и более широкий смысл – зависимость, несвобода человека в мире, вынужденность его существования. «Привычная» дорога означает, с одной стороны, её знакомость, но также определённый автоматизм. На этой дороге не встретится ни- 127 чего нового, она не открывает, а закрывает и ограничивает, будучи направленной по кругу. Можно обратить внимание на повтор слова «суровая». Во втором четверостишии оно относится к «нужде», а в третьем – к «столице». Таким образом, суровость частной жизни отражает суровость общего городского уклада. Это не случайные незавидные обстоятельства, а универсальный закон жизнеустройства. Так же связывает общий и частный аспекты бытия образ тумана (ср. первую и третью строфы). «Суровость» Петербурга связана кроме всего прочего с тем, что это северная столица. «Бледность» здесь легко присоединяется к подобным цветовым определениям, но также важно учесть человекоразмерный характер изображения: это безжизненный цвет лиц петербуржцев и вообще городских жителей. Выражение «стая теней», во-первых, следует понимать буквально: это отражение уличной толчеи, зрительно точная деталь городского пейзажа. Однако принципиально то, что человек здесь дан именно как отражённая реальность, бесплотная тень. Можно увидеть интертекстуальную связь стихотворения Сологуба с седьмой книгой «Государства» Платона, где человек уподобляется узнику пещеры, принимающему тени за реальное бытие. Но платоновский миф преломляется в мрачном мире стихотворения. Последняя строфа представляет собой обобщённую картину человеческой жизни как бессмысленной, обозначая оба «тёмных» её предела – начала («вырастая») и конца («уничтожиться»). Такая человеческая мера, необходимая для понимания любого произведения, обнаруживает в данном случае печальную интонацию, названную раньше (см. первую строфу), в слове «торопится». Это печаль (а может быть, и горькая ирония) метафизической точки зрения на суету и мелочность каждодневных, «обычных» забот, результат которых – ничто. 128 То, что без учёта сформулированного герменевтического принципа очеловеченности художественных образов невозможно само истолкование, нагляднее всего выявляется как раз там, где образ человека не присутствует непосредственно. Например, интерпретация Г. Зиммелем руины (статья «Руина») осуществляется сугубо в гуманитарном контексте «противоположности между творением человека и действием природы» (Зиммель Г. Избранное. Т. 2. М., 1996. С. 228). При этом такое очеловечивание предмета как раз и придаёт интерпретации эстетический характер. Вспомним стихотворение С. Есенина: Не жалею, не зову, не плачу, Всё пройдёт, как с белых яблонь дым. Увяданья золотом охваченный, Я не буду больше молодым. Ты теперь не так уж будешь биться, Сердце, тронутое холодком, И страна берёзового ситца Не заманит шляться босиком. Дух бродяжий, ты всё реже, реже Расшевеливаешь пламень уст. О, моя утраченная свежесть, Буйство глаз и половодье чувств. Я теперь скупее стал в желаньях, Жизнь моя? иль ты приснилась мне? Словно я весенней гулкой ранью Проскакал на розовом коне. Все мы, все мы в этом мире тленны, Тихо льётся с клёнов листьев медь… Будь же ты вовек благословенно, Что пришло процвесть и умереть. В произведении с первой строфы неизбежность старости человека подчёркнута неотделимостью его от природы. Старость – это «увяданья золото», то есть осенние жёлтые листья, как в стихотворении Пушкина «природы увяданье» – «в багрец и золото одетые леса». Конечно, напрашивается, что золото увяданья применительно к старости человека – это его седина. Однако у слова «золото» есть и дру129 гое, в данном случае неочевидное, значение: сокровище, богатство. Этот смысл имеет отношение к теме скупости: «Я теперь скупее стал в желаньях...». Пора молодости сравнивается с порой цветения: «Всё пройдёт, как с белых яблонь дым...». Однако здесь важно ещё слово «дым» – синоним понятия «сон»: «...Жизнь моя? иль ты приснилась мне?» Это два близких определения мимолётности молодости, жизни, о чём речь идёт в последнем стихе: «...процвесть и умереть». «Сердце, тронутое холодком», – такой же человечески-природный образ-кентавр, как и предыдущие. Так можно сказать о замерзающей луже, например, или о ягодах рябины и тому подобном. Благодаря такой двуединой своей природе данный образ имеет физическое и духовное измерения. Это и физический холод осени, и хладнокровие, которое, в свою очередь, имеет как минимум два смысла, подобно следующим стихам: «И страна берёзового ситца / Не заманит шляться босиком». Это, вопервых, старческое ощущение холода, не дающее «шляться босиком», а во-вторых – скупость желаний, в отличие от бесшабашности и расточительности молодости, которая как раз «шляется босиком». «Страна берёзового ситца» – это, с одной стороны, буквально берёзовая роща. Но – с другой – «ситец» напоминает об обычном есенинском сравнении берёзы с женщиной. Женщина здесь как бы незримо присутствует вместе с темой ухода молодости, любви и жизни. Время жизни человека воплощается в природном годовом цикле: если старость связана с осенним «увяданья золотом», то молодость – с «половодьем чувств», с «весенней гулкой ранью». Последнее слово обнаруживает присутствие ещё и дневного цикла, а не только годового. Розовый цвет сам по себе может означать что угодно, но здесь он соединён с весенним утром. Поэтому в данном случае это цвет зари – восхода солнца и человеческой жизни. Всё стихотворение до двух 130 последних строчек как бы опровергает первый стих. В возгласе «О, моя утраченная свежесть...» можно увидеть как раз то, что отрицается в начале. Однако последние строчки, смыкаясь с первой, образуют круг, объединяющий циклическую жизнь человека и природы («процвесть и умереть») в мире данного произведения. По-видимому, отнюдь не отменяет универсальности обсуждаемого тезиса классической эстетики работа Ортеги-и-Гассета «Дегуманизация искусства». Новое искусство (ХХ века), по мнению испанского философа, обнаруживает тенденцию вытеснения привычного «человеческого» содержания, а также установку на условность, игру и иронию в противовес реалистической серьёзности старого искусства (ХIХ века). Соответственно перестраивается восприятие художественных произведений: вместо прежнего сопереживания герою налицо эстетическая дистанция. При этом тотальная дегуманизация, конечно, неосуществима, так как окончательный порыв с «живой» реальностью невозможен: немыслима «чистая», свободная от содержания форма. Черты нового искусства рассматриваются не как абсолютные характеристики, а как лишь тенденции (См.: Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства. М., 1991. С. 246). Предельная их реализация означала бы выход за пределы самого искусства. Ещё Ксенофан Колофонский критиковал Гомера и Гесиода за приписывание человеческих черт богам (См.: Фрагменты ранних греческих философов. М., 1989. С. 171). Симптоматично то, что здесь критика художественного антропоморфизма совпадает с критикой самого искусства с морально-религиозных позиций. Указывая на возможность художественных произведений без определённого героя, М. М. Бахтин совершенно справедливо писал о том, что любое эстетическое созерцание «заключает в себе тенденцию к герою, потенцию героя; в каждом эстетически воспринятом предме131 те как бы дремлет определённый человеческий образ, как в глыбе мрамора для скульптора» (Бахтин М. М. Собр. соч. Т. 1. М., 2003. С. 85–86). «Вочеловечение» М.М.Бахтин называет принципом художественного видения (Там же. С. 87). Рассмотрим миниатюру Бунина «Часовня». Летний жаркий день, в поле, за садом старой усадьбы, давно заброшенное кладбище, – бугры в высоких цветах и травах и одинокая, вся дико заросшая цветами и травами, крапивой и татарником, разрушающаяся кирпичная часовня. Дети из усадьбы, сидя под часовней на корточках, зоркими глазами заглядывают в узкое и длинное разбитое окно на уровне земли. Там ничего не видно, оттуда только холодно дует. Везде светло и жарко, а там темно и холодно: там, в железных ящиках, лежат какие-то дедушки и бабушки и ещё какой-то дядя, который сам себя застрелил. Всё это очень интересно и удивительно: у нас тут солнце, цветы, травы, мухи, шмели, бабочки, мы можем играть, бегать, нам жутко, но и весело сидеть на корточках, а они всегда лежат там, в темноте, как ночью, в толстых и холодных железных ящиках: дедушки и бабушки все старые, а дядя ещё молодой... – А зачем он себя застрелил? – Он был очень влюблён, а когда очень влюблён, всегда стреляют себя... В синем море неба островами стоят кое-где белые прекрасные облака, тёплый ветер с поля несёт сладкий запах цветущей ржи. И чем жарче и радостней печёт солнце, тем холоднее дует из тьмы, из окна. Если опираться на сформулированные уже аксиомы толкования, то, во-первых, неслучайность подробностей данного текста выявляется с помощью обнаружения их внутренних связей. Во-вторых, находимый таким образом смысл может открываться лишь в горизонте человеческой жизни. Какая связь существует между разглядыванием детьми склепа и историей самоубийства влюблённого? Это не только внешняя связь (именно дети вспоминают о событии самоубийства), но и смысловая, неслучайная. Взгляд детей в окно склепа, как и самоубийство молодого человека, – это нарушение границы и шаг на чужую территорию смерти и старости. Сама форма повествования обнажает эту пограничную ситуацию: «Везде светло и жарко, а там темно и холодно... у нас тут солнце..., мы можем играть..., а они всегда лежат...; дедушки и бабушки все старые, а дядя ещё молодой...». 132 По-детски наивно это самоубийство рассматривается как закономерное: «Когда очень влюблён, всегда стреляют себя». Важно, что это детская точка зрения, то есть не умная, а слепо-мудрая, ибо выражает не рассудочную взрослую логику («Смерть вовсе не должна быть непременным следствием любви»), а парадоксальную логику жизни. Полнота и интенсивность жизни неизбежно заставляет заглянуть по ту сторону: ис-ступ-лённость жизни есть переход ею своей границы. Мы находим в произведении Бунина своего рода диалектику: счастья, которое невозможно без своей противоположности; света, который невозможно представить без тёмного фона; тепла и холода; красоты в противовес уродству. Такое нарушение границы, вторжение на чужую территорию можно увидеть в самом начале, где дикие заросли (знак жизни) оккупируют разрушающуюся кирпичную часовню и кладбище, то есть пространство разрушения (умирания) и чегото неживого (растения – кирпич). Итак, в склепе среди трупов мы видим героя истории страстной любви; кладбище и часовню, заросшие высокими цветами и травами; мы видим детей в зоне старости и смерти. Причём печаль, тьма, холод, с одной стороны, и летняя жара, цветущая рожь и тому подобное – с другой – эти два ряда образов находятся не в состоянии спора, а в ситуации взаимного перехода. Обе противоположности предполагают друг друга, что выражается, например, в том, как детям одновременно «жутко, но и весело». Как можно объяснить то, что небо в конце произведения оказывается морем? – Ответ надо искать в плоскости различения низа и верха. Совершенно очевидно, что нижняя область мира рассказа «Часовня» – это область смерти. Достаточно указать на то, что окно, ведущее в склеп, находится «на уровне земли», а дети, заглядывая туда, сидят на корточках. Наверху же высокие цветы и травы, солнце, мухи, 133 шмели и бабочки (то есть жизнь). Заключающий повествование пейзаж, где море и небо меняются местами, примыкает ко всей ситуации всё той же логикой нарушения границы (низа и верха как смерти и жизни). Низ и верх отражаются друг в друге, объясняют друг друга, как смерть и жизнь. Таким образом, частные подробности описания (начало и конец) освещены смыслом целого произведения. На детали пейзажа проецируются образы детей, заглядывающих в склеп, и молодого самоубийцы. Благодаря этой проекции дух как человеческое присутствие – в образе героя и в слове повествователя – воплощён и явлен в неодушевлённых предметах, которые тем самым одушевляются: истина о бытии открывается в нём самом. Само бытие начинает свидетельствовать об органической взаимосвязи противоположных своих сторон. Итак, приведённые примеры демонстрируют ещё одну важную аксиому, находящуюся в основе чтения и толкования художественной литературы, согласно которой художественный мир всегда имеет внутреннее духовное измерение. Он человекоподобен. При этом, как часто отмечалось, даже вещи неодушевлённые в художественном мире теряют свою глухую непроницаемость и отчуждённость, так или иначе репрезентируя человеческие переживания. Поэтому в искусстве мир = человек, то есть микрокосм, а человек = мир, космос. В практической интерпретации литературного произведения всегда приходится учитывать эту особенность: у любого художественного образа имеется как бы два аспекта, взаимосвязанных так, что неодушевлённое одухотворяется, а духовное воплощается, у-плот-няется. Но если в искусстве мысль материализована, а вещь идеальна, то именно поэтому без приложения человеческой меры истолкование художественного текста невозможно. Думается, что к понятию антропоморфности творения искусства прямое отношение имеет то, что М. Хайдеггер писал о напряжённом 134 споре «мира» и «земли». В данной плоскости эти своеобразные термины, на наш взгляд, перекликаются с традиционной классической эстетикой, с которой весьма удачно соотнёс работу «Исток художественного творения» Г.- Г. Гадамер (См.: Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. М., 1993. С. 123–127). С рассматриваемой особенностью художественного произведения связано то, что художественная книга – это не только «источник знания», а её чтение не информативно, а событийно. Это то, что происходит где-то, когда-то, а главное – с кем-то. Говоря о чтении художественной книги как о событии, мы непременно «переходим на личности», имеем в виду определённых участников события. Но какое событие имеется в виду? Чтение художественного произведения актуализирует событие встречи. Искусство, по-видимому, несводимо ни к акту творения, ни к акту восприятия. Его онтологический фундамент обнаруживается в пространстве «между», о котором М. Бубер писал как об «истинном месте и носителе межчеловеческого события» (Бубер М. Два образа веры. М., 1995. С. 230). Причём подразумевается то «между», которое разделяет (и соединяет) читателя и книгу; та событийность, которая связывает переживаемые события с событием их переживания. Вернёмся к тезису Шеллинга о художественном образе как единстве бытия и смысла. Такое единство может быть, как уже отмечалось, увидено двояко: 1) одухотворённость неодушевлённого; 2) инкарнированность (воплощённость) смысла. Победа Альбера, героя пьесы «Скупой рыцарь», на турнире оценивается с противоположных точек зрения. Окружающие видят рыцарскую «храбрость», но сам Альбер называет невидимую всем причину происшедшего, ставящую эту храбрость под сомнение: Взбесился я за повреждённый шлем, Геройству что виною было? – скупость… 135 В этой сцене, как в самом выражении вина геройства, находит своё воплощение соединение несоединимых значений названия трагедии. То же самое обнаруживается в обращении Альбера к жиду: «Проклятый жид, почтенный Соломон…». Первая часть обращения принадлежит рыцарю, который смотрит на жида сверху вниз; слова же «почтенный Соломон» указывают на зависимость Альбера от денег ростовщика. Снова налицо инкарнация спора понятий «скупой» и «рыцарь». Когда жид высказывает пожелание «Пошли вам, бог, скорей наследство», Альбер отвечает одним словом – «Amen!». Мысль о скорейшем получении наследства означает желание смерти отца, что и воплощается в слове, завершающем обычно молитву. Поэтому дальнейшее предложение жида отравить барона закономерно: образ яда является инкарнацией нерыцарской мечты самого Альбера о получении наследства. Непритворный же гнев героя, отвергнувшего предложение жида, воплощает нечто противоположное – рыцарское высокомерие и благородство. Перчатка, брошенная бароном, – вещь, которая одухотворяется в пьесе, наделяясь целым рядом значений, восходящих в конечном счёте к понятиям названия трагедии. Прежде всего, это символический жест, означающий оскорблённую честь: «…иль уж не рыцарь я?». Поспешность же, с которой Альбер подымает перчатку, созвучная желанию скорейшего получения наследства, выдаёт намерение воспользоваться подвернувшейся возможностью: ведь герой понимает, что намечается не честный поединок на равных, а убийство. Поэтому его фраза «Благодарю. Вот первый дар отца» содержит и горькую иронию, и серьёзный смысл. Перчатка, в которую «впился», по выражению герцога, Альбер, оказывается вещью, насыщенной различными смысловыми интен- 136 циями, образующими напряжённый спор «рыцарственности» и «скупости». То же обнаруживается в предсмертном возгласе барона «…Где мои ключи? Ключи, ключи мои!…». Если брошенная перчатка – символ рыцарской чести, то ключи – атрибут скупца. Барон, вспомнивший о том, что он рыцарь, вступает на путь траты («Вот первый дар отца»). Это и выражается в образе потери ключей (символа накопления), а также – самой жизни, так как ключи барона означают нерастраченное могущество, «сон силы и покоя». Как видно из приведённых примеров, одушевлённость неодушевлённого и, наоборот, воплощённость идеального являются взаимно обратимыми. Это те различные стороны, с которых можно выявить художественное единство бытия и смысла. Поочерёдное их рассмотрение предполагается в последующих главах. 6. СИМВОЛ Изображение есть символ П. Флоренский …Большая вселенная в люльке… О. Мандельштам Предыдущая глава напоминала, по сути, об общей эстетической формуле единства бытия и смысла художественного произведения. Это не что иное, как образ человека. Чтение и понимание художественных текстов носит человекоразмерный характер. Причём эта человеческая мера имеет, как выясняется, различные аспекты. Указанное единство по-разному предстаёт, если мы взглянем на него с каждой из этих сторон. С одной стороны, как это уже упоминалось, обычно говорится об одушевлённости неодушевлённого, о некоем просвечивании смысла сквозь бытие, что связано с понятием символа. С другой 137 стороны, художественный образ видится как воплощение духовного, как инкарнация смысла, его «сбывание». Это не что иное, как ценность. Как только мы вслед за Гегелем в его «Лекциях по эстетике» переходим от идеи к идеалу (её инкарнации), мы сразу же чувствуем, что оказались на ценностной почве, – это показывает само звучание слова «идеал» – в отличие от ценностно нейтрального – «идея». Итак, смысл, открываемый в бытии и не отрываемый от бытия, есть символ. Бытие, воспринимаемое как сбывшийся, инкарнированный, осуществлённый смысл, есть ценность. Приведённое в предыдущей главе стихотворение Басё выражает в бесхитростной картине природы печальное мироощущение того, кто её видит. Символичность образов произведения открывается именно благодаря проникновению в их внутренний смысловой план, когда осенний вечер указывает на неизбежность заката, а голая ветка – на переход от очарованности жизнью к трезвому осознанию неприкрашенной («голой») истины, на утрату иллюзий. С другой стороны, само это горестное ощущение хода времени, ведущего к смерти, не дано как абстрактная идея. Оно воплощено и овнешнено в самих зримых образах бытия. Ценность – это тоже единство бытия и смысла, но увиденное не как одухотворение, а, наоборот, как инкарнация. Это, можно сказать, сбывшийся смысл. Поэтому если осмысленность бытия делает его символичным, то сбывшийся смысл превращает бытие в ценность. Именно символический аспект очеловеченного художественного образа является предметом рассмотрения в этой главе. Здесь важно напомнить о принципиальной разнице содержания – продукта эстетического анализа – и смысла – продукта чтения и интерпретации. Содержание художественного произведения – «эстетический предмет» (Р. Ингарден); можно сказать, это совокупность всех что – в отличие от как (ингарденовские виды), – составляющая изо138 бражаемый «мир». Всеобщим содержанием искусства является человеческая жизнь. Смысл же – это определённый модус трактовки человеческой жизни. Смысл – это не «жизнь», а «жизнь такова». Поэтому смысл затрагивает и художественную форму постольку, поскольку он неотделим от оценки. При этом художественный смысл представляет собой не суждение о том, что такое жизнь, а суждение самой изображённой жизни о себе, её самораскрытие, «просвет» (М. Хайдеггер). В описание художественного смысла неизбежно проникают конкретные образы. Оно не может освободиться от них, вынести их за скобки, так как это описание фиксирует образное взаимодействие (что и является интерпретацией). Поэтому смысл охватывает и содержательные, и формальные моменты в их взаимосвязи, а понимание как обнаружение смысла есть понимание и героя (аспект содержания), и автора (аспект формы), а главное – их непосредственного единства. Содержание не является смыслом, как пересказ не является интерпретацией. Пересказать можно именно содержание, а смысл – лишь интерпретировать. Следует, впрочем, оговориться, что пересказ и интерпретация невозможны в чистом виде. Как истолкование вынуждено затрагивать то, о чём говорится, так и пересказ, который дан всегда с чьей-либо точки зрения, неизбежно оценочен и поэтому включает моменты осмысления. Однако неразрывность смысла и содержания художественного произведения отнюдь не означает их тождества. Классическим примером пересказа является развёрнутое название романа Даниэля Дефо: «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка, прожившего двадцать восемь лет в полном одиночестве на необитаемом острове, у берегов Америки, близ устья великой реки Ориноко, куда он был выброшен кораблекрушением, во время которого весь экипаж корабля, кроме него, погиб, с изложением его неожиданного освобождения пи139 ратами…» и так далее (перевод М. Шишмарёвой). Любая же попытка истолкования отличается от пересказа тем, что требует соотнесения деталей и целого. Например, можно обратить внимание на то, как Робинзон всё больше разводил заканчивающиеся чернила водой, «пока они не стали такими бледными, что почти не оставляли следов на бумаге». Если эту деталь попробовать связать с ситуацией всего романа, что мы обязаны сделать при интерпретации, то такой бледнеющий текст, аналогичный отвыканию героя от устного слова в отсутствие собеседников, можно понять как отчуждение культурных конвенций, десемиотизацию мира (например, к этому же относится утрата смысла денег). Герой, оставшись один на один с природой, мобилизует оставшиеся культурные установки. Блудный сын, он всё время пытается соорудить дом посреди бесприютности мира, на чужбине всего человеческого. Бледнеющие чернила выражают неумолимое оттеснение знакового характера бытия натуральным. Именно поэтому, например, обнаруженный след – знак человеческого присутствия – воспринимается как потрясение и приводит к перестройке всего видения и уклада жизни героя. Приведённая деталь получила бы гораздо более ясное осмысление, если бы мы попытались определить значение такого элемента художественного мира романа Д. Дефо, как вода. Но и сказанного достаточно для намеченного тезиса: проблема смысла художественного произведения – это проблема установления связей части и целого. Поэтому принципиальная разница между пересказом содержания и интерпретацией смысла состоит в том, что если пересказу присущ, так сказать, линейный характер, то интерпретации – круговой, о чём более подробно речь пойдёт в конце главы. Итак, одна из важнейших характеристик мира художественного произведения состоит в том, что это зона обобщения, или символическая зона. Сам символ – обобщение, хотя, конечно, не рассудочное. Глубокую характеристику символа дал С. С. Аверинцев: «Сама струк140 тура символа направлена на то, чтобы погрузить каждое частное явление в стихию «первоначал» бытия и дать через это явление целостный образ мира» (КЛЭ. Т. 6. Ст. 827; выделено мною – Л. Ф.). Это определение восходит к тезису Шеллинга о неразличимости общего и особенного в символе (См.: Шеллинг Ф. В. Философия искусства. М., 1966. С. 106–110). Символической зоной является мир рассматривавшегося нами стихотворения «Смерть поэта», благодаря чему его содержание, как отмечалось, выходит далеко за пределы единичной биографии, обобщая сложный комплекс отношений любого поэта и государства. Необходимо подчеркнуть, что не только отдельные образы художественного произведения символичны, но сам его мир является символизирующей территорией, причём совершенно независимо от намерений автора. (Последнее, впрочем, касается любого из сформулированных нами a priori интерпретации). Гегель отмечает в своих «Лекциях по эстетике», что созерцание символа «тотчас же вызывает у нас сомнение: следует ли или не следует принимать образ за символ» (Гегель Г. В. Ф. Эстетика. Т. 2. М., 1969. С. 16). Это утверждение справедливо по отношению к любым образам, однако сомнение, о котором говорится у Гегеля, исчезает, когда перед нами образ искусства. Всё, что «оказалось» в зоне художественного произведения, – символ, но и сама она – символ. Причём не играет существенной роли то, к какому литературному направлению принадлежит автор, – символист он или нет. Символизм лишь привносит к универсальному характеру обобщённости любого художественного образа момент творческой рефлексии, сознательную установку на создание символов. Рассмотрим стихотворение Гёте в известном переводе Лермонтова: Горные вершины Спят во тьме ночной; Тихие долины 141 Полны свежей мглой; Не пылит дорога, Не дрожат листы… Подожди немного, Отдохнёшь и ты. Перед нами пейзаж. Причём, с одной стороны, конкретная местность, а с другой – обобщённая картина природы как таковой, природы в ночном состоянии: две половины первой строфы представляют не просто перечисляемые части пространства, а его верхний и нижний пределы. Ночное состояние описываемого тоже имеет одновременно двойной смысл: это и конкретная одна из ночей, и ночь вообще. Итак, нам дана часть, фрагмент жизни, но – одновременно – и вся жизнь. Если исходить из того, что в центре произведения искусства всегда находится человек, даже если это пейзаж, то можно задаться вопросом: есть ли что-то человеческое в этой картине природы? Вопервых, разумеется, в ней присутствует тот, кто её видит, кто её описывает. Субъективный человеческий взгляд, конечно, неустраним из самой объективной картины. Во-вторых, здесь есть тот, к кому обращены слова последних строк, некто «ты». Об этом можно сказать более определённо. С «ты» связан в стихотворении атрибут чисто человеческой, внеприродной жизни – путь. «Ты» – это путник, который шёл, по-видимому, целый день: иначе он не нуждался бы в отдыхе. Следует обратить внимание на то, что дорога и человек, идущий по ней, не противостоят природе, а сопоставляются с ней. «Не пылит дорога, / Не дрожат листы» – здесь то и другое поставлены в единый смысловой ряд: неподвижности, сна, отдыха. В последней же строке «отдохнёшь и ты» отдых человека уравнен с отдыхом природы. На что указывает это сравнение? Перед нами картина слияния человека и природы. По-видимому, в состоянии сна, когда путь прекращается. Мир рассматриваемого стихотворения обнаруживает свою необходимую художественно-смысловую объёмность тогда, когда мы 142 видим в нём не какую-либо часть жизни только, не отображение действительного эпизода, а символическое обобщение – всю жизнь. Здесь это касается прежде всего образа дороги. В символической плоскости дорога «развёртывается» в человеческий путь вообще, в судьбу. Иначе говоря, прошедший день можно понять как прожитую жизнь, а наступившую ночь и слияние человека с природой – как его смерть. Смерть (или сон, так как здесь нет принципиальной разницы) представлена как растворение различий в изображённом мире. В первой строфе противоположности верха и низа (горные вершины и тихие долины) уравниваются, то есть очертания различных частей природы сливаются во тьме (= мгле). Затем речь идёт также о снятии противоположности человека и природы. Эту противоположность можно изобразить в виде схемы. Жизнь природы как цикличную вечную смену дня и ночи, весны и осени, детства и старости и так далее можно обозначить кругом. Жизнь человека – путь, вектор. Человек – путник, устремлённый к какой-то цели. Почему смерть изображена здесь совершенно не как печальное событие? Слияние человека и природы показано благом: это отдых от усталости после долгого пути. Вот почему ночь – это мгла, но свежая. Слияние с природой поэтому – не столько смерть, сколько вступление в круг её вечной жизни. Уже говорилось о стирании границы между сном и смертью в данном стихотворении. Это «сравнение» осуществляется именно как символическое, что означает способность обоюдного представительства указанных понятий. Обратимся ещё к одному произведению: Ель рукавом мне тропинку завесила. Ветер. В лесу одному Шумно, и жутко, и грустно, и весело. Я ничего не пойму. Ветер. Кругом всё гудёт и колышется, Листья кружатся у ног. Чу! Там, в дали, неожиданно слышится Тонко взывающий рог. 143 Сладостен зов мне глашатая медного! Мёртвые что мне листы! Кажется, издали странника бедного Нежно приветствуешь ты. (А. Фет) Читая первый стих, мы вступаем на территорию, где каждый образ, будучи самим собой, оказывается ещё и чем-то большим. Образ завешенной тропинки содержит бесконечную смысловую перспективу: это ещё и преграждённый путь вообще. Встреча лирического героя с елью воспринимается в обобщённо-символическом горизонте как пересечение вектора человеческой дороги и леса (природы). Причём природное пространство изображено в стихотворении как круг: «кругом всё гудёт и колышется»; «Листья кружатся у ног». Как уже говорилось в связи со стихотворением Гёте (Лермонтова), путь человеческой жизни характеризуется определённой целенаправленностью. Это своего рода пространство сознательных и последовательных поступков, где рассудок играет ведущую роль. В первой строфе человек, попавший в «круговое» пространство природы, оказывается во власти самых разных чувств, как бы оттесняющих рассудок на второй план: «Я ничего не пойму». Во второй строфе налицо атрибуты осеннего пейзажа: падающие листья, звук охотничьего рога. При этом образ осени является также и символом умирания природы, что подчёркивается в последней строфе: «Мёртвые что мне листы!» Символ круга как пространства природы соединён в мире произведения Фета со смертью: «Листья кружатся у ног». Пространство смерти есть в то же время пространство одиночества: «...В лесу одному...». Этот круг смерти и одиночества разрывается звуком рога, который здесь не просто звук, а «зов», приветствие. Причём зов открывает именно даль дороги, так как в последней строфе лирический герой называется «странником». 144 Далёкому зову дороги в мире стихотворения противостоит шум леса, окружающего героя: «Кругом всё гудёт...» или: «Шумно, и жутко...». В простых, на первый взгляд, обыденных, образах произведения Фета просвечивает символическая перспектива, и поскольку художественный мир – символ мира вообще, постольку тропинка через лес – человеческий жизненный путь, а сам лес – безысходное и бессмысленное круговращение природы. В «Горных вершинах» чем-то похожая ситуация. Однако если у Гёте (Лермонтова) полная гармония человека и природы, то в стихотворении Фета налицо противопоставление, спор. Приведём первый абзац новеллы Мопассана «Возвращение»: Море бьёт в берег короткой однозвучной волной. Белые облачка, словно птицы, проносятся по необъятному синему небу, гонимые стремительным ветром; в изгибе долины, сбегающей к океану, греется на солнце деревня. (Пер. Н. Вальтер). Если не воспринимать образы данного фрагмента как репрезентацию художественного целого (то есть всей истории возвращения), они покажутся пребывающими в нейтральном соседстве. Однако проекция целого на часть обнаруживает напряжённое противостояние огромного подвижного моря устойчивому берегу, природной стихии – человеком освоенной части пространства. Итак, мы сразу застаём художественный мир рассказа на границе зыбкости и покоя, холода и тепла. Необъятность синего неба является как бы отражением необъятности моря, облачка же, «гонимые стремительным ветром», воспринимаются не просто живыми («словно птицы»), а как образ странствия, отзвук судьбы героя, оторванного стихией от родного берега. Такое расширение семантики образа, соединяющее часть произведения и его целое, и есть символ. Истолкование следующего предложения новеллы также строится на соотнесении части и целого: «У самой околицы стоит домик 145 Мартен-Левеков, в стороне от других, на краю дороги». Обратим внимание на образ границы, отделяющей дом от дороги. Воспринятая сама по себе эта граница совершенно нейтральна. Но в контексте целого и в связи с предыдущим фрагментом она оказывается напряжённой. Понятие «дом» расширяется до понятия «родина», а понятие «дорога» – до понятия судьбы как странствия. По этой дороге ушёл и пропал Мартен. По ней он и возвращается домой. Таким же «пограничным» воспринимается с точки зрения целого произведения и название «домика», принадлежащего как бы сразу двум хозяевам. В следующем фрагменте на указанной границе наблюдается резкое возрастание напряжения: Вдруг девочка, которая штопает у калитки, окликает: Ма-ам! – Чего тебе? – отзывается мать. – Опять он тут… С самого утра они тревожатся, потому что вокруг дома всё бродит какой-то старый человек, похожий на нищего. Они заметили незнакомца, когда провожали отца к лодке, чтобы помочь ему погрузиться. Человек сидел у канавы против двери. Вернувшись с берега, они застали его на том же месте; он сидел и смотрел на их дом. Не случайно приведённый отрывок текста начинается со слова «вдруг». Это слово вообще появляется в рассказе в моменты наивысшего напряжения на черте, разделяющей дом и дорогу. В данном случае усиление напряжения объясняется тем, что на этой границе сосредоточиваются, развёртываются новые противоположности: родное – чужое, знакомое – незнакомое, спокойствие – тревога. Человек, который «сидел у канавы против двери», не просто занимает определённое место в пространстве: «канава» и «дверь» – эти образы находятся по разные стороны невидимой, но напряжённой границы. Это два возможных варианта судьбы Мартена. Дверь ведёт в дом, к родным людям, к зоне счастья и покоя. Канава связывается здесь с нищим странствием и одиночеством. Повествование новеллы Мопассана переворачивает «естественную» последовательность событий – уход – приход. Повествователь сначала сообщает о приходе, а затем уж рассказывает предысторию. 146 Когда повествователь рассказывает историю пропажи Мартена, читатель узнаёт его в незнакомце: в объединяющем уход и приход эстетическом горизонте происходит то, что запаздывает в жизненном кругозоре героев. В центре внимания, таким образом, оказывается событие узнавания, в связи с чем напряжённость границы, о которой шла речь, получает дополнительные смысловые оттенки. Возьмём следующий фрагмент: Он всё торчал у дороги, как пень, упрямо уставившись на дом МартенЛевеков, и Мартен наконец разъярилась; со страху набравшись храбрости, она схватила лопату и вышла за порог. – Вам чего тут надо? – крикнула она бродяге. Он отвечал хриплым голосом: – Да вот сижу на холодке. Разве я вам мешаю? Она продолжала: – Что это вы будто подглядывать пришли к моему дому? – Плохого я никому не делаю, – отвечал он. – Нельзя на дороге посидеть что ли? Она не нашлась, что ответить, и вернулась домой. Переход указанной границы сопровождается для жены Мартена страхом: за порогом дома – неизвестность, странное поведение чужого человека. Для Мартена порог дома – граница узнавания и неузнанности, покоя и странствия, любви и одиночества. Пока читатель не узнал в бродяге Мартена, он ближе героине и её точке зрения тревожной неизвестности. Как только повествователь рассказывает предысторию пропажи Мартена и читатель узнаёт его в незнакомце, появляется ещё один – рецептивный – оттенок напряжения: выяснится ли в этом разговоре, кто такой этот незнакомец, узнает ли его жена, признается ли он сам? Сравнение героя с пнём говорит не столько о неподвижности его позы (это буквальный, ближайший смысл), сколько об искалеченности его судьбы: пень ведь есть до неузнаваемости изуродованное дерево, сохранившее лишь свои корни, как не узнаваемый никем Мартен сохранил свою привязанность к родному дому. Так – благодаря переходу от частной подробности к целой истории – открывается символический смысл. 147 Когда герой говорит, что он сидит «на холодке», то буквально это означает как бы намеренно выбранное, нежаркое место. Но если спроецировать на эту деталь то, что перед нами история возвращения (а в этом и состоит интерпретация), то понятие «холодка» обнаруживает нефизическое значение отчуждённости от домашнего, семейного тепла. Эта деталь смыкается с образом «греющейся на солнце деревни» в первом абзаце новеллы. Герменевтический переход от части к целому и обратно приводит к тому, что смысл каждой подробности расширяется, а смысл целого, в свою очередь, конкретизируется. Почему Мартен не подходит и не называет прямо своё имя? Что означает его уклончивость, когда он на вопрос Левека «У вас тут есть кто-нибудь?» отвечает: «Может, и есть»? Оказывается, что возвращение героя зависит не от него одного, что наличие близких людей проблематично. И зависит это только от события узнавания или неузнавания. Понятие близости обнаруживает свою сложность. Близость возможна лишь как обоюдная: если герой остаётся неузнанным, то у него на самом деле никого нет. Свой рассказ о кораблекрушении, о плене у дикарей Мартен заканчивает словами: «Вот я и пришёл». Последняя же фраза новеллы Мопассана: «– Смотри-ка! Ты вернулся, Мартен? – Вернулся, – ответил Мартен». Оказывается, что можно прийти и при этом не вернуться. Последнее связано с преодолением внепространственной границы: забвения, чуждости, вражды. Когда жена, рыдая, восклицает «Муженёк! Ты тут!», это означает свершившийся переход указанной границы в двух смыслах: сначала Мартен переступает порог дома как незнакомец, следовательно, он «тут» ещё не в смысле возвращения, а в смысле лишь прихода. Неслучайно жена его «испуганно попятилась». Но он как узнанный Мартен оказывается «тут» уже в другом – внепространственном – смысле. Таким образом, в символической плоскости произведения выявляется 148 узнавание как подлинная суть возвращения. Слово, называющее новеллу, говорит о преодолении границы, но не просто как о пространственном перемещении. Это слово относится не только к Мартену, но и к окружающим. Не только он возвращается к людям, но и они к нему. Без этого встречного движения возвращение невозможно. Все эти «не только» и «не просто» как раз и передают символическую сложность художественной реальности, которая открывает общий смысл события возвращения, но не отделённый от всех частных подробностей, а как бы «просвечивающий» через них. Рассмотрим четверостишие Державина «Надгробие Шелехову»: Колумб здесь росский погребен: Преплыл моря, открыл страны безвестны; Но, зря, что всё на свете тлен, Направил паруса во океан небесный. В поминальном слове изображена не обычная смерть, вызванная какими-либо внешними обстоятельствами, ограниченностью человеческой природы (смертностью), а смерть героическая, свободная. Это продолжение жизни как героической активности, по-двига («направил»), то есть здесь не жизнь покидает героя, а наоборот, сам герой покидает ограниченность земного бытия. Начиная с первого слова (имени Колумба), в тексте возникает образ открытия мира. Границы самой художественной реальности раздвигаются от «здесь» до «океана небесного». Уравнение неба и океана приводит к тому, что герой посмертно как бы продолжает оставаться «Колумбом росским». Это создаёт образ идеального бессмертия. На месте обычного надгробия как мемориального камня звучит надгробное слово (нерукотворный памятник), запечатление славы как посмертного идеального бытия, что перекликается с «весь я не умру». С этой точки зрения заметен напряжённый спор окончаний первого и последнего стихов: погребён – небесный. 149 Несмотря на то, что речь в стихотворении идёт о единичном человеке (это подчёркивает само название), перифраз первого стиха расширяет смысл стихотворения, так как не одного человека можно назвать «Колумбом росским». Поэтому образ отдельного персонажа символически развёртывается в обобщённый портрет жизни как непрерывного открытия. Несколько эпизодов повести Пушкина «Капитанская дочка», которых мы здесь коснёмся, интересуют нас исключительно с точки зрения их символичности, то есть способности репрезентировать художественное целое повести. Во-первых, вспомним эпизоды ссоры и примирения Гринёва и Савельича в первых двух главах и зададимся вопросом: как эта частная ситуация связана со всей ситуацией произведения Пушкина? Бильярдный долг Гринёва прочерчивает границу детской игры и взрослой самостоятельности. В своём стремлении освободиться от опеки Савельича, ужасающегося проигранной сумме, Гринёв переводит разговор в официальный план: «Я твой господин, а ты мой слуга. Деньги мои. Я их проиграл, потому что так мне вздумалось. А тебе советую не умничать и делать то, что тебе приказывают». Гринёв «ставит на место» Савельича, но при этом и себя также. Таким образом, в их раздоре на первый план выходит занимаемое «место», то есть внешняя социальная роль. Однако важно заметить, что это происходит лишь на словах. Роль господина, перед которым – слуга, для Гринёва – только маска: «Я взял на себя вид равнодушный…»; «Мне было жаль бедного старика…». Как раз эта внутренняя человеческая связь помимо социальных «мест» побеждает в примирении. Покаяние Гринёва и есть настоящий его взрослый поступок. С виду незначительное событие размолвки и примирения героев открывает общую художественную ситуацию повести, в которой жестокость войны есть доведённая до предела сословная рознь, спор о гос150 подстве (недаром Пугачёв показывает в бане свои «царские знаки»). А с другой стороны, в мире повести обнаруживаются более глубокие – человеческие – отношения, заставляющие героев быть милосердными вопреки логике раздора, сословного противостояния. Обратимся к своеобразной точке зрения Ивана Игнатьича на поединок Швабрина с Гринёвым (главы IV–V). Для Ивана Игнатьича ритуально-рыцарская сторона дуэли как поединка чести неведома. Он предлагает простонародный сниженный вариант выяснения отношений: «Он вас побранил, а вы его выругайте; он вас в рыло, а вы его в ухо, в другое, в третье – и разойдитесь; а мы вас уж помирим…». Кстати, уже само занятие героя, за которым застаёт его Гринёв, составляет комический контраст возвышенной роли секунданта, ему уготованной: «по препоручению комендантши он нанизывал грибы для сушенья на зиму». Иван Игнатьич не верит в действенность слова: «Брань на вороту не виснет». Повесть опровергает эту точку зрения (можно вспомнить, например, показания Швабрина на суде или рассказ Маши Мироновой императрице в главе XIV). Однако есть в наставлениях Ивана Игнатьича Гринёву общечеловеческий, христианский смысл: «Доброе ли дело заколоть своего ближнего, смею спросить?» Такое же непонимание смысла дуэли обнаруживает Савельич, который видит её лишь с внешней стороны, как она предстаёт на уроках фехтования Бопре: «Нет, батюшка Пётр Андреич! не я, проклятый мусье всему виноват: он научил тебя тыкаться железными вертелами да притопывать, как будто тыканием да топанием убережёшься от злого человека!» В рассматриваемом эпизоде можно заметить, во-первых, разобщённость дворянской и простонародной точек зрения. Комическая же трактовка изображаемого обнаруживает, во-вторых, присутствие авторского взгляда, подмечающего ограниченность обеих. Но это отно151 сится ко всей повести, которая открывает широкий общечеловеческий и объединяющий смысл за узкими сословными, разобщающими позициями. В III главе упоминается драка в бане капрала Прохорова с Устиньей Негулиной «за шайку горячей воды». Этот эпизод представляет собой комическую репрезентацию через мелкое бытовое происшествие глобального события социального раздора. Комический частный случай содержит общий сентиментальный смысл. То, что Прохоров «капрал», указывает на военную тему, однако низведённую с героических высот служения отечеству до бытовой драки с женщиной в бане. Само военное здесь комически развенчивается. Присмотримся к распоряжению капитанши Василисы Егоровны Ивану Игнатьичу: «Разбери Прохорова с Устиньей, кто прав, кто виноват. Да обоих и накажи». Этот приговор смешон тем, что делает бессмысленным разбирательство («кто прав, кто виноват»), однако мудрость его заключается в более широком взгляде: в драке нет правых, а есть лишь виновные – сама драка виновата. Так что решение капитанши Мироновой неожиданно смыкается с суждением зрелого Гринёва о бессмысленности и беспощадности «русского бунта» при всей разнице бытового и социального масштабов драки в бане и гражданской войны. Таково свойство символа: он преодолевает разницу масштабов, разницу частного и общего. Лубочные картинки в доме капитана Миронова изображают «взятие Кистрина и Очакова, также выбор невесты и погребение кота». Эти образы чётко распадаются на две группы: батальное и мирное; социальное и домашнее; глобальное и частное; героическое и сентиментальное. Соседство картинок производит комический эффект взаимного наложения и неожиданного уравнения различных масштабов изображаемых событий. Такой же комической игре подчинено описание Белогорской крепости в III главе. Оно дано с точки зрения 152 несбывающихся ожиданий молодого Гринёва, который на месте «грозных бастионов, башен и вала» не видит ничего, «кроме деревушки, окружённой бревенчатым забором». Герой, настроенный на официальное прибытие к месту воинской службы, попадает в тёплую атмосферу домашних занятий и неторопливого семейно-бытового ритма жизни. Такое приложение различных масштабов к изображаемому характерно для всей повести, начиная с её названия, в котором первое слово взято из официального словаря войны, а второе – из домашнего уменьшительно-ласкательного словаря семейных отношений. Аналогичная принадлежность человека сразу к двум различным «системам координат» обнаруживается в самом рождении героя: «Матушка была ещё мною брюхата, как уже я был записан в Семёновский полк сержантом…». Таким образом, в лубочных картинках, мельком упомянутых в повести, символически представлены те общие два плана изображения, которые организуют художественное целое всего произведения. Приведённые примеры призваны продемонстрировать не возможность символического истолкования отдельных художественных произведений, а априорную необходимость понимания мира любого художественного произведения как символической территории обобщения. Здесь необходимо различить две взаимосвязанные стороны художественно-символического обобщения. Вспомним, как заканчивается стихотворение Гёте, переведённое Лермонтовым: «Подожди немного, / Отдохнёшь и ты». Это «и ты» обращено прежде всего к путнику его мира, но также и к человеку вообще и, в частности, к читателю. Уже отмечалось то, что при внимательном взгляде на произведение обнаруживается встречный взгляд произведения на нас. Однако такая вечная обращённость произведения к каждому читателю возможна лишь при обобщённом – символическом – характере художе153 ственного мира и его образов. По точному выражению Флоренского, символы – это «отверстия, пробитые в нашей субъективности» (См.: Приложение к журналу «Вопросы философии. П. А. Флоренский. Т. II. М., 1990. С. 344). Таким образом, символ - не только обобщение как бесконечное расширение смыслового объёма (generalisatio), но и обобщение как вовлечение в смысл (communicatio). Поэтому можно сказать, что любое художественное произведение говорит читателю И ТЫ: читатель всегда в определённом смысле оказывается втянутым «в историю». Именно так, на наш взгляд, следует понимать глубокое замечание П. Тиллиха, согласно которому символ «имеет двойную направленность: он раскрывает реальность и раскрывает душу» (Тиллих П. Избранное: Теология культуры. М., 1995. С. 276). Как писал Дионисий Ареопагит, «…так же, как неведение есть нечто разделяющее заблуждающихся, явление умственного света есть нечто собирающее освещаемых...» (Дионисий Ареопагит. О божественных именах. О мистическом богословии. СПб., 1996. С. 105). Необходимо вспомнить здесь «теплоту сплачивающей тайны», о которой упоминал в связи с этимологией слова «символ» С. С. Аверинцев (КЛЭ. Т. 6. Ст. 827). Такая обобщающая энергия символа позволяет ему быть и «механизмом памяти культуры» (Лотман Ю. М. Избр. статьи. Т. I. Таллинн, 1992. С. 192). Продолжим рассмотрение символической природы художественного произведения на материале стихотворения Бунина «Компас»: Качка слабых мучит и пьянит. Круглое окошко поминутно Гасит, заливает хлябью мутной – И трепещет, мечется магнит. Но откуда б, в ветре и тумане, Ни швыряло пеной через борт, Верю – он опять поймает Nord, Крепко сплю, мотаюсь на диване. Не собьёт с пути меня никто. Некий Nord моей душою правит, 154 Он меня в скитаньях не оставит, Он мне скажет, если что: не то! При чтении первых двух строф воображение создаёт картину морского путешествия, ненастья, сбивающего корабль с курса. В третьем четверостишии такая буквальность прочтения снимается. Морское путешествие оказывается символической репрезентацией скитаний души, каковыми можно считать любую человеческую жизнь. Это и есть художественное обобщение, в котором общее (человеческая жизнь) не оторвано от конкретных зримых образов трудного пути, а дано через них. Но это обобщение не только в смысле расширения семантического объёма, но и в смысле вовлечения читателя в то, что происходит с героем. Художественное обобщение при попытке понимания неизбежно, так как читатель не может остаться в «физической» плоскости морской качки, случившейся однажды с кем-то и где-то: переход к третьей строфе переводит лирическое слово в метафизическую плоскость того, что «могло бы случиться» (Аристотель) с каждым человеком. Понятие «путь» в символической плоскости оказывается более глобальным, чем это представлялось вначале. Это не просто морское плавание, но жизненная дорога вообще. Nord – северное направление стрелки компаса – правит душой в её скитаньях. Поэтому компас как вещь в процессе чтения оказывается символическим образом какогото нравственного ориентира, совести, призвания и т. д. Расширение смысла претерпевает и всё остальное: морская буря символизирует любые жизненные невзгоды, превратности и испытания вообще, в которых важно не растеряться, не потерять себя. Nord – это в конечном счёте и есть «я», некое «самостоянье человека». Это единственная твёрдая основа в зыбкости и неустойчивости мира, символизируемой морской качкой. «Хлябь мутная», «туман» – символы 155 неопределённости, неясности, с которыми борется Nord. «Слабость» – это как раз победа качки, хаотичности, неустойчивости мира над человеком. И так далее. Бунинский «Компас», подобно другим художественным произведениям, обнаруживает, как мы видим, символическую экспансию смысла всех изображаемых предметов, распространение его на самые широкие жизненные сферы, в том числе и на те, в которых может обнаружить себя сам читатель стихотворения. Понятие символа неизбежно приводит к феномену открытости художественного текста, затронутому ранее в главе, посвящённой внешним связям произведения. В романе «Обломов», рассмотренном нами, присутствуют образы Библии, интерпретируя которые, мы, с одной стороны, уходим от непосредственных событий романа Гончарова, а с другой – глубже проникаем в символическую перспективу произведения именно благодаря этому выходу за его пределы. Точнее было бы сказать о символическом расширении самих пределов. Символ выводит за рамки текста (или расширяет до бесконечности эти смысловые рамки), но в этой распахнутости мы имеем право принимать лишь то, что согласуется с остальными значениями, обнаруженными в тексте. Поэтому важна также и его «запахнутость». Символический смысл имеет определённую структуру, направление. Однако кроме того, что текст открыт другим текстам, существует ещё и другая его открытость – открытость читателю (даже если нет прямого к нему обращения). В процессе понимания произведение соотносится не только с культурным и историческим контекстом, но также с жизнью, то есть с представлениями того, кто пытается его понять. К диалогу между текстами добавляется диалог текста и читателя. Вместе с тем, наряду с указанной двойной открытостью текста, существует и двойная его сокровенность, тайна. Ибо, с одной стороны, текст не исчерпывается контекстом, будучи уникальным творени156 ем. А с другой стороны – смысл произведения не исчерпывается определёнными усилиями понимания. Может быть, уместно здесь сослаться на Хайдеггера, писавшего о споре в произведении искусства просветления (Lichtung) и затворения (Verbergung). Часто символическая, глобальная перспектива не обнаруживается как обязательная, и мы в таких случаях довольствуемся какими-то «верхними» слоями смысла произведения, которое рассматриваем. Но есть тексты, которые просто невозможно понять без учёта символичности искусства, – тексты, где есть сознательная художественная установка на создание символов. Читая «Удивительную историю Петера Шлемиля» Шамиссо, мы вступаем в мир, в котором все качества как бы измеряются количественным эквивалентом; где самым важным посредником человеческих взаимоотношений оказываются деньги. Не случайно в центре внимания находится сделка, продажа героем своей тени, а также последствия этой сделки. Тема денег возникает в повести с первой главы, в которой появляется таинственный «господин в сером рединготе», а затем – просто «серый человек». Он как бы незримый центр компании гостей Томаса Джона. Его присутствия никто, кроме Шлемиля, не замечает, а между тем без его услуг компания не обходится. Сначала господин в сером рединготе достаёт из кармана пластырь, в котором нуждается героиня, уколовшая руку шипом розы. Затем оттуда же вытаскиваются: подзорная труба, турецкий ковёр, роскошный шатёр, под которым все укрываются от жары, три верховые лошади. Эта фантастическая безразмерная вместимость кармана усугубляется, подчёркивается тем, что там в конце концов обнаруживаются уже совершенно сказочные предметы: разрыв-трава, корень мандрагоры, скатерть-самобранка, шапка-невидимка и тому подобное. 157 Перед нами сказочно-фантастическая фигура, облик которой характеризуется, однако, совершенно прозаическими чертами: «молчаливый господин в летах, сухопарый, костлявый...» (пер. И. Татариновой). Будничная, заурядная внешность напрочь лишена пёстрого и яркого сказочного колорита. При этом она наделена исторической конкретностью: налицо реальность буржуазного девятнадцатого века. Данный образ, объединяющий в себе самые фантастичные и самые заурядные черты, невозможно понять иначе как символ – символ денег, которые прячут всё пёстрое качественное разнообразие мира в кармане серого редингота, которые оказываются универсальным посредником, уравнивающим и нивелирующим. Именно деньги соединяют самое прозаически-обыденное с самым фантастическим. (Об этом писал Маркс). Причём фантастическая природа денег оказывается незаметной, как бы спрятанной. Она закрыта сознанию, уже искажённому отчуждёнными, безличными отношениями. Так невозмутимо принимает Собакевич предложение Чичикова в «Мёртвых душах», где речь идёт о похожей сделке. Здесь кроется корень принципиального различия Петера Шлемиля и всех окружающих его персонажей. Он удивляется тогда, когда не удивляется никто. Удивление героя – очень важный момент произведения, о чём можно судить по его названию. Когда серый господин подал даме требуемый пластырь, она взяла его, «не взглянув на подателя и не поблагодарив его...». Это слова Шлемиля, которые обнаруживают его удивление, хотя прямо о нём здесь не говорится. Далее это удивление усиливается, достигая своей кульминации в эпизоде сделки, продажи тени: «у меня голова шла кругом», «необычное предложение», «это сумасшедший», «мурашки по спине» и т.п. Странность предмета сделки, открытая Шлемилю, обнаруживает в повести ещё важный символический смысл. Серый человек называет тень Шлемиля «бесценной». Странная эта сделка как раз и со158 стоялась из-за непонимания Шлемилем такой «бесценности». Удивление, отличающее героя от остальных, объясняет, почему именно к нему обратился господин в сером рединготе со своим странным предложением. Для Петера Шлемиля до сделки тень – ничто. Это естественный взгляд. Для всего большого мира, куда он стремится, тень оказывается самым главным, а её утрата представляется ужасным бедствием. Шлемиль вызывает «глубокую жалость» женщин, «насмешки молодёжи», «высокомерное презрение мужчин», даже верный слуга Бендель остаётся со Шлемилем, противясь разуму, а слушаясь сердца. Таким образом, представлена абсолютно искажённая, перевёрнутая картина соотношения жизненных ценностей. Человек без тени вытесняется из жизни, где тень – главное. Он носится по земле в своих семимильных сапогах и по сути не живёт, а лишь наблюдает. Обнаруживается пропасть между человеком абсолютно одиноким и миром как тенью, где царствуют мнимые ценности. Проникая в этот символический план произведения, мы находим авторский горизонт. Причём точка зрения героя, способного удивляться и вытесненного из не удивляющегося мира, сближается с позицией автора, для которого история Петера Шлемиля тоже удивительна. Такое почти невозможное сближение углов зрения автора и героя объясняется здесь тем, что герой, вытесненный из мира, как бы перестаёт быть простым объектом изображения, становясь субъектом – созерцателем. И его фантастический полёт на сказочных семимильных сапогах очень напоминает полёт воображения художника. Если мы не исходим (a priori) из того, что мир повести, которую читаем, есть символическая зона, то её история, «удивительная», как у Шамиссо, или, например, «скучная», как у Чехова, – чистый курьёз. Символическая, обобщающая перспектива повести Гоголя «Нос» открывается посредством обнаружения внутренних связей тек159 ста. Обращает на себя внимание то, что сделал майор Ковалёв сразу после обнаружения пропажи носа: «Он велел тотчас подать себе одеться и полетел прямо к оберполицмейстеру». Отсутствие носа воспринимается здесь героем почему-то как нарушение общественного порядка. Этот первый шаг как бы предвосхищает дальнейшее. Между человеком и его же носом воздвигнута целая рангово-ведомственная система. В выражении «не дальше своего носа» нос предстаёт как нечто самое близкое человеку. Однако в мире повести он неожиданно становится недоступно, бесконечно далёким. То, что майор Ковалёв, не обнаружив носа, «полетел прямо к оберполицмейстеру», и то, что супруга цирюльника Ивана Яковлевича грозится донести на мужа в полицию, – события одного ряда: официальная инстанция вовлекается во внеофициальную жизнь. Полиция оказывается посредницей в отношениях, которые носят совершенно частный характер. Не случайно герой назван как «коллежский асессор Ковалёв». В такой, казалось бы, приватной ситуации это оказывается весьма важным, когда нос появляется в мундире и шляпе, по которым «видно, что он статский советник». Ситуация распада целого на части, когда между человеком и его же носом «не может быть никаких тесных отношений», связана как раз с вторжением публично-ведомственного в сферу личного: у личности как бы не остаётся никакого своего внутреннего пространства, отдельного от публичного, что и разрушает её целостность. Человек сам становится частью, не самим собой, а представителем чина или звания. (Об этом писал в своей замечательной работе «Загадка «Носа» и тайна лица» С. Г. Бочаров). Например, о майоре Ковалёве сказано, что он «был чрезвычайно обидчивый человек. Он мог простить всё, что ни говорили о нём самом, но никак не извинял, если это относилось к чину или званию». Такая оккупация личного пространства публичным и превращение человека в часть яв160 ляется в повести Гоголя не просто странным происшествием, а глобальным состоянием жизни вообще. Здесь это обобщение вытекает не только из априорной символичности художественного мира, но и обосновывается внутренними связями текста, отменяющими единичность и случайный характер происшедшего. Например, об одном герое сказано: «Господин этот, как видно, принадлежал к числу тех господ, которые желали бы впутать правительство во всё, даже в свои ежедневные ссоры с женою». То же самое касается и майора Ковалёва, апеллирующего к властям после пропажи своего носа, и жены цирюльника Ивана Яковлевича, которая также хочет «впутать правительство» в свою ссору с мужем, грозя донести на него в полицию. Таким образом, символическая репрезентативность странного происшествия повести подкрепляется внутренней взаимной репрезентативностью отдельных её эпизодов. Напомним стихотворение Лермонтова «Парус»: Белеет парус одинокой В тумане моря голубом!.. Что ищет он в стране далёкой? Что кинул он в краю родном?.. Играют волны – ветер свищет, И мачта гнётся и скрыпит… Увы! он счастия не ищет И не от счастия бежит! Под ним струя светлей лазури, Над ним луч солнца золотой… А он, мятежный, просит бури, Как будто в бурях есть покой! В первой строфе различные участки пространства изображённого мира противопоставляются таким образом, что близкое противостоит далёкому, а родное – чужому. Причём эта оппозиция углубляется противоположностью действий: кинул – ищет. Налицо картина ценностного предпочтения и определённое направление движения паруса – от покидаемого края родного к искомой стране далёкой. При 161 переходе от первой строфы к последующим можно заметить смену планов изображения: общий план (взгляд издали, замечающий лишь цветовое белое пятно паруса на голубом фоне моря) и крупный план, предполагающий некое приближение, которое позволяет расслышать скрип мачты. Это приближение к парусу должно как бы открыть в какой-то степени его тайну, чему соответствует смена вопросов первой строфы утвердительной интонацией во второй и третьей. При этом пространственное различие, намеченное вначале, снимается как несущественное. На первый план выступает другое. Если мы посмотрим на сетование лирического героя «Увы, он счастия не ищет / И не от счастия бежит», то здесь покидаемое и искомое как бы уравниваются в понятии «счастие». Поэтому первоначально намеченное направление движения паруса отменяется. Во всех первых двустишиях мы имеем дело с объективными описаниями паруса, а во всех окончаниях строф – с субъективной медитацией наблюдателя. Параллельно выяснению истинных намерений паруса – одного из героев стихотворения – углубляется характеристика того, кто созерцает эту картину; кто задаёт вопросы, сетует, недоумевает, в общем – не остаётся индифферентным. Это тот, кто наблюдает, находясь на берегу. Причём здесь имеется в виду берег не столько как пространственная категория, сколько как ценностно значимая устойчивость существования, которая связана с понятиями «счастия» и «покоя» – в противовес зыбкости и опасности моря. Именно в этих ценностях счастья и покоя укоренён тот, кто сетует во второй строфе («Увы, он счастия не ищет…») и недоумевает в конце («А он, мятежный, просит бури, / Как будто в бурях есть покой!»). Из-за того, что в стихотворении присутствуют два персонажа, различно ценностно ориентированных, общая ценностная картина усложняется. Например, 162 понятия родного и чужого «работают» лишь для того, кто на берегу, и безразличны для того, кому нужно море, а не берег. Понятие счастья принадлежит сознанию того, кто находится на берегу, и является синонимом устойчивости и благополучия («покоя»). Этот смысл уточняется и при выявлении связи по контрасту: счастье в стихотворении «Парус» является антонимом одиночества. Смысловая структура произведения Лермонтова может быть схематически представлена как единый внутри себя, но открытый ряд оппозиций: море берег (край родной = страна далёкая) безграничность граница туман солнце, луч голубой золотой одиночество счастье буря = мятеж покой риск безопасность действие созерцание, слово парус наблюдатель Вертикальная плоскость схемы развёртывает символический аспект смысловой структуры произведения: перед нами семантические слои художественной реальности, организованные взаимной репрезентативностью, способностью обоюдного представительства. Например, туман как некая неясность, неопределённость, нечёткость видения репрезентирует рискованность мятежного существования – и обратно. Эти характеристики взаимно предполагают друг друга. Горизонтальная плоскость схемы обозначает ценностное напряжение мира стихотворения Лермонтова и другой тип его семантических связей – полярных, – о чём речь пойдёт уже в следующей главе. 163 Очень важно то, что авторский взгляд несводим ни к одной из частичных и тем самым относительных позиций персонажей. Он как раз обнаруживается на их пересечении – как горизонт целого, обнимающий различные жизненные установки. Рассмотрим рассказ Чехова «Жалобная книга»: Лежит она, эта книга, в специально построенной для неё конторке на станции железной дороги. Ключ от конторки «хранится у станционного жандарма», на деле же никакого ключа не нужно, так как конторка всегда отперта. Раскрывайте книгу и читайте: «Милостивый государь! Проба пера?!» Под этим нарисована рожица с длинным носом и рожками, Под рожицей написано: «Ты картина, я портрет, ты скотина, а я нет. Я – морда твоя». «Подъезжая к сией станцыи и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа. И. Ярмонкин». «Кто писал не знаю, а я дурак читаю». «Оставил память начальник стола претензий Коловроев». «Приношу начальству мою жалобу на Кондуктора Кучкина за его грубости в отношении моей жене. Жена моя вовсе не шумела, а напротив старалась чтоб всё было тихо. А также и насчёт жандарма Клятвина который меня грубо за плечо взял. Жительство имею в имении Андрея Ивановича Ищеева который знает моё поведение. Конторщик Самолучшев». «Никандров социалист!» «Находясь под свежим впечатлением возмутительного поступка… (зачёркнуто). Проезжая через эту станцию, я был возмущён до глубины души следующим… (зачёркнуто). На моих глазах произошло следующее возмутительное происшествие, рисующее яркими красками наши железнодорожные порядки… (далее всё зачёркнуто, кроме подписи). Ученик 7-го класса Курской гимназии Алексей Зудьев». «В ожидании отхода поезда обозревал физиогномию начальника станции и остался ею весьма недоволен. Объявляю о сём по линии. Неунывающий дачник». «Я знаю кто это писал. Это писал М. Д.» «Господа! Тельцовский шулер!» «Жандармиха ездила вчера с буфетчиком Костькой за реку. Желаем всего лучшего. Не унывай, жандарм!» «Проезжая через станцию и будучи голоден в рассуждении чего бы покушать я не мог найти постной пищи. Дьякон Духов». «Лопай, что дают». «Кто найдёт кожаный портсигар тот пущай отдаст в кассу Андрею Егорычу». «Так как меня прогоняют со службы, будто я пьянствую, то объявляю, что все вы мошенники и воры. Телеграфист Козьмодемьянский». «Добродетелью украшайтесь». «Катенька, я вас люблю безумно!» «Прошу в жалобной книге не писать посторонних вещей. За начальника станции Иванов 7-й». «Хоть ты и седьмой, а дурак». 164 Можно ли, в связи с проблемой предпонимания, говорить о смысле названия до того, как мы приступили к чтению рассказа? Чем мы располагаем в начале? Прежде всего – значением, то есть готовой («дочеховской») семантикой. Мы должны заранее знать, что такое жалобная книга. Однако неверно было бы сводить всё предварительное понимание к пониманию значения. Дело в том, что выражение «жалобная книга» не висит в воздухе и дано здесь не в словаре, а как часть текста. Контекст (категория не значения, а смысла, не языка, а речи) создаётся здесь тем, что слова «жалобная книга» – в момент чтения – берутся в качестве названия рассказа, а не сами по себе. Название произведения маркирует предмет изображения. Поэтому к знанию того, что такое жалобная книга, добавляется знание того, что об этом пойдёт речь. (Здесь мы абстрагируемся от прочих моментов всего богатого комплекса смыслоожиданий, например, того, что перед нами именно чеховский рассказ и т. д.). Описание местонахождения жалобной книги должно a priori иметь отношение к её содержанию. Тем важнее заметить, что это описание в первом абзаце рассказа создаёт образ закрытости: во-первых, имеется в виду буквальная закрытость как «специально построенная» конторка; во-вторых, выясняется, что есть ключ, означающий наложение определённого запрета. Ключ для запирания конторки должен оградить жалобную книгу. Но от чего? Характер запрета помогает выяснить фигура «станционного жандарма», к которому повествователь отсылает как к хранителю ключа. Это официальный запрет. Официальный характер самого назначения жалобной книги соответствует официальному статусу хранителя ключа, который как раз нужен для того, чтобы уберечь жалобную книгу от всего неофициального как постороннего. Однако повествование создаёт образ закрытости как разрушаемый. Дело здесь не только в сообщении о фактической ненужности 165 ключа и постоянной открытости конторки, но и в самой внеофициальной обращённости повествования к читателю: «Раскрывайте книгу и читайте…». Собственно, жалобная книга предполагает лишь одного – официального – читателя – станционное начальство. Поэтому читатель чеховского рассказа ставится в положение нарушителя указанного запрета: жалобная книга раскрывается не для выполнения своей прямой казённой деловой функции, а как предмет праздного любопытства. Но такая неофициальная позиция, на которую настраивается текстом читатель, подготавливает соответствующее содержание. Поэтому ещё до чтения самой жалобной книги мы обнаруживаем в рассказе конфликт «закрытости» официального её назначения и неофициальной ситуации её раскрытия, вторжения чего-то постороннего. Это тот смысловой горизонт, на котором и во взаимодействии с которым осуществляется понимание дальнейших записей, каждая из которых занимает место жалобы, являясь поэтому как бы жалобой. С другой стороны, позиция адресата, занятая читателем, лишает его статуса постороннего, непричастного наблюдателя: надписи книги жалоб обращаются ко всем, кто их читает. Поэтому, например, выражение «Милостивый государь…» может пониматься не только как начало ожидаемой жалобы (казённое клише), но и как обращение к читателю. Соответственно, вторая половина начальной записи указывает, во-первых, на хулиганское использование места, предназначенного для делового текста, в праздных целях, а во-вторых – на обманутое ожидание читателя, настроившегося было началом записи на официальный тон. Кроме того, если обратить внимание на фразеологический характер выражения «проба пера», появляется семантика метафоры первого литературного опыта. Этот смысл работает лишь при соотнесении его с началом самой жалобной книги. «Перо» в такой плоскости обозначает нечто совершенно неофициальное – творческую свободу в противовес казённой регламентированности. Вторжение 166 этой установки на официальную территорию книги жалоб и есть акт хулиганства. К ситуации нарушения казённого запрета читатель, как уже отмечалось, приготовлен с самого начала. Причём важно то, что каждая запись должна пониматься не иначе как на фоне этого запрета на всё постороннее – в контексте официальности книги жалоб. То, что читатель не удерживается на позиции стороннего наблюдателя и оказывается причастным отношениям, развёртываемым в тексте, демонстрируют две стихотворные записи одного типа. Сходство этих записей состоит не только в том, что это стихи, но и в шутливо-оскорбительной направленности. Во-вторых, в обоих высказываниях нарушена обычная граница говорящего и адресата, читатель оказывается втянутым в сферу изображаемого, как бы видит свой «портрет» и вынужден принять «дурака» на свой счёт. Ожидаемые от жалобной книги тексты должны быть направлены мимо праздного взгляда постороннего наблюдателя прямо к начальству, но приведённые записи не дают остаться в стороне, обращаясь к любому читателю. Смысл этого обращения не официальноделовой, а фамильярно-шутливый. Причём важно то, что «я» и «ты» здесь носят не частный, а универсальный характер. Брань («скотина», «морда», «дурак») здесь не относится к отдельному лицу, а является эксцентричным отрицанием безликости как таковой. Имеется в виду нарушение казённых дистанцированных отношений фамильярным контактом, если воспользоваться выражением Бахтина. В истории со шляпой разрушается граница не субъекта и адресата высказывания, а субъекта и предмета. Благодаря речевой ошибке И. Ярмонкин становится шляпой, что порождает конфликт серьёзного содержания (утрата головного убора) и смехового (шляпа – растяпа). Первое делает запись похожей на жалобу, а второе, наоборот, разрушает её официальный смысл. Микромоделью надписи, а также всего 167 рассказа, является сочетание «сией станцыи», где слово «сией» указывает на стремление соблюсти книжный, казённый стиль, а нарушение орфографии – на победу стихии устной речи: как слышу, так и пишу. Такое же весёлое вторжение устного слова слышится здесь в фамилии героя, образованной от просторечного слова «ярмонка» (ярмарка). Вообще ошибки в жалобах и стилистический их разнобой выполняют различные художественные функции, важнейшая из которых – нарушение ожидаемого в жалобной книге единообразия правильного казённого письма. Надпись Коловроева выражает противоположную жалобе направленность: обычно начальство – безликий адресат, а здесь – субъект, конкретное лицо. Но и сама мемориальная акция («Оставил память…») уводит от злободневной плоскости служебных забот к праздному увековечиванию самого присутствия. «Стол претензий» – нечто близкое книге жалоб, однако начальственное лицо дано здесь не «при исполнении», а во внеслужебной ситуации, открывающей, что ему ничто человеческое («постороннее») не чуждо. Поэтому потеря казённой анонимности здесь воспринимается не как утрата, а как приобретение. Следующая запись представляет собой по форме первую настоящую жалобу: «Приношу начальству мою жалобу…». Однако выражение «Жена моя вовсе не шумела…» позволяет распознать в жалобе нечто противоположное – оправдание. Как заметила одна юная читательница, слово «Приношу…» настраивает на дальнейшие извинения. Это подчёркивает ссылка на Андрея Ивановича Ищеева, который может подтвердить благонадёжность «поведения» героя. По сути дела, здесь излагается претензия не конторщика Самолучшева, а того, на кого он пытается жаловаться, – кондуктора Кучкина. Старание героини «чтоб всё было тихо» оказывается слишком шумным. Действие жандарма («грубо за плечо взял») проясняет положение участников 168 скандала: Клятвин, скорее всего, находится у Самолучшева за спиной, и жест его имеет сдерживающий смысл. Таким образом, в жалобе конторщика потерпевшие выглядят более активной стороной, чем выставляемые грубиянами официальные лица. Поэтому суть происшествия, на которое указывает эта мнимая жалоба, совершенно неофициальна. Жалобная книга демонстрирует свою открытость всему неофициальному, к чему читатель готов уже с описания её местонахождения. Причём принципиально важна разнородность входящих сюда текстов. «Постороннее» вторгается в жалобную книгу из различных сфер жизни. Например, можно считать записи «Никандров социалист!» и «Господа! Тельцовский шулер!» в известном смысле жалобами, так как они сигнализируют об определённом нарушении порядка. Но политическое донесение адресовано отнюдь не железнодорожному начальству, а обманутый Тельцовским разоблачает его перед компанией знакомых. В рамки назначения жалобной книги не вписываются свидетельства как политической неблагонадёжности, так и подмоченной репутации карточного игрока. Запись, несколько раз начатая, перечёркиваемая и незаконченная, похожа на самую первую тем, что представляет, с одной стороны, вроде бы вступление к жалобе, а с другой – пробу пера. В первом случае шаблон официального обращения («Милостивый государь»), а во втором – пафос возмущения – обрываются, не доходя до сути дела. Гимназист Алексей Зудьев использует не необходимый официальноделовой стиль, а публицистический («свежее впечатление», «яркие краски»). В обеих записях не видно реального повода для жалобы, но обнаруживается праздное желание что-нибудь написать, оправдывающее фамилию героя. Можно сказать, что текст даёт обещание, которое затем не выполняет. Но это относится ко всем записям жалобной книги, каждая из которых задаёт ожидание жалобы, превращаю169 щееся в ничто. Такова ситуация чтения рассказа Чехова – смеховая, согласно известной кантовской формуле. Вместе с тем, обнаружение на месте ожидаемых жалоб чего-то другого и открывание официальной закрытости как вторжение посторонних – внеофициальных – аспектов жизни создаёт особый – позитивный – характер смеха, смысл которого заключается в том, что обнаруживается больше, чем ожидалось, что жизнь шире своего казённого проявления. Видимо, весьма важно для понимания рассказа выяснить, кто такой неунывающий дачник. В самом тексте есть лишь одна возможность определения причины его недовольства «физиогномией начальника станции». В качестве того, чем может быть недоволен герой, называется здесь лишь уныние. Это всё-таки кажется неясным до тех пор, пока мы не соотнесём не видимую нам «физиогномию» с тем, кому она принадлежит, – человеком, находящимся «при исполнении». Должностная серьёзность вступает в конфликт с игривостью расположенного шутить праздношатающегося дачника (то есть отдыхающего). Недовольство автора записи как раз является выражением этого конфликта: будничность исполнения должностных обязанностей начальника станции не вписывается в праздничность настроения «неунывающего дачника». Но здесь необходимо ещё одно соотнесение. В авторе сплетни насчёт «жандармихи», которая «ездила вчера с буфетчиком Костькой за реку», мы можем узнать того же (или подобного) «неунывающего дачника», так как запись заканчивается издевательским пожеланием: «Не унывай, жандарм!». Кстати, жандарм Клятвин вообще в рассказе находится на границе официального и неофициального. Он хранитель бесполезного ключа от конторки с жалобной книгой. Он стоит на страже нарушаемого общественного порядка в эпизоде с конторщиком Самолучшевым. Он, наконец, воплощая супру- 170 жеский долг, оказывается открытым превратностям внедолжностной, семейной жизни. Выражение «за реку» подчёркивает здесь нарушение границы социального и натурального. Официальный статус героев («жандармиха», «буфетчик») как бы снимается, выявляя более актуальные ценности. Таким образом, жанровому нарушению как вторжению сплетни на место жалобы соответствует откровение внеофициальной – натуральной – стороны жизни. Анонимная подпись «Неунывающий дачник» прячет лицо под маской. Маска в данном случае, с одной стороны, раскрепощает, помогает обойти запрет, а с другой – заинтриговывает, так как не обезличивает, а делает лицо загадкой. И загадочность эта не снимается следующей записью: «Я знаю, кто это писал. Это писал М. Д.». Инициалы вместо имени – продолжение маскарада, нечто вроде шифра, недоступного никому, кроме весёлого круга посвящённых. Автор этой записи мог узнать «неунывающего дачника» как родственную душу. При чтении записи об отсутствии «постной пищи» сбывается жанровое ожидание: это именно жалоба. Записи постоянно напоминают читателю о том, где они находятся, то есть о казённо-деловой сути жалобной книги. В словах дьякона Духова знаменательны следующие два совпадения. Во-первых, официальное сближается с ритуальным благодаря единой модальности долженствования; во-вторых, подразумеваемый здесь виновник отсутствия «постной пищи» буфетчик Костька является героем и предыдущей записи, где он тоже дан как нарушитель должного порядка, соблазнитель «жандармихи» Клятвиной. Читатель, обративший внимание на отсутствие запятой после слова «голоден», обнаруживает авторский насмешливый жест. Но дело вовсе не в безграмотности героя, а в том, что благодаря ошибке происходит малозаметный семантический сдвиг. Между голодом и 171 рассуждением образуется причинная связь: автор жалобы голоден именно из-за своей привередливости, из-за того, что пытается соединить несоединимое – желание поститься и желание «покушать», что подчёркивает стилистический диссонанс, образующийся разговорным (более «тёплым») словом в официально-деловой жалобе. Чувство голода здесь – проявление чего-то натурального и человеческого, которое вступает в противоречие с официальной должностью дьякона Духова (фамилия соответствует должности, как сам человек пытается ей соответствовать). Такой же конфликт естественного (человеческого) и должностного (официального) содержала и предыдущая надпись. Тем самым жалоба дьякона Духова вписывается в объединяющий все записи иронический смысл названия рассказа. Кто мог написать «Лопай что дают»? Единственный, кого могла задеть претензия дьякона Духова насчёт отсутствия «постной пищи», – буфетчик Костька. Надпись буфетчика, которая носит характер ответа, открывает жалобную книгу невозможным для неё диалогическим отношениям между самими «жалобами». Обычная жалобная книга содержит разрозненные записи, являясь, собственно говоря, собранием текстов, а не тем единым текстом, который формируется при чтении чеховского рассказа как художественного целого. Понимание «Жалобной книги» является как раз усмотрением в мнимой разрозненности единства, то есть в жалобной книге – рассказа «Жалобная книга». Важно оговориться, что имеются в виду не только прямые переклички надписей. Например, сентенция «Добродетелью украшайтесь» дана сразу после и «на фоне» предыдущих обвинений уволенным телеграфистом всех в мошенничестве и воровстве. Однако образующееся единство текста вовсе не отменяет уже отмеченной пестроты, разноголосицы записей. Кассир неслучайно объявляет о пропаже кожаного портсигара именно в жалобной книге: то, что должно быть закрыто для всего по172 стороннего, в действительности оказывается предельно открытым, максимально пригодным для объявления. Кроме того, предполагаемая официальность снимается не только жанром и самим пропавшим предметом, отсылающим к внеказённому – праздному – аспекту жизни, но и именем (Андрей Егорыч) вместо должности, а также стилем («Егорыч» вместо «Егорович» – разговорный вариант отчества). Надписи буфетчика и телеграфиста похожи тем, что в них внезапно берёт слово тот, на кого жалуются. Важно заметить, что здесь речь идёт не просто о пьянице как нарушителе служебного этикета. Пьяный телеграфист – нарушитель связи, исказитель передаваемой информации, ставящий под угрозу рациональный миропорядок. Строгая мера, увольнение пьяницы со службы, является целью обычной жалобы. Но эта мера дана на заднем плане, а сама официальная жалоба отсутствует. Жалуется, наоборот, изгоняемый телеграфист. Здесь, как и в других случаях, официальное слово оттесняется неофициальной бранью, а безличный порядок – эксцентричной личностью. Адресат ругани, по-видимому, в первую очередь – официальная инстанция, которой у героя есть основание быть недовольным, хотя «все вы» может иметь и универсальное значение. Это всё рациональное мироустройство. И неслучайно речь идёт о мошенничестве и воровстве – рассудочных грехах (в отличие от пьянства). Можно вообще трактовать упомянутый спор казённого и человеческого в «Жалобной книге» как спор рассудка и безрассудства, что особенно ясно видно в последних надписях: моральную сентенцию «Добродетелью украшайтесь» сменяет любовное послание «Катенька, я вас люблю безумно!», а официальный призыв «не писать посторонних вещей» нарывается на грубое «дурак». Спор официального и человеческого аспектов жизни наблюдается на протяжении всего чеховского рассказа, но в финале это становится прямым – лобовым – столкновением. В предпоследней записи 173 мы слышим не жалобу начальству, а жалобу самого начальства, что весьма многозначительно для понимания всей ситуации. Обычная жалоба является попыткой поддержания казённого порядка, апелляция к которому, собственно, утверждает его непреложность, незыблемость. Здесь же «жалобная» интонация официального лица выявляет то, что сам этот порядок ставится под вопрос. Начальственный запрет на «постороннее» оказывается таким же бессильным и ненужным, как ключ от конторки. Последнее слово в жалобной книге остаётся за «неунывающим дачником» – олицетворением дурачащейся и дурачащей фамильярности «постороннего» (то есть внешнего, большого, неказённого) мира. Чеховская жалобная книга вместо предполагаемого официально-делового, то есть функционального, безличного единства обнаруживает живой спор человеческого с казённым, весёлого хулиганства с серьёзным недовольством, детской беззаботности с заботой о порядке. Этот спор и завершает «Жалобную книгу». Просьба официального лица «не писать посторонних вещей» и последующее оскорбление («дурак») – модель всего рассказа. Читатель воспринимает этот спор с той шутливой, неофициальной точки зрения, на которую текст настраивает его с самого начала. Как уже говорилось, читать жалобную книгу означает нарушать запрет. Так что чтение здесь само носит характер хулиганского вторжения постороннего на официальную территорию. Смеховое поведение читателя есть по существу своему колебание заданной регламентированности отгороженной сферы жизни, возникающее благодаря тому, что каждая запись жалобной книги напоминает о казённом назначении текста, и – одновременно – о неказённых «посторонних вещах» – об остальной жизни, о жизни как таковой. Таким образом, рассказ Чехова демонстрирует обе упомянутые ранее стороны художественного обобщения (generalisatio и communi174 catio): расширение смыслового объёма единичных впечатлений до общей юмористической формулы жизни и вовлечение читателя в эту смеховую ситуацию. Практически все, кто пишет о символе, отмечают его смысловую многослойность, полисемию. Например, М. Элиаде называет важнейшей характеристикой религиозной символики «многовалентность, её способность одновременно выражать многие значения...» (Элиаде М. Мефистофель и андрогин. СПб., 1998. С. 355). Барон, герой затронутого нами ранее пушкинского «Скупого рыцаря», есть символ конца эпохи рыцарства и начала эпохи скупости, но также это символ неудачной глобальной попытки уберечь жизнь от расходования, быть «выше всех желаний». То есть «Скупой рыцарь» – нечто более широкое, чем историческая пьеса. И сказанное, разумеется, не исчерпывает всего смыслового объёма трагедии Пушкина. Эта смысловая перспектива бесконечна. Символический мир художественного произведения есть территория собирания, встречи смыслов. Поэтому логическая «фигура истолкования» художественных текстов – это чаще не дизъюнкция (или ..., или), а конъюнкция (и..., и). Э. Д. Хирш писал, что ни у какого смысла текста не может быть привилегий перед любым другим и все смыслы «онтологически равноправны» (ontologically equal). [См.: Hirsch E. D. The aims of interpretation. Chicago & London, 1976. Р. 76.] Видимо, именно символическую многослойную природу текста, правда, не художественного, имел в виду Августин Блаженный, писавший по поводу толкования слов Моисея следующее: «Поэтому, когда один скажет: «Он думал, как я», а другой: «Нет, как раз, как я», то, полагаю, благочестивее скажу я: «А почему не так, как вы оба, если оба вы говорите правильно?» И если кто увидит в этих словах и третий смысл, и четвёртый, и ещё какой-то, только бы истинный, почему не поверить, что все их имел в виду Моисей, которому Единый Бог 175 дал составить священные книги так, чтобы множество людей увидело в них истину в разном облике?» (Августин Блаженный. Исповедь. 12, XXXI). Приведя именно эту цитату, Г. Г. Шпет подвергает критике теории многозначности смысла за то, что «предпосылка многозначности открывает большой простор для произвольных толкований текста» (Шпет Г. Г. Герменевтика и её проблемы // Контекст. 1989. М., 1989. С. 240). Тем не менее, если мы имеем дело с символическим текстом (а таков, по крайней мере, любой художественный текст), то должны заранее примириться с неизбежной многозначностью. Отсюда следует то, что произвольность толкований художественного произведения преодолевается не отказом от его полисемичности, а постижением его символической логики, установлением единства его смысловых слоёв. Что такое Сфинкс в рассматривавшемся рассказе Э. По: вид насекомого, мифологическое чудовище или вечная загадочность природы? Так поставленный вопрос принуждает выбрать одно значение, как бы единственно верное. Однако в том-то и дело, что образ Сфинкса собирает в символическое единство все эти смыслы. Рассмотрим стихотворение Ф. Сологуба: Все эти ваши слова Мне уж давно надоели. Только б небес синева, Шумные волны да ели, Только бы льнула к ногам Пена волны одичалой, Сладко шепча берегам Сказки любви небывалой. Кто здесь «вы»? Можно ли узнать содержание надоевших «слов»? Это взаимосвязанные вопросы. Если бы имелись в виду конкретные слова конкретного человека, то можно было бы противопоставить им другие. Однако здесь обнаруживается более радикальная оппозиция: слова – не-слова. Как «вы» – люди вообще – противопоставляются природе, так «слова» – шуму волн и елей. 176 Налицо жест отказа от слова как от культуры в пользу природы, недаром волна одичалая. Объяснение отрицательной интенции первых стихов происходит в развёртывании того, что предпочитает лирический герой, в последующих строках. Это развёртывание образует как раз ту полисемантическую структуру, которая называется символом. Предпочтение «словам» «сказок любви небывалой» собирает следующие смысловые аспекты: 1) «слова» надоедают как проза в отличие от поэтичных «сказок»; 2) «слова» – нечто опостылевшее, безразличное, антоним любимого («любви небывалой»), ср.: «сладко», «льнула»; 3) «слова» обыденны в отличие от «небывалого»; 4) шёпот и шум (глухая, личная, интимная задушевность) предпочитается громкой публичной интонации речи; 5) эмоциональное предпочитается рациональному, это связано с оппозицией «волны» и «берегов» как образов стихии и порядка; в понятиях «пены» и «сказок» есть что-то общее: иллюзии воображения, фантомы на фоне «рассудочной» устойчивости «берегов». Конечно, указанные значения не исчерпывают многослойности символа. Но они обнаруживают взаимное притяжение, обеспечивающее единство символической перспективы. Понятие символа и связанного с ним единства смысловой перспективы не предполагает, как мы видим, наличия некоего «главного», «центрального» значения. Поэтому оно, на наш взгляд, гораздо более соответствует природе художественного произведения, чем несколько механистичное понятие «множественности» Р. Барта, стремившегося уйти от иерархии значений и от того, что он называл «игом целостности» (Барт Р. S/Z. М., 1994. С. 15). Само понятие символа Барт трактует именно и только как множество, совокупность смыслов (См.: Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989. С. 177 344). Это смыкается с приведённым ранее понятием «многовалентности» символа Элиаде, однако в другой своей работе последний утверждает, что символ «всегда открывает человеку глубинное единство различных областей реальности» (Элиаде М. Трактат по истории религий. Т. II. СПб., 1999. С. 393). Такое сопряжение множества и единства в структуре символа «делает для человека доступным свободное движение по всем сферам бытия…» (С. 399). Здесь важно подчеркнуть то, что смысловые слои символа не просто сосуществуют, а взаимодействуют, будучи связанными отношениями взаимного представительства. Герой рассказа Чехова «Беглец» оказывается на границе весёлой и страшной сторон жизни. Все, кого Пашка встречает в больнице (и прежде всего – сама больница), обнаруживают двойственный характер. Яркость и великолепие больничных покоев, вкусная пища и, с другой стороны, ночной ужас, приступ одиночества. В разговоре с доктором тоже присутствуют эти противоположности: доктор «весело закричал», «весёлый и покладистый малый», обещает свозить Пашку на ярмарку. С другой стороны: «Пашка покосился на таз с кровяными помоями, поглядел на докторский фартук и заплакал». Парень, подпрыгивающий на одной ноге и напоминающий Пашке воробья, кажется смешным («прыснул в рукав»), но оказывается, что у него нога может пропасть, как и рука у самого Пашки. То же соединение забавного и серьёзного происходит во встрече с мужиком, который «всё время, как маятником, кивал головой и махал правой рукой». Пашке сначала это представляется курьёзным, «но когда он вгляделся в лицо мужика, ему стало жутко, и он понял, что этот мужик нестерпимо болен». Старик, у которого в груди «что-то свистело и пело на разные голоса», сначала вызывает простое любопытство: «Пашке понравилась одна особенность старика». Ночью же эта осо178 бенность в числе прочего приводит его в ужас. Амбивалентное соседство жуткого и смешного связано с распадом внешней и внутренней сторон бытия – видимости и сущности. Великолепие городской (цивилизованной) жизни – яркий обман, за которым – страшная истина. Поэтому можно сказать, что в рассказе присутствует ситуация утраченных иллюзий. Ещё более древний смысловой слой произведения – схема обряда инициации, в центре которой – событие повзросления, второго рождения через прикосновение к ночной стороне бытия. Когда доктор говорит с Пашкой на его детском языке (о ярмарке, чижах, лисице), то он тем самым утаивает взрослую жуткую суть существования. Беззаботность и инфантильность взрослых же доктор, наоборот, безжалостно разбивает: «Я велел тебе прийти в понедельник, а ты приходишь в пятницу. По мне, хоть вовсе не ходи, но ведь, дурак этакой, нога пропадёт!» – ругает он подпрыгивающего на одной ноге парня. То же самое он говорит Пашкиной матери: «– Бить тебя, баба, да некому...Отчего ты раньше его не приводила? Рука-то ведь пропащая!..». Однако после побега доктор говорит с Пашкой так же, как со взрослыми: «– Ну и дурак, Пашка! Разве не дурак? Бить бы тебя, да некому». «Некому» именно потому, что герой как бы уже взрослый: обряд инициации совершился. Название рассказа, указывающее на поэму Лермонтова, обнаруживает тем самым ещё один смысловой слой произведения. Лермонтовский герой бежал «в страхе с поля брани» домой, к матери. «Поле брани», как и больница, – область страха, крови, смерти. В обоих произведениях побег совершается ночью. И там, и там беглец устремляется к освещённому окну. В рассказе Чехова за этим окном, конечно, не мать, как у Лермонтова, но «знакомое лицо», составляющее счастливый контраст пережитому ужасу встречи с больничными могильными крестами. При всей разнице образов матери в поэме и рассказе общее заключается в событии отлучения, разрыва пуповины: 179 у Чехова мать оставляет сына в больнице, а у Лермонтова – прогоняет от себя. Герой поэмы – не выдерживающий инициации, гибнущий. У Чехова герой тоже пытается уйти от страшного взрослого мира. Причём, хоть и по-разному, но у обоих персонажей нет обратного пути домой. Каждый из указанных нескольких слоёв символического смысла рассказа «Беглец» не может претендовать на центральное положение, на роль «смыслового ядра». Однако, с другой стороны, это не самостоятельные «смыслы», а именно слои, интегрированные в символическое единство. Чем больше таких слоёв воспримет читатель, тем объёмнее будет его впечатление. Переклички с Лермонтовым, например, можно и не заметить. Это не значит, что событие художественного восприятия не состоится. Кстати, такая перекличка не единственна. Когда Пашка вечером в больнице вспомнил о доме, то «ему стало вдруг скучно и грустно». Не имеет значения, намеренно или нечаянно, но автор здесь связал происходящее со стихотворением Лермонтова. Пропуск каких-то слоёв смысла в реальном чтении неизбежен. Важно при этом сознавать то, что, читая художественное произведение, мы имеем дело с символически объёмным миром, что понимание художественного смысла поэтому – не простой акт дешифровки (как понимание аллегории), а погружение в бесконечную, семантически многослойную, объёмную реальность. Единство символической территории художественного произведения обеспечивается тем, что различные слои интерпретируемого смысла обладают, как уже было сказано, способностью взаимного представительства. П. Тиллих называет репрезентативную функцию символа «основополагающей» (Тиллих П. Избранное: Теология культуры. М., 1995. С. 275). 180 Поэтому толкование символов обычно и является установлением символически-репрезентативных отношений. Например, различные «планы» образов шекспировского «Макбета», как их описывал Бахтин: это «логика самоувенчания», но в ней выражается логика венца и власти вообще, а также (ещё шире) «логика всякой самоутверждающейся и чуждой смене и обновлению жизни» (Бахтин М. М. Собр. соч. Т. 5. М., 1996. С. 85–86). Г. А. Гуковский, говоря о пушкинском стихе «В багрец и золото одетые леса», отмечает, что это реальные красный и жёлтый цвета, но не только: это «ещё и величие, пышность, царственность; это слова, обозначающие одеяние власти, силы, могущества. А ведь листва, как одеяние, этот образ дан в первых стихах «Осени» («Уж роща отряхает...»), и значение величия и пышности подготовлено строкой, непосредственно предшествующей разбираемому стиху – «пышное» природы увяданье, как бы трагическое величие умирания героя и властителя» (Гуковский Г. А. Пушкин и русские романтики. М., 1965. С. 107). Символ, как видно из приведённых толкований, выражает семантическую открытость – по формуле «ещё и…». О. М. Фрейденберг описывает символическую природу хлеба в своей замечательной работе: «Так, хлеб (он же солнце) есть живое существо, с биографией страстей, претерпевшее земную муку» (Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997. С. 206 – курсив наш – Л. Ф.). Символ, таким образом, – это А, оно же Б, оно же В... , как фиктивные имена преступника (с той разницей, что в символе эти «оно же» перечисляют не фиктивные, а настоящие «имена» смысла). Отчётливо просматривается связь символичности художественного произведения и так называемого круга толкования, то есть герменевтического правила понимания общего через частное, а частного через общее (См., например: Дильтей В. Собр. соч. Т. IV. М., 2001. С. 143). 181 Попробуем прочесть в такой плоскости несколько строк следующего стихотворения Б. Пастернака. Так начинают. Года в два / От мамки рвутся в тьму мелодий, Щебечут, свищут, – а слова / Являются о третьем годе. Так начинают понимать. / И в шуме пущенной турбины Мерещится, что мать – не мать, / Что ты – не ты, что дом – чужбина. Что делать страшной красоте / Присевшей на скамью сирени, Когда и впрямь не красть детей? / Так возникают подозренья. Так зреют страхи. Как он даст / Звезде превысить досяганье, Когда он – Фауст, когда – фантаст? / Так начинаются цыгане. Так открываются, паря / Поверх плетней, где быть домам бы, Внезапные, как вздох, моря. / Так будут начинаться ямбы. Так ночи летние, ничком / Упав в овсы с мольбой: исполнься, Грозят заре твоим зрачком, / Так затевают ссоры с солнцем. Так начинают жить стихом. 1921 Первое предложение («Так начинают») носит характер обобщения: при неясности того, как именно «начинают», кто начинает и о начале чего идёт речь, очевиден основной предмет изображения – начало. Сама неопределённость понятия настраивает на глобальность его смысла – начало вообще, начало как таковое. Легко убедиться в том, что это понятие относится ко всему тексту в целом – вплоть до последнего стиха. Причём к повторяющемуся слову «начинают» примыкает целый ряд близких по смыслу выражений: «являются», «пущенной», «возникают», «зреют», «открываются», «затевают». Мы, кажется, имеем дело с общим смыслом стихотворения, который объединяет его. Но важно обратить внимание на то, что читатель оказывается в ситуации необходимости сопряжения глобальности и, одновременно, неопределённости понятия начала и, с другой стороны, возникающих на горизонте чтения конкретных, всё новых и новых, подробностей. Это сопряжение общего и частного и образует так называе- 182 мый круг понимания, о котором писали в Германии в начале XIX века. Как только читатель узнаёт о двух-трёхлетнем возрасте, понятие начала конкретизируется: детство означает начало жизни. Однако необходимо заметить противопоставление в первой строфе: между двумя и тремя годами не просто количественная, но качественная разница – между щебетом и свистом, с одной стороны, и словами – с другой. Здесь проходит граница чисто природного (птичьего) звука и человеческого смысла. В связи с этим слово «мамка» приобретает символическое значение – природа, чисто родственная связь. Читатель улавливает это значение в переходе от частного к общему: попытка ребёнка вырваться из-под материнской опеки символизирует желание любого человека стать самим собой. Читатель при такой генерализации смысла до определённой степени идентифицирует себя с героем (по крайней мере должен это сделать). Начало «самостоянья человека» связано с переходом границы дома («мамка») и мира («тьма мелодий»). Это граница известного и неизвестного, своего и чужого, надёжного и опасного, прискучившего и интересного и т.д. В указанном круговом движении понимания схватывается важнейшая особенность символа – единство общего смысла и частной подробности, или «бесконечного» и «конечного», по определению Шеллинга. Стих, открывающий вторую строфу («Так начинают понимать»), объясняется появлением «слов» (а с ними – и смысла) в предыдущем четверостишии. Сравнение начальных предложений первой и второй строф даёт увидеть разницу двух «начал» – первого (природного) рождения и второго (осмысленного). Первому соответствуют естественные щебет и свист, второму – искусственный «шум пущенной турбины». Для понимания стихотворения чрезвычайно важно не 183 потерять из виду отмеченную сопряжённость общего и частного, символической глобальности ситуации и конкретных деталей, а главное – их перекличек. Неизбежное отчуждение человека от готового, прирождённого бытия как становление его самосознания связывается во второй строфе с распадом единого мира на два: внешний (который налицо) и внутренний (который «мерещится» «поверх» наличного). Аналогичный распад мира дан в следующем четверостишии: «Так возникают подозренья» («под» непосредственно зримым). Изолированное рассмотрение третьей строфы сталкивается с непреодолимыми трудностями: о какой краже детей идёт речь? Такое изолирование частной подробности от общей ситуации как раз и разрывает символическую структуру изображаемого, а с нею – и круг понимания. Образ ребёнка связывается читателем с объединяющим весь текст понятием начала. Кроме того, начало человека дано у Пастернака как драматичный (не случайно появляющееся далее имя Фауста) порыв «от мамки» «в тьму мелодий». Мелодии неизведанного мира и «крадут» детей, соблазняют их. Поэтому можно считать выражения «тьма мелодий» и «страшная красота» синонимичными. С другой стороны, кража детей может быть понята и в связи с последующим, появляющимся в четвёртой строфе образом цыган, о которых сказано, что они не «появляются», а «начинаются». Это принципиально важно: ведь имеется в виду не то, что ребёнка крадут помимо его воли, а то, что в каждом человеке «начинается» цыган, когда он становится собой, то есть сам предпочитает дому путь. И так далее. Общий многослойный смысл понятия начала развёртывается и конкретизируется (при повороте от целого к части), наполняется всё новыми оттенками – по мере появления на горизонте чтения всё новых подробностей, каждая из которых интегрируется (при повороте от части к целому) в образующееся смысловое единство. 184 Итак, известное положение П. Рикёра о коррелятивности понятий «символ» и «интерпретация» (См.: Рикёр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М., 1995. С. 18) подводит к соотнесению способности символа выразить через часть целое и старинного герменевтического принципа понимания части через целое, а целого – через части. Понимание движется по кругу именно потому, что сама символическая реальность имеет структуру взаимной репрезентации целого и частей. Прочтя название рассказа Акутагавы «Трясина», мы располагаем лишь готовым значением слова «трясина»: земля, потерявшая свою обычную устойчивую твёрдость и приобретшая опасную зыбкость; это может означать и аналогичные вязкие обстоятельства человеческой жизни. Однако чрезвычайно важно то, что это значение дано нам именно в качестве названия, которое охватывает целое произведение, относясь ко всему в нём. Поэтому переход от абстрактно и предварительно намеченной семантики заголовка к первой порции читаемого текста есть переход от целого к части. Рассказ начинается со следующего описания (воспользуемся переводом В. Сановича): Случилось это в дождливый день после полудня. В одном из залов картинной галереи я обнаружил картину, написанную маслом. «Обнаружил» – сказано, пожалуй, слишком сильно, впрочем, что мне мешает так именно и сказать: ведь только эта картина висела в полутёмном углу, только она была в ужасающе бедной раме; картину повесили и словно тут же о ней забыли. В описании местонахождения картины можно заметить повторяющуюся особенность – определённую размытость границ: света и темноты («полутёмный угол»), показа и сокрытия («картину повесили и словно тут же о ней забыли»). То, что автор картины «не принадлежал к числу известных», ставит его тоже на границу известности и анонимности. «Ужасающе бедная рама» картины как бы отчасти стирает границу между художественным изображением и действительно- 185 стью: рама указывает и на художественную завершённость изображения, и на прозу бедной жизни. Отмеченная особенность перекликается с названием, в котором тоже размывается граница между такими элементами мира, как земля и вода. То, что «трясина» – название картины, возвращает читателя к смыслу целого: в центре повествования находится художественное произведение, которое, с одной стороны, обещает показать что-то соответствующее своему названию, а с другой – связать изображение с намеченным контекстом жизни рассказчика. Этот общий смысл уже менее абстрактен по сравнению с увиденным в отдельно взятом названии рассказа. Читатель совершает герменевтический круг от целого к части и обратно. В одном направлении (от целого к части) происходит конкретизация (и воплощение), а в другом (от части к целому) – интеграция (и обобщение) художественного смысла. Усилие понимания, которого требует рассказ, является продолжением, развёртыванием понимания картины, описываемой рассказчиком. Таким образом, налицо понимание понимания. То, что перед нами не простое описание, а именно толкующее, показывает его направленность «вглубь». Сначала образы картины вызывают нечто вроде недоумения: …картина изображала всего-навсего ржавую воду, сырую землю да ещё траву и деревья, густо растущие на этой земле; в ней не было ровным счётом ничего, на чём мог бы остановить взгляд обычный посетитель. Затем рассказчик говорит уже о своём потрясении. Процесс созерцания картины дан как переход рассказчика на более глубокий уровень её понимания: И постепенно, чем больше я в неё вглядывался, тем яснее понимал, какую она страшную таит в себе силу. Особенно земля на переднем плане, – земля была написана до того убедительно, что вы явственно ощущали, как ступает по ней ваша нога, как с тоненьким всхлипом увязает по самую лодыжку в гладкой дрожащей жиже… 186 «Сила» картины выражается в способности её заставить зрителя почувствовать себя причастным происходящему, как бы «увязающим» в нём. Картина оказывается зеркалом, отражающим зыбкость, неустойчивость жизни того, кто её созерцает и понимает. При этом смысл изображения охватывает, конечно, не только зрителя, но и создателя: За небольшой картиной маслом я разглядел несчастного её художника, который стремился возможно острее показать саму суть природы… Итак, толкование картины предполагает выявление символического, обобщённого смысла её образов: часть природы репрезентирует саму её суть. Читатель рассказа участвует в этом событии осмысления рассказчиком картины. Однако очевидно то, что смысл рассказа не сводится к смыслу картины. Это снова заставляет совершить переход от общего смысла целого к частностям, характеризующим не столько саму картину, сколько её восприятие героями. Обращает на себя внимание странность: как рассказчик мог увидеть в описываемой им картине то, что её автор несчастен? Природа на картине предстаёт, на первый взгляд, чем-то далёким от человека (не случайно его образ отсутствует) и чуждым ему. Она изображается здесь не как нечто прекрасное, не как предмет любования, а как «страшная» истина жизни, действующая на зрителя своей «убедительностью». Приобщённость этой истине делает несчастными и автора, и зрителя. Какая это истина? Ответ на этот вопрос лежит в плоскости спора двух зрителей – рассказчика и критика. Критик находится на поверхностной позиции внешнего правдоподобия: «Какой же нормальный станет писать в таком цвете…!» Но именно так смотрел на картину вначале и сам рассказчик: 187 Странно, но художник писал столь густую растительность, совершенно не пользуясь зелёными красками. Тростник, тополя, фиги – всё это было грязножёлтого цвета. Какого-то гнетущего жёлтого цвета, цвета сырой глины. Для того, чтобы понять эту странность, нужно было совершить как раз то герменевтическое усилие, которое приводит рассказчика к более глубокой точке зрения: «чем больше я в неё вглядывался, тем яснее понимал…». Природа может быть увидена с точки зрения жизни (окрашенной зелёным цветом роста) и с точки зрения смерти (возвращения к земле, к «сырой глине»). Но второе возможно увидеть лишь «глазами несчастья». Внешне неправдоподобное оказывается в этом случае глубоко истинным – это выражение трагического аспекта существования. Критик не способен увидеть это из-за эстетской отстранённости своей позиции. С этим персонажем закономерно связан ряд образов смеха. Точка зрения критика – точка зрения жизни: смерть – это то, что нас, живых, не касается. Не случайно он говорит об авторе картины, что тот «был мёртв и при жизни». «Нормальный» для критика цвет – это цвет жизни. Социальная состоятельность, самодовольство, благополучный облик – платой за всё это оказывается истина. И наоборот: цена истины – счастье. Причём последнее касается как автора картины, так и зрителя: погружение в создание или в созерцание произведения здесь – погружение в «трясину», в осознание причастности человека трагической зыбкости, неустойчивости жизни (глина здесь является символическим материалом смертного человека). Процесс постижения смысла картины сопровождается нарастанием ощущения причастности зрителя, всё большей вовлечённости его в изображаемое. Символический размах художественного образа «дотягивается» до любого человека, который понимает его обобщённый смысл. Когда в последний раз рассказчик глядит на картину, он видит в ней то, что «природа – это есть мы!» В свете этой открывшейся зрителю картины истины проясняется подробность, мелькнувшая в 188 начале рассказа: «Случилось это в дождливый день после полудня». Эта деталь размывает границу зала картинной галереи, где идёт спор рассказчика и критика, и дождливого дня, человека и природы, земли и воды и т. д. Интеграция подобного рода частностей возвращает читателя к смыслу целого рассказа, причём не к исходному (абстрактному) пункту, а к определённому (детализированному и при этом единому) образу мира. В таком «колебании», переходе от целого к части (и обратно) состоит понимание. Переход от части к смыслу целого всегда сопровождается символическим обобщением; обратный переход – от целого к части – инкарнацией (воплощением) смысла. Вот почему в понимании осуществляется не порочный, пустой, а обогащающий, постоянно приближающий к смыслу, круг. 7. ЦЕННОСТЬ В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною; и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош; и отделил Бог свет от тьмы. Бытие I Следующая характеристика произведения и, соответственно, a priori его интерпретации: художественный мир – это зона оценивания. Иначе данная аксиома формулируется следующим образом. Ничто в художественном мире не находится в стороне от авторских ценностных акцентов изображения, даже если, на первый взгляд, что-то кажется совершенно нейтральным. Приведём пример: Качается лодка на цепи, Привязана крепко она, Чуть движет на привязи ветер, Чуть слышно колышет волна... (К. Случевский) 189 Создаётся впечатление, что это совершенно нейтральное описание, в котором не содержится никаких оценок. Однако в том-то и дело, что строфа – лишь часть целого. Следующие строфы обнаруживают ценностный характер образов стихотворения: ...Ох, хочется лодке на волю, На волю, в неведомый путь. И свёрнутый парус расправить, И выставить на ветер грудь! Но цепь и крепка, и не ржава, И если судьба повелит Поплыть, то не цепь оборвётся, А треснувший борт отлетит. Цепь оказывается в ценностном единстве произведения образом несвободы, зависимости от судьбы. Цепь связывает желание «воли», «неведомого пути», движения. Ценностная природа образов художественного произведения органично связана с эффектом их поляризации, благодаря которому никаких «нейтральных» образов в мире произведения не существует: все они как бы стремятся к одному из полюсов. Например, в рассматриваемом стихотворении Случевского за словом «качается» стоит образ, связанный с полюсом несвободы, – в противовес понятию «поплыть». Вообще все определения неподвижности, очевидно, «стремятся» к полюсу «неволи». При этом полюс несвободы является здесь ещё и полюсом жизни, хотя и связанной, «чуть» заметной. Полюс же «воли», на котором находится образ расправленного паруса, – это именно полюс смерти. Такова трагическая ситуация стихотворения Случевского. Образ освобождения в последней строфе оказывается образом гибели. Эта трагическая логика выявляется, например, в изображении воды. С водой в стихотворении связано движение. Вода здесь – стихия воли, событие освобождения («поплыть»). Однако это и стихия, угрожающая смертью: ведь лодка потонет, если «треснувший борт от190 летит». С образом воды единую ценностно-смысловую группу составляют образы ветра, расправленного паруса. Легко заметить, что в стихотворении нет подробностей, играющих служебную, вторичную роль. Здесь отсутствует сама разница «важного» и «неважного», касается ли это описания привязанной лодки (первая строфа), или её мечтаний о воле (вторая строфа), или, наконец, печального столкновения мечты и действительности (третья строфа). Мир рассматриваемого произведения, поскольку оно художественное, – зона очеловечивания. С одной стороны, трагическое ощущение зависимости от жизненных обстоятельств воплощается в образе лодочного причала. С другой стороны, неодушевлённый предмет (лодка) одухотворён мечтой о свободе и персонализован. Поэтому треснувший борт воспринимается как «треснувшая» жизнь. Очевидно, что рассматриваемое стихотворение представляет собой не простое описание единичного случая, некую «зарисовку с натуры». Вступая в сферу художественного изображения, мы оказываемся в мире, где всё – символ. В данном случае, например, цепь есть не только простая цепь, материальная вещь в материальном мире, но ещё и символ несвободы. И, наконец, как было ранее сказано, мир произведения Случевского – ценностная зона, где отсутствуют не только случайные детали, но и ценностно нейтральные. Эта последняя важная характеристика литературного произведения до сих пор находится на периферии внимания, а якобы наивное читательское представление о героях произведения как «положительных» и «отрицательных» не принимается всерьёз. Разумеется, наличие в произведении «положительных» и «отрицательных» героев – скорее исключение, чем правило. Можно с некоторой натяжкой привести в качестве примера отрицательного героя Петра Петровича Лужина, а положительного – Пьера Безухова, хотя это будет большим 191 упрощением. В любом случае круг художественного произведения как зона оценки представляется полем ценностного напряжения, которое может обнаруживаться внутри человека, а не только между людьми (как в пьесе Фонвизина). Прочтём начало повести Карамзина «Бедная Лиза»: Может быть, никто из живущих в Москве не знает так хорошо окрестностей города сего, как я, потому что никто чаще моего не бывает в поле, никто более моего не бродит пешком, без плана, без цели – куда глаза глядят – по лугам и рощам, по холмам и равнинам. Всякое лето нахожу новые приятные места или в старых новые красоты... Первые строки повести кажутся чисто вводными и не имеющими прямого отношения ко всей истории бедной Лизы. Однако повествование, воспринимаемое, на первый взгляд, нейтральным, втягивает читателя с самого начала в поле ценностного напряжения, охватывающего весь мир «Бедной Лизы». В процитированном первом абзаце ценностный акцент любующегося взгляда повествователя перенесён с Москвы на её окрестности, то есть с большого города на природный ландшафт. Городское и природное пространства различаются в повести как искусственное и естественное. Поэтому пешие прогулки противопоставляются здесь городским (например в карете), а отсутствие плана и цели оказывается очень важной установкой недоверия рассудку, соответствующей как раз внерассудочному природному пространству окрестностей, между тем как город есть царство планов, целей и рассудка. Причём совершенно ясно, где здесь положительный полюс, то есть что предпочтительнее для повествователя, какую территорию он выбирает. Легко убедиться в том, что это ценностное противопоставление распространяется на всю повесть. Недаром Лиза слышит от матери следующее признание: «У меня всегда сердце не на своём месте, когда ты ходишь в город...». Эта чуткость сердца, в отличие от рассудка, не обманывает: город действительно оказывается источником напастей. Когда Эраст в лодке переплывает с городского берега на тот, где сидит на траве Лиза и думает о нём, то он пересекает ука192 занную ценностную границу, разделяющую город и природу, мир лжи, общественных условностей, корыстолюбия и мир естественных чувств, где сердце как раз «на своём месте». Вся повесть пронизана борьбой этих городских искусственных и, с другой стороны, натуральных ценностей. Когда Лиза идёт в город продавать цветы, то она также пересекает указанную границу. Цветы как часть природы оказываются в городе уже товаром, то есть элементом социальных ненатуральных отношений. Но когда уже влюблённая в Эраста Лиза ждёт, что именно он захочет снова купить ландыши, она отказывает всем другим покупателям, говоря, что цветы «непродажные». Не встретив Эраста, Лиза бросает ландыши в Москву-реку. Здесь с цветами происходит обратная метаморфоза: из товара они становятся знаком естественного чувства и возвращаются к своей изначальной натуральной сущности, что подчёркивает символическое исчезновение их в реке. Так же в пруду затем утонет и сама героиня. Лиза как бы повторяет путь своих цветов, пересекая границу городского пространства. Если цветы могут оказаться «непродажными» (свидетельство действия сентиментальных ценностей), то деньги, которые даёт отвергаемой Лизе Эраст, – знак влияния «бесчувственного» пространства города; и именно денежные соображения разлучают с Лизой Эраста, который женится на богатой вдове. Первый разговор Эраста и Лизы не может продолжиться именно на городской улице, в зоне, как бы пронизанной враждебностью по отношению к естественным чувствам: «...мимоходящие начали останавливаться и, смотря на них, коварно усмехались». Любовное же признание совершается по другую сторону ценностной границы – на поросшем травой берегу реки, то есть в натуральном, органичном для сентиментальных отношений пространстве. К указанным ценностным полюсам «Бедной Лизы» примыкает оппозиция большого и малого. Городское пространство в 193 повести Карамзина изображается как большое, необъятное, подавляющее человека. Москва в начале произведения описывается следующим образом: «сия ужасная громада домов и церквей, которая представляется глазам в образе величественного амфитеатра: великолепная картина...» (здесь и далее выделено мною – Л.Ф.). Затем упоминаются «бесчисленные златые купола» и «бесчисленные кресты». С этим описанием перекликается эпизод прихода Лизы в Москву после исчезновения Эраста: «На одной из больших улиц встретилась ей великолепная карета...». Человек в необъятном пространстве города – потерянный человек. Однако он находит-ся в малом идиллическом пространстве любви: «Эраст вышел и хотел уже идти на крыльцо огромного дому, как вдруг почувствовал себя – в Лизиных объятиях». Сентиментальный круг объятия – воистину то пространство, где можно себя почувствовать. Таким образом, пространственные категории «объятого» и «необъятного» оказываются в художественном мире ценностными категориями. Отсюда многочисленные уменьшительно-ласкательные атрибуты натурального пространства: лесочки, рощица, птички и т. п. Итак, ценностно разнороден мир, простирающийся вокруг человека. Но и «внутри» человека, в его душе мы находим то же ценностное напряжение естественного чувства и искусственного рассудка. Следует отметить присутствие данного напряжения уже в названии повести, где слово «бедная» может характеризовать сословно-имущественное положение героини, но также выражает сентиментальное отношение к печальной её судьбе. То есть определение «бедная» содержит и рассудочный, и чувствительный смыслы, которые находятся в отношении ценностного спора. Тот же конфликт сословного и человеческого, рассудочного и сентиментального обнаруживает знаменитая фраза: «...и крестьянки любить умеют!» 194 Предпринятое рассмотрение повести Карамзина обнаруживает ценностный характер пространства художественного мира. То же самое выявляется в плоскости художественного времени. Обратимся к рассказу Бунина «Холодная осень», в котором ценностное напряжение образуется на пересечении различных слоёв времени: социального (необратимого, «векторного») и семейного. Точными датами обозначены у Бунина политические события: убийство Фердинанда, объявление войны. Семейные события – именины отца, помолвка – связаны с цикличным, природным временем (Петров день). Выражение необратимости социального времени – событие как новость. Неслучайно об убийстве кронпринца, послужившем поводом для войны, сообщает газета. Когда же говорится, что «после ужина подали, по обыкновению, самовар», то здесь обнаруживается иной слой времени – происходящего по обыкновению. В плавном течении семейной жизни отсутствует момент неожиданности: именины повторяются ежегодно, а помолвка отчасти предопределена тем, что герой «всегда» считался в имении, где он гостит, «своим человеком». В помолвке, таким образом, размыта граница перехода из одного состояния в другое, новое. Перекличка названия рассказа и строчки стихотворения Фета, которое вспоминает герой («Какая холодная осень!..»), обнаруживает идущее по кругу семейное время, где нынешняя холодная осень повторяет то, что было во времена «дедушек и бабушек». Так же связывает времена и золотой образок, который мать надевает на шею жениха дочери и который «носили на войне её отец и дед». В плоскости социального времени событие смерти (гибели на войне) имеет отрицательный смысл безвозвратного ухода, разлуки. Однако есть и противоположное восприятие смерти – как прихода, встречи. Это натуральная идиллическая кончина, событие семейного времени: «Ты поживи, порадуйся на свете, потом приходи ко мне». 195 Описание в рассказе прощального осеннего вечера по объёму превосходит изложение всей дальнейшей жизни героини. После разрыва круга домашней жизни всё остальное предстаёт как бессмысленный бег необратимого времени бездомного бытия. Ритм времени семейной и природной жизни нарушается: свадьба откладывается до весны, но весна (естественная пора свадьбы) так и не наступает в мире рассказа. Осень же (время «увяданья») приходит «удивительно» рано, по словам отца. Дом в произведении Бунина как оплот семейного времени – тёплый мир, но, словно остров, окружён холодом осени. Над столом висит «жаркая лампа». Шаль, капот, пуховый платок (домашняя одежда) защищают от того же осеннего холода. Здесь пьют чай, а запотевшие от самоварного пара окна обозначают границу тёплого мира дома и холода внедомашнего пространства. Тепло и холод в рассказе оказываются и пространственными, и темпоральными характеристиками. Похолодание в мире произведения связано не только со смертью, но и с забвением. Герой задаёт одновременно два вопроса: «Тебе не холодно? Воздух совсем зимний. Если меня убьют, ты всё-таки не сразу забудешь меня?» Здесь память противостоит времени похолодания. Причём важно, что память – союзница и атрибут семейного времени вечного возвращения, но социальное время беспамятно и необратимо. Уже нескольких сделанных наблюдений достаточно для того, чтобы убедиться в неотделимости понимания художественного произведения от ценностного спора, открывающегося в нём читателю. (Слово «спор» здесь употребляется, конечно, не в буквальном значении, а как метафора коллизии, напряжённого противостояния и т.п.). Рассмотрим с точки зрения сформулированной аксиомы «презумпции ценностности» рассказ Чехова «Дама с собачкой». Название 196 его указывает на незнакомость, неопределённость: некая дама, «одна из». Неоткрытость имени здесь – знак неоткрытости человека, о котором сообщается лишь внешняя подробность: «с собачкой». В рассказе эти анонимность, незнакомость и чисто внешняя характеристика, конечно, преодолеваются: герой как раз знакомится с дамой, которую зовут Анной Сергеевной, которая подробно описывается, причём не только внешне, так как раскрываются её чувства радости, страдания, любви. Однако в том-то и дело, что название обозначает не просто Анну Сергеевну до знакомства, а определённое качество этого знакомства, определённый уровень человеческих отношений. С этой точки зрения резко противопоставляются начало и продолжение взаимоотношений героев. Вначале Гуров предполагает «мимолётную связь», «роман с неизвестною женщиной, которой не знаешь по имени и фамилии». Такой поверхностной курортной связи вполне соответствует простой, лёгкий способ знакомства – через «собачку»: «Он ласково поманил к себе шпица...». Эта деталь подчёркивает обозначенное названием. Герой как бы не хочет в знакомстве заходить дальше того, что его знакомая – просто дама с собачкой. Грубо поверхностный отличительный признак является и достаточно подходящим средством знакомства. Совершенно иная ситуация – в третьей главе, когда уже влюблённый Гуров приезжает в С. и ищет случая встретиться с Анной Сергеевной: «Парадная дверь вдруг отворилась, и из неё вышла какая-то старушка, а за нею бежал знакомый белый шпиц. Гуров хотел позвать собаку, но у него вдруг забилось сердце, и он от волнения не мог вспомнить, как зовут шпица». Простота и поверхностность лёгкого курортного знакомства отменяется. Герои оказываются на совершенно ином уровне взаимоотношений, где всё непросто. Та же ценностная напряжённость обнаруживается в следующем эпизоде: 197 Однажды ночью, выходя из Докторского клуба со своим партнёром, чиновником, он не удержался и сказал: – Если б вы знали, с какой очаровательной женщиной я познакомился в Ялте! Чиновник сел в сани и поехал, но вдруг обернулся и крикнул: – Дмитрий Дмитрич! – Что? – А давеча вы были правы: осетрина-то с душком! Эти слова, такие обычные, почему-то вдруг возмутили Гурова, показались ему унизительными, нечистыми.... Приятель Гурова не сказал ничего плохого. Более того, он лишь подтвердил сказанное самим Гуровым. Однако для него ялтинское знакомство Гурова находится в одном ряду с событиями клубного лёгкого времяпрепровождения. В то же время для Гурова это уже не просто курортная мимолётная встреча. Персонажи в приведённом диалоге находятся как бы по разные стороны ценностной границы, разделяющей два уровня отношения к человеку. На одном уровне человек – объект, средство весёлого досуга, отдыха, удовольствия и т. п. В качестве такого средства это анонимный человек, «один из», дама с собачкой или даже, как говорит Гуров, «очаровательная женщина», но увиденная глазами его карточного партнёра, похожего в данной ситуации на прежнего Гурова, не придающего вначале большого значения своему знакомству. Ценностный аспект произведения вовсе не всегда связан с так называемым конфликтом. Не обнаружив последнего, как раз можно ошибочно принять произведение за ценностно индифферентное. В стихотворении Пастернака, которое мы ниже приводим, на первый взгляд, нет никакого ценностного напряжения. Как бронзовой золой жаровень, Жуками сыплет сонный сад. Со мной, с моей свечою вровень Миры расцветшие висят. И, как в неслыханную веру, Я в эту ночь перехожу, Где тополь обветшало-серый Завесил лунную межу, Где пруд как явленная тайна, 198 Где шепчет яблони прибой, Где сад висит постройкой свайной И держит небо пред собой. Подобные тексты, пожалуй, опровергают слова Мерло-Понти: «Живопись одна наделена правом смотреть на все вещи без какой бы то ни было обязанности их оценивать» (Мерло-Понти М. Око и дух. М., 1992. С. 12). Живописность данного стихотворения отнюдь не делает его безоценочным. Ценностное напряжение обнаруживается здесь в событии преодоления границы, намеченной в первой строфе: я сад свет тьма человек природа явное тайное бодрствование сон жаровни жуки обыденное волшебное зола расцветшие свеча миры мёртвое живое камерное космическое Данная граница сразу дана размытой сравнением: «как», «вровень». Сравнениями же организован и весь текст в целом. Но это размывание границ бытия является одновременно обозначенной во второй строфе сознательной установкой лирического героя, его переходом границ духовного и материального (вера = ночь, тополь, луна); волшебного и обыденного (яблоня = прибой, пруд = тайна); искусственного и естественного (постройка = сад, небо) и так далее. Это событие нарушения границы воспринимается с утвердительной интонацией благого приобщения к тайне. Сама же граница принадлежит от- 199 рицательному полюсу изображённого мира как некой разорванности бытия. Понятие ценности по отношению к художественным текстам употребляется в различных смыслах. С какой ценностью имеет дело критик, когда он объявляет какое-то произведение художественно совершенным или наоборот? Например, Л. Толстой характеризует драму «Король Лир» как «очень плохое, неряшливо составленное произведение...» (Толстой Л. Н. Собр. соч. в 22 т. Т. 15. М., 1979. С. 278). В шестой части своей статьи Толстой перечисляет критерии, которыми он руководствуется в своей оценке шекспировского творчества. Нас здесь не интересует справедливость последней. Важно, что критик оценивает художественное произведение, исходя из того, насколько оно соответствует или не соответствует его эстетическому вкусу и общему пониманию искусства. Оценка критика может быть непосредственной (похвалой либо порицанием), а может быть эстетической рефлексией. В любом случае это подход к произведению как к объекту: оценка резко отделена от оцениваемого. Поэтому произведение характеризуется как изделие, то есть с точки зрения технической реализации творческого задания. Даже если критик, как советовал Пушкин, судит автора по законам, им самим над собою признанным, всё-таки для критика важнее всего определить, насколько соответствует замыслу исполнение, – ценность творчества. Принципиальна разница точек зрения критика и читателя. Критик обращается с произведением «на равных», и его похвала либо порицание относятся к тексту. Читатель смотрит на текст как на чтото непреложное (как средневековый богослов относился к тексту Библии). Его оценки относятся к реальности художественного мира, где они оказываются спровоцированными автором. Следует оговориться, что здесь имеется в виду типичная, характерная именно для критика как критика позиция. Мы абстрагируемся 200 от того обстоятельства, что в действительности критик является также и читателем, актуализирующим эстетическую целостность, и человеком, сопереживающим герою. Художественное произведение может содержать другого типа ценности, которые обнаруживает не точка зрения критика, а интенция персонажа. Это не оценки произведения, так как в горизонте персонажа простирается не произведённый, вымышленный мир искусства, а «всамделишный» мир жизни. В этом случае, как и в предыдущем, налицо заданный характер ценностей. Как критик, оценивая художественный образ, проецируя на него свои вкусы и представления об искусстве, исходит из внешней этому образу эстетической нормы, так и персонаж в своих оценках опирается на заданные (этические) представления о жизни. Герой шекспировской пьесы Эдмонд, предавая своего отца, произносит следующие слова: Старик пропал. Я выдвинусь вперёд. Он пожил – и довольно. Мой черёд. (3,3 – пер. Б. Пастернака) Когда в следующей сцене Глостер говорит королю «Так выродились люди, ваша светлость, / Что восстают на тех, кто их родил!», то это, конечно, относится и к семье самого Глостера. Как установка «выродка» Эдмонда, рвущая человеческую «связующую нить» времени, так и оценка такой позиции Глостером находятся в этической плоскости, поскольку это горизонт персонажей. Однако литературное произведение содержит ценностное отношение к изображённой жизни, запечатлённое в её образе, выраженное самим образом. Король Лир после объяснения со старшей дочерью, когда она показывает своё истинное лицо, восклицает: ...О не плачьте Вы, старческие глупые глаза, А то я вырву вас и брошу наземь... (1,4) 201 Сопереживая герою, мы воспринимаем всё происходящее как несчастье, разделяя чувства придворного: «Как жаль его! Несчастный человек» (4, 3). Однако это, конечно, не просто несчастная жизнь, но и трагический образ жизни. Для героя его выражение, по-видимому, не означает ничего, кроме желания остановить слёзы. Но наряду с этим «жизненным» смыслом существует ещё художественный контекст пьесы, в котором снимается случайность мотива ослепления как трагической вины героя. Итак, понятие «ценность» может употребляться по отношению к литературному произведению в следующих смыслах: 1) оценка образа жизни, открывающая ценность творчества (точка зрения критика); 2) оценка жизни изнутри самой жизни (точка зрения персонажа); 3) образ жизни как её оценка, открывающая ценность творения (точка зрения автора либо читателя). Так как оценки критика звучат всегда по ту сторону произведения, то само художественное произведение обнаруживает два принципиально различных типа оценок. Первая глава романа Диккенса «Холодный дом» содержит следующее высказывание: И в самом непроглядном тумане и в самой глубокой грязи и трясине невозможно так заплутаться и так увязнуть, как ныне плутает и вязнет перед лицом земли и неба Верховный Канцлерский суд, этот зловреднейший из старых грешников (Диккенс Ч. Собр. соч. в 30 т. Т. 17. М., 1960. С. 12). Эта оценка может быть охарактеризована как непосредственная, высказанная в самом тексте. Другого типа оценка обнаруживается в портрете миссис Джеллиби из четвёртой главы «Холодного дома» («Телескопическая филантропия»): Это была миловидная, очень маленькая, пухленькая женщина лет сорокапятидесяти, с красивыми глазами, которые, как ни странно, всё время были устремлены куда-то вдаль. (Указанное издание. С. 56). 202 Кроме прямо высказанных, непосредственных оценочных выражений («миловидная», «красивые») здесь присутствует деталь, характеризующая своего рода дальнозоркость героини, что не позволяет ей, озабоченной происходящим в Африке, заметить полное расстройство собственных домашних дел. Данная оценка не запечатлена непосредственно в самом слове, а опосредована образом. В отличие от высказанной («безобразной»), она обнаруживается не в тексте, а в мире художественного произведения. Здесь мы должны сослаться на Б. О. Кормана, который совершенно справедливо разграничивал прямо-оценочную и косвеннооценочную точки зрения (См.: Корман Б. О. Практикум по изучению художественного произведения. Ижевск, 1977. С. 13–15), а также указывал на их взаимодействие в произведениях. Для нас важно подчеркнуть то, что именно образные оценки суть собственно эстетические. Прямые оценки имманентны изображённому миру, образные «расположены» на его границах (форма в бахтинском понимании). То, что называют иногда «прямой авторской оценкой», факультативно, обязательны лишь образы, которые могут «иллюстрировать» прямые (безобразные) интенции, но «иллюстрации» вполне самодостаточны. Эстетическая оценка объективна, онтологична, в отличие от субъективных этических оценок, содержащихся в тексте, хотя это не значит, что у эстетической оценки отсутствует субъект. Просто этот субъект трансцендентен изображаемому. Его присутствие выражается в самом строе бытия героя в мире. Приведённая нами инвектива повествователя в адрес Канцлерского суда в начале диккенсовского романа сама по себе совершенно прозаична. Как только эта прямая оценка начинает «обрастать» образными деталями, она тем самым приобретает эстетический характер, теряя свою непосредственность. Так, ненастная погода, описываемая в 203 начале романа, которая сравнивается с библейским потопом, заставляет вспомнить легенду об осуждённом богом неправедном мире. Здесь не просто возвышенно-библейский план описания соединяется с буднично-бытовым (божий и правый суд над неправым земным), но налицо эстетический суд, запечатлённый в конкретном образе. Что касается субъективной стороны названных типов оценки, то совершенно очевидна принадлежность образных оценок автору художественного произведения. Субъектом же непосредственных («прямых» в терминологии Б. О. Кормана) оценок является герой либо повествователь. Обратимся к конкретному примеру. В романе «Идиот» есть эпизод (1, 10), когда Рогожин с компанией приходит к Иволгиным и застаёт там Настасью Филипповну. Всё действие происходит здесь на пороге – границе дома и улицы. Эта граница носит ценностный характер, что подчёркивается приветствием Рогожина, граничащим с оскорблением: «Здравствуй, Ганька, подлец!» В описании рогожинской компании как «безобразной» обнаруживается та же граница уличного и домашнего. Уличное в горизонте повествователя синоним неприличного. То же самое мы видим в реплике Гани: «... вы не в конюшню, кажется, вошли, господа, здесь моя мать и сестра...». Однако в словах Гани отсутствует третья дама – Настасья Филипповна. Отсюда ирония Рогожина: «Видим, что мать и сестра, – процедил сквозь зубы Рогожин». Умолчание нечаянно для героя проводит границу между матерью и сестрой, с одной стороны, и Настасьей Филипповной – с другой. Тем самым Настасья Филипповна оказывается в едином с рогожинской компанией – неприличном – контексте. Эта невольная откровенность героя, ненавидящего Настасью Филипповну, но намеренного жениться на ней из-за приданого, ввести её в свой дом, подтверждает слова Рогожина, обращённые к Гане: «Да покажи я тебе три целковых, 204 вынь теперь из кармана, так ты на Васильевский за ними доползёшь на карачках, – вот ты каков!» Прямая оценка (горизонт персонажа) пересекается с непрямой – авторской, выраженной посредством указанного умолчания героя. Конечно, точка зрения Рогожина здесь только на миг сливается с авторской. Утверждение продажности Гани распространяется Рогожиным на всех и всё: «Всех вас куплю! Всё куплю!» Но такое бесконечное разрастание сферы продажного сталкивает героя с высоты её осуждения. И этот объективный план, как и в рассмотренной реплике Гани, обнаруживает авторский ценностный горизонт, в котором оценивающий герой сам оказывается предметом оценки. Важно здесь подчеркнуть то, что эта непрямая эстетическая оценка как Гани, так и Рогожина, носит сложный, напряжённый характер. Такое напряжение выражается, в частности, в противоречивости поведения Рогожина и всего его облика. С одной стороны – обещание всех купить, с другой – обращение к Настасье Филипповне: «Э-эх! – крикнул он, – Настасья Филипповна! Не прогоните, скажите словцо: венчаетесь вы с ним или нет? Рогожин задал свой вопрос как потерянный, как божеству какому-то, но с смелостью приговорённого к казни, которому уже нечего терять. В смертной тоске ожидал он ответа». Предложение Настасье Филипповне денег сменяют «глубокое раскаяние», «опрокинутое лицо». В Рогожине «опрокидываются» и вытесняют одна другую «купеческая» и «человеческая» линии поведения, когда Настасья Филипповна для него оказывается то покупаемой вещью, то каким-то «божеством», женщиной, которую он страстно любит. Аналогичная противоречивая ценностная ориентация обнаруживается в образе Настасьи Филипповны, начиная с амбивалентности её взгляда: «с беспокойным любопытством глядела на гостей». Насмеш205 ка и высокомерие взгляда, которым Настасья Филипповна «обмерила» Рогожина, сменяются серьёзным тоном после взгляда на семью Иволгиных. Далее «засверкавший взгляд» (тоже серьёзный), вызванный оскорбительным предложением денег, предположением продажности, контрастирует с последующим смехом и «наглой фамильярностью», то есть подчёркиванием продажности. Такова же дисгармония «бледного и задумчивого лица» и «напускного смеха». Существует как бы две Настасьи Филипповны. Одну из них Варя называет «бесстыжей». Другая же, как она сама признаётся Нине Александровне, «не такая». То же самое можно сказать и о других героях. Князь Мышкин хорошо чувствует эту ценностную неоднозначность людей и, обращаясь именно к их «лучшему я», как в рассматриваемом эпизоде, постоянно провоцирует тем самым его обнаружение. На примере данного фрагмента романа мы видим, как непосредственные (этические) оценки (Рогожин о Гане Иволгине, Варя о Настасье Филипповне и другие) имеют частное значение, являясь точками зрения персонажей. Эти оценки подчиняются ценностной логике целого как эстетической. Рассмотрим ценностный план произведения как сложное взаимодействие различных горизонтов, или, как выражается Бахтин, ценностных контекстов, на примере рассказа Булгакова «Ханский огонь». Первое представление персонажей произведения содержит определённое противоречие. С точки зрения повествователя, тот факт, что Татьяна Михайловна названа им смотрительницей музея, а Иона – «дряхлым камердинером», носит, по-видимому, случайный характер. Это как бы почти незаметная оговорка, вследствие которой персонажи обнаруживают ценностную принадлежность разным временам и пространствам. Татьяна Михайловна всецело связана с современностью и служит в музее, являющемся для неё объектом исторического прошлого. Иона в этой первой рекомендации повествователя показан 206 укоренённым именно в прошлом, в том времени, когда он служил камердинером во дворце, а не дворником и сторожем в музее. Дворец и музей, с физической точки зрения – одно и то же пространство, однако существенно то, что музей – это как бы мёртвый дворец, не жилое, а мемориальное пространство, опредмеченное, находящееся ценностно вне человека, а не любовно окружающее его. Это место службы или экскурсий, а не место обитания, казённый дом. С первым определением Ионы перекликается отзыв посетителя: «Его самого бы в музей». В этой фразе, как и в словах повествователя, Иона принадлежит прошлому, а не настоящему. Он не служащий при музее, а его экспонат и, одновременно, обитатель дворца. С эстетической точки зрения, всё это не случайные оговорки. Но, становясь на эстетическую точку зрения, мы покидаем горизонт персонажа либо повествователя, горизонт житейски непреднамеренного, «случайного» (см. вторую главу настоящей книги). Иона занимает в мире рассказа исключительное положение. Он, в отличие от смотрительницы Татьяны Михайловны и уборщицы Дуньки, не только дворник и сторож, но и камердинер, слуга. Так же и его хозяин, в отличие от остальных посетителей, не просто на экскурсии, но и у себя дома. С этими слоями времени, на границе которых оказываются персонажи, связаны различные системы ценностей. В отзыве о том, что дворец построен в восемнадцатом веке Растрелли, обнаруживается резкая граница настоящего и прошлого, которое воспринимается как окаменевшее (музей), как эстетический памятник. Возражение Ионы кажется непринципиальным: «Какой Растрелли?.. Строил князь Антон Иоаннович, царствие ему небесное, полтораста лет назад... Прапрадед нынешнего князя». В словах Ионы сохранена живая связь прошлого с «нынешним». Его антагонист эту связь отрицает: «ваши симпатии к царству небесному и к князьям до207 вольно странны в теперешнее время...». Повествователь занимает двойственную и, тем самым, более объективную позицию. Описывая бронзовый бюст матери князя, он упоминает её «две славы – ослепительной красавицы и жуткой Мессалины». Отзыв «голого», однозначно отрицательный, учитывает лишь одну, дурную, славу: «Вот, товарищи, замечательная особа. Знаменитая развратница первой половины девятнадцатого века». Это объективирующая, резко отталкивающая прошлое, точка зрения. Напряжённый спор прошлого и настоящего запечатлён в рассказе Булгакова не только как объективный исторический процесс, но и в виде противоположных ценностных интенций персонажей, находящихся на границе времён. В особенности это касается князя ТугайБега и его камердинера Ионы, ценностно укоренённых в уходящей эпохе. Данные персонажи олицетворяют прошлое в настоящем. Они встречаются как сторож и незаконно вторгшийся в музей иностранец, но, одновременно, как вернувшийся в свой дом хозяин и его преданный слуга. Ценностная структура фрагмента, в котором речь идёт об осмотре посетителями шатра, отражает ситуацию всего рассказа в целом. Здесь мы видим сложное переплетение сразу нескольких ценностных контекстов: различных персонажей, повествователя и автора. Во-первых, здесь присутствует точка зрения посетителей музея, отчуждённая от прошлого как своего, ещё живого. Не случайно эта позиция охарактеризована Ионой как чуждая и равнодушная. Причём это характеристика не только ценностного горизонта посетителя музея, но и точки зрения самого Ионы, испытывающего «боль, обиду и стеснение сердца». Иона ценностно укоренён в том, что для посетителей музея является объективированным (и, следовательно, мёртвым и чужим) прошлым. Для него это не столько музей, сколько ещё «жилой» дом, не публичное, а личное пространство. Поэтому в его ценно208 стном горизонте посетители – «незваные гости». Это выражение обнаруживает именно позицию Ионы, а не повествователя. Среди посетителей выделяется фигура «голого». Это не равнодушный и просто любопытствующий посетитель, а враждебно настроенный. Его оценки лежат не в общечеловеческой плоскости, а в сфере классового антагонизма. «Голый» во время экскурсии находится как бы на вражеской территории, его позиция однозначно и плоско негативна. (Не случайно он голый как олицетворение нового времени, сбросившего старые одежды, знак чистого отрицания прошлого: «Голый оказался впереди всех, рядом с Ионой, и шёл, гордо попирая босыми ступнями пушистые ступени» (ковра – Л. Ф.). Поэтому для Ионы совершенно нестерпимо его присутствие в спальне Тугай-Бегов – в интимной зоне, где классовая установка особенно груба и неуместна. Ценностный контекст повествователя, будучи объемлющим по отношению к точкам зрения персонажей, не сводится ни к одной из них. В приведённом фрагменте видно, что, с одной стороны, повествователю внятны переживания Ионы, но, с другой стороны, говорится о том, что «жилым всё казалось в шатре». Это слово «казалось» обнаруживает точку зрения повествователя, не совпадающую с позицией Ионы, для которого всё не кажется жилым, а есть жилое. Когда же повествователь выделяет нынешнее посещение музея как особенное, он выражает чувства Ионы: «Но сегодня особенно щемило у Ионы в груди от присутствия голого и ещё от чего-то неясного, что и понять было нельзя...». В то же время это неясное предчувствие персонажа, которое затем сбывается, обнаруживает вездесущий авторский горизонт. Повествователь – посредник: он вместе с Ионой находится в этической, «жизненной» плоскости грядущего, ещё «неясного» события, но при этом обращается к читателю, занимающему эстетическую позицию. 209 Грядущее событие встречи предчувствуется героем и, одновременно, предопределяется автором. Эта встреча Ионы с князем происходит в ценностно завершённом эстетическом горизонте произведения (читай: авторском), что видно из приведённых ранее деталей, обнаруживающих различную ценностную укоренённость персонажей в старом и новом времени. Ценностная ориентация персонажей рассказа Булгакова непосредственно зависит от исторической смены эпох. Герои укоренены именно в ценностях, создаваемых определённым временем. Они как бы находятся внутри исторического времени и порождаемого им противоборства ценостей. В авторском горизонте эти противоположные ценности объективируются, оказываясь в поле эстетического напряжения. Показательно рассуждение голого о паркете дворца: «Голый усмехнулся неодобрительно. – Сработано здорово, что и говорить. Видно, долго народ гнул спину, выпиливая эти штучки, чтоб потом тунеядцы на них ногами шаркали. Онегины... Трэнь... брень... Ночи напролёт, вероятно, плясали. Делать-то ведь было больше нечего». Здесь акцент сделан не на позитивном эстетическом моменте, связывающем прошлое и настоящее, а на отрицании классового паразитизма, крепостного права. Эта антиэстетическая установка подчёркивается именем персонажа литературы (Онегина), используемым в том же отрицательном политическом контексте. Князь Тугай-Бег так же отрицательно относится к настоящему положению своего дома («на-ародного» достояния), как голый – к прошлому. Крайние оценки сходятся: в памятнике культуры и истории Тугай-Бег и голый видят помещичий дом, видят лишь временное, прошлое, классовое. Политический, поверхностный слой времени (классовая рознь) – зона сближения полярных точек зрения. В авторском объемлющем кругозоре политические, классовые оценки сталкиваются с общечеловеческими, трансвременными. 210 Это обнаруживает, например, изменение выражения глаз Тугая в зависимости от темы разговора. В эпизоде, когда Иона узнаёт князя и персонажи оказываются в плоскости общих воспоминаний, где сословная разница вторична, повествователь говорит о «блестящих» глазах Тугай-Бега. Совсем другие глаза у князя, когда он говорит Ионе о своём намерении повесить Эртуса: «Глаза его подёрнулись траурным пеплом». Это разница живого взгляда и мёртвого. Блеск живого чувства в глазах персонажа потухает, уступая место выражению сословной ненависти («траурный пепел» – след её пожара). Горизонт художественного целого обнаруживает ценностное напряжение, на одном полюсе которого – исторический распад прошлого и настоящего, на другом – надвременная и внесословная основа человеческих взаимоотношений. Как показали предшествующие наблюдения, такая напряжённость выявляется на границе мира произведения – как предельный, охватывающий этот мир, ценностный горизонт. Будучи трансцендентным изображаемому миру, он может быть обнаружен только «на пересечении» всех имманентных оценок – различных персонажей, повествователя. Но не путём их «сложения», а усилием их опредмечивания, благодаря чему горизонт читателя расширяется до границ художественного мира как целого. Плодом такого опредмечивающего усилия является эстетическая оценка. Непрямой, опосредованный характер эстетической оценки предопределяет следующую её особенность. Так как в художественном произведении авторская оценка выражается самим образом, то она именно поэтому не может обойтись, не может осуществиться без актуализации ценностной границы – иногда еле уловимой, иногда вынесенной к пределам самого художественного мира, но всегда обязательной. Эстетические, то есть «предметные», по выражению М. Шелера, ценности, обнаруживаются непременно как напряжение, поляризация образов. Оценить эстетически означает поэтому противо211 поставить. Невозможность для автора самому появиться на сцене, в кадре – в сфере изображаемого, невозможность прямых авторских оценок, «облечённость в молчание» – всё это вынуждает автора заставить сами образы «заговорить» и оценить себя. Но как это сделать? – Только с помощью ценностного «расподобления» изображаемого мира, организации его внутренней напряжённости – ценностной поляризации. Нужно оговориться. Мы имеем здесь в виду как раз эстетическую оценку, запечатлённую в самом художественном образе, а не прозаические определения чего-то как прекрасного или безобразного; оценку художника, а не критика. Указанные виды оценки (непосредственная и образная) можно охарактеризовать с несколько иной стороны. Если оттолкнуться от фундаментального положения бахтинской эстетики, согласно которому человек – «ценностный центр эстетического видения» (Бахтин М. М. Собр. соч. Т. 1. М., 2003. С. 56), то художественное произведение открывает, во-первых, отношение человека к миру, а во-вторых – его положение в мире. Слово «положение» означает, конечно, не отсутствие оценки, а особый, предметный – эстетический – её характер. Оценка, опосредованная положением героя в художественном мире, является уже авторским ценностным отношением. Этот последний вид оценки, выраженной посредством самого оцениваемого образа, имеет прямое отношение к тому, что содержит понятие «идеал» в гегелевских «Лекциях по эстетике». Само понятие «идеал», как уже отмечалось, имеет отчётливо выраженную ценностную природу. Причём в нём имплицитно содержатся точки зрения критика, героя и автора (читателя). Гегель, как известно, различал идею и идеал таким образом, что идеал понят как действительная, воплощённая идея – красота. Гегель это воплощение считал объективированием, овнешнением (Гегель Г. В. Ф. Эстетика. Т. 1. М., 1968. С. 212 104). Бахтин такое объективирование и овнешнение как эстетическую акцию называл завершением и связывал с категорией другого. Идеал в этом, сугубо эстетическом, смысле есть целостность, единство внутренней и внешней сторон изображённого мира. Это не заданность, то есть не творческая задача (точка зрения критика) и не жизненная задача (позиция героя). Это данность. Итак, эстетические ценности следует рассматривать как запечатлённые, опосредованные героем как образом, определённые его положением в мире художественного произведения. Отношение героя к миру, в которое читатель отчасти «вживается», то есть как-то этически на него реагирует, и положение героя в мире, определяемое извне, то есть эстетически, – эта соотнесённость этических и эстетических ценностей в произведении литературы понимается нами как сложное взаимодействие различного типа напряжений – заданного – в открытом горизонте персонажа – и данного – в закрывающем горизонте автора. В эстетической ценностной плоскости мы имеем дело с образной логикой произведения, охватывающей весь его мир. Поэтому можно сказать, что прямые этические оценки частичны, они дробят целое. Этически художественный мир плюралистичен и разомкнут (сопереживанию). Эстетическая же оценка объединяет и замыкает образ мира. По-видимому, можно, исходя из нераздельности оцениваемого предмета и оценивающего субъекта, содержательных и формальных моментов произведения, утверждать, что в нем есть одна система ценностей, но «увиденная» с двух точек зрения – «изнутри» изображенной жизни и «извне». Это, конечно, не может означать совпадения последних, однако авторская система ценностей «построена» как бы из материала самой изображаемой реальности, в которой укоренен герой. 213 Поэтому такая опредмеченная оценка и представляет собой не что иное, как поле напряжения, охватывающее художественный мир. Это поле образовано его полюсами, и все образы мира произведения ценностно поляризованы, находятся в отношениях явного либо неявного противодействия, спора или, наоборот, согласия. Обнаружить авторские оценки произведения, то есть горизонт его мира как целого, означает, таким образом, выявить его ценностные полюса. Подругому это сделать не удаётся. Рассмотрим в указанной плоскости рассказ Бунина «Смарагд»: Ночная синяя чернота неба в тихо плывущих облаках, везде белых, а возле высокой луны голубых. Приглядишься – не облака плывут – луна плывёт, и близ неё, вместе с ней, льётся золотая слеза звезды: луна плавно уходит в высоту, в которой нет дна, и уносит с собой всё выше и выше звезду. Она боком сидит на подоконнике раскрытого окна и, отклонив голову, смотрит вверх – голова у неё немного кружится от движения неба. Он стоит у её колен. - Какой это цвет? Не могу определить! А вы, Толя, можете? - Цвет чего, Киса? - Не зовите меня так, я уж тысячу раз говорила вам… - Слушаю-с, Ксения Андреевна. - Я говорю про это дивное небо среди облаков. Какой дивный цвет! И страшный и дивный. Вот уже правда небесный, на земле таких нет. Смарагд какой-то. - Раз он в небе, так, конечно, небесный. Только почему смарагд? И что такое смарагд? Я его в жизни никогда не видал. Вам просто это слово нравится. - Да. Ну я не знаю, - может, не смарагд, а яхонт… Только такой, что, верно, только в раю бывает. И когда вот так смотришь на всё это, как же не верить, что есть рай, ангелы, божий престол… - И золотые груши на вербе… - Какой вы испорченный, Толя. Правду говорит Марья Сергеевна, что самая дурная девушка всё-таки лучше всякого молодого человека. - Сама истина глаголет её устами, Киса. Платьице на ней ситцевое, рябенькое, башмаки дешёвые; икры и колени полные, девичьи, круглая головка с небольшой косой вокруг неё так мило откинута назад… Он кладёт руку на её колено, другой обнимает её за плечи и полушутя целует в приоткрытые губы. Она тихо освобождается, снимает его руку с колена. - Что такое? Мы обиделись? Она прижимается затылком к косяку окна, и он видит, что она, прикусив губу, удерживает слёзы. - Да в чём дело? - Ах, оставьте меня… - Да что случилось? Она шепчет: - Ничего… И, соскочив с подоконника, убегает. Он пожимает плечами: 214 - Глупа до святости! Мир рассказа отчетливо делится пополам: это «нижняя» и «верхняя» его части. В каждой из них – один из персонажей. Девушка «сидит на подоконнике раскрытого окна и, отклонив голову, смотрит вверх – голова у нее немного кружится от движения неба». Молодой человек «стоит у ее колен». Это как бы персонажи-антонимы: он она стоит сидит у её колен на подоконнике раскрытого окна рассудок чувство ирония серьезность взрослость детскость Во взгляде молодого человека – земное измерение бытия, любование красотой девушки. В её же взгляде – усилие проникнуть в трансцендентную, небесную область. Когда в самом начале рассказа повествователь описывает красоту ночного неба, то это описание соответствует как раз кругозору девушки и находится совершенно вне кругозора молодого человека. Поэтому на её вопрос «Какой это цвет? Не могу определить! А вы, Толя, можете?» он не сразу в состоянии ответить: «Цвет чего, Киса?» С другой стороны, горизонт повествования и точка зрения молодого человека совпадают в описании девушки: «Платьице на ней ситцевое, рябенькое, башмаки дешевые; икры и колени полные, девичьи, круглая головка с небольшой косой вокруг неё так мило откинута назад...». Это описание как бы предопределяет дальнейший поцелуй, но, вместе с тем, и слёзы обиды, так как земной, чувственный план бытия находится вне её горизонта. Когда герой спрашивает «Да что случилось?», недоумевая по случаю обиды, а героиня шепчет «Ничего...», то, с одной стороны, 215 речь идет о нежелании её продолжать разговор, а с другой – о несостоявшейся встрече, о непреодолённой разорванности мира. Однако «нижняя» и «верхняя» части мира, разобщенные в кругозорах героев, являются едиными, нераздельными в «любующемся» горизонте повествования. Эстетическое ценностное напряжение, о котором идет речь, образуется в рассматриваемом произведении как раз между односторонним, ограниченным ракурсом, земным либо небесным, и, с другой стороны, целостностью бытия. Эти полюса воплощаются в точках зрения героев и повествователя. Таким образом, понятие эстетической ценности необходимо предполагает некое напряжение, или, иначе говоря, поляризованность художественного мира. Здесь уместна, по-видимому, аналогия с электромагнитным напряжением, создаваемым «разностью потенциалов», то есть положительного и отрицательного полюсов. Такую аналогию можно встретить, например, в работе С. Г. Бочарова о романе «Евгений Онегин» (Бочаров С. Г. Поэтика Пушкина. Очерки. М., 1974. С. 36). Это положение, на первый взгляд, противоречит одному из важных определений красоты как «ценностно успокоенного в себе бытия» (Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 33). Этическое напряжение как отрицательное отношение к данности (уже-бытия) в эстетическом плане, будучи отнесённым к другому (к герою), снимается в гегелевском понимании этого слова. Напряжение ценностей не исчезает, не вытесняется эстетическим актом, а, если можно так выразиться, «оттесняется внутрь»: жизнь с её заданностью-неудовлетворённостью оказывается позицией героя. Поэтому ценностная напряжённость присутствует в художественном мире настолько, насколько он образ «всамделишного» и на216 сколько вымышленный персонаж – образ человека. Напряжение теряет для читателя свою этическую актуальность, становясь созерцаемым извне. Тем не менее момент этической сопричастности (не жизнь, но сопереживание) обязателен в восприятии художественного произведения. Ценностные коллизии преломляются, а не отменяются в новом модусе бытия. Печальное в глазах героя является не просто печальным, а трагическим для читателя, но не перестаёт оставаться печальным (так как читатель не перестаёт оставаться человеком, способным сопереживать). «Ценностная успокоенность», таким образом, не означает ценностной индифферентности, так как вненаходимость эстетическая – это «не индифферентизм» (Бахтин. Там же). Рассмотрим стихотворение Мандельштама: Умывался ночью на дворе. Твердь сияла грубыми звездами. Звёздный луч – как соль на топоре, Стынет бочка с полными краями. На замок закрыты ворота, И земля по совести сурова, – Чище правды свежего холста Вряд ли где отыщется основа. Тает в бочке, словно соль, звезда, И вода студёная чернее, Чище смерть, солёнее беда, И земля правдивей и страшнее. Во второй строке стихотворения возвышенная реальность «тверди» и звёзд парадоксально соединяется с определением «грубыми». Такое же необычное объединение возвышенного и грубого налицо в следующем стихе, сравнивающем «звёздный луч» и «соль на топоре». Вообще в тексте образы ночного умывания объединены с предметами, весьма далёкими от этого обыденного события: «совесть», «правда», «смерть», «беда». Все «негрубые» предметы претерпевают определённое «огрубление». Художественное событие стихо217 творения происходит сразу как бы в двух измерениях – внешнем и внутреннем – у бочки с водой и в сознании, оперирующем этими этическими категориями. Кроме того, парадоксально объединены и совершенно различные масштабы происходящего одновременно «на дворе» и в космосе, где «твердь», «звезда», «земля». Образ холста играет в стихотворении двойную роль: это и обычное («грубое») полотенце, необходимый атрибут умывающегося, и «основа» картины художника. Поэтому «грубое» в мире стихотворения оказывается синонимом суровой правды, чистоты, совести. Вообще ночное умывание – это расставание с ночью, со сном, а следовательно – с иллюзиями. У Мандельштама здесь это событие холодного отрезвления, как бы спуск с неба на землю, акцент не на красоте, а на правде («свежего холста»). Событие ночного умывания, воспринимаемое как приобщение к суровой правде и очистительное расставание с иллюзиями, означает и конец романтизма, отмену двоемирия, отмену неба как другой – мнимой – реальности. Образ творчества, введённый выражением «правда свежего холста», развёртывается в стихотворении именно как оппозиция романтизму. Понимание произведения Мандельштама означает, во-первых, подключение к его ценностному напряжению, что осуществляется схватыванием отношений полярности. Образ ночного умывания воспринимается как ценностно значимый акт в связи с напряжённостью перехода от иллюзий к суровой правде. Во-вторых, понимание текста невозможно без учёта другого типа отношений – репрезентативности. Обоюдное представительство различных семантических слоёв художественной реальности образует символическую структуру произведения. Например, понятие правды во второй и третьей строфах сближает образы холста и земли, которые становятся взаимно репрезентативными: правда холста указывает на творческую установку худож218 ника, связанную со спуском с небес на землю, то есть с приближением к земной правде. Взаимное представительство образов стихотворения отчасти проясняет выражение «чище смерть». Образ умывания = очищение = прощание с иллюзиями = ощущение смертности, суровости подлинного существования, жизни «по совести». Поэтому понятие чистоты символически соединяет буквальный смысл (связанный с образом умывания у бочки с водой) и фигуральный – этический. В рассматриваемом стихотворении, как и в других текстах, выявляется нерасторжимое единство символического и ценностного параметров чтения – взаимная репрезентативность смысловых слоёв и напряжение полюсов изображаемого мира. В рассказе Олеши «Лиомпа» пространство описываемого дома не просто членится на различные участки, а обнаруживает ценностную поляризацию. На каждом из полюсов выделяется персонаж. Мальчик Александр изображается в разомкнутом пространстве кухни, выходящей во двор. И не просто разомкнутом, а имеющем тенденцию к расширению – до неба, куда улетает модель самолёта. Тяжело больной Пономарёв находится в замкнутом участке комнаты, где он лежит (то есть это, по сути, ещё более тесное пространство постели и ближайших предметов). Причём это пространство сужается, что видно из размышлений больного о постепенном уходе вещей и наступлении смерти как сужении жизненного кругозора (от Америки до дверной задвижки). Предел такого сужения и замыкания пространства – гроб. В конце рассказа размыкание пространства мальчика Александра (он выбегает во двор, его модель взмывает ввысь) контрастирует с описанием тесноты помещения, куда вносят гроб. Таким образом, противопоставление носит не чисто топологический характер. Это как бы зоны «жизни» и «смерти». В описании кухни находим: «Жизнь примуса начиналась пышно: факелом до потолка. Умирал он кротким синим огоньком». 219 Персонификация примуса имеет прямое отношение к концу и началу жизни, олицетворённых в старике Пономарёве и юных героях, один из которых странно назван как резиновый мальчик. Прочитаем связанный с этим фрагмент: С тоской смотрел Пономарёв на ребёнка. Тот ходил. Вещи неслись ему навстречу. Он улыбался им, не зная ни одного имени. Он уходил, и пышный шлейф вещей бился за ним. Старик Пономарёв и резиновый мальчик – персонажиантонимы: уходящий из жизни и входящий в неё. Резиновому мальчику принадлежат безымянные вещи, Пономарёву – невещественные имена. Налицо две половинки распада цельности мира. В этом состоит близость этих в остальном противоположных персонажей. Сам мальчик лишён имени, как мир в его представлении полон вещей, лишённых смысла. Поэтому он «резиновый», как бы ещё неодушевлённый. Приведённый отрывок как раз демонстрирует эту противоположность: старик ребёнок с тоской улыбался смотрел ходил имя вещь знание незнание разлука встреча смерть жизнь Пономарёв на жизнь смотрит с точки зрения смерти и бессмысленности (отсюда – «тоска»), резиновый мальчик, наоборот, на смерть смотрит как на момент самой жизни, как на появление новой вещи в мире, где идёт прибывание вещей: «Дедушка! Дедушка!.. Тебе гроб принесли». Общее у персонажей – разрыв жизни и смерти, вещи и имени. Такой разрыв в рассказе означает потерю смысла. 220 Центральное место в рассказе принадлежит теме бессмысленности, на что указывает само его название. В описании, начинающемся словами «В мире было яблоко (…)», акцент сделан на определённой цельности мира: яблоко – закон притяжения – Ньютон - которая распадается в восприятии пожилого и юного персонажей. Яблоко в его жизненно-смысловой полноте одинаково недоступно и Пономарёву, и резиновому мальчику. Первому – уже (как живая вещественная плоть), второму – ещё (как заключающее в себе пока недоступные детскому сознанию «все причины и следствия» яблоко познания – библейское и ньютоновское). Такое отсутствие целостности восприятия и дано как отсутствие смысла. С темой бессмысленности связан бред умирающего. Пассаж о том, что мир умрёт вместе со смертью Пономарёва, – это как раз картина превращения реального мира в абстракцию (солипсизм), в мозговой продукт. В сознании Пономарёва цепочка яблоко – закон притяжения – Ньютон перевёртывается: Ньютон оказывается не открывателем, а учредителем закона и самого яблока. Здесь это нарушение естественного порядка дано как бред больного: «Я заберу с собой всё». Однако солипсизм Пономарёва совершенно аналогичен такому же бессмысленному перепутыванию причин и следствий, какое мы видим в сознании резинового мальчика, где велосипед якобы держится на царапине, которую сам оставляет на стене. Обещание Пономарёва забрать «с собой всё», на первый взгляд, не выглядит серьёзной опасностью, так как это не что иное, как бред умирающего, который, как мы видим, не осуществился в мире рассказа. Однако при учёте художественно-смысловых связей эпизода проникновения умирающего на кухню со всем остальным смерть воспринимается как обращённая к каждому человеку, вечно караулящая его трансцендентная угроза, с которой жизни приходится бороться, так как непреложность смерти делает саму жизнь бессмысленной. Обеща221 ние Пономарёва в связи с неизбежной участью всего живого как раз есть серьёзная попытка дискредитации любого жизненного итога: «ничего не останется» после смерти вообще любого человека. В конце рассказа борьба смысла и бессмысленности воплощается в одновременном появлении персонажей-антагонистов: Дом спал. Было раннее утро – начало шестого. Не спал мальчик Александр. Дверь из кухни была открыта во двор. Солнце было где-то внизу. Умирающий шёл по кухне, согнувшись в животе и вытянув руки с повиснувшими кистями. Он шёл забирать вещи. Мальчик Александр бежал по двору. Модель летела впереди него. Это была последняя вещь, которую увидел Пономарёв. Он не забрал её. Она улетела. В указанном символическом плане фраза «Дом спал… Не спал мальчик Александр» означает то, что мастерящий модель стоит как бы на страже смысла, которому угрожает бесследное исчезновение. Бодрствование выглядит неслучайным, спасительным для мира и спящих людей. Творчество охраняет жизненный смысл, ускользающий от смерти, как модель, улетевшая от Пономарёва (единственная вещь, которую он бессилен забрать «с собой» в гроб). Два основных события в рассказе связаны с больным Пономарёвым и мальчиком Александром. Эти события – смерть и построение модели самолёта. На первый взгляд, они протекают параллельно, никак не взаимодействуя одно с другим. Однако то, что последней вещью, которую видел Пономарёв и не смог забрать, оказалась как раз модель самолёта, доказывает обратное. Между этими событиями протекает ценностный спор. Перед лицом угрозы отрыва бытия от смысла мальчику Александру принадлежит роль персонажа-посредника и, одновременно, спасителя. Если резиновый мальчик и Пономарёв оказываются на разных полюсах распада цельности мира на вещь и имя, то мальчик Александр создаёт новую вещь «в полном согласии с наукой», то есть основываясь на знании законов природы, «как может действовать только некоторое количество взрослых». Поэтому у него такое имя: 222 он ещё мальчик, но не Саша, а Александр (победитель). Творчество в его лице побеждает бессмысленность жизни. Когда мы употребляем понятие ценностного напряжения, имеется в виду отнюдь не эмпирическое субъективное затруднение выбора, не какое-либо ощущение напряжения при оценке (хотя такое вполне возможно). Сама реальная акция оценивания в различной степени может быть отчуждена от психологической напряженности выбора и от осознания, что это именно выбор. Однако имеется в виду не психологическая, а онтологическая напряженность, которая может совершенно не осознаваться. Каждая реальная оценка есть безоглядное устремление к одному из полюсов и «забвение» противоположного. Но безоговорочность её не должна заслонять того, что изначально это именно акция выбора, часто безотчётного. В мире художественного произведения такая изначальная ситуация выбора, предпочтения обязательно актуализирована. Как уже говорилось, полюса этого ценностного напряжения вовсе не обязательно персонифицированы как «положительные» и «отрицательные» герои (этого не было, например, в вышеприведенных рассказах Бунина и Олеши). Более того, такое возможно лишь как исключение, например, пьеса «Недоросль», где ценностное напряжение можно ощутить уже в именах перечисляемых действующих лиц. Однако, несмотря на исключительную редкость положительных и отрицательных персонажей, любое художественное произведение есть поляризованный мир, где один полюс невозможен без другого. Эта ценностная диалектика сводится к тому, что отрицание – средство утверждения противоположного. В весеннем пейзаже, открывающем роман «Воскресение», ценностное напряжение образовано полюсами природного и социального мироустройства: Как ни старались люди, собравшиеся в одно небольшое место несколько сот тысяч, изуродовать ту землю, на которой они жались, как ни забивали камнями 223 землю, чтобы ничего не росло на ней, как ни счищали всякую пробивающуюся травку, как ни дымили каменным углем и нефтью, как ни обрезывали деревья и ни выгоняли всех животных и птиц, – весна была весною даже и в городе. Идиллические ценности здесь, как нетрудно заметить, «пробиваются» через отрицание своей противоположности, что выражается в критическом пафосе повествователя. Между полюсами камня и земли, города и природы, уродства и красоты, смерти и жизни, власти и любви, закона и совести развёртывается мир всего романа и его художественное событие, обозначенное названием. Хорошим примером интерпретации художественного произведения как ценностно напряжённого мира является описание М. Хайдеггером греческого храма: «Творение храма слагает и собирает вокруг себя единство путей и связей, на которых и в которых рождение и смерть, проклятие и благословение, победа и поражение, стойкость и падение создают облик судьбы для человеческого племени» (Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. М., 1993. С. 75). Этот пример тем более важен, что М. Хайдеггер, как известно, был противником аксиологического подхода. Однако выясняется, что художественное произведение невозможно истолковать в обход ценностных характеристик. Ценностный аспект художественного произведения может подчас не восприниматься как некая напряженная оппозиция. Но нас не должна вводить в заблуждение кажущаяся монолитность художественной оценки: или всецело положительной, или сплошь отрицательной. Оценка всегда есть актуализация противоположных полюсов и – значит – напряжения. Романтическая «голубая» мечта есть одновременное отталкивание от «серой», «пошлой» действительности. Отрицательный мир сатиры обнаруживает положительную эстетическую энергию – смех. То есть любое художественное произведение представляет собой определённое соотношение ценностей, только не абстрактно-теоретическое, а экзистенциальное, событийно напряжённое. 224 Видимо, психологической подоплёкой содержания произведения как системы ценностей следует считать то, о чем писал в своём известном труде Л. С. Выготский: «Всякое художественное произведение – басня, новелла, трагедия – заключает в себе непременно аффективное противоречие, вызывает взаимно противоположные ряды чувств и приводит к их короткому замыканию и уничтожению. Это и можно назвать истинным эффектом художественного произведения» (Выготский Л. С. Психология искусства. М., 1987. С. 203). Очевидно, что такого психологического объяснения при всей его справедливости совершенно недостаточно и оно само должно быть обосновано эстетически. «Аффективное противоречие» возникает на почве ценностного, эстетического напряжения, которому подчинены все образы художественного произведения. При этом сама эта эстетическая напряжённость выявляется, как было отмечено, лишь в горизонте художественного целого. Рассмотрим эпизод комедии «Ревизор», где Хлестаков отзывается о Ляпкине-Тяпкине: «Судья хороший человек!» (4, 3). Не подозревающий ещё о том, за кого его принимают, Хлестаков считает, что Аммос Фёдорович даёт ему деньги бескорыстно – просто как частному лицу, хотя судья и обращается к Хлестакову как к начальнику, спрашивая, не даст ли он «приказанья здешнему уездному суду». Отсюда наивность ответа: «Зачем же? Ведь мне никакой нет теперь в нём надобности». Хлестаковым суд воспринимается не в публичной своей, а в личной (денежной) для героя надобности. Судья же думает, что дал взятку должностному лицу. Однако эта мнимая взятка оказывается – уже в эстетическом, смеховом горизонте читателя – нечаянной благотворительностью. Судья на самом деле оказывается нечаянно «хорошим человеком». Та же коллизия личного и публичного, частного и должностного обнаруживается в пьесе постоянно. Это вытекает из самой ситуации 225 мнимой ревизии. Хлестаков уверен в гостеприимстве городничего, услужливости почтмейстера, хлебосольстве Земляники, не удивляясь, что последний, например, на похвалу Хлестаковым завтрака отвечает: «Рад стараться на службу отечеству» (4, 6). Хлестаков не слышит официального тона, а чиновники, наоборот, воспринимают приватные темы, затрагиваемые мнимым ревизором (женщины, карты), как провокацию. Характерна, с этой точки зрения, реакция городничего на сватовство Хлестакова: «Не могу верить» (4, 15). На острие указанного ценностного спора частного и официально-должностного развёртывается комический конфликт пьесы Гоголя. Иной тип оценки – не смеховой, а чувствительный, слёзный, – реализуется, например, в сказке Андерсена «Снежная королева». Изобретение злым троллем кривого зеркала, искажающего мир, является исходным пунктом чувствительной ситуации, противопоставляющей естественную природу и фальшивое её подобие, извращение как плод искусственных ухищрений. Позже оказывается, что с этим зеркалом соединён мотив холода: когда после того, как зеркало разбилось, его осколок попадал кому-нибудь в сердце, «сердце делалось как кусок льда» (пер. А. Ганзен). Лето в сказке описывается как время жизни и цветения природы, а зима – наоборот. Для того, чтобы увидеть друг друга в замёрзшие, покрытые коркой льда окна, Каю и Герде нужно было оттаивать нагретыми на печи монетами отверстия. Заледеневшее сердце Кая – типичный сентиментальный образ человека, чувства которого как бы покрываются корой отчуждения. Характерная деталь: Кай разглядывает в увеличительное стекло (холодное приспособление, искусственный глаз разума) снежинки и говорит о том, что они «интереснее настоящих цветов», восхищаясь точностью и правильностью линий: «Ах, если б только они не таяли!». Кай как бы становится человеком зимы, способным увидеться и раз226 говаривать со снежной королевой, в то время как Герда, наоборот, слышит и понимает язык живой летней природы: птиц, солнечного света, волн реки, цветов. Чертоги снежной королевы описываются как холодные, пустынные и грандиозные: «Посреди самой большой пустынной снежной залы находилось замёрзшее озеро. Лёд треснул на нём на тысячи кусков, таких одинаковых и правильных, что это казалось каким-то фокусом». «Большое» в сентиментальном мире воспринимается с отрицательной точки зрения, а чувствительность всегда оперирует уменьшительно-ласкательными категориями, о чём нам уже приходилось упоминать. Бесчувственность закономерно соединена с разумностью и безупречной правильностью (не случайно снежная королева называет это озеро зеркалом разума). Этому вполне соответствует занятие Кая, за которым его застаёт Герда. Он складывает различные затейливые узоры из льда, «и это называлось ледяной игрой разума». Причём Кай стремится составить из льда слово «вечность», в котором мы слышим ту же бесчувственную грандиозность, которая царит во дворце снежной королевы. Это полюс холода, грандиозности, разума, смерти и забвения, так как Кай не узнаёт Герду, сидит «неподвижный и холодный». Бесчувственность и беспамятство в идиллическом горизонте – подобие смерти при жизни. Поэтому оттаивание сердца Кая горячими слезами Герды воспринимается здесь как воскрешение. Слёзы растапливают «ледяную кору» отчуждения. Сказка делает наглядным и буквальным событие слёз как событие оттаивания чувств. Но по сути такого рода воскресение чувств происходит при чтении любого сентиментального произведения. Слёзы оказываются растапливанием ледяной коры рассудка, управляющего нашей обыденной практической жизнью. Необходимо остановиться ещё на двух важных деталях сказки. Дети возвращаются домой, где «всё было по-старому: часы говорили 227 «тик-так», стрелки двигались по циферблату». Здесь важен как образ дома (сентиментальный мир – дом), так и образ времени, противостоящий вечности. Естественно текущее время здесь – полюс жизни, в то время как вечность – полюс смерти. И последнее предложение сказки: «Так сидели они рядышком, оба уже взрослые, но дети сердцем и душою, а на дворе стояло лето, тёплое благодатное лето». Это противопоставление детскости и взрослости открывает ещё один важный аспект чувствительности: внутренняя суть человека, некая его субстанция («человечность») есть его не ушедшее детство, не утраченные во взрослом состоянии качества ребёнка. То есть мера детскости есть мера человечности. В детстве обнаруживается те наивность и непосредственность, которые есть в природе (Ф. Шиллер). Поэтому сентиментальный образ человека двойственен: это «уже взрослый, но ребёнок сердцем и душой». То есть изнутри он как бы лучше. Читатель в чувствительной ситуации отчасти обнаруживает происходящее с героем в самом себе. Подобно тому, как смеясь над комическим героем, читатель смеётся «над самим собою», плачет читатель тоже над самим собой, а не только над героем. При этом происходит «увлажнение» чёрствой скорлупы практической жизни. Здесь следует сослаться на проницательные слова Ф. Ницше: «Нам следует время от времени отдыхать от самих себя, вглядываясь в себя извне и сверху, из артистической дали, смеясь над собою или плача над собою...» (Ницше Ф. Соч. в 2 т. Т. 1. М., 1990. С. 581). При непосредственном читательском восприятии мы имеем дело с целостным напряженным внутри себя художественным миром. Результат же анализа – система ценностно-смысловых оппозиций, что мы наблюдали при рассмотрении некоторых произведений. Приведём в качестве ещё одного аналогичного примера стихотворение Н. Заболоцкого «Противостояние Марса»: Подобный огненному зверю, / Глядишь на землю ты мою, Но я ни в чём тебе не верю / И славословий не пою. 228 Звезда зловещая! Во мраке / Печальных лет моей страны Ты в небесах чертила знаки / Страданья, крови и войны. Когда над крышами селений / Ты открывала сонный глаз, Какая боль предположений / Всегда охватывала нас! И был он в руку – сон зловещий: / Война с ружьём наперевес В селеньях жгла дома и вещи / И угоняла семьи в лес. Был бой и гром, и дождь и слякоть, / Печаль скитаний и разлук, И уставало сердце плакать / От нестерпимых этих мук. И над безжизненной пустыней / Подняв ресницы в поздний час, Кровавый Марс из бездны синей / Смотрел внимательно на нас. И тень сознательности злобной / Кривила смутные черты, Как будто дух звероподобный / Смотрел на землю с высоты. Тот дух, что выстроил каналы / Для неизвестных нам судов И стекловидные вокзалы / Средь марсианских городов. Дух, полный разума и воли, / Лишённый сердца и души, Кто о чужой не страждет боли, / Кому все средства хороши. Но знаю я, что есть на свете / Планета малая одна, Где из столетия в столетье / Живут иные племена. И там есть муки и печали, / И там есть пища для страстей, Но люди там не утеряли / Души естественной своей. Там золотые волны света / Плывут сквозь сумрак бытия, И эта малая планета – / Земля несчастная моя. Название произведения содержит научный термин. В астрономическом горизонте событие великого противостояния, максимального приближения Марса к Земле, совершающегося раз в пятнадцать лет, совершенно нейтрально. В мире стихотворения оно приобретает ценностный характер. Существенно то, что из термина убрано слово «великое». Устранены научная значимость и астрономический масштаб события. Акцент переносится на его гуманитарный смысл, связанный с образом Марса как бога войны. Поле возникшего ценностного напряжения может быть обозначено как система оппозиций: Марс Земля разум сердце огонь земля смерть жизнь зверь человек лес дом большое малое воля душа 229 искусство природа война мир мрак свет и так далее. Оговоримся, что такого рода схемы фиксируют то, что «выпало в осадок» в динамичном процессе осмысления текста. Ведь смысл подвижен, перманентно уточняем. Это некое усилие мысли, энергейя. Схема же – эргон. Любая схема интерпретации синхронизирует протяжённое во времени, ставит рядом разрозненное, делая внутренние связи наглядными. Только для этой наглядности, проясняющей художественную логику произведения, и нужна такая искусственная схематическая упорядоченность. Ассоциирование как диахронный процесс понимания схема представляет как некий синхронизированный «результат», своего рода «стенограмму». Все образы художественного мира рассматриваемого стихотворения Заболоцкого тяготеют либо к одному, либо к другому ценностному полюсу. На каждом из этих полюсов при анализе обнаруживается бесконечно развертывающийся «веер» образных определений, самых разных, но ценностно синонимичных, связанных между собой. По свидетельству Борхеса, Иоанн Скотт Эриугена сравнивал Священное Писание, содержащее бесконечное множество смыслов, с развёрнутым павлиньим хвостом (Борхес Х. Л. Соч. в 3 т. Т. 3. Рига, 1994. С. 368). Понимание ценностного напряжения художественного мира как бесконечно сложного, многосоставного феномена, описываемого с помощью открытого ряда противопоставлений, возвращает нас закономерно к понятию символа и многослойности смысла. Именно это понятие прежде всего используется в герменевтике (См., например: Рикёр П. Конфликт интерпретаций. М., 1995; Гадамер Г.- Г. Актуальность прекрасного. М., 1991. С. 298–305). 230 Для нас весьма существенной является органичная связь символического и ценностного аспектов произведения литературы и его истолкования. Ряд оппозиций, выстраиваемых при анализе ценностной структуры произведения, представляет собой не что иное, как открытое символическое единство слоев художественного смысла. Рассмотрим это на примере стихотворения И. Анненского: Я на дне, я печальный обломок, Надо мной зеленеет вода. Из тяжелых стеклянных потемок Нет путей никому, никуда... Помню небо, зигзаги полета, Белый мрамор, под ним водоем, Помню дым от струи водомета, Весь изнизанный синим огнем... Если ж верить тем шепотам бреда, Что томят мой постылый покой, Там тоскует по мне Андромеда С искалеченной белой рукой. Обратимся к системе противопоставлений образов данного произведения: статуя Андромеды обломок прошлое настоящее античное современное красота искалеченность верх (небо) низ (дно) синий зеленеет огонь потемки легкость тяжесть полет (движение) постылый покой свобода безвыходность радость печаль струя водомета вода как стекло память беспамятство 231 культура природа и так далее. С определенной долей приблизительности можно сказать, что если в первой строфе стихотворения развернут «правый», отрицательный, полюс, то во второй строфе – «левый», положительный. Третья строфа соотносит оба этих полюса, обнаруживая, что вся искалеченная статуя оказывается тоже обломком, стремящимся к воссоединению с целым. То есть в третьем четверостишии на передний план выступает тема разрыва; мифологическое имя обозначает здесь древность, от которой чувствует себя отчужденным современное сознание. Античная реалия напоминает о вчерашнем дне культуры. Образ обломка поэтому воплощает некий тупик и упадок современной культуры, отчужденной от классического прошлого. «Тяжёлые стеклянные потемки» – образ забвения и могилы. Причём с этим полюсом смерти соединен образ обломка, то есть распада целого на части. Целое есть нечто живое – тоскующая Андромеда, но обломок – мёртвый камень, и «голос» его – голос мертвеца. Духовная смерть, таким образом, оказывается синонимом забвения, отрыва настоящего от прошлого. Вот почему лирическое сознание, то есть субъект всего высказывания, – обломок на дне водоёма. Это голос культуры из могилы забвения. Здесь на отрицательном полюсе оказывается не современность, а оторванность её от прошлого. Это поляризация расколотости и единства культурной традиции. Приведенный ряд оппозиций, во-первых, можно рассматривать как схему символической структуры произведения, так как перед нами, если мы обратим внимание на «вертикальную плоскость» схемы, – смысловые слои символической реальности, организованные взаимной репрезентативностью, способностью взаимного представительства. Например, вода в виде подвижной «струи водомёта» репрезентирует живой пульс культуры, в то время как «стеклянность» воды (то 232 есть её неподвижность) указывает, наоборот, на смерть, как и, соответственно, понятия «огонь» и «потемки», «верх» и «низ» и так далее. Взаимная репрезентация, таким образом, – не просто отождествление, а обоюдное смыслообогащение. Во-вторых, данная схема, если обратить внимание на её «горизонтальную» плоскость, описывает ценностное напряжение. Если в «вертикальной плоскости» мы находим взаимное представительство слоёв смысла, то в «горизонтальной» – их противопоставление, поляризацию. Принципиально важна допустимость перестановок по вертикали, то есть последовательности ряда оппозиций: какая бы то ни было иерархия слоёв художественно-символического смысла отсутствует. Но вот перестановка по горизонтали невозможна (разве только всё «правое» становится «левым»). На одном полюсе могут оказаться лишь взаимно репрезентируемые понятия. Таким образом, ценностная поляризация и смысловая многослойность художественного произведения взаимно координируют друг друга. Эти рассуждения отчасти инспирированы замечательной книгой Е. Г. Эткинда «Разговор о стихах» (М., 1970), где исследователь развивает понятие «лестница смыслов» на материале стихотворения Фета (с. 232–236). Ступени этой «лестницы» Е. Г. Эткинд обозначает как раз рядом противопоставлений. Очень важно здесь то, что мы воспринимаем текст Анненского так не потому, что именно он содержит символ и оценку, а наоборот: этот текст мы воспринимаем в ценностном и символическом горизонте потому, что он художественный. Сама наша установка на художественный текст есть установка на символ и оценку – не теоретически осознанная, а непосредственная. Это аналогично тому, что Лейбниц выделял в качестве единственного «врождённого» (то есть доопытно233 го) принципа «аксиому тождества, или, что то же самое, аксиому противоречия, которая является первичной, так как в противном случае не существовало бы разницы между истиной и ложью: любые рассуждения с самого начала потеряли бы смысл, если бы было всё равно, что сказать – да или нет» (Лейбниц Г. В. Собр. соч. в 4 т. Т. 2. М., 1983. С. 546–547). Конечно, при проведении такой аналогии имеется в виду именно художественное восприятие, в котором этот априорный принцип (тождества – противоречия) реализуется как образное со- и противопоставление, как единство отношений репрезентативности и полярности. «Образная логика» – это логика конкретностей, а не отвлечённостей. Тем не менее её принципы вполне соотносимы с принципами последней (логики в собственном смысле слова). И это важная предпосылка понимания поэзии (как художественной литературы вообще): ведь поэтический мир изначально предстаёт прозаическому сознанию, поэтическая метаморфоза которого возможна как раз благодаря общей логической почве (аксиома тождества-противоречия Лейбница). Поскольку для нас акция понимания любой художественной детали означает поиск связей её с другими деталями, постольку отсюда вытекает необходимость учёта двух типов таких смысловых связей, ассоциаций: это связи по сходству и по контрасту. Можно это соотнести с системой со- и противопоставлений, о которой писал Ю. М. Лотман (См., например: Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М., 1994. С. 88). Как в рассудочной логике мы имеем дело с тождеством и различием, так и в художественной – образной – логике есть то же самое. Для О. М. Фрейденберг семантика (этим словом она часто пользуется) складывается из тождеств и различий, имея прямое отношение к символам, когда, например, образы еды и жертвоприношения оказываются в первобытном сознании взаимно репре- 234 зентативными (Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997. С. 58–62). Снова подчеркнём: важно, что в художественном мире обнаруживаются не абстрактные тождество и различие, а сопоставления и противопоставления, которые, к тому же, как мы видим, носят символический и ценностный характер. У Г.- Г. Гадамера можно найти размышления о смысле как об идентичности: «Как понимающий я должен идентифицировать (…). Я отождествляю нечто с тем, что было или есть, и только эта идентичность составляет смысл произведения» (Гадамер Г.- Г. Актуальность прекрасного. М., 1991. С. 291). При этом произведение не просто опознаётся лишь как нечто знакомое, а ещё и что-то новое «имеет в виду», «говорит» (Там же). Поэтому идентификация дополняется дифференциацией. Какие-то моменты смысла проясняются именно по принципу дифференциации: война – крушение мира, здоровый – не болеющий. И т. п. Г. Г. Шпет писал: «Поэтическая предикация – только quasi предикация, не установление (Setzung), а со-поставление (symbolon)» (Шпет Г. Эстетические фрагменты. Ч. 2. Пб., 1923. С. 78). К этому необходимо ещё добавить и противо-поставление (оценку), что подводит к общей герменевтической читательской установке: искусство – игра, представление, репрезентация бытия (символ), но, одновременно, ещё и некое данет бытию (поляризация, оценка). Все предыдущие рассуждения показывают, что ценностный и символический аспекты интерпретации являются как бы развёртыванием положения об очеловеченности художественного образа. Как уже отмечалось, символ и ценность суть полюса единства бытия и смысла, чем как раз является художественный образ человека. Если мы делаем акцент на смысле, смотрим на смысл, указываемый, открываемый в бытии, то обычно говорим при этом о символе (указание плоти на дух). Движение к полюсу символа – интериоризация. Символ 235 поэтому открывает «смысловую глубину» (С. С. Аверинцев). Если же сделать акцент именно на бытии, то имеется в виду ценность – «смертная плоть» смысла (М. М. Бахтин). Движение к полюсу эстетической ценности – овнешнение, экстериоризация человека (и – обязательно – индивидуализация). Если этическая ценность – это смысл, долженствующий стать бытием, то эстетическая – ставший бытием смысл или, как выражается М. М. Бахтин, «ценностно успокоенный» = у-плот-нённый. В символическом горизонте произведение художественной литературы открывается как поле смысловой многослойности. (О таком смысловом «наслоении» как предмете средневековой экзегетики писал, например, Поль Рикёр). Это бесконечная смысловая перспектива, «глубина» произведения, его разомкнутость в пространство культурной традиции, выступание за границы hic et nunc. Как писал С. С. Аверинцев, «смысл символа объективно осуществляет себя не как наличность, но как динамическая тенденция: он не дан, а задан» (Символ // КЛЭ. Т. 6. Ст. 827). Ценностное «измерение» интерпретации обнаруживает в произведении единство напряжения, образующегося благодаря эффекту поляризации всех образов художественного мира. Ценностная сторона произведения гарантирует его художественную сосредоточенность, цельность, будучи не чем иным, как авторским завершающим горизонтом. Если символ – это заданность смысла, то ценность есть смысловая данность. Представление о художественной логике связей по сходству и контрасту (тождеств и различий), которое носило предварительный и, так сказать, рабочий характер, может быть теперь конкретизировано с помощью понятий символа и ценности. Символическая смысловая структура обнаруживает отношения репрезентативности, то есть взаимного представительства различных семантических слоёв (худо- 236 жественные тождества). Ценностное напряжение в художественном мире открывает отношения полярности. Рассмотрим первое предложение романа «Обыкновенная история»: Однажды летом, в деревне Грачах, у небогатой помещицы Анны Павловны Адуевой, все в доме поднялись с рассветом, начиная с хозяйки до цепной собаки Барбоса.... Если придавать значение всему (а именно так, по-видимому, и следует читать художественный текст, о чём шла речь во второй главе), то можно задуматься над тем, зачем здесь определение «небогатая». Художественная роль его в приведённом высказывании проясняется в связи с общей картиной патриархального единства дома, куда мы, начиная читать роман, попадаем («с хозяйки до цепной собаки Барбоса»). Богатство означает большее расстояние между господами и слугами. Это знак чисто деловых их отношений. Здесь такая дистанция и отчуждённость как раз отсутствует. Налицо семейный мир, более близкий природной естественности, нежели социальным условностям и субординации. Это подчёркивается не только тем, что в один ряд попадают хозяйка дома и её собака Барбос, но и названием деревни, стирающим границу между человеком и природой. Кроме того, подъём жителей дома совпадает с восходом солнца. Когда мы читаем начало романа, мы, конечно, чисто интуитивно схватываем названные особенности описываемого жизненного уклада. Но если потом проанализировать это первичное впечатление, то можно заметить, что в нём в неразвёрнутом виде присутствует оппозиция семейно-патриархального и городского типов отношений; природы и цивилизации; чувства и рассудка и так далее. Этот пример показывает, как в чтении художественного текста актуализируются ценностная полярность и символическая репрезентативность. «Богатство» оказывается существенно чужеродным для 237 представленного здесь «натурального» мира. В то же время данная ценностная оппозиция обнаруживает свой репрезентативный характер по отношению ко всему роману. Достаточно вспомнить двух центральных его персонажей – дядю и племянника Адуевых. Чрезвычайно важная особенность того, что называется смыслом художественного текста, состоит в обязательной причастности этому смыслу самого читателя и интерпретатора. Этим чтение и толкование отличается от анализа, в котором анализируемое произведение – объект. Смысл же никогда до конца не объективируется, так как он вовлекает в свою «зону влияния» понимающего субъекта. Как писал М. Бубер, «смысл обнаруживается, поскольку собственная личность человека оказывается вложенной в его самораскрытие» (Бубер М. Два образа веры. М., 1995. С. 361). Открывающиеся в художественном тексте отношения символической репрезентативности носят настолько глобальный характер, что распространяются и на самого читателя. Поэтому читатель стихотворения «Горные вершины…», прочитав «…Отдохнёшь и ты», видит и в самом себе, как и в любом человеке, путника. Обнаружение мира художественного произведения ценностно поляризованным выводит и самого читателя из состояния ценностной безучастности, индифферентности, нейтральности. Например, понимание романа «Обыкновенная история» заключается не столько в приёме к сведению конфликта чувствительной и рассудочной жизненных установок его героев (племянника и дяди Адуевых), сколько в актуализации своих чувствительности и рассудочности, что даёт возможность переживания этого напряжения и ощущения своей причастности смыслу произведения – не интеллектуальной, а событийной. Фундаментальный характер категории целостности для эстетики обнаруживается и в герменевтической плоскости: символическая при-частность и ценностное у-частие – это две стороны единого эстетического события, как и сами слова эти растут из одного корня: в 238 чтении художественного произведения преодолеваются одновременно частичность, раздробленность жизни и наша безучастность, индифферентность. Итак, понимание художественного произведения осуществляется не благодаря использованию слов «символ» и «ценность», а благодаря обнаружению двух взаимосвязанных типов смысловых отношений – репрезентативных и полярных – в произведении и в самом читателе. 8. МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ Филология… учит читать хорошо, то есть медленно… Ф. Ницше. Утренняя заря Читать художественные книги сегодня многим кажется страшным расточительством времени. Это объясняется не только тем, что такое чтение абсолютно бесполезно, а для развлечения изобретено много более подходящего. Художественные тексты требуют совершенно особого – неторопливого – настроя. Имеется в виду настрой в буквальном смысле: на чтение художественной книги нужно настроить-ся, как отлаживают строй музыкальных инструментов перед игрой. Этот строй, «лад» как раз извлекает нас из прозаической реальности, где мы должны что-то делать, куда-то стремиться. В связи с таким переходом из прозаического мира в поэтический и соответствующей сменой ритма возникает проблема начала чтения. Уже приводившийся тезис М. Хайдеггера о понимании как смысловом наброске требует развёртывания в этом направлении. Как происходит самая ранняя смысловая разметка художественных читательских впечатлений? Для того, чтобы понаблюдать над этим, необходимо сокращение протяжённости текста, для чего подойдут любые короткие тексты. Но принципиальна, на наш взгляд, допустимость 239 чтения начальных фрагментов текста как его «порций», уже содержащих какой-то смысл, который, конечно, должен уточниться чтением последующего. Дело обстоит не таким образом, что сначала мы «просто» читаем, а уж затем – ближе к концу – понимаем. Осмысление – это вовсе не вторичная, следующая за восприятием, деятельность. Наше восприятие художественных образов укоренено в их осмыслении, так что неверно было бы считать их голой данностью, якобы воспринимаемую сперва только в её наличности, к которой потом как бы «добавился» смысл. Образы учреждены (в исходном значении этого слова) в своей понятности. Как писал Мерло-Понти, «... ощущения и образы (...) всегда являются на горизонте смысла» (МерлоПонти М. Феноменология восприятия. СПб., 1999. С. 40). Это как раз даёт нам основание называть художественные образы понятиями. Как уже ранее отмечалось, имеются в виду понятия не как предмет рассудочной логики, а как то, что адресовано пониманию. Главное препятствие в толковании части художественного произведения – презумпция тотальной взаимосвязи всего со всем: размышления над отрывком текста, кажется, противоречат самой формуле понимания как нахождения принципа целостности произведения. Сомнения в адрес интерпретации фрагмента оправданны. Однако то, что мы располагаем каким-то неотрывочным, «целостным» (в смысле «всеохватным») представлением о тексте, – иллюзия. Любая интерпретация оперирует «кусочками» текста, даже если он дочитан «до конца». И важно, не закрывая на это глаза, понимать разницу между окончательностью текста и вечно черновым характером смыслового наброска, всегда успевающего связать лишь отдельные художественные детали. Фиксация того, что можно «вычитать» из начального фрагмента текста, то есть некий эскиз, или черновик, понимания, и предлагается нами в качестве материала так называемого медленного чтения. Вме240 сте с тем здесь вовсе не имеется в виду то, что обычное чтение должно всегда осуществляться в том же – специально заторможенном – ритме. Искусственность этой операции напоминает рассматривание в микроскоп, что, конечно, расширяет наши представления о мире, но нельзя смотреть на мир только в микроскоп – это создаст искажённую перспективу, то есть приведёт к известному косоглазию специалиста. Можно вспомнить здесь слова Ницше: «Любое ремесло кривит человека». Перейдём к конкретным примерам. Прочтём первую строку стихотворения О. Мандельштама: Бессонница. Гомер. Тугие паруса. Наше понимание её зависит от того, насколько нам удастся преодолеть кажущуюся бессвязность названных понятий. Межевым знаком является здесь слово «Гомер». С предыдущим его связывает то, что это книга как вещь, находящаяся в камерном пространстве не могущего заснуть героя. В связи с последующим («Тугие паруса») слово «Гомер» означает уже совершенно другое: это оживший в чтении, развеществляющем книгу, мир героев древности и наполненное ветром распахнутое пространство моря. Однако важна и последовательность текста. Мы не просто намечаем пограничное слово Гомер, но и вместе с героем совершаем переход указанной границы. Зафиксируем схематически этот переход и тем самым опишем его семантическое направление: текст мир материальное идеальное комната море дом путь замкнутое пространство открытое пространство 241 настоящее прошлое неподвижность движение проза поэзия реальность воображение малое великое пассивное активное состояние действие Единство перечисленных моментов (причём этот ряд может быть продолжен) и образует сложную смысловую структуру границы, нарушаемой в начале стихотворения Мандельштама. Дальнейшее его чтение должно привести во взаимодействие прочитанного с последующим. При этом обязательно произойдёт уточнение смысла. Но без какого-то предварительного чернового наброска понимание целого произведения не состоится. Здесь, как и в дальнейших попытках толкования, важнейшую роль играют два коррелятивных аспекта: символическое развёртывание и ценностно значимая граница. Следующий пример – начало стихотворения И. Бунина «После битвы»: Воткнув копьё, он сбросил шлем и лёг. Название проводит границу между свершившимся событием и тем, что за ним последовало. То есть первое, с чем встречается здесь читатель, это различение времени битвы и времени отдыха (войны и мира). Но тем самым дифференцируются социальный и натуральный аспекты изображаемого: причастность историческому – линейному, «векторному» – времени сменяется причастностью природному – циклическому чередованию напряжения и отдыха. Природа вступает в свои права после того, как социальное событие завершается. И это оз242 начает некую пассивность человека («после» героической активности). Все действия, указанные в стихе, осуществляются в той же плоскости: остриё копья, поражавшее врагов, прячется, тонет в земле. При этом его вертикальное положение является как бы напоминанием о происшедшем (копьё здесь репрезентирует самого героя). Продолжение разоружения – сбрасывание шлема, искусственного приспособления, прикрывающего природную беззащитность. Это жест возвращения к природе. Тот же смысл имеет слово «лёг». Здесь не имеет значения, сон это или смерть, – в любом случае важна горизонтальная поза отдыха, подчинения естественной усталости. Природа побеждает победителя. Вертикальное положение копья приобретает значение памятника: это оружие в героическом прошлом и память о нём в уставшем настоящем. На глазах читателя происходит как бы «окаменение» события. Дистанция «до» и «после» обнаруживает символический смысл смены эпох (как в «Бородино»). И так далее. У А. Ахматовой есть стихотворение из четырёх строк: Ржавеет золото, и истлевает сталь, Крошится мрамор. К смерти всё готово. Всего прочнее на земле – печаль И долговечней – царственное слово. За каждым из перечисляемых материалов закреплена репутация устойчивости и неподверженности разрушению. Однако имеются и специфические оттенки значений: если с золотом связано представление о благородстве и блеске богатства, то сталь ассоциируется с оружием, с воинской доблестью, с силой. Мрамор же, во-первых, – материал для скульптуры, а во-вторых – для памятных надгробных сооружений. Всё объединено идеей недолговечности: знатность и богатство, сила, красота и память. Символическая природа всех названных в начале материалов отсылает к нематериальным разрушительным процессам, к иллюзорности и хрупкости ценностей человеческой жизни. 243 Взятая изолированно вторая половина текста совершенно непонятна: почему печаль «прочнее», например, радости? Однако два последующих стиха совершенно закономерно вытекают из двух предыдущих. Временно и неустойчиво всё, кроме самого печального осознания этой временности и смертности, закреплённого и выраженного в слове. Царственность слова контрастирует с картиной непрочности и недолговечности в первой половине текста. Имеется в виду не «слово» вообще, а именно печальное слово, говорящее о недолговечности жизни, то есть правдивое слово, власть которого (царственность) выражается в ясном осознании непрочности любой власти. Поэтому самое непрочное оказывается самым прочным и наоборот. Парадоксальное соединение понятий прочность и печаль, долговечность и слово указывает на подспудный спор с общепринятыми представлениями (докса) о прочности и о царственности. Попробуем «медленно» прочесть название повести Гоголя «Ночь перед рождеством». Здесь выраженное предлогом предшествование указывает на само шествие – шествие времени. Причём не абстрактное – благодаря имеющимся определениям. Взаимодействие этих определений приводит к тому, что смысл каждого из них развёртывается, образуя сложную символическую структуру. «Ночь», понятая не сама по себе (как определённое время суток), а как именно предрождественская, наделяется сакральными, праздничными коннотациями: её темнота означает дохристианское состояние мира. Но точно так же рождество, в свою очередь, развёртывает свой ритуально-праздничный смысл возвещения новой эры в направлении посленочного состояния рассвета, начала нового дня. Важно здесь не столько сравнение двух отрезков времени – тёмного и светлого, – сколько внимание к сосредоточенности на самой границе времён, в эпицентре их духовного спора. 244 Чуть позже ночное время персонифицируется в образе ведьмы, подымающейся из трубы верхом на метле, а также чёрта, крадущего месяц, который светит «добрым людям и всему миру, чтобы всем было весело колядовать и славить Христа». Ночное предрождественское время шабаша нечистой силы проецируется на кражу месяца и наступление тьмы, на козни Солохи, на капризы красавицы Оксаны. Всё это побеждается в сюжете повести, как наступление светлого праздника возвещает о конце тёмного времени. Название повести Гоголя имеет отношение к проблеме образования художественного символа. Имеются в виду какие-то готовые символические клише, которые зафиксированы в словарях (тяготеющих к истории и феноменологии религии). Эти готовые значения (скажем: ночь – смерть – конец и, с другой стороны, рассвет – рождение – начало) вступают во взаимодействие с конкретными деталями текста. Например, уже в названии слово «рождество» указывает именно на христианскую символическую плоскость, в которой «работают» данные значения. Можно ли сказать, что название содержит лишь этот общерелигиозный смысл, а художественный начнётся лишь с началом повествования? – Ответ отрицательный. Дело в том, что мы воспринимаем слова «ночь перед рождеством» именно как название художественного произведения и, следовательно, в горизонте ожидания. Чего? – Распахивания иной – параллельной – реальности, художественного мира. В названии параметры этого ожидаемого мира ещё носят слишком неопределённый характер, но читатель настроен не на любую предрождественскую ночь (безразлично, какую), а конкретную. Название обещает событие. И это обещание события (в широком смысле – события встречи) создаёт экзистенциальный характер выражения «ночь перед рождеством». Если посмотреть в этой рецептивной плос245 кости на название повести Гоголя, то оно задаёт ожидание чего-то страшного и, одновременно, такого, что закончится хорошо – победой света. (Это механизм комического, по Ницше). Такое ожидание смешного как победы страшного сбывается в самом сюжете повести, где нечистая сила, появляясь с самыми серьёзными намерениями и нацеливаясь на фаустовскую ситуацию (то есть трагическую), оказывается осёдланной и окарикатуренной: в конце произведения появляется младенец на руках матери, которого подносят к картине, изображающей чёрта в аду, со словами: «Он бачь, яка кака намалёвана!» Таким образом, обещанный смысл развёртывается именно в том направлении, которое задано названием. Название – это не пустое обещание, а некая смысловая разметка ожидаемого произведения. Обратимся к первой строке стихотворения Б. Пастернака: В трюмо испаряется чашка какао (…) Первое, с чем здесь сталкиваешься, – это восприятие мира не непосредственное, а отражённое в зеркале. Перед нами не сам мир, а его искусственное подобие. Чашка какао, конечно, «реально» испаряется сама по себе, а трюмо это просто отражает. Но это «просто» незаметно редуцирует поэтический смысл, как бы прозаизирует стих. Ведь текст говорит «В» трюмо. Нам дана именно и только отражённая реальность, но так, как будто она настоящая. Можно обратить внимание на иностранные, экзотичные на фоне русских слов, несклоняемые «трюмо» и «какао». Как несущественной и, так сказать, снятой оказывается граница настоящего и ненастоящего (отражённого), так и, с другой стороны, размывается граница русского и нерусского, обычного и экзотичного. Иначе говоря, налицо пафос стирания границ, как, например, нечёткой и подвижной ощущается здесь граница тёплого и холодного в остывающем какао. Обна246 ружить границы как исчезающие, а вместе с этим – сохраняемое единство мира – горизонт понимания стиха. Из фрагмента текста не удаётся вычитать слишком много, однако главное здесь – бережно относиться к мелочам. Причём надо подчеркнуть, что умение читать – это не столько умение говорить что-то о прочитанном, сколько умение видеть – видеть связи образов произведения, хотя, наверное, нельзя отрывать одно от другого. Ещё один стих Пастернака: Весна, я с улицы, где тополь удивлён (…) Пограничное состояние природы (холод – тепло, неподвижность – движение, привычное – неожиданное) соответствует пограничности ситуации, в которой оказывается герой: «я с улицы». То есть это черта, разделяющая внутреннее, домашнее, замкнутое, отчуждённое от природы, пространство и, наоборот, – внешнее, уличное, открытое. Герой здесь переходит эту границу и оказывается как бы вестником из внешнего мира. Тем самым замкнутое пространство дома раскрывается, и весенняя событийность, переходность из одного состояния в другое, врывается внутрь. Чудесной метаморфозе природы оказывается причастным человек. Такое преодоление отчуждённости, отгороженности запечатлено в выражении «тополь удивлён». Удивление связано с событием преображения, возрождения природы, но также и человека, возвращающегося домой с благой вестью о весне. Рассказ Ф. Кафки «Посейдон» начинается со следующего предложения: Посейдон сидел за рабочим столом и подсчитывал. В этой фразе слово Посейдон отделено от всего остального резкой, хотя и невидимой, границей, которую важно заметить. Сидячее 247 положение характеризуется статичностью на предполагаемом смысловом фоне зыбкой стихии, связанной с именем морского бога. Соответственно, дом (некое помещение) противостоит здесь миру, глубина (моря) – поверхности (стола), природа – цивилизации, древность – современности, свобода – занятости (работе), божественное величие и неохватность – мелочности клерка («подсчитывал»), поэзия – прозе и так далее. Читатель переходит здесь как бы из золотого века в век железный, чувствуя резкое умельчение масштаба и саркастическую интонацию, внезапно обнаруживающую нечто меньшее по сравнению с ожидаемым. Сакральное состояние мира побеждено бюрократическим, власть Бога – властью Стола. Прочтём первый стих пушкинского «Талисмана»: «Там, где море вечно плещет…». Сказать «там» можно только из «тут», то есть находясь «тут». Это ближнее место пространства есть то, от чего субъект высказывания как бы отталкивается. Можно реконструировать некоторые характеристики этого ближнего топоса. Море здесь репрезентирует природу вне человека. Поэтому «тут» означает «берег» (не в буквальном смысле, а как сушу, землю, в отличие от воды), привычный для человека участок бытия. «Тут» – устойчивость, противостоящая зыбкой стихии моря. «Там» связано с опасностью и смертью, а также – с неизвестностью, неопределённостью. Это великое, перед которым теряется малое; вечность, в которой как бы готовится раствориться временность. «Там», связанное с вечностью, есть идеальное пространство, «тут» – реальное. Море – жизнь («плещет»), человек – сознание, медитация. Жизнь природы – круг вечности, жизнь человека – отрезок времени. Устойчивость человеческого существования носит как бы иллюзорный характер, а зыбкость моря и движение природы вечны. 248 Можно построить систему оппозиций, обозначающую обнаружившиеся в стихе смысловые связи: тут там близость даль человек природа берег (суша) море земля вода ограниченность безграничность малое большое временность вечность отрезок круг реальное идеальное сознание жизнь я мир и так далее. Конечно, это лишь предварительная смысловая разметка художественного мира, куда «входит» читатель. Причём в непосредственном чтении указанные связи схватываются интуитивно и в свёрнутом, так сказать, виде – не как система аналитического описания, а как целостность понимающего восприятия. Зададимся вопросом: откуда взялось в нашем истолковании всё то, что перечислено слева? Не произвольна ли такая интерпретация? Можно ли говорить о ближайшей пространственной точке, если в тексте есть только слово «там»? Мы должны здесь обратить внимание на замеченное ещё Спинозой свойство любого определения прочерчивать границу, предел: determinatio negatio est. Любое определение есть отрицание запредельного: жара – отрицание холода, тьма – отрицание света, мир – отрицание войны. Определение всегда как бы касается запредельного, иного, граничит с ним. Это необходимо учитывать при чтении и интерпретации: ведь читатель не просто регистрирует значе249 ния прочитываемых слов, а представляет себе всю ситуацию; он имеет дело не только с текстом произведения, но и с художественным миром, не только со словом, но и с образом. Поэтому слово «там» надо понимать звучащим именно из того места, относительно которого только оно и имеет смысл, – тут. Это касается и прочих понятий, развёртываемых в осмыслении приведённой строки Пушкина. Следующий пример – начало стихотворения В. Набокова: В хрустальный шар заключены мы были (…) Слово «были» указывает на смену различных состояний. При этом предшествующее состояние заключённости в «хрустальный шар» символически многозначно: 1) некая несвобода, замкнутость мира прошлого; 2) игрушечность и малость (это мирок, а не мир); 3) с предыдущим связано значение инфантильности, детскости, наивности, причём «были» свидетельствует о произошедшем повзрослении; шар – космос античности – как бы детства культуры; 4) сверкающая красота, очарованность (в противовес истине); 5) хрупкость, которая разбивается («были»); 6) оторванность идеальной мечты от реальной жизни и ситуация утраченных иллюзий; 7) момент крушения, потери определённой цельности; 8) приход разума на смену вере; 9) приход ответственности вместе со свободой; 10) открывание горизонта реальной жизни связано с утратой статичности состояния: жизнь как данность сменяется жизнью как задачей; дом сменяется дорогой. 250 В экспликации этих символических слоёв выявляется и ценностная демаркационная линия, проведённая художественным временем события обретения самосознания, инициации. В строке стихотворения Лермонтова «Расстались мы, но твой портрет...» событие расставания предполагает переход границы двух состояний: от «мы» к «я» и «ты». Это имплицитное противопоставление любви и разлуки связано с качественной разницей прошлого и настоящего. Строка стихотворения содержит также эксплицитное противопоставление (выраженное союзом). «Но» указывает не на то, что в портрете есть нечто противодействующее расставанию. Разлука свершилась. Но портрет отрицает что-то другое. «Ты» на портрете существует в идеальном эстетическом плане, в то время как расставание – в реальном. Идеальное эстетическое бытие неподвластно времени, тяготеющему над реальностью, где «мы» исчезает. Реальное существование человека схвачено здесь в отрицательном модусе, но «твой портрет» как раз оберегает бытие от распада – эстетически. Подумаем над началом книги Ф. Ницше «Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого». Первое предложение из «Предисловия Заратустры» таково: Когда Заратустре было тридцать лет от роду, покинул он родину и озеро родины и ушёл в горы (…). [Так перевёл Я. Э. Голосовкер. У Ю. М. Антоновского вместо «было» – «исполнилось», а вместо «ушёл» – «пошёл»; кроме того, Антоновский добавляет к «родине» притяжательное местоимение «своя», а В. В. Рынкевич употребляет вместо «ушёл» не «пошёл», а «удалился». От смысловых оттенков, порождаемых этой разницей, мы здесь абстрагируемся]. 1. Первый вопрос, связанный с именем древнего пророка, касается характера читаемого текста: историографический, религиозный, 251 художественный или какой-то другой? Название книги исключает первый вариант как слишком высокопарное для научного языка. Подзаголовок же, перенося читателя из эпической древности в раздробленную различиями мнений современность, исключает понимание текста как религиозного. Тем не менее установка на стиль древнего священного текста обнаруживается как в названии, так и в самом начале, хотя риторическая высота и торжественность ставятся здесь под вопрос: кому же они всё-таки адресованы? 2. Парадокс подзаголовка настраивает на высказывание в противовес общему мнению (докса). Налицо соединение предельной открытости, исключающей какую-то специальную адресованность, и предельной закрытости как самопогружённости одиночества. Охват «всех» и недоступность никому может означать, например, общую причастность тайне. В «книге», то есть в слове, которое нам обещано, мы видим странное единство откровения и утаивания. Обращает на себя внимание то, что слово («книга») о Заратустре является одновременно словом самого Заратустры. Точнее, герой высказывания, покинувший родной дом, – это как раз тот, кому приписывается само высказывание. Таким образом, слово здесь («так говорил») подготавливается делом. Это особое слово, которое как бы будет больше весить. 3. Тридцатилетний возраст Заратустры – граница, делящая его жизнь на качественно различные этапы. «Тридцать лет от роду» он прожил именно как природное существо. Покидание родины является его вторым – духовным – рождением. С этого момента он становится не представителем рода, а индивидуумом, то есть тем, кто сам определяет свою жизнь. Индивидуальная ответственность возникает при освобождении от круговой – родовой – поруки. Но как раз это и является необходимой предпосылкой для обретения своего собственного слова. 252 4. Образная инкарнация этих двух этапов жизни – озеро и горы. То, что обычно ассоциируется с озером, – округлые очертания, замкнутость (в отличие от течения реки), зеркальная гладь, – указывает на невозмутимый покой, тишину, гармоническую цельность жизни. Горы выражают отделённость, одинокое возвышение, открытость ветрам и опасность падения – «угловатость» и своеволие индивидуальной жизненной позиции. И так далее. Рассмотрим первый стих произведения Ф. Сологуба: Затаился в траве и лежу (…) По первой строке мы не можем определить мотива, который заставляет героя таиться в траве. Означает ли это, что тут ещё нечего понимать? Трава прячет человека. На какой-то момент человек сливается, уравнивается с природой, отказывается от своего «привилегированного», заметного («царского») положения. Это уравнивание и есть та тайна, которая хранит, прячет героя. Причём состояние такого потаённого единства с травой есть состояние покоя. Имеется в виду не только временная остановка, а тот абсолютный, хотя и живой, покой, который обычно недоступен человеку, – покой травы, вечный покой природы. Возьмём четверостишие Лермонтова: Делись со мною тем, что знаешь, И благодарен буду я. Но ты мне душу предлагаешь: На кой мне чёрт душа твоя!.. Мы обязаны воспринимать выражение «на кой мне чёрт» не просто как грубый эквивалент «зачем», а как неслучайное. Соседство слов «чёрт» и «душа» указывает на Фауста и на отчуждение знания от души. Отказ от души сопровождается закономерным появлением чёрта. За «я» и «ты» стоят противоположные ценности: желаемое и предлагаемое предстают как бездушное знание и бесполезная душа; как 253 нечто частичное (делимое) и, наоборот, целостное; как безличное и личностное; как оно («то, что знаешь») и ты («душа твоя»). За понятием знания в стихотворении стоит всегда неполная информация, которой можно владеть. На противоположном ценностном полюсе находится духовное бремя и полная (неделимая) ответственность отношения, иначе говоря: иметь и быть. Попробуем интерпретировать начало «Мёртвых душ: В ворота гостиницы губернского города NN въехала довольно красивая рессорная бричка, в какой ездят холостяки: отставные подполковники, штабскапитаны, помещики, имеющие около сотни душ крестьян, – словом, все те, которых называют господами средней руки. Анонимность города NN указывает на его собирательный характер. Это один из губернских городов. Однако мы видим, что и бричка, въехавшая в ворота гостиницы, описывается не как единственная в своём роде, а как типичная. Причём через вещь мы узнаём о владельце. Но, опять же, не как об отдельном лице. Описание сводит хозяина брички к социальному положению, даёт его собирательный и анонимный образ – тип «господина средней руки». Все перечисления владельцев подобных бричек характеризуют «господ средней руки»: отставной подполковник занимает в лестнице званий место между майором и полковником, как штабс-капитан – между поручиком и капитаном. По-видимому, на таком же среднем уровне находится богатство помещиков, имеющих около сотни душ крестьян». Иначе говоря: под- – то же самое, что штабс- или около. Предмет изображения дан читателю не прямо и непосредственно, а через пределы, в которых он находится: губернский город NN – это не столица, но и не совсем уж маленький городок – нечто среднее, как и «довольно красивая» бричка, в которой ездят «господа средней руки». Кстати, бричка эта в Москву доедет, а в Казань не доедет. Хозяин же её «не красавец, но и не дурной наружности…» и так далее. Но это выяснится уже за пределами выбранного фрагмента. 254 Значение слова «холостяк» – неженатый. Это его общая, готовая, словарная семантика. Смысл слова всегда зависит от контекста ситуации, от употребления. Поэтому семантика слова «холостяк», отнесённая к неизвестному, въехавшему в ворота гостиницы, конкретизируется: семейное положение героя становится знаком его неукоренённости, неприкреплённости к какому-то месту, бездомности. Это вмире-гость. Можно обратить внимание на разницу слов «въехала» и «ездят», выявляющую едва заметное напряжение между хоть и незначительным, быть может, но событием – и бессобытийностью существования; между авантюрным и бытовым ритмами жизни; между тем, что случилось однажды, вдруг, и тем, что бывает постоянно, обычно. Первая строка стихотворения Некрасова: Пускай мечтатели осмеяны давно (…) Так как готовая семантика слова пускай вариативна (слово имеет несколько значений), выяснение смысла в данном случае заключается в выборе значения, актуального для контекста стиха. В связи с этим, важно заметить серьёзность высказывания. Это означает, что его субъект не разделяет осмеивания мечтателей. Поэтому можно сделать вывод, что контекст целого вводит в «смысловую работу» уступительное значение слова пускай: «несмотря на то, что…», «пусть…, но…». Такое толкование и подтверждается дальнейшим чтением, когда появляется «но». Стих обнаруживает столкновение серьёзной и насмешливой позиций. «Мечтатели» – это те, кто находится в сфере идеального, кто принимает её всерьёз. Смех – наоборот – точка зрения реальной действительности, низвержение «мечтателей» с небес на землю, скептическое отношение к беспочвенности идеализма. Существенно то, что 255 серьёзная интонация стиха обещает некую реабилитацию осмеянных мечтателей и, соответственно, идеальной стороны жизни. Слово «давно» в данном случае не проводит границы прошлого и настоящего, так как давнишняя осмеянность мечтателей не мешает всё ещё всерьёз к ним относиться; иначе говоря, речь идёт о неискоренимости мечтателей. Однако к времени относится и само понятие «мечтатель». Мечта – устремлённость в будущее, в ещё не сбывшееся, причём не просто выглядывание и предвосхищение, а ценностное предпочтение будущего. Смех же в такой темпоральной плоскости есть пафос настоящего, наличного бытия, предпочтение синицы в руках журавлю в небе. Такие, как видим, уже достаточно сложные, смысловые отношения открываются в самом начале стихотворения. Роман Достоевского «Подросток» начинается с внутренне противоречивого признания героя: Не утерпев, я сел записывать эту историю моих первых шагов на жизненном поприще, тогда как мог бы обойтись и без того. Прежде всего, выражение «первые шаги на жизненном поприще» сразу указывает на юный возраст, обозначенный названием романа. Читателю обещается история подростка, рассказанная им самим через некоторое время после всего происшедшего. «Первые шаги» подростка вроде бы стали «историей», то есть прошлым. Однако ретроспективный угол зрения не означает, что прошлое и настоящее разделены как подростковое и взрослое. Герой решается записать всё, что с ним произошло, не по желанию трезвого и отстранённого осмысления прошлого, что как раз свидетельствовало бы о его повзрослении, а по нетерпению сердца, переполненного случившимся и, следовательно, ещё актуальным, не прошедшим. Таким образом, прошлое проникает в настоящее, что выражено стилистической контаминацией: разговорное выражение «не утерпев» означает ещё живую актуальность того, о чём пойдёт речь; «первые шаги на жизненном по256 прище» – книжное клише, указывающее на временное отстояние, дистанцию, взрослый взгляд с высоты прожитых лет. Причём это не простое соседство разных стилей, а выражение внутреннего спора: подростковая неизжитость прошлого прорывается сквозь маску взрослости. В связи со сказанным «подросток» является не просто возрастной категорией. Конец фразы героя означает неуверенность в решении написать о происшедшем, внутреннюю неустойчивость, которая снова напоминает о ещё не окончившемся подростковом (переходном) состоянии жизни. Эти наблюдения показывают, как уже начало романа запускает процесс инкарнации смысла его названия. Начало стихотворения Блока «Сфинкс»: Шевельнулась безмолвная сказка пустыни (…) Сразу же необходимо обратить внимание на необычное выражение «безмолвная сказка», соединяющее несоединимые понятия. Так как смысл слова определяется только в связи с другими словами, то готовое общее значение изолированно взятого слова «шевельнулась» конкретизируется: шевеление «безмолвной сказки» означает нарушение безмолвия и начало сказывания. Иначе говоря, контекст целого стиха переводит семантику слова «шевельнулась» из реального – физического – в идеальный план – слова. Стихотворение озаглавлено именем мифологического существа, с которым соединён сюжет разгадывания загадки. В горизонте названия произведения событие, описываемое в первом стихе, осмысливается как приоткрывание древней тайны или самой загадки прошлого. Во всяком случае нарушение безмолвия здесь, кроме всего прочего, означает ещё и возникновение контакта прошлого с настоящим. Подумаем над первым предложением рассказа А. Платонова «Река Потудань»: 257 Трава опять отросла по набитым грунтовым дорогам гражданской войны, потому что война прекратилась. Понимание этого фрагмента происходит благодаря выявлению в нём ценностного напряжения, а также символической многослойности. Прежде всего обращает на себя внимание неоднородность времени: между прошлым и настоящим нет преемственности, они поляризуются как время войны и мира. Причём полярность этих понятий носит не абстрактный, рассудочно-логический характер, а конкретный, образный: время войны предстаёт здесь как время прекращения, затухания жизненных процессов; рост травы же – возобновление жизни – связывается в тексте именно с прекращением войны. Война репрезентируется понятием «дороги», которое здесь не что иное, как синоним состояния бездомности. При этом то, что война «гражданская», братоубийственная, подчёркивает её противоестественный характер. Бездомность и разрушение на-род-ного единства взаимно предполагаются одно другим. Образ «набитых грунтовых дорог» обнаруживает ещё один важный аспект. Грунт – земля, утрамбованная («набитая») войной, то есть пострадавшая. Такое состояние земли есть знак её омертвения. Поэтому, наоборот, прекращение войны, выражаемое в возобновлении роста травы, есть победа жизни, возобновление способности земли к рождению. Кроме всего прочего, это ещё борьба жёсткой поверхности и терпеливой, дождавшейся победы, глубины. Итак, налицо ценностное напряжение, имеющее несколько символически единых, взаимно репрезентативных, смысловых плоскостей: на одном полюсе находится образ «набитых грунтовых дорог», который представляет антиприродную войну и смерть; на другом полюсе – растущая трава, символизирующая прекращение войны и возвращение животворящих сил природы. 258 Рассмотрим ещё несколько первых строк различных стихотворений «в ритме» медленного чтения и понаблюдаем за самим началом развёртывания художественного смысла. Не смейся над моей пророческой тоскою (…) [Лермонтов] Стих открывает ценностный спор противоположных настроений «ты» и «я» – смех и тоска. Причём эти настроения не случайны. Тоска объясняется именно тем, что она пророческая. Пророк – тот, кто способен заглянуть в будущее. Его тоска означает, что будущее не обещает ничего хорошего. Смех же, наоборот, – симптом совершенной отчуждённости от будущего. Это жизнь настоящим и нежелание тосковать «раньше времени», то есть тогда, когда видимых причин для тоски нет. Раскол этих точек зрения олицетворяет раскол самого времени и как бы нарушение нормальной зрительной перспективы: налицо либо жизненная дальнозоркость, либо, наоборот, близорукость. Неумение предвидеть то печальное, что будет, противостоит неумению радоваться тому, что есть. За мною грохочущий город (…) [А. Белый («Шоссе»)] Остановимся на определении города «грохочущий». Любые определения, как уже отмечалось, проводят границы. Это «места прикосновения» к иному, внеположному. Поэтому слова «грохочущий город» проводят границу грохота и тишины, а также города и загородного пространства. На последнее указывает предлог: герой говорит о городе, оставленном позади. Нетрудно поэтому выявить ценностное напряжение на границе оставленного города и открывающегося впереди неназванного мира. 259 Покидание города есть жест предпочтения тишины грохоту. Необходимо уточнить, что тишина здесь – это не отсутствие любых звуков, а отсутствие именно городского грохота – искусственных, механических звуков цивилизации. Но поэтому покидаемое открывает искомое – противоположное – природную естественность. О красном вечере задумалась дорога (…) [Есенин] Олицетворение дороги («задумалась») прямо указывает на человеческую жизнь. Конечно, это уравнение жизни и дороги не оттесняет буквального смысла слова «дорога». Читателю предстоит обычная дорога, освещённая закатным солнцем. Однако художественный образ несводим к наличной действительности. Поэтому сквозь задумавшуюся дорогу здесь символически просвечивает человеческая жизнь, подходящая к своему закату. Слова «вечер» и «задумалась» взаимно объясняют друг друга: задумчивость здесь не случайное и мимолётное настроение, а характеристика «закатного» возраста, распростившегося с бездумностью юности. Император с профилем орлиным (…) [Гумилёв] Герой дан читателю через социальную роль, через место на верхней ступени имперской лестницы. Аналогичное – самое высокое – место занимает орёл в мире природы. В таком портрете человека на первом плане оказывается «вертикальная» идея власти. Именно поэтому герой повёрнут к нам профилем. Его взгляд никому не адресован, направлен, так сказать, мимо. Остаётся скрытым, недоступным читателю, личностный, внутренний аспект изображения человека, вынесенный за скобки в такой «вертикальной» плоскости. 260 Таким образом, художественным смыслом стиха (разумеется, понимаемым не как окончательная формула) мы считаем здесь, как и везде, не сумму готовых значений слов, его составляющих, а их взаимодействие. Муза-сестра заглянула в лицо (…) [Ахматова] Здесь очеловеченность богини предстаёт таким образом, что отношения поэта и музы оказываются фамильярными, более тесными, чем это обычно представляется. Но вместе с тем это означает и специфический характер поэзии, которая имеется в виду, – укоренённой в жизни, а не высокопарной. Поэзия, спустившаяся с небес на землю, носит личностный характер: «заглянула в лицо» – бесхитростный жест понимания и участия. Появление музы означает приход вдохновения. Здесь это состояние, соединяющее высокое и обыденное. Речь идёт о со-при-родности различных аспектов бытия («муза-сестра» – это буквально родственница), а также об их встрече лицом к лицу. Таким образом, поэзия предстаёт в стихе как пафос целостности. В этом парадоксальном сближении, породнении «обычно» далёкого обнаруживается ценностное напряжение: зачёркиваются расхожие романтические штампы и готовые представления о поэзии. Закончим ряд примеров разбором начала стихотворения И. Бродского «На столетие Анны Ахматовой»: Страницу и огонь, зерно и жернова (…). Этот фрагмент демонстрирует не просто незаконченность текста, но даже незаконченность предложения. И всё же художественный смысл уже здесь начинает развёртываться постольку, поскольку нам удаётся заметить какие-то связи в начале произведения. Нетрудно определить закономерность приведённого перечисления. Даны две пары 261 – разрушаемое в соседстве с разрушающим: огонь может сжечь страницу так же, как жернова – смолоть зерно. Абстрактность этих соотнесений кажущаяся. Ведь слово «страница» может (и должно!) быть связано с именем в названии стихотворения. Конечно, имеется в виду не реальный факт сжигания книг Анны Ахматовой, а не менее реальные сложные отношения поэта с временем. Время в произведении, прежде всего, – это конкретная эпоха, прошедший век, о чём напоминает название. Однако важно здесь обнаружить ценностно напряжённый характер образа времени, в связи с чем выявляется его более общий – символический – смысл. В самом заголовке бесформенному потоку («бегу») времени противостоит его мемориальная, юбилейная мера («столетие»): посмертная память противостоит смертности жизни. Но важно также учесть то, что такой отрицательный, разрушительный момент дан как необходимый. На это указывает соседство «зерно и жернова»: жернова не просто уничтожают зерно, а перемалывают ради будущего хлеба. Можно сделать предположение о непременности вхождения темы смерти в содержание бессмертного творчества, что подтвердит или, наоборот, отменит последующее чтение. Однако и к любому нашему смысловому наброску надо относиться именно как к предположению, которому суждено остаться вечно уточняющимся предположением, вечным переписыванием черновика понимания. Вместе с тем, сказанное вовсе не означает допустимость любых предположений, любых смысловых версий. Набросок смысла протекает в строгих рамках сформулированных правил чтения и на основе абсолютной непреложности текста. ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 262 Мы уже ссылались на Г.- Г. Гадамера, который писал применительно к художественному произведению о «презумпции совершенства». Выясняется, что чтение и понимание художественных тестов основано на целом ряде описанных априорных положений – презумпций: 1) странности; 2) семантической непрерывности; 3) тотальной взаимосвязанности; 4) открытости и закрытости; 5) человекоразмерности; 6) символичности; 7) ценностности. Отсюда вытекает неизбежно нормативный, «законопослушный» характер чтения, предполагающий различение правильного и неправильного. Вообще, всё не-правильное связано с несоблюдением какихто правил. Поэтому соответственно изложенным правилам («презумпциям») чтения и понимания художественных произведений необходимо отметить типичные их нарушения. 1. Совершенно неподходящей для художественных текстов приходится признать такую невозмутимую манеру их чтения, при которой то, что не соответствует читательским ожиданиям, просто «выносится за скобки», списывается на «оригинальность» (или даже оригинальничание) автора, на так называемые художественные приёмы, «средства выразительности» и т. п. Читатель в этом случае ждёт и ищет лишь знакомого. Чтение превращается в жанровую идентификацию. Поэтому более естественна готовность читателя к неожиданностям, то есть восприятие чтения как приключения. 2. Неприемлем в чтении художественных произведений поиск каких-то более важных участков текста («ключевых») по сравнению с менее важными, например, восприятие слов повествователя более ав263 торитетными, чем слова героев. Множество художественных деталей при этом воспринимается как средство создания иллюзии случайной фактичности изображаемой жизни, сквозь которую якобы необходимо прорваться к сути дела. 3. Ошибочно «центробежное» понимание, при котором читатель пытается прояснять частности каждую по отдельности, надеясь без всякого на то основания, что сумма таких прояснённых деталей и есть смысловое целое. На самом деле само подобное прояснение оказывается мнимым: если мы не видим переклички частностей, то каждая из них, взятая в своей изолированности, хотя и имеет значение, но вполне художественно бессмысленна. 4. Возможно ошибочное восприятие художественного произведения как чего-то абсолютно закрытого. При этом игнорируется (не опознаётся) присутствие чужого слова, а также подтекстовая символика. Но возможно и столь же неверное обратное – растворение самого произведения в бесконечном множестве внешних связей, когда налицо не текст, а интертекст или подтекст. Абсолютная проницаемость границ текста, аналогично столь же абсолютной их непроницаемости, как раз обессмысливает понятия: текст, подтекст, интертекст. 5. Препятствует пониманию художественного произведения и отсутствие человеческой меры, восприятие текста как информации, игнорирование событийных моментов, обращённости произведения к жизни читателя, слепота к способности художественного произведения быть зеркалом. Собственно, такая отчуждённость и холодная, чисто познавательная настроенность остаётся невосприимчивой к трогательности искусства. 6. Если читатель не замечает в произведении художественного обобщения, то чисто эмпирическая наличность вымышленной истории ничем принципиально не отличается от того, что случилось в ре- 264 альной жизни; смысл при этом сводится к содержанию, а толкование – к пересказу. 7. Другая ошибка при чтении художественных произведений – принимать во внимание только прямые оценки, высказанные героями либо повествователем, не чувствовать ценностного напряжения, поляризации художественного мира. Толкование в таком случае приобретает характер нравоучения, попытки выведения «морали». Чего вообще ждёт от нас художественная книга? – Метаморфозы. Во время чтения происходит превращение слова в образ, событие перехода из семиотической плоскости текста в эстетическую реальность, называемую художественным миром. Такой переход требует усилия воображения. Чтение и есть, перефразируя известное определение С. С. Аверинцевым филологии, служба воображения. Обычно воображение связывается с игрой. Мы подразумеваем под игрой воображения читателя не каприз произвола, а добровольное подчинение правилам, чем и является любая игра. 265 Фуксон Леонид Юделевич Чтение Научное издание Подписано в печать 18.01.2007. Формат 60 × 84 1/16. Печать офсетная. Усл. печ. л. 13. Уч.-изд. л. 11. Тираж 500 экз. Заказ № 895 Отпечатано в типографии издательства «Кузбассвузиздат». 650043 г. Кемерово, ул. Ермака, 7 Автор будет признателен за любые отклики и замечания, которые можно присылать по электронному адресу: 12lf@rambler.ru или обычной почтой: 650043 г. Кемерово, ул. Красная, 6, КемГУ, кафедра теории литературы и зарубежных литератур, Фуксону Л. Ю. 266