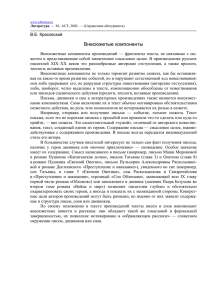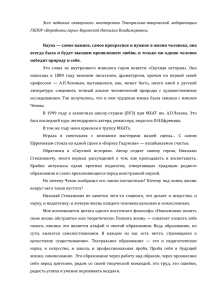Адаптация текста в инсценировках прозы методом «театра
advertisement

Адаптация текста в инсценировках прозы методом «театра повествования» Text Adaptation in the Theatre‑Narrative Stage Adaptations Адаптация текста в инсценировках прозы методом «театра повествования» (на примере спектакля «Рассказ о семи повешенных» М. Карбаускиса) Text Adaptation in the Theatre‑Narrative Stage Adaptations (“The Seven Who Were Hanged” by Mindaugas Karbauskis Case Study) Jelena GORDIJENKO M. V. Lomonosovo vardo Maskvos valstybinis universitetas, Мaskva, Rusija jelenagardienko@gmail.com Summary The article deals with the theatrical adaptations of narrative prose fiction that retain the text of a narrator. In drama studies that kinf of dramatization, so called theatre-narrative, is characterized as a non-adaptation of narrative text. Meanwhile, linguistic and semiotic approaches reveal that changes are inevitable. Interpretation of a text in such adaptations is done by the selection of text fragments, defining the subject of enunciation, as well as correlation with the visual code of the performance and the simultaneous scenic action. Keywords: theatre semiotics, theatre-narrative, narrative, theatrical adaptations, interpretation. В статье рассматриваются особенности трансформации текста в инсценировках повествовательной прозы с сохранением авторского текста от третьего лица. В театроведческих исследованиях такие инсценировки характеризуются отсутствием адаптации текста, в то время как лингвосемиотический анализ показывает, что изменения при инсценировании возникают неизбежно. Интерпретация текста в подобных 30 постановках проявляется в отборе фрагментов текста, решении, кто из действующих лиц будет произносить текст нарратора, а также в соотношении с визуальным рядом спектакля. Текст инсценировки приводится по тексту экземпляра литературной части Театра Табакова. Ключевые слова: инсценировка, театр повествования, нарратив, семиотика театра, интерпретация. Jelena GORDIJENKO Резюме žmogus ir žodis 2013 III L ing v ist ik a Впервые театр повествования («théâtre-récit») появился во Франции в 1970-х гг., когда А. Витез поставил этим методом «Катрин» по «Базельским колоколам» Луи Арагона и «Пятницу, или Дикую жизнь» М. Турнье. На русской сцене «театр повествования» (в русской науке говорят также о «прямом режиссерском чтении» (термин Т. К. Шах-Азизовой, см. (Скороход, 2010, 80) получил распространение в последние двадцать лет. Среди значимых постановок можно назвать спектакли: «Черный монах», «Дама с собачкой», «Скрипка Ротшильда» по А. П. Чехову (реж. К. Гинкас), «Захудалый род» по Н. С. Лескову, «Три года» по А. П. Чехову, «Река Потудань» по А. Платонову (реж. С. Женовач), «Пролетный гусь» по В. Астафьеву (реж. М. Брусникина), «Самое важное» по «Венериному волосу» М. Шишкина (реж. Е. Каменькович), «Рассказ о семи повешенных» по Л. Н. Андрееву, «Рассказ о счастливой Москве» по А. Платонову, «Ничья длится мгновение» по И. Мерасу (реж. М. Карбаускис). 1 статье спектакль «Рассказ о семи повешенных» М. Карбаускиса2, о котором говорит: «явно присутствующий в спектакле мессидж не высказывается, не навязывается драматургическими надстройками, а именно разыгрывается – легко и непринужденно, не задевая материю текста, который кажется, звучит в спектакле от начала до конца в необработанном виде» (Скороход, 2010, 94). Если внимательно проанализировать эти суждения о «театре повествования», можно заметить следующее: сам факт произнесения со сцены авторского текста в прошедшем времени от третьего лица в каком-либо фрагменте текста начинает восприниматься как отсутствие всякой предварительной работы с текстом произведения вообще. Режиссер словно приступает к сценическому «переводу» повествовательной прозы на язык театра без опосредованной работы инсценировщика. Встречаются даже высказывания, что режиссер растворяется в тексте, главным и единственным субъектом высказывания остается сам автор. Верность автору – вот та идея, на которой кажется основанным сам метод «театра повествования». Однако ближайшее рассмотрение текстов инсценировок подобных спектаклей показывает, что изменения оригинального текста имеют место быть, он не звучит в необработанном виде. И вместе со сценическим решением спектакля, прежде всего визуальными приемами, в которых режиссер находит некий эквивалент написанному слову, они формируют режиссерскую интерпретацию текста. Какие же трансформации происходят с текстом при отсутствии формально выраженной модификации? Неизбежной модификацией в инсценировках является сокращение текста. Это связано, прежде всего, с ограничением по длительности: в современном европейском театре спектакль длится в среднем 2–4 часа, и количество текста не может превосходить установленные рамки. Так, текст «Рассказа о семи повешенных» меньше оригинального текста Андреева в 4 раза и умещается всего на 12 страницах A4. Режиссер сохраняет в инсценировке авторский повествовательный Премьера спектакля состоялась в 2005 г. в Театре-студии п/р О. Табакова. Режиссер – Миндаугас Карбаускис. Художник – Мария Митрофанова. Художник по костюмам – Светлана Калинина. Художник по свету – Сергей Скорнецкий. Композитр Гедрюс Пускунигис. В ролях: Александр Воробьев, Дмитрий Куличков, Александр Скотников, Алексей Комашко, Алексей Усольцев, Яна Сексте, Ирина Денисова, Павел Ильин. Спектакль стал лауреатом российской национальной театральной премии «Золотая Маска». 2 ISSN 1392-8600 В XX веке1 в европейском театре появляются инсценировки прозы, в сценический текст которых входит не только речь персонажей, но и повествовательный авторский текст в неизмененном виде. Если традиционно переделка недраматургического произведения в пьесу предполагала исчезновение не включенного в круг персонажей повествователя и трансформацию его текста в диалоги героев, то в «театре повествования», как называют этот способ инсценирования исследователи (Пави, 1991, 357), актеры чередуют внутри одной реплики высказывания от первого и от третьего лица. Такие инсценировки представляют собой уникальный объект для современной филологии, особое внимание уделяющей изучению коммуникативной структуры текста, значению говорящего, субъективной перспективе высказывания. Говоря о «театре повествования», исследователи подчеркивают отсутствие привычной адаптации литературного текста, что воспринимается как своеобразный минус-прием и стремление не отходить от текста даже в малейших деталях, быть верным букве автора. Ср. высказывание исследователя Родольфа Фуано: «Некоторые режиссеры, начиная с середины 70-х годов XX века, предложили вслед за Антуаном Витезом такую практику инсценировки повествовательного текста, которая радикально отличается от традиционного сценического переложения, больше речь не идет о трансформации, адаптации для сцены, но, напротив, сохраняется романическая форма как она есть, специфика повествовательной литературы, и она считается основой для театра (Fouano, 1992, 124). Театровед Н. С. Скороход «прямое режиссерское чтение» определяет как способ инсценирования, «когда режиссер, не изменяя текст, разыгрывает его целиком». В качестве примера она приводит рассматриваемый нами в 31 текст, но, тем не менее, передает его не целиком, а отрывочно, оставляя те фрагменты, которые необходимы для его сценической композиции. Сам отбор текста становится при этом семантически значимым. В критике отмечалось, что режиссеру проще всего было развить в спектакле актуальную тему терроризма. Инсценировщик Карбаускис, напротив, убирает из рассказа почти все исторические и социо-культурные детали, фразы, касающиеся террористических актов, покушения, пребывания на суде. Его не интересует, как герои готовились к покушению, как они стали террористами, каких политических взглядов придерживались. Рассказ Л. Н. Андреева, в свое время воспринятый как протест против правительственных репрессий, в режиссуре Карбаускиса становится философской притчей, лишенной конкретно-исторического определения, что подчеркивается визуальным рядом: сценография в спектакле нарочито условна и минималистична, только наклонный деревянный помост и кровать. Кровать обозначает то дом министра, то нары, в конце же ее конструкция «превратится» в вагон поезда, увозящих приговоренных на казнь. При этом сопровождающих не будет: герои идут на смерть сами, не по приказу. Настоящей еды на сцене тоже нет: Надзиратель предложит Цыганку яблоко, когда придет с предложением стать палачом и этим спасти свою жизнь, но яблоко здесь – символ искушения. Наклонный помост символизирует кривизну сознания, хаос бытия, взорванный порядок; когда с него весело скатываются артисты, они похожи на беззаботных детей, летящих с горки, но направляются они в пропасть, в свою смерть. Условность сценографии и принципиальное отсутствие натуралистических бытовых деталей расширяет тему рассказа и выводит его на уровень философского размышления о страхе перед смертью и радости жизни. Формальному сокращению подвергаются в обычной инсценировке речевые формулы типа «сказал он», обрамляющие прямую речь персонажей. Косвенная же и несобственно-прямая речь трансформируется в прямую, так как пьеса представляет собой, по классическому определению Платона, обмен речами между персонажами. В театре повествования, напротив, нормой является сохранение пропозициональной установки. На этом фоне встречающиеся пропуски таких формул, устранение текста от третьего лица о своем персонаже становится смысловым акцентом. В частности, в «Рассказе о семи повешенных» в 32 Text Adaptation in the Theatre‑Narrative Stage Adaptations третьем лице говорят о себе все действующие лица, кроме одного – Янсона. Третье лицо является знаком саморефлексии, возможности осмысления ситуации как бы «со стороны», чего лишен эстонский крестьянин, полностью поддавшийся страху смерти на момент его изображения в инсценировке, т.е. заключения в тюрьму. Он способен только повторять председателю: «Меня не надо вешать». Включение повествовательных фрагментов в состав драматических реплик позволяет в полной мере показать персонажа не только как субъекта действия и речи, но и как субъекта сознания. Возможность перехода в одной реплике от прямой речи персонажа к рассказу о нем в третьем лице и обратно возникает неслучайно: фрагмент повествовательного текста включается в реплику того артиста, который исполняет роль персонажа, являющегося в этом фрагменте субъектом модуса и/или диктума. Если эксплицитно роль этого персонажа в высказывании не выражена, он автоматически становится его авторизатором, т.е. источником информации, субъектом оценки и восприятия. Чаще всего поэтому для инсценировки подобным методом выбираются произведения, в которых доминирует повествование с внутренней точки зрения. Грамматическое третье лицо в них не противоречит Я-модусной рамке, свидетельствуя «о переключении точки зрения автора в ментальную зону героя» (Золотова, Онипенко, Сидорова, 2004, 283–284). Третье лицо в этом случае становится чистой условностью, за которым не стоит «чужое сознание». Это привычный для театра внутренний монолог, но уже не всегда осознаваемый самим персонажем, не по его воле произносимый, а протоколирующий его самые разные помыслы, раскрывающий его природу, его внутренний мир «без спроса». Ср. монолог артиста А. Усольцева, исполняющего роль Василия Каширина, в четвертой сцене инсценировки: Случалось, в тяжелые минуты он шепнет про себя, без молитвы, без определенного сознания: «Всех скорбящих радость» – и вдруг станет легче и захочется пойти к кому-то милому и жаловаться тихо: - Наша жизнь... да разве это жизнь! Эх, милая вы моя, да разве это жизнь! А потом вдруг и смешно станет, и захочется кучерявить волосы, выкинуть колено, подставить грудь под чьи-то удары: на, бей! И теперь, в своей камере, когда ужас стал невыносим, Василий Каширин попробовал молиться. Хотел стать на колени, но стыдно сделалось перед солдатом. Решил спрятаться. Jelena GORDIJENKO Адаптация текста в инсценировках прозы методом «театра повествования» žmogus ir žodis 2013 III Повествование в данном фрагменте ведется с точки зрения героя. Совпадение субъектных зон говорящего и авторизатора обнаруживается предикатами на – о (легче, смешно, стыдно), модальными глаголами внутреннего состояния (захочется, хотел), ментальным глаголом решил. Точки зрения говорящего и субъекта диктума разграничивает в художественном тексте не морфологический показатель лица, как в полноценной коммуникативной ситуации, но наличие интерпретирующих глаголов (Золотова, Онипенко, Сидорова, 2004, 241) и других оценочных лексических показателей. Внешнюю точку зрению в «Рассказе о семи повешенных» мы находим в изображении министра: «министр покачал головою и хмуро улыбнулся толстыми темными губами», «горою вздутого мяса возвышаясь над придавленными пружинами кровати», «зажимая лицо пухлыми надушенными ладонями», «уставился глазами в лепной незнакомый потолок». Перевод третьего лица в первое здесь, в отличие от текста про Василия Каширина, невозможен, что обнаруживает смену повествовательной инстанции3. Все эти маркеры чужого сознания в инсценировке опускаются, так что артист, играющий министра, произносит только тот повествовательный текст, в котором субъектные зоны модуса и диктума слиты. Такая модификация текста продиктована тем, что повествовательный текст, будучи произнесен со сцены, становится частью речи действующего лица. Как справедливо отмечал Жерар Женетт, «повествование не так легко усваивает подобные дискурсивные вкрапления (которые Жорж Блен точно называет “авторскими вторжениями”), как это делает дискурс с нарративными вкраплениями; включенное в дискурс повествование превращается в элемент дискурса, а включенный в повествование дискурс остается дискурсом и образует нечто вроде кисты, которую легко распознать и вычленить» [Женетт, 1998, 297]. Поэтому главным вопросом и полем для интерпретаций в театре повествования становится выбор говорящего для цитируемого текста нарратора. В спектакле «Рассказ о семи повешенных» по Леониду Андрееву в постановке Миндаугаса Кар3 Ролан Барт предлагал такой прием определения личного модуса повествования: «достаточно «переписать» рассказ (или эпизод), сменив местоимение он на местоимение я: если такая операция не повлечет за собой иных изменений, кроме перемены грамматического лица, то можно быть уверенным, что мы остались в пределах личной системы <…>, для смены повествовательной инстанции нужно, чтобы rewriting оказался невозможен» [Барт, 2008, 387]. баускиса чрезвычайно важно то, что актеры, играющие Надзирателя и приговоренного Янсона, в следующей сцене меняются местами и становятся соответственно приговоренным Цыганком и Военным/Надзирателем. Так становится наглядной мысль о том, что палач в любой момент может стать жертвой, и наоборот. В инсценировке эта сцена, объединяющая два эпизода, третью и четвертую главу рассказа, так и называется: «Жертва и палач». Идентичность ситуации подчеркивается схожестью формулировок приговора: Военный (Д. Куличков – А. Воробьеву) – За две недели перед тем, как судили террористов, тот же военно-окружной суд, но только в другом составе, судил и приговорил к смертной казни через повешение Ивана Янсона, крестьянина. Военный (А. Воробьев – Д. Куличкову) – Тем же присутствием военно-окружного суда, которое судило Янсона, был приговорен к смертной казни через повешение крестьянин Орловской губернии, Елецкого уезда, Михаил Голубец, по кличке Мишка Цыганок. Внутри эпизодов оппозиция жертва/палач раскрывается с помощью соотнесения повествовательного текста с тем, кто ее произносит и что в этом время происходит на сцене. К изначальному повествовательному тексту, сохраненному в своей нарративной форме, добавляется сценический контекст, изменяющий всю ситуацию высказывания. Нарративный текст, написанный в единственной для повествовательного произведения лингвистической семиотической системе (словом передаются и слова, и действия, и наблюдаемые явления), оказывается вписан в синтетическую театральную систему знаков, где слово является уже только одним из кодов передачи информации наряду с декорациями, костюмами, музыкальным оформлением спектакля, пластикой, действиями актеров. Как говорил Ролан Барт, в театре перед нами «настоящая информационная полифония, в которой и заключается феномен театральности, то есть особой толщи знаков» (Барт, 1994, 276). Рассказывая об истории Янсона, Военный досматривает арестованного, просит снять «шнурки, ремень», тот не понимает, тогда Военный подходит к Янсону и разрезает шнурки, затем провожает его до койки. Сценическое действие не иллюстрирует действие повествуемое, в том смысле, что мы не видим, как Янсон совершал преступления. Между тем, поведение Военного постоянно соотносится c действиями Янсона, о которых он рассказывает. Cначала он дублирует поступки эстонца: рассказывая о том, как Янсон ISSN 1392-8600 L ing v ist ik a 33 подошел к хозяину сзади и ударил его ножом, он заносит свой нож над его головой. Если в тексте Янсон в этот момент – преступник, то в сценическом действии он воспринимается как потенциальная жертва. Затем неожиданно Военный уже в противоречии с текстом не боль причиняет Янсону, а помогает ему, разрезая шнурки и снимая ботинки, так что «ожидания» зрителя не оправдываются. Рассказывая дальше, как Янсона схватили, Военный связывает руки эстонца. Здесь снова можно говорить о смысловом сближении действия повествуемого текста и сценического действия. В следующем эпизоде Цыганок, представляя, как он станет палачом, произносит: «Солнце освещает головы, весело поблескивает на топорике, и так все весело и богато, что даже тот, кому сейчас рубить голову, тоже улыбается». В это время в прорези на помосте появляется голова Надзирателя, который пришел сказать, что место палача уже занято, а значит, Цыганка скоро казнят. Сочиненная коммуникативная ситуация, наложение сценического настоящего на повествуемое прошлое, помогает увидеть, как зыбко противопоставление жертва/палач, как жертва может стать убийцей, а убийца сам стать на место жертвы и бояться уже собственной смерти. Текст инсценировки заканчивается теми же словами, что и рассказ: Над морем всходило солнце. В ящик складывали трупы. Потом повезли. С вытянутыми шеями, с безумно вытаращенными глазами, с опухшими языками, – плыли трупы назад, по той же дороге, по которой сами, живые пришли сюда. И так же мягок и пахуч был весенний снег, и так же свеж и крепок весенний воздух. Так люди приветствовали восходящее солнце. Однако спектакль на этом не заканчивается. Артисты, которые до того спрыгнули с верха помоста вглубь сцены, что символизировало повешение, появляются снова на сцене. Они с веселыми детскими криками скатываются по помосту-горке вниз под музыкальный лейтмотив. Сейчас они – это люди, приветствующие солнце. В тексте Андреева натуралистическое описание смерти противопоставлено романтизму пейзажа, парадоксальной рамке этого невозможного события: молодые не должны думать о смерти, это антигуманно. В спектакле натурализм присутствует только в словесном описании, визуальный ряд же противоречит ему, вместо опухших трупов представляя счастливых молодых людей. Настоящая оппозиция в спектакле – это восприятие смерти террористами и министра. В то время, как молодые 34 Text Adaptation in the Theatre‑Narrative Stage Adaptations весело скатываются вниз по покатому помосту, в правом углу сцены на кровати неподвижно сидит Министр, уставившись в стену. Надзиратель подходит к нему и накрывает с головой пальто, словно умершего. Как отмечает театральный критик Марина Давыдова, «этот неожиданный и умный ход ставит все по своим местам. Преодолевшие страх смерти будут жить. Убоявшийся ее – погибнет. Знающие радость жизни смерти не имут. Не знающие – умрут смертью вечной» (Давыдова, 2005). Адаптация недраматургического текста для сцены неизбежна и связана с изменением коммуникативной ситуации. Субъектом высказывания становится не абстрактный автор/нарратор, но реально присутствующий на сцене актерский коллектив. Произнесенный со сцены, повествовательный текст автоматически становится речью действующего лица и начинает характеризовать его наряду с прямой речью. Третье лицо личного модуса повествования при этом как нельзя лучше отражает знаковую природу театральной речи, которая, будучи произнесена актером, обозначает речь персонажа. Интерпретация текста проявляется в этом типе инсценировок в сокращении текста, монтаже, в распределении его по репликам персонажей, в соотношении с визуальным рядом и действиями актеров. Словесный текст из единственного кода передачи сообщения становится частью сложно устроенного театрального текста, и значение высказывания напрямую зависит от сценического контекста, в котором оно будет произнесено. Литература Барт Р., 2008, Введение в структурный анализ повествовательных текстов. In: Нулевая степень письма. – Москва. Барт Р., 1994, Литература и значение. In: Избранные работы: Семиотика. Поэтика. – Москва. Давыдова М., 1998, Смертельный номер не пройдет. In: Известия. 2005. 5 ноября. Женетт Ж., 1998, Фигуры. Т. 1. – Москва. Золотова Г. А., Онипенко Н. К., Сидорова М. Ю., 2004, Коммуникативная грамматика русского языка. – Москва. Пави П., 1991, Словарь театра. – Москва. Скороход Н. С., 2010, Как инсценировать прозу: Проза на русской сцене: история, теория, практика. – Санкт-Петербург. Fouano R., 1992, Les adaptations théâtrales de textes de fiction narrative en France depuis 1968: thèse de doctorat. – Paris 2. Jelena GORDIJENKO Адаптация текста в инсценировках прозы методом «театра повествования»