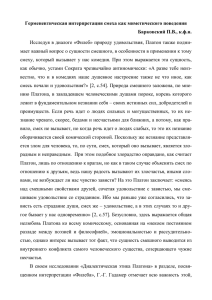Studia Culturae. Âûïóñê 12 И. Ю. Роготнев Анализ сатирического
advertisement

Studia Culturae. Âûïóñê 12 117 И. Ю. Роготнев СМЕХ, КОМИЧЕСКОЕ, СМЕХОВАЯ КУЛЬТУРА В ПРОСТРАНСТВЕ САТИРИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ Анализ сатирического произведения традиционно нередко сводится к двум операциям. В области содержания литературовед сосредотачивается на выявлении объектов сатирического отрицания (к содержанию можно отнести и категорию «сатирического идеала», на несоответствии которому и основана критика объекта), в области формы – на средствах сатирического отрицания. На уровне практики анализа это позволяет дать общие модели описания сатирических текстов, выстроить теорию эволюции сатирической литературы, объяснить преемственность ее развития. Между тем, такая методика не вполне соответствует складывающимся в последние десятилетия представлениям о самом феномене сатиры. Некоторые исследователи отмечают, что сатирический текст реализует заострение, укрупнение «системы ценностей, ментальных (когнитивных) категорий»1. Возможно, это положение в наибольшей степени применимо именно к отечественной литературе: неслучайно Томас Манн в одном из своих эссе говорит о «мистическом смысле русского комизма»2. В сущности, новая теория сатиры складывается в своеобразном культурологическом русле – на базе широких концепций смеха и смеховой культуры. Сатира может быть понята как негативная рефлексия культуры, критика оснований ментальности, скептическое самоописание общества, как взгляд на коллективное «Я» с парадоксальных, внекультурных и даже внерациональных позиций. В сущности, этот путь открывает М. М. Бахтин, указывая на феномен «менипповой сатиры», отличной от сатирической линии Горация и Ювенала и обладающей собственной многовековой историей, а также «объективной памятью». Аналитизм «мениппеи», если принять бахтинскую концепцию, идет глубже раскрытия противопоставления пороков и добродетелей, обнажения несоответствия реальности идеалу – «мениппея» задумы1 Поздеев В.А. Фольклор и литература в контексте «третьей культуры». – М.: МГОПУ им. М.А. Шолохова, 2002. С. 23. 2 Манн Т. Аристократия духа: Сборник очерков, статей и эссе / пер. с нем. С. Апта, В.Бакусаева и др. – М.: Культурная революция, 2009. С. 73. 118 Studia Culturae. Âûïóñê 12 вается о «нормах» онтологического порядка, о цельности и завершенности любой картины мира и фундаментальной противоречивости разума. Бахтинские гипотезы в области культурной истории смеха и комизма не столько дают основания для новой теории, сколько ставят теорию перед вызовом новизны, перед неклассической экстравагантностью элементов поэтики Апулея, Рабле, Шекспира, Гоголя, Достоевского, перед самой возможностью читать сатирический текст «в духе» Бахтина. Это позволяет выдвинуть гипотезу о принципиальной, парадигмальной неполноте истории сатирического искусства, ведь «мениппейные» признаки можно обнаружить даже в пятой сатире Кантемира, в целом вполне «горацианского» автора. Сатира как особый тип литературы реализует сочетание резкой критики изображаемого и комического эффекта. Как определяет основатель новой русской сатирической литературы: «Сатиру назвать можно таким сочинением, которое забавным слогом осмевая злонравие, старается исправлять нравы человеческие» (А. Д. Кантемир)1. В классической теории содержится, по меньшей мере, два узловых момента: каковы природа, структура, механизмы «забавного слога» (поэтического «орудия сатиры», сатирической поэтики) и какая реальность сокрыта за «осмеваемым» сатирой «злонравием». Более общей по отношению к сатире категорией является эстетическое понятие «комическое». Вслед за Б. Дземодоком мы видим основу комизма в несоответствии «нормам, признанным субъектом, либо привычкам субъекта, его пониманию норм, и потому рассматриваемый субъектом как нечто нелепое, необыкновенное»2. Этой же точки зрения придерживается ряд других ученых, в том числе и В. Я. Пропп3. Основными формами комизма традиционная эстетика считает сатиру и юмор. Принципом классификации в данном случае служит критерий содержательный, идейный: «Вопрос о принадлежности того или иного произведения к сатирическому жанру решают прежде всего не формальные особенности, а факт бескомпромиссно1 См.: Сочинения, письма и избранные переводы князя Антиоха Дмитриевича Кантемира. Т. 1. Сатиры, мелкие стихотворения и переводы в стихах / вступ. ст., прим. В. Я. Стоюнина. – СПб.: Издание Ивана Ильича Глазунова, 1867. – C. 8. 2 Дземидок Б. О комическом / пер. с польского С. Святского. – М.: Прогресс, 1974. – С. 58. 3 Пропп В.Я. Проблемы комизма и смеха // Пропп В.Я. Проблемы комизма и смеха. Ритуальный смех в фольклоре (по поводу сказки о Несмеяне). – М.: Лабиринт, 1999. С. 52. Studia Culturae. Âûïóñê 12 119 го развенчивания и осмеяния в этом произведении отрицательных явлений»1; «В отличие от сатиры юмор всегда видит в своем объекте какие-то стороны, соответствующие идеалу»2. Форма (поэтика) сближает сатиру и юмор, а общая идейная направленность позволяет их различать. Сатирическая поэтика использует все то, что создает комизм, эффект несоответствия нормам, привычкам, здравому смыслу: иронию, пародию, гротеск, гиперболу, алогизм. Все то же самое мы можем обнаружить и в юморе. Пожалуй, здесь заключен проблемный пункт классической теории, ведь до сих пор не выявлено, создает ли сатирическая направленность какойто особый «системный сдвиг» в этом арсенале комизма. Сама классическая теория настаивает на теснейшей взаимосвязи формы и содержания – если сатира обладает устойчивыми содержательными отличиями, то должна обладать и формальными. Каковы же эти отличия? Идя по индуктивному пути, выделяя то общее, что присуще произведениям сатиры и комизма, мы не всегда задаемся вопросом: а как мы получили сам набор текстов, подвергаемых индуктивным процедурам, по каким признакам мы поняли, что тот или иной текст наделен комизмом? Положение о заключенных здесь противоречиях и несоответствиях – это уже результат индукции из фактов, которые по какому-то принципу были отобраны. Разумеется, этот принцип известен каждому: мы называем произведение комическим, если оно способно вызывать смех. Практически необозримая литература, посвященная «тайне смеха», может быть условно разделена на две большие группы: работы, носящие частнонаучный характер (лингвистические, искусствоведческие, этологические, этнографические и т.п.), и труды в области философии, эстетики, посвященные общим концепциям человека и культуры. Идеи Аристотеля, И. Канта, А. Бергсона, З. Фрейда и других мыслителей продолжают оказывать решающее влияние на современные культурологические концепции смеха. Между тем, справедливым представляется взгляд на смех как на феномен природнокультурного характера, требующий учета сугубо специальных естественнонаучных данных. На наш взгляд, концепция смеха должна носить не метадисциплинарный, но интердисциплинарный характер, 1 Дземидок Б. О комическом. – С. 105. Борев Ю. Комическое, или О том, как смех казнит несовершенство мира, очищает и обновляет человека и утверждает радость бытия. – М.: Искусство, 1970. С. 83. 2 120 Studia Culturae. Âûïóñê 12 должна интегрировать данные специальных наук (последнее не отменяет глубоких и оригинальных «догадок», высказанных в истории философского дискурса о смехе). В этом отношении принципиально значимыми представляются исследования А. Г. Козинцева, предпринявшего смелую и оригинальную попытку найти этологический «ключ» к «тайне смеха» и скоординировать полученные результаты с данными лингвистики и искусствознания, а также с гипотезами философского характера. На наш взгляд, исследователь указывает на перспективный путь построения смеховедческой теории, решив, в сущности, вопрос о «природе» смеха, но не закрыв проблему «культуры» смеха. Наше понимание проблемы тесно связано с концепцией А. Г. Козинцева, дискуссионные моменты которой требуют, на наш взгляд, искусствоведческих, филологических и культурологических корректив. Этологические данные (в том числе изучение щекотки) позволяют судить о том, что «протосмех» приматов и смех членов человеческого общества – явления глубоко социальные и связанные с определенным типом коммуникации. Смех маркирует игровую агрессию (например, щекотку), он призван донести метасообщение – описать игровой характер данного псевдо-агрессивного действия, «несерьезность» угрозы. «Итак, смех – это врожденный и бессознательный метакоммуникативный сигнал игры, но не всякой… а особой негативистской игры – “нарушения понарошку”»1. Игра в нарушение, в аномальность, в асоциальность – вот что представляет собой смеховое поведение при первом приближении. Этология человека свидетельствует, что наиболее интенсивный характер носит именно человеческий смех: это природное явление не исчезает, а наоборот – необыкновенно усиливается при переходе в культуру. Причина этого странного факта кроется в самом факте «перехода в культуру» – искусственную среду, сотканную из множества правил и символических систем. «Протосмех» был связан, прежде всего, с игровым нарушением правил внутригрупповой солидарности, смех – с нарушением бесконечно разнообразных правил языка и культуры. Смеховое поведение А. Г. Козинцев называет «игрой беспорядка», мы могли бы ввести еще одну (более культурологизированную) формулировку: смех – это сфера «игры в антикультуру». «Смех и есть игровой антагонист человеческого состояния и его основы – речи. 1 Козинцев А.Г. Человек и смех. – СПб.: Алетейя, 2007. С. 110. Studia Culturae. Âûïóñê 12 121 Соответственно, юмор – игровой негатив культуры, общечеловеческой культуры в максимально широком смысле – той, что охватывает все существующие в разных культурах и подчас взаимоисключающие системы норм и запретов»1. А. Г. Козинцев приходит к выводу, что юмор (явление культуры) – это и есть негативистская игра, смысл которой – во временном освобождении от культуры и порядка, в возвращении в «глубины докультурного примитивизма»2. Следует отметить, что некоторые фольклористы и антропологи склонны редуцировать основы смехового поведения к универсалиям архаической культуры; как видим, некоторые этологи склонны сводить смех к поведенческим универсалиям биологического характера. На наш взгляд, конструктивный путь решения «тайны смеха» заключается в осознании, что смех никуда не «возвращает» (и ничего сам по себе не сообщает), это природно-культурная универсалия, которая существует в различных контекстах, и этито контексты – природа или культура, фольклор или авторское искусство – создают сложности понимания; они же должны задавать нам и «горизонты понимания». В исследовании А. Г. Козинцева делается закономерный и в целом убедительный вывод о том, что юмор направлен на ситуацию общения и самих агентов коммуникации, а не на предмет разговора: в юморе мы временно нарушаем правила культуры и здравого смысла, наслаждаясь самой «игрой беспорядка», а вовсе не пытаясь познать с помощью смеха как какого-то «орудия» осмеиваемый объект. «Поняв замысел говорящего и согласившись быть одураченными, мы смеемся. Если не соглашаемся – не смеемся»3. «Именно в нашем собственном поведении, а не в объекте, как обычно думают, и заключено комическое противоречие»4. Мир шуток и анекдотов не соотносится с нашей реальностью непосредственно – А. Г. Козинцев называет его «миром третьей референции». Соглашаясь с исследователем в исходных посылках, связанных с «природой» смеха, мы не можем, однако, игнорировать «культуру» смеха. Если юмор находит в рамках этой теории объяснение и оправдание, то сатира оказывается явлением, по меньшей мере, странным. «В свете данных о филогенезе смеха внутренняя противоречивость 1 Там же. С. 124–125. Там же. С. 26. 3 Там же. С. 15. 4 Там же. С. 16. 2 122 Studia Culturae. Âûïóñê 12 данного явления становится еще очевиднее. На сознательном уровне сатирик убежден, что нападает на свой объект с полным правом, однако своим смехом он бессознательно сигнализирует, что считает свои нападки неправильными и просит не принимать их всерьез. Сатира, таким образом, есть “правильное неправильное поведение”, то есть невозможна по определению»1. В дальнейшем А. Г. Козинцев даже относит сатиру к формам «декарнавализации» – «перерастания игровой агрессии в подлинную»2. В то же время, по мнению ученого, «самое большее», чего может достичь сатирик с помощью смеха, – «низвергнуть человека с пьедестала, лишить его всяческих прав на особость, но не затем, чтобы “уничтожить” его, а лишь затем, чтобы уравнять его с другими людьми»3. Этот пункт теории кажется нам спорным и даже «программно наивным» – в том смысле, что здесь игнорируется как художественная практика (анализ которой совершенно необязателен для такого рода исследований), так и художественная критика, при допущении высокой объяснительной силы «глубин докультурного примитивизма». Культурное поведение намного сложнее природного – «игра беспорядка» здесь может быть подчинена какой-то «игре порядка», и в этом нет противоречия: в сфере искусства всегда происходит взаимодействие различных коммуникативных и метакоммуникативных сигналов. Возможно, в этой связи допустимо сослаться на концепцию многоуровневого обучения Г. Бейтсона (по-видимому, сыгравшей определенную роль в формировании гипотез А. Г. Козинцева). Американский исследователь говорит о нескольких уровнях обучения, соотношение между которыми в самом общем (упрощенном) виде выглядит следующим образом: «нулевое обучение» – простое восприятие информации, обучение-I – обучение «нулевому обучению», обучение-II – обучение обучению-I и т. д. С этими уровнями обучения Г. Бейтсон связывал и уровни межличностной коммуникации4. Смех, действительно, связан с неким метакоммуникативным общением – это сообщение о модальности сообщения, т.е. за распознавание смеха, вероятно, отвечает уровень когнитивной деятельности, находящийся 1 Там же. С. 126. Там же. С. 219. 3 Там же. С. 221. 4 Бейтсон Г. Логические категории обучения и коммуникации // Бейтсон Г. Экология разума. Избр. ст. по антропологии, психиатрии и эпистемологии / пер. с англ. Д. Я. Федотова, М. П. Папуша; вступ. ст. А. М. Эткинда. – М.: Смысл, 2000. С. 301–330. 2 Studia Culturae. Âûïóñê 12 123 выше «нулевого обучения». Однако искусство (в том числе сатира), очевидно, распространяется на еще более высокие (иногда – самые высокие) «уровни обучения». Беспорядок в тексте сообщения получает свое обоснование в метасообщении (таков механизм того самого «юмора», о котором говорит А. Г. Козинцев), однако это метасообщение может быть встроено в сообщение другого уровня, коль скоро искусство как форма высшей культурной деятельности принадлежит высочайшим «уровням обучения»1. При переходе из природы в культуру смеховое поведение, сохраняя базовую функцию («негативистские игры»), «обрастает» другими возможностями. А. Г. Козинцев находит дополнительное обоснование своей концепции в теории М. М. Бахтина, видя в карнавале «чистую» игру беспорядка, временное освобождение от культуры, смысла, социальных структур, как будто совершенно игнорируя одну из ключевых мыслей М. М. Бахтина – идею миросозерцательного значения карнавальных игр, их глубочайшей смысловой наполненности. Если смех в культуре противоположен смыслу, разрушает смысл, то как можно согласиться с мыслью самого А. Г. Козинцева, что смех «очеловечивает» изображаемый объект (как, будто бы, «Чаплин вопреки замыслу очеловечивал Гитлера»2)? Теория сатиры свидетельствует, что смех способен «отрицать»; А. Г. Козинцев полагает, что смех «уравнивает»; а некоторые исследователи (в том числе М. М. Бахтин) указывают на примеры, когда смех «возвеличивает». На наш взгляд, отрицает, очеловечивает, возвышает, конечно же, не смех, а только контекстуализированный смех. В романе Рабле смех одновременно обличает, утверждает, «выравнивает» – действует по всем аксиологическим осям смехового поведения; в результате создается образ перерождающегося мира, подвижной, неустойчивой Вселенной. Игра в антикультуру, бессмыслицу, беспорядок может быть самодостаточной эстетической игрой – тогда мы имеем дело с юмором (притом в его самых примитивных формах, которые даже ничего не «возвеличивают» и не «очеловечивают»), а может быть помещена в «серьезную» игру с настоящим конфликтом ценностей, идеологий, интересов – тогда мы приближаемся к сатире. В сатирическом искусстве обличаемые объекты с помощью игры беспорядка выводятся за границы культуры, общества, 1 Напомним, что «энтелехия» художественного текста («эстетический объект», «поэтическая субстанция») находится за пределами текста. 2 Козинцев А.Г. Человек и смех. – С. 221. 124 Studia Culturae. Âûïóñê 12 здравого смысла, но выводятся «понарошку», поскольку в действительности их только требуется устранить; в то же время сама авторская интенция (или «энтелехия» текста) остается неподверженной обессмысливанию, возносясь на самые высокие «уровни обучения». На наш взгляд, новейшая теория смеха позволяет утверждать, что сатира сложнее юмора, в структурном отношении она представляет собой сочетание «сигналов» нескольких уровней. Поиски в изучении сатирической поэтики, по-видимому, должны вестись в направлении анализа того, чем осложнены все те «неправильности», алогизмы, несоответствия, которые заключены в сатирическом образе. Один из простейших случаев такого сатирического осложнения дает нам басня (в варианте И. А. Крылова это сатирический жанр): ее «мораль» нередко выделена композиционно и логически. Идейная насыщенность сатирического текста не отменяется смехом, а использует его как подчиненный элемент. Смеховое «негативистское» поведение на эстетическом поле называется «комизмом». Если оно включено в какой-то идеологически значимый порядок, то мы имеем дело с сатирой; когда же оно имеет цель в самом себе (в удовольствии от условного «беспорядка»), мы называем это юмором. Существует и еще один не до конца определенный термин – «смеховая культура». Как правило, это понятие употребляется по отношению к некоторым произведениям средневековой культуры и крестьянского фольклора, т.е. мыслится как принадлежность традиционного общества. Анализ научной литературы (исторической, культурологической, литературоведческой, фольклорно-этнографической) позволяет утверждать, что повторяющимся признаком традиционных «смеховых» текстов является особая «двумирность»: мир смеховой культуры предстает как «обратная реальность», антимир, отраженный от мира культуры. Смеховые формы «как бы строили по ту сторону всего официального второй мир и вторую жизнь, которым все средневековые люди были в большей или в меньшей степени причастны, в которых они в определенные сроки жили. Это – особого рода двумирность, без учета которой ни культурное сознание средневековья, ни культура Возрождения не могут быть правильно понятыми»1. «Вселенная делится на мир настоящий, организованный, мир культуры – и мир не настоящий, не организованный, отрицательный, мир анти1 Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. – М.: Художественная литература, 1990. – С. 10. Studia Culturae. Âûïóñê 12 125 культуры. В первом мире господствует благополучие и упорядоченность знаковой системы, во втором – нищета, голод, пьянство и полная спутанность значений»1. Признак «обратности» необходимо дополнить другими онтологическими характеристиками антимира, которые проявляются в культурных текстах. Смеховой «двойник реальности» нередко предстает как маргинальное пространство этой реальности – «поля» культуры, движение в рамках которых представляет собой «путешествие по горизонтальной поверхности (ибо тогда верили, что земля плоская), путешествие из христианско-цивилизованной ойкумены куда-то на край света, похожее на странствие героя волшебных сказок из дома в тридевятое царство и обратно»2. Маргинальное, периферийное пространство антимира нередко сближается с докультурным мифологическим хаосом (это пространство, не колонизированное культурой, не приведенное в состояние порядка): «Праздник предполагает возвращение к состоянию, предшествующему сотворению идеального космоса, а следовательно, возвращение к хаосу, из которого космос возник»3; «Время балагана кажется воспроизведением настоящего времени, для которого не существует ни прошлого, ни будущего»4. Согласно М. М. Бахтину, это мир «вечной неготовости бытия»5. Архаический хаос может осмысляться и как преисподняя: «Поскольку карнавальный хаос – это перевернутый мир людей, он получает качества иного, потустороннего мира…»6; «Преисподняя в раблезианской системе образов есть тот узловой пункт, где скрещиваются основные магистрали этой системы – карнавал, пир, битвы и побои, ругательства и проклятия»7. Темы «преисподней, мрака, смерти» воспроизводятся «в символизирующих состояние мира до сотворения 1 Лихачев Д.С., Панченко А.М., Понырко Н.В. Смех в Древней Руси. – Л.: Наука, 1984. С. 13. 2 Панченко А.М. Русская культура в канун петровских реформ // Панченко А.М. Я эмигрировал в Древнюю Русь. Россия: история и культура. Работы разных лет. – СПб.: Изд-во журнала «Звезда», 2005. С. 190. 3 Хренов Н.А. Зрелища в эпоху восстания масс. – М.: Наука, 2006. С. 248. 4 Там же. С. 251. 5 Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. – С. 40. 6 Абрамян Л.А. Смех как продукт и движущая сила праздника // Смех: истоки и функции / Под ред. А. Г. Козинцева. – СПб.: Наука, 2002. С. 64. 7 Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. – С. 427. 126 Studia Culturae. Âûïóñê 12 космоса, а значит, хаос праздничных днях»1. Смеховой антимир как культурная универсалия представляет собой некую вторую реальность, располагающуюся в маргинальном, периферийном пространстве, возвращающую мир в состояние хаоса и одновременно напоминающую преисподнюю. Смеховая культура содержит не только специфический образ мира, но и образ человека. В научной литературе неоднократно обращалось внимание на роль шутов и дураков в формировании смеховой реальности. Ю.И. Юдин считает эти фигуры ключевыми для жанра бытовой сказки, обращая внимание на тенденцию к синтезу «дурацких» и шутовских черт в фольклорных персонажах; в художественной литературе, по мнению исследователя, формируется единый комический тип – «дуракошут»2. М. М. Бахтин обнаруживает функциональную близость дурака и шута (а также плута) в организации художественной реальности: «Фигуры эти и сами смеются, и над ними смеются. Смех их носит публичный народно-площадной характер»3. На наш взгляд, группу смеховых героев можно значительно расширить и включить в нее комических демонических персонажей (на средневековой сцене именно черти были главными носителями театральности4), ряд звериных образов и др. Все эти универсальные смеховые структуры обладают общими чертами, при интерпретации которых логично применить теорию архетипа. В специальной литературе широкое употребление получило понятие «Трикстер», обозначающее своеобразный фольклорно-литературный архетип. В индейской мифологии Трикстер предстает как шут, обманщик, дурак, наделенный чертами божества. Согласно П. Радину, природа этого образа связана со «смутными воспоминаниями об архаическом и первобытном прошлом, в котором отсутствовало ясное различие между божественным и земным»5. Трикстер исключен из 1 Хренов Н.А. Зрелища в эпоху восстания масс. – С. 252. Юдин Ю.И. Дурак, шут, вор и черт. (Исторические корни бытовой сказки). – М.: Лабиринт, 2006. С. 206. 3 Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике // Бахтин М.М. Литературно-критические статьи. – М.: Художественная литература, 1986. С. 195. 4 Колязин В.Ф. От мистерии к карнавалу: Театральность немецкой религиозной и площадной сцены раннего и позднего средневековья. – М.: Наука, 2002. С. 62. 5 Радин П. Трикстер. Исследование мифов северо-американских индейцев с комментариями К. Г. Юнга и К. К. Кереньи / пер. с англ. В. В. Кирюцен2 Studia Culturae. Âûïóñê 12 127 мира культуры, во всех своих поступках он воплощает докультурную стадию человеческого развития – «полностью оторванный от мира людей и постепенно превращающийся из бесформенного, управляемого инстинктами и лишенного целостности существа в существо с очертаниями человека, предвещающее и черты его психики»1. Комментарий К. Г. Юнга к монографии П. Радина заключал, при высокой оценке исследования американского антрополога, альтернативную интерпретацию содержащегося в книге материала: Трикстер был понят Юнгом в терминах аналитической психологии как реализация архетипа Тени2. Е. М. Мелетинский также обращается к образу Трикстера, которого он противопоставляет Культурному герою. «Архетипическая фигура мифологического плута-озорника собирает воедино целый набор отклонений от нормы, ее перевертывания, осмеяния (может быть, в порядке “отдушины”), и эта фигура архаического “шута” мыслится только в соотношении с нормой»3. Примечательно, что исследователь видит прямую связь между Трикстером и карнавальным мироощущением4. Очевидна также связь образа с мотивом двойничества: Трикстер – «демонически-комический негативный вариант» Культурного героя 5. На связь образа двойника с мотивом шутовства указывает О. Фрейденберг: «Прохождение героем фазы смерти… породило образ двойника, который получил мощный отклик в обряде, сказании и литературе. Сперва герой двоичен; затем его вторая часть, брат или друг, становится самостоятельной. Смертный герой остается в преисподней, а победитель смерти выходит снова на свет и живет… стадия смерти персонифицируется в шуте, который выполняет свою роль в обряде и в бытовом обычае как в двух параллельных отложениях мировоззрения»6. Интересующий нас образ связан с бинарностью архаического мировоззрения, делением мира на порядок и хаос, культуру и природу, сакральное и профанное, жизнь и преисподнюю. Являясь «отрицако. – СПб.: Евразия, 1999. С. 239. 1 Там же. С. 191. 2 Юнг К.Г. О психологии образа Трикстера // Радин П. Трикстер. – С. 265– 286. 3 Мелетинский Е.М. О литературных архетипах. – М.: Российский государственный гуманитарный университет, 1994. С. 39. 4 Там же. С. 38. 5 Там же. С. 38. 6 Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. – М.: Лабиринт, 1997. С. 210. 128 Studia Culturae. Âûïóñê 12 тельным отражением» героя, Трикстер сочетает черты комического двойника и демонической Тени – он принадлежит «антимирам» культуры. Главной чертой данного образа следует, на наш взгляд, считать его антагонистичность по отношению к миру культуры и порядка; Трикстер – агент «антикультуры» и хаоса. Он «создает дурные предметы»1, борется «против навязанной, досаждающей ему культуры»2; в мире Тени «нет внутреннего и внешнего, верха и низа, здесь или там, моего и твоего, нет добра и зла»3. В зависимости от эстетических и мировоззренческих контекстов, которым принадлежат варианты праобраза, в персонаже варьируются шутовские, двойнические и демонические черты. В характеристиках героя смеховой культуры своеобразно преломляется онтология смехового антимира. Как Двойник, этот архетипический персонаж выражает идею смеховой двумирности. Как Трикстер (в описании П. Радина), он отнесен к докультурному миру. Как демоническая Тень, смеховой герой явно соотносим с образом карнавального ада (преисподней). Показательно лексическое совпадение юнгианского наименования архетипа и определений смеховой реальности, которые дает Д. С. Лихачев: «Смех делит мир надвое, создает бесконечное количество двойников, создает смеховую “тень” действительности, раскалывает эту действительность»4; «Это только теневой мир»5. В социальном отношении смеховой герой маргинален, чужд доминирующей социальной системы: шуты, дураки и плуты ведут «борьбу с конвенциональностью» культурного порядка6. «В этом изнаночном, перевернутом мире человек изымается из всех стабильных форм его окружения, переносится в подчеркнуто нереальную среду»7. Таким образом, неустойчивость признаков смехового героя (Двойник / Трикстер / Тень) может быть истолкована как отражение спектра онтологических характеристик антимира (второй мир / докультурный хаос / преисподняя). Смеховой мир и смеховой герой могут, на наш взгляд, послужить опорными точками для анализа произведений как смеховой культуры 1 Мелетинский Е.М. О литературных архетипах. – С. 38. Радин П. Трикстер. – С. 207. 3 Юнг К.Г. Об архетипах коллективного бессознательного // Юнг К.Г. Матрица безумия. – М.: Алгоритм, Эксмо, 2007. С. 91. 4 Лихачев Д.С. Смех в Древней Руси. – С. 35. 5 Там же. С. 204. 6 Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе. – С. 198. 7 Лихачев Д.С. Смех в Древней Руси. – С. 15. 2 Studia Culturae. Âûïóñê 12 129 традиционного общества, так и сатирической литературы Нового времени. В то же время следует подчеркнуть, что в число универсальных (повторяющихся) признаков смехового мира и смехового героя не входят оценочные компоненты. Смеховые миры реализуют различные в аксиологическом отношении варианты: – утопический мир веселой относительности («Праздничность здесь становится формой второй жизни народа, вступавшего временно в утопическое царство всеобщности, свободы, равенства и изобилия»1); – «кромешный мир», отрицаемый во имя возвеличения образцовой реальности (древнерусский автор смехового произведения не противостоит культуре, а возвеличивает ее, создавая извращенную, деформированную отраженную реальность); – «антимир», сатирически обличающий социальную реальность («Сатира в древнерусской литературе – это не прямое высмеивание действительности, а сближение действительности с смеховым изнаночным миром»2); и др. Столь же разнородны оценочные компоненты в образах смеховых героев: они высмеивают реальность и в то же время сами высмеиваются; иногда смеховой герой – «это изгой, неудачник, обиженный жизнью, извергнутый из мира сытых. Он и не пытается туда проникнуть, но мстит этому миру смехом, становится в позу шута»3. В отношении смехового героя чаще всего приходится говорить о неоднозначном отношении автора к персонажу4. Универсальные символы смеховой культуры обладают широким спектром традиционных содержаний, которые варьируются между полюсами утопии и сатиры. В истории словесного искусства «утопия» и «сатира» всегда были близки: так, распространенные в европейской культуре истории об обетованных землях с молочными реками и кисельными берегами могут носить как утопический, так и сатирический характер5; известная близость этих идейно-стилевых начал обнаруживается в произведениях А. П. Платонова; и т. д. 1 Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. – С. 14. 2 Лихачев Д.С. Смех в Древней Руси. – С. 53. 3 Панченко А.М. Русская культура в канун петровских реформ. – С. 79–330. 4 См., напр.: Юдин Ю.И. Дурак, шут, вор и черт. – С. 204. 5 Силантьева О.Ю. Страна Кокань и Шлараффия во французской и немецкой литературах XVIII–XIX вв.: Автореф. дис. канд. филол. наук. – М., 2006. 24 с. 130 Studia Culturae. Âûïóñê 12 Таким образом, смеховая культура образует особое смысловое пространство, организованное посредством определенных универсалий. Культура народного праздника, крестьянский и площадной фольклор, средневековая маргиналия и древнерусская сатира конструируют типологически близкие реальности (антимиры, наполненные анти-людьми). Идейно-эстетические ресурсы этих систем – «смеховых культур» – востребуются и в сатире Нового времени. Попытаемся связать воедино теорию смеха и научные представления о смеховой культуре. Смех (негативистская игра) «переворачивает» и разрушает культуру, создавая «мир третьей референции». На определенных этапах истории мы обнаруживаем организованные множества перевернутых символов, объединенных в особые антимиры, – целые смеховые культуры. Но такие сверхсложные символические реальности (предполагающие особую интенсивность смехового поведения, переходящего в новое качество) организованы вокруг смыслового ядра – представлений о хаосе, преисподней, маргинальном, теневом, «темном». Смеховые миры возникают при вторичном символическом освоении «игры в антикультуру». Смех разрушает символические структуры, но сами разрушенные структуры становятся символами – правда, символами иррациональных начал (того, что сложно обозначить «изнутри культуры»). Универсум негативистских игр «обрастает» значениями (значениями в известном смысле вторичными, образованными на «осколках» первичного символического порядка) – так формируются универсалии смеховой культуры. Подведем итоги. «Протосмех» представляет собой игровую агрессию, нарушение «этологических правил»; при переходе в культуру появляется смех – игры в нарушение «культурных правил». Эти игры в антикультуру распространяются на искусство – таков феномен «комического», в котором можно различить простейший юмор (тяготеющий к чистому эстетическому наслаждению от негативистской игры) и сатиру (тяготеющую к включению «игры беспорядка» в сложную и изящную «игру порядка», за которой стоит реальный конфликт). С другой стороны, смеховая бессмыслица сама по себе обрастает символическими содержаниями, образуя образный строй смеховой культуры – в ходе негативистских игр конструируется «вторая» реальность. Логично предположить, что игры в антикультуру в рамках сатиры иногда могут актуализировать вторичные иррациональные символы смеховой культуры. Сатирическое произведение основано на эстетически воплощенном смеховом поведении, его специфические средства можно объе- Studia Culturae. Âûïóñê 12 131 динить термином «комизм». Вот что в действительности нужно понимать под «забавным слогом». Однако сатира становится сатирой тогда, когда комизм подчинен символическому конфликту, не сводимому только к противоречиям между пороками и сатирическим идеалом. Сатира может быть направлена на отрицание всего социального порядка (к чему нередко приближается, скажем, Салтыков-Щедрин) или даже рода человеческого (в случае Свифта), определенных идеологий и вообще устройства разума (как в повестях Вольтера). Сатира способна ставить под сомнение все то, на чем базируется, в чем находит смысл литература как феномен социокультурный, способна совершать акт критики самих основ мышления и коммуникации, поскольку сатирический текст всегда выходит за пределы привычного коммуникативного пространства. Столь широко нужно понимать сатирическую функцию – «осмеивать злонравие». Когда сатира «всматривается в бездну», покидает пределы порядка, совершает радикальную критику, она востребует и универсалии смеховой культуры, «орудием сатиры» становятся антимиры и трикстеры. Смеховая игра беспорядка, многоуровневая структура коммуникативных сигналов, глубокий символический конфликт, иррациональные универсалии образуют своеобразие большой сатирической традиции, к изучению которой еще следует по-настоящему приступить.