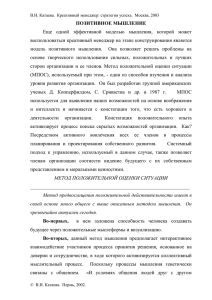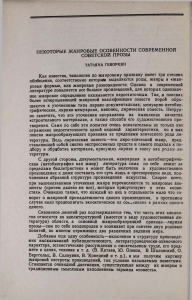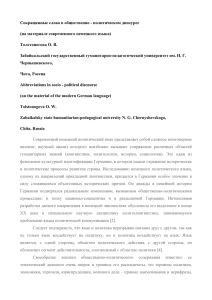РУМЯНЦЕВА Лена Иннокентьевна ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА
advertisement
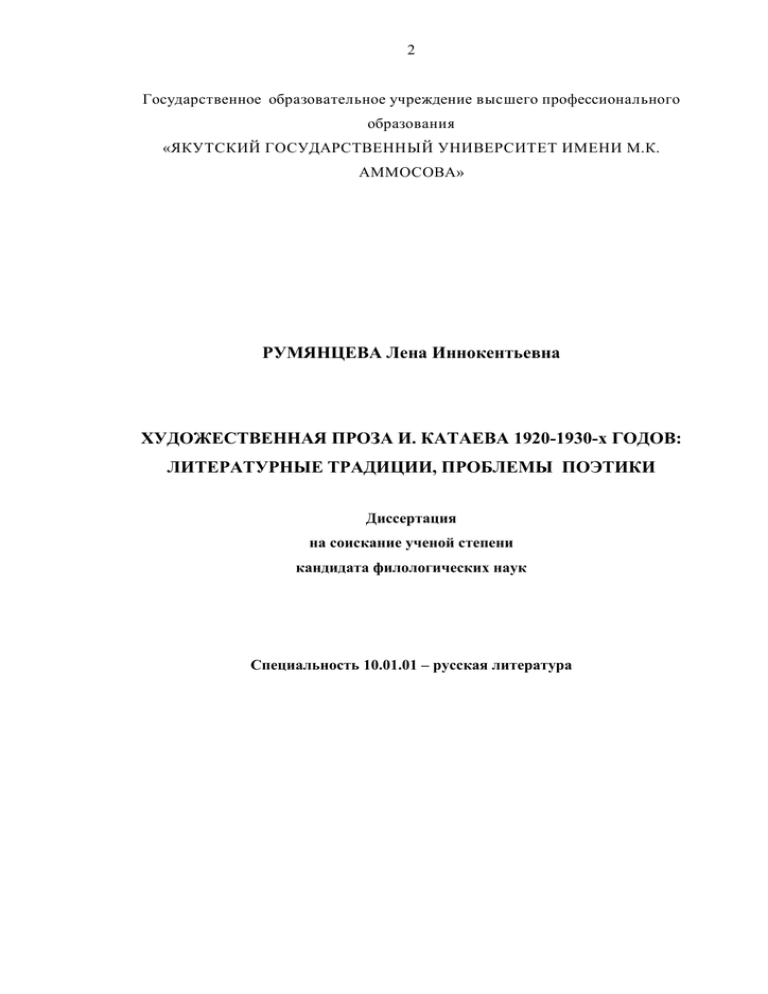
2 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «ЯКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.К. АММОСОВА» РУМЯНЦЕВА Лена Иннокентьевна ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА И. КАТАЕВА 1920-1930-х ГОДОВ: ЛИТЕРАТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ, ПРОБЛЕМЫ ПОЭТИКИ Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук Специальность 10.01.01 – русская литература 3 Якутск – 2008 Оглавление Введение……………………………………………………………………..3 Глава I. Эстетические искания И.И. Катаева 1920-х гг.……………..21 1.1. Эстетическая концепция «Перевала» и позиция И.И.Катаева…. ..23 1.2. Символистский контекст творчества И.И. Катаева………………..38 1.3. Глава II. Мифологизм прозы И.И. Катаева 1920-1930-х гг. .....76 2.1. Своеобразие мифологизма прозы И.И. Катаева. …………………..77 2.2. Мифологический подтекст в рассказе «Молоко». ………………..102 Глава III. Особенности повествовательной поэтики И.И. Катаева. .120 3.1. К проблеме авторского повествования в прозе И.И. Катаева. ……121 3.2. Пространственная символика прозы И.И. Катаева. ……………….142 Заключение…………………………………………………………………..167 Библиография………………………………………………………………..171 4 ВВЕДЕНИЕ Актуальность современного исследования. литературоведения Характерными являются устойчивая особенностями тенденция к корректировке истории русской литературы ХХ века, реинтерпретация русской советской литературной классики, введение в научный оборот ранее неизвестных реалий, фактов и художественных текстов. В этом отношении актуальным представляется обращение к художественному наследию талантливого писателя-«перевальца» Ивана Ивановича Катаева (1902-1937), который становится активным участником литературного процесса с 1926 по 1927 г., когда им были написаны его лучшие рассказы и повести, вошедшие в его авторский сборник 1928 г. С одной стороны, творчество И.И. Катаева 1920-1930-х гг. оказывается в общем русле исканий русской прозы 1920-х гг., с другой – эстетические представления писателя формируются на пересечении разных традиций. В особенности проза И.И. Катаева 1920-х гг. свидетельствует о появлении несколько иного пути, предопределившего характер его творческой эволюции. Литература 1920-1930-х гг. характеризуется современным литературоведением как период относительной творческой свободы и многообразия художественных форм, развившихся на культурной почве «серебряного века». В последние годы активно пересматривается концепция литературного развития 1920-1930-х гг. (М.М. Голубков, Е.Б. Скороспелова). Литература начала 1920-х гг. представляет собой небольшой, но весьма значимый период, с одной стороны, являющийся прямым продолжением литературы предреволюционной, с другой – имеющий качественно новые признаки. В отечественной и зарубежной русистике последних лет усилился 5 интерес к проблеме перехода от символистской ветви русской культуры к ее постсимволистским вариантам (И.П. Смирнов, В.И. Тюпа, И.А. Есаулов), характеризовавшимся напряженным творческим вниманием (созвучие и отталкивание) от символистской парадигмы, а потому творчество И.И. Катаева может быть рассмотрено в широком постсимволистском контексте. Как особый, рубежный, период критикой уже 1920-х гг. был осмыслен 1921 г., характеризующийся активизацией литературной жизни, во многом связанной с появлением первых толстых журналов «Красная новь» и «Печать и революция», открывших советский период истории русской литературы. По мнению Ю.Н. Тынянова, важнейшей особенностью литературы в это время является тот факт, что «преимущественно поэтический период сменился преимущественно прозаическим» [160: 223]. Проза начала 1920-х гг., многое впитавшая из арсенала поэзии, развивается в определенных формах сказа и орнаментальности. Общий характер литературного развития 1920-х гг. был связан преимущественно с формированием сказовой манеры и устойчивой тенденции к орнаментальности. Примерами этих процессов могут служить: полное поглощение характера сказовой конструкцией у М.М. Зощенко, П.С. Романова, Вяч. Шишкова, сведение персонажа к нескольким лейтмотивам, часто – идеологического характера, у Б.А. Пильняка, Е.И. Замятина, Н.Н. Никитина. Подобного рода явления возникают и в прозе И.И. Катаева 1920-х гг., в частности в повести «Сердце» и рассказе «Молоко». Однако наиболее отчетливо уже в ранней прозе И.И. Катаева проявилась другая тенденция – к преодолению буквального воспроизведения сказового и орнаментального стиля. Как глубоко новаторские тенденции сказа и орнаментальности сохраняются вплоть до 1926-1927 г., когда с достаточной отчетливостью обозначилось стремление некоторых писателей освободиться от инерции сказового слова. М.О. Чудакова связывает эту новую тенденцию литературы 6 с творчеством Ю.К. Олеши, роман которого «Зависть» вводил, помимо нового героя, новую «аналитическую» манеру повествования [168]. Для Катаева-прозаика наиболее приемлемым оказался именно этот путь. В этом отношении творческие устремления писателя совпали с аналогичной установкой, возникшей в ранних произведениях Ю.К. Олеши. Творческая эволюция И.И. Катаева в наиболее существенных своих аспектах отразила такие важнейшие художественные искания русской прозы первой трети ХХ в., как изменение основополагающих принципов повествования. Весьма симптоматичным становятся: тип героя, формы авторского слова. В связи с этим вопросы собственно творческой эволюции И.И. Катаева приобретают решающее значение как для определения круга литературных традиций, повлиявших на его творчество, так и значимости для прозы писателя его раннего - стихотворного – этапа, во многом обусловившего черты лиризма в позднем творчестве. Следует подчеркнуть, что в прозе И.И. Катаева 1930-х гг. определяющим продолжает оставаться принцип лиризации повествования, восходящей не к современной, а к более ранней, предшествующей литературной эпохе. Вполне закономерным представляется и рассмотрение творчества писателя в контексте символистской традиции, понимаемой в 1920-х гг. уже как принцип творчества. Лиризм прозы в творчестве А. Белого, Ф. Сологуба и других писателей-символистов приводит к усилению роли декоративной описательности (зачастую растворяет в ней привычную фабульность), к возрастанию субъективного начала в нарративе, фрагментарности, превращению прозы малых жанров в лирические миниатюры. Именно эти художественные установки имели определяющее значение повествовательной манеры и И.И. в формировании Катаева. Важнейшей индивидуальной составляющей принципа лиризма становится в рамках творчества писателя выраженная тенденция к увеличению роли ассоциативных, интертекстуальных элементов, что, в свою очередь, также является важнейшим фактором литературы этого 7 периода, поскольку для поэтического мышления ХХ в. в высшей степени характерно мышление поэтическими ассоциациями, резкое повышение роли реминисценций и цитат, цитация как диалог. Отсюда – мышление поэтическими формулами, выработанными предшественниками, не как подражание, а как сознательное введение поэзии, поэтической традиции в мир современного человека. Общий характер эволюции И.И. Катаева от поэзии к прозе в известной мере предопределил и лирическую составляющую его прозы 1920-х гг., и мощный мифологический пласт, и, наконец, традицию А.А. Блока в его творчестве в целом. Все это вместе обусловило своеобразие катаевской поэтики, формирование и становление которой приходится на 1920-е гг., что до сих пор не было в поле зрения исследователей. С одной стороны, творческий путь И.И. Катаева свидетельствует об известной степени преемственности с предшествующей литературной традицией символизма, в первую очередь – с традицией А.А. Блока, вводимой в прозу писателя не только в качестве контекста, но и как целостного, цитатно обозначенного пласта. В этой сознательной ориентации на А.А. Блока конституирующим началом предстает мифопоэтический способ концептирования, конкретно-чувственное и персональное выражение абстракций. С другой стороны, пути эволюции И.И. Катаева-прозаика в достаточной мере были обусловлены общими тенденциями развития, характерными для литературного процесса 1920-х гг.: лирическое начало в прозе, мифологизм повествования, элементы орнаментального стиля. В то же время даже проблема мифологизма в этом ряду применительно к прозе И.И. Катаева актуализируется на разных уровнях, по сравнению с аналогичной тенденцией в прозе этого времени у других писателей. Не менее значимой представляется в отношении И.И. Катаева проблема творческого метода, с особой остротой поставленная в литературе 1920-х гг. В этой связи следует подчеркнуть, что при всей общепринятой оценке и трактовке 8 творчества И.И. Катаева как выражения «перевальской» программной установки, наиболее полно воплощенной в критической концепции А.К. Воронского, для прозы писателя конца 1920-х гг. характерен все же мифопоэтический способ концептирования, восходящий к символизму, что позволяет кардинально пересмотреть само представление о творческом методе писателя и вплотную подойти к определению своеобразия его поэтики. Такой способ видения нашел выражение в конкретно-чувственном и персональном воплощении абстракций, настойчивом предположении смысла и целесообразной направленности всего сущего, что было свойственно прозе И.И. Катаева и отражается в мифологизме, как характерной особенности поэтики писателя. Тем самым в совершенно неожиданном ракурсе и в парадоксальном для литературы 1920-х гг. - «символистском» способе видения проза И.И. Катаева получает новое звучание и предполагает иные контексты рассмотрения. Указанные моменты определили своеобразие поэтики этого писателя, не ставшей до сих пор предметом специального рассмотрения. Изучение отдельных этапов творческой эволюции И.И. Катаева в контексте литературных традиций и в аспекте формирования основных составляющих его поэтики представляется актуальным. Степень изученности творчества И.И. Катаева. Творчество Катаева вызывала интерес критики уже с момента опубликования первых произведений. Характерно, что критика 1920-х гг. как-то сблизила и назвала «Зависть» Ю. Олеши и повесть «Сердце» (1928) И.И. Катаева в числе лучших произведений года. В. Гоффеншефер приводит мнение А.В. Луначарского, на которого повесть И.И. Катаева «Сердце» произвела большое впечатление своей «задушевностью, сливающейся с замечательным искусством рассказывать» [78: 253]. Несмотря на благожелательные в целом отзывы литературной критики на первую книгу писателя, составленную из рассказов «Жена», «Автобус», 9 «Великий Глетчер» (1927), и повестей «Сердце», «Поэт» (обе 1928), осмысление творческого наследия И.И. Катаева критикой всегда – и при жизни писателя, и спустя десятилетия – носило непростой характер, поскольку критика 1920-1930-х гг. во многом была обусловлена борьбой литературных групп и объединений. Яркой составляющей литературного процесса этих лет является деятельность литературного содружества «Перевал» (1924-1932). История эстетических воззрений и художественных опытов «Перевала» вписана в историю становления, развития и самосознания ранней советской литературы. Напряженные поиски нового метода, нового слова, новых форм художественного освоения действительности отличали как писателей-перевальцев, так и литературных критиков, теоретиков «Перевала» А.К. Воронского, А.З. Лежнева, Д.А. Горбова. И.И. Катаев вошел в историю русской советской литературы, как один из ведущих писателей литературного содружества «Перевал», определявший не только литературное творчество этой группы, но и значительно обогативший содержание его эстетической программы. Проза И.И. Катаева воспринималась критикой РАППа как иллюстрация теоретических воззрений теоретиков «Перевала» и часто интерпретации произведений И.И. Катаева отличались однобокостью, произвольностью оценок. Перевальская критика, в свою очередь, рассматривала повесть «Сердце» как воплощение принципа гуманизма, который декларативно отстаивал «Перевал». А.З. Лежнев большой удачей молодого писателя считал «преодоление схематизма образов коммунистов», в то время как многие беллетристы 1920-х произведениях, гг., увлекаясь сочетающих авантюрным революционную сюжетом в тематику своих с полуприключенческой формой, не смогли создать достоверные и живые образы [119: 297]. В рецензии на сборник «Отечество» (1935), А.З. Лежнев рассмотрел «все по-настоящему значительное, что написано И.И. Катаевым со времен выхода в свет «Сердца» [119: 226]. Он впервые пишет об особом 10 соотношении очеркового и повествовательного начал в творчестве писателя. И.И. Катаева, по его мнению, отличает «неторопливая обстоятельность мысли, торжественность интонации», однако в очерках ему «недостает публицистической остроты и живости, естественной простоты самовыражения». Однако это же свойство прозы И.И. Катаева становится, по мнению А.З. Лежнева, «драгоценным достоянием писателя» в его рассказах. «То, что мешает И.И. Катаеву-очеркисту, замечает критик, – составляет сильную сторону И.И. Катаева-повествователя» [119: 228]. Это свойство прозы И.И. Катаева определено словом «органность», причем сам А.З. Лежнев признает широту и расплывчатость своего термина. «Органность с ее торжественной интонацией, с ее медлительным многоголосием величавых тем сглаживает бытовую точность информации, быстро переводя ее в общий план. Он старается соединить описание фактов с внутренней темой. Органность превращает его очерк в поэмы», – писал А.З. Лежнев в 1935 г. [119: 228]. Однако в суждениях многих других критиков объективность оценок нередко подменялась «классовым» подходом, идеологическим толкованием литературного материала. Особенно резкие оценки прозвучали в адрес рассказа «Молоко» (1930), воспринятого как апология кулачества (М. Бочачер, М. Серебрянский, И. Нович, П. Запорожский). Внимание исследователей и при жизни, и впоследствии было обращено главным образом к идеологическим аспектам его творчества. Реабилитация и восстановление И.И. Катаева в 1956 г. в правах члена Союза писателей еще не означали полной реабилитации его эстетических воззрений, лишь в 1957 г. в Москве было осуществлено переиздание лучших произведений И.И. Катаева 1920-х гг. С 1957 по 1966 гг. в центральной периодической печати (журнале «Москва», газете «Литературная Россия») стали публиковаться отдельные рассказы и очерки И.И. Катаева, в том числе и неопубликовавшийся при жизни писателя рассказ «Под чистыми звездами» 11 (1937). Кроме того, отдельные стихотворения и очерки вышли в составе сборников произведений в национальных издательствах: «Глазами друзей» (сост., послесловие и примеч. Р. Авакяна. – Ереван: Айастан, 1967), «Родному Грозному», Сб. стихов (сост., предисловие Г. Яблокова. – Грозный, 1970). В 1969 г. издательство «Советская Россия» выпустило наиболее полный сборник произведений И.И. Катаева «Под чистыми звездами», включавший, кроме литературных произведений, статьи писателя о литературе. В сборнике «Хлеб и мысль» (Л., Лениздат, 1983) уже были представлены повести и рассказы 1920-1930-х гг., публицистические произведения, вошедшие в книги «Движение», «Человек на горе», «Отечество», а также очерки, не входившие ранее ни в одну из книг писателя. Переиздание литературного наследия И.И. Катаева и вспыхнувший интерес, как в читательской, так и литературоведческой среде, подтверждают актуальность его творчества. Но острота полемики, развернувшейся спустя почти двадцать лет после того, как прервался жизненный и творческий путь писателя, мало чем отличалась от времени гонений и нападок. Начало серьезному изучению художественного мира И.И. Катаева было положено содержательными статьями В. Гоффеншефера, Е. Стариковой, Е. Краснощековой. Попытка оценить вклад И.И. Катаева в литературу была предпринята В. Гоффеншефером еще в 1929 г. В качестве важнейших черт писательской индивидуальности он назвал актуальность тем и поэтичность стиля повести «Сердце», однако, позже он признал, что повесть «Поэт» в свое время была им недооценена. В 1957 г. критик указал на значимость символистской поэтики для раннего творчества И.И. Катаева, отметив связь стихового творчества и первой повести «Поэт», а также внутренние взаимосвязи и переклички в прозе 1920-х гг. в целом, тем самым, утвердив внутреннее единство и завершенность художественных текстов И.И. Катаева этого периода [79: 247, 249-260]. 12 Во вступительной статье к сборнику И.И. Катаева «Под чистыми звездами» Е. Старикова отметила сознательную полемичность ранних образов, а также своеобразие повествования, заключающееся в резкой стыковке фрагментов текста, имеющих разную эмоциональную и ритмическую тональность. По мнению критика, в зрелой своей прозе И.И. Катаев остается тем же лириком, мыслившим широкими философскосоциологическими категориями, однако его манера письма уже лишена смелых метафор и характеризуется большей глубиной и сдержанностью [50: 14, 15, 27]. В. Гоффеншефер, Е. Старикова, высоко оценивая творчество писателя, стремились преодолеть пристрастные оценки, сложившиеся в пылу групповой борьбы и призывали к объективному, добросовестному исследованию. Слабой стороной этих выступлений оказалась тенденция к сглаживанию конфликта, замалчиванию острых углов, вызвавшая упреки со стороны А. Макарова, А. Шкляева, Ф. Власова [126: 170]. Критик А. Макаров повторил оценки рапповской критики, обвинив писателя в «безвкусице» и «превыспренности», «идейной путанице» и «внеисторичности» [126: 220]. 1930-е гг. в творчестве И.И. Катаева, по мнению критика, были ознаменованы переломом в мировоззрении, и основные произведения этого периода (повесть «Встреча», книга очерков «Движение») вливаются в общий поток литературы, «обратившейся в 1930-х гг. от отвлеченных, «общечеловеческих» тем к темам социалистического строительства» [126: 221]. С ним вступили в дискуссию Е. Старикова и Е. Краснощекова, отстаивая, что мировоззрение И.И. Катаева, сложившееся в годы революций и гражданской войны, отличалось цельностью и зрелостью. Поэтому, учитывая непродолжительность его активной творческой жизни – десятилетие – трудно говорить о сколько-нибудь значительной коренной мировоззренческой эволюции. Вместе с тем точка зрения А. Макарова, по сути продолжающая мнение критиков РАПП и рассматривающая творчество 13 И.И. Катаева как художественное воплощение литературных взглядов «Перевала», нашла своих продолжателей в статьях А. Артюхина и А. Шкляева. Итогом такой оценки стало утверждение о «губительности воздействия теорий «Перевала» на талантливого писателя» [55: 19]. Следующий этап изучения творчества И.И. Катаева связан с концом 1970-х началом 1980-х гг. Н.А. Золотарева рассматривает книги очерков И.И. Катаева на фоне «очеркового взрыва» 1930-х гг., подчеркивая новаторство писателя в поисках новых жанровых форм. По мнению исследователя, очерки И.И. Катаева отражали одну из плодотворных линий литературного процесса. Расцвет лирической прозы в 1950-е гг. Н.А. Золотарева рассматривает в прямой зависимости от работы писателей-перевальцев И.И. Катаева, Н.Н. Зарудина [105]. В творческом наследии писателя Н.А. Золотарева выделяет три основных части. Прежде всего, повести и рассказы конца 1920-х гг.: «Поэт», «Сердце», «Жена», «Зернистый снег», «Молоко», «В одной комнате», «Великий Глетчер». Новизна творчества И.И. Катаева видится исследователю в решении главной задачи времени, которую сам писатель определил как создание образа социалистического человека. Сильной стороной прозы И.И. Катаева названы «проникновенный реалистически объемный анализ и особая лирическая интонация в характеристике героя» [105: 5]. Выступления по проблемам искусства – вторая значимая часть творчества И.И. Катаева. Особенно важны, по мнению Н.А. Золотаревой, критико-теоретические статьи, опубликованные в журнале «Наши достижения» и речь на I Пленуме Оргкомитета Союза писателей на общем собрании московских писателей 31 марта 1936 г. «Искусство социалистического народа». Эта часть творческой работы И.И. Катаева оценивается Н.А. Золотаревой как важный компонент в изучении и понимании литературного процесса 1930-х гг. И, наконец, третья часть катаевского наследия - очерковая проза. Начало работы в этой области связано с деятельностью писателя в кооперативном журнале «Город и 14 деревня» (1925-1926). Очерковая проза И.И. Катаева, по мнению исследователя, оказывается своеобразным узлом взаимодействия всех составляющих его творчество сторон, так как в ней выражены поиски в области синтеза жанровых форм [105: 6]. В диссертации Н.А. Золотаревой исследуются особенности очерковой прозы И.И. Катаева как достаточно интересного и актуального факта литературы 1920-х гг. 1970-1990-е гг. связаны с активизацией интереса к истории литературы 1920-1930-х гг. в целом. В этот период появляются исследования обобщающего характера, в которых произведения писателя упоминаются в сопоставительном контексте. 1920-е гг. в статьях и монографиях этого периода охарактеризованы как период морального первенства «малой формы» [108: 11], поэтому преобладает стремление вписать И.И. Катаева в рамки развития малого рассказа и очерка. К примеру, Л.Ф. Ершов упоминал И.И. Катаева в ряду других писателей, существенно обогативших типологию малых жанров. Важнейшими качествами творчества И.И. Катаева названы оперативность очерка и рассказа, позволяющие широко охватить все стороны жизни, нравственно-философское наполнение новеллы, социально- публицистическое движение мысли в очерке, социологические обобщения в фельетоне. Новеллы И.И. Катаева, по мысли автора, наряду с произведениями А. Платонова, «посвященные темам социалистического преобразования земли, формирования новой морали, противостояли так называемому производственному роману» [93: 242]. Авторы монографии «История русской советской литературы» (1986), также отмечают плодотворные попытки А. Платонова, И.И. Катаева, М.М. Пришвина философски осмыслить действительность в жанрах рассказа и малой повести [109: 213]. Рассказ И.И. Катаева «Молоко» (1930) оценен ими как сатирический, предупреждающий об опасности и цепкой силе пережитков прошлого [109: 227]. 15 Развивая идею о роли очерковой прозы И.И. Катаева, предвосхитившей такое яркое явление литературы как лирическая проза 1950-х гг., Н.А. Грознова намечает параллели между художественной прозой И.И. Катаева и социально-философской литературой 1970-1980-х гг. В статье Н.А. Грозновой к сборнику избранных произведений И.И. Катаева «Хлеб и мысль» устанавливается прямая связь между его рассказом «Ленинградское шоссе» и «Последним сроком» В.Г. Распутина. Исследователь включает прозу И.И. Катаева в родословную «деревенской» прозы, представленной произведениями В.П. Астафьева, Е.И. Носова, С.П. Залыгина. Статья и комментарий Н.А. Грозновой содержит лаконичное и достаточно полное описание творческой истории повестей, рассказов и очерков, но, говоря о роли «Перевала» в судьбе писателя, исследователь склонна рассматривать становление принципиальных эстетических взглядов И.И. Катаева вне его художественных связей со многими деятелями «Перевала». Теоретические установки критиков-перевальцев оцениваются ею как идеалистические и уводящие «литературу от насущных задач современности» [51]. В этот период была существенно пересмотрена традиционная трактовка дискуссиях идейно-эстетической 1920-1930-х писателей-перевальцев гг., (В.М. позиции «Перевала» появляются Акимов, в исследования Г.А. Белая, литературных о творчестве У.А. Замостик). Стремлением проследить судьбу эстетических идей «Перевала» проникнута монография Г.А. Белой «Дон-Кихоты 1920-х гг.» (1989). Исследователь акцентировала, что полемический способ существования мысли обусловил не только остроту позиции «Перевала» и ее подспудную ориентированность на спор и возражения, но и породил гипертрофированность ее отдельных сторон, ее внутреннюю несоразмерность, порой разрастание деталей и частностей [64: 9]. Г.А. Белая назвала И.И. Катаева, наряду с А.З. Лежневым и Д. Горбовым, теоретиком «Перевала». С «неумеренной романтикой» катаевского мировидения она связывает «разрыв с исторической 16 реальностью гг.», 1920-х который дорого обошелся перевальцам, «конструировавшим будущее искусство по чужим национальным и историческим моделям» [64: 19]. В 1990-е гг. впервые был поднят вопрос о необходимости целостного рассмотрения творческого наследия И.И. Катаева. В диссертации Т.А. Чернега «Иван Катаев. Творческая индивидуальность писателя в литературном процессе 1920-1930-х гг.» (1992) воссоздается творческий портрет писателя, реконструируется и переосмысливается картина литературного движения периода 1920-1930-х гг. При этом, оценивая роль группы «Перевал» в становлении и развитии творческой индивидуальности И.И. Катаева, Т.А. Чернега приходит к мысли о созвучности исканий писателя и эстетических установок «Перевала». Автор работы рассматривает эволюцию И.И. Катаева «от очеркового повествования к эпическому, с переходной – «рассказовой» - формой с достаточно прочной очерковой основой», при этом достаточно пунктирно отмечается «замена лирического повествования «от первого лица» на более емкую эпическую форму, на объективное авторское повествование» в рассказах «Ленинградское шоссе» (1933), «Под чистыми звездами» (1937, опубл.: 1956) и повести «Встреча» (1934) [167: исторических 14]; использование событий в калейдоскопического «Хамовниках» (1934). Повесть совмещения «Встреча» рассматривается как творческая удача писателя, сохранившая, однако, «отчетливо выраженную идеологическую доминанту» [167: 15]. В целом диссертация Т.А. Чернега представляет собой первый опыт монографического изучения творчества И.И. Катаева. Таким образом, необходимо отметить, что творчество И.И. Катаева неоднократно становилось объектом научных исследований, признающих его эстетическую самобытность и значимость в контексте творческих исканий художественной и очерковой прозы 1920-1930-х гг. (Л.Ф. Ершов, И. Крамов, Т.А. Чернега). В отдельных работах были намечены подходы к изучению 17 прозы писателя в более широкой перспективе лирической прозы 1950-х гг. (Н.А. Золотарева), философской прозы 1970-1980-х гг. (Н.А. Грознова). Появление такого рода перспектив и новых аспектов изучения свидетельствует о несомненной значимости творчества И.И. Катаева в литературном процессе 1920-1930-х гг. Интерес к творчеству И.И. Катаева связан не только с пересмотром общей оценки литературного процесса этого времени, но и с осмыслением собственно эволюционных аспектов творчества этого писателя как в общем контексте литературы ХХ в., так и в рамках становления его творческого метода и повествовательной манеры. Историографический обзор показывает, что, несмотря на определенную степень изученности, недостаточно проясненными до сих пор остаются такие аспекты творческой эволюции И.И. Катаева, как движение от стихотворного этапа к собственно прозаическому, соотношение очеркового и повествовательного начал в прозе 1930-х гг., определение литературных традиций начала ХХ в., оказавших влияние на становление его поэтики. Недостаточно исследованной до сих пор предстает поэтика художественной прозы И.И. Катаева как целостного явления и как выражения основных этапов его эволюции. Объектом исследования избраны преимущественно художественные тексты И.И. Катаева 1927-1937 гг., очерковая проза писателя рассматривается при этом только в качестве общего и сопоставительного контекста творчества. Предмет исследования – литературные традиции и поэтика художественной прозы И.И. Катаева 1920-1930-х гг. Целью работы является исследование поэтики прозы И.И. Катаева и литературных традиций, определивших ее своеобразие. Исходя из этого, поставлены следующие задачи: 1. соотнести творчество И.И. Катаева с программными установками группы «Перевал»; 18 2. выявить особый «символистский» пласт литературных традиций в творчестве И.И. Катаева, определить при этом способы трансформации и формы наследования этой традиции в творчестве писателя; 3. исследовать своеобразие поэтики И.И. Катаева как определенной целостности, обусловленной мифологизмом; 4. рассмотреть мифологический подтекст в рассказе «Молоко», этапном в творческой эволюции И.И. Катаева; 5. охарактеризовать особенности авторского повествования в прозе И.И. Катаева 1920-1930-х гг.; 6. определить своеобразие пространственной организации прозы И.И. Катаева как одной из составляющей его поэтики. Научная новизна исследования обусловлена пониманием творчества писателя-перевальца И.И. Катаева как достаточно неоднозначного и сложного, не укладывающегося в рамки идеологических штампов исключительно «перевальской» оценки его прозы. Тем самым впервые уточняется представление об И.И. Катаеве как о деятельном и своеобразном участнике литературного процесса 1920-х гг., чье творчество – особенно проза – не ограничивается «перевальской» тематикой и стилистикой и характеризуется сложностью взаимодействия (спор-отталкивание, формы и способы трансформации) как с предшествующей символистской традицией, так и с литературным контекстом 1920-х гг., что позволяет в целом судить о непростом характере эволюции этого писателя. В связи с этим в работе специально выделяется и впервые всесторонне анализируется пласт традиции А.А. Блока, означающей не только спор с ней и ее трансформацию, но и во многих моментах следование ей, что уже предполагало неожиданный ракурс и ход эволюции в творчестве самого И.И. Катаева. Именно символистский, «блоковский», контекст обусловил не только характер эволюции катаевской прозы, но и особенности появляющегося в этой прозе мифологического подтекста. 19 В работе уточняется и впервые детализируется представление о мифологизме И.И. Катаева, отличном от общих тенденций мифологизма в прозе 1920-х гг. и определяющего, в конечном счете, специфические черты его поэтики как прозаика. Новизна исследования связана с тем, что в работе специально и впервые целостно рассматривается поэтика прозы И.И. Катаева 1920-х гг., как многоаспектное явление, в котором определяющими становятся жанровостилевой аспект эволюции, а именно: предвосхищение лирических миниатюр и малых жанровых форм последующей литературы 1950-х гг.; своеобразие глубинного мифологического подтекста, уводящего от однозначности трактовки его прозы; лиризм прозы, особенности ее пространственной организации, уровня разработки авторского повествования. Поэтика и характер эволюции И.И. Катаева выявляются на основе анализа текстов, как собственно литературных, так и публицистических (очерковая литература), что позволяет затронуть как мировоззренческие, так и художественные - эстетические - принципы в его творчестве. Результаты предпринятого текстуального анализа позволили выявить «блоковский» шире – символистский контекст в творчестве И.И. Катаева; определить многомерность и многоплановость эстетических исканий писателя, не укладывающихся в рамки только «перевальского» круга; выяснить своеобразие лирического компонента в прозе И.И. Катаева и его функциональную значимость для поэтики, определить индивидуальные черты мифологизма в его творчестве, что в целом также определяет новизну исследования. Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 1. Динамика творчества И.И. Катаева определяется эволюцией от стихотворного этапа к прозаическому; от усложненности и многообразия форм выражения авторского слова в период расцвета – 1920-е гг. – к простоте очеркового начала в 1930-е гг., что позволяет 20 уточнить представление о характере творческой эволюции писателя в целом. 2. По-новому осмысленный литературный контекст творчества И.И. Катаева позволяет выявить достаточно широкий символистский пласт в предшествующей литературной традиции, применительно к И.И. Катаеву означающий не только способы ее трансформации, но и в значительной мере формы следования ей, что, по существу, отменяет традиционное представление о соотношении прозы 1920-х гг. и символизма. Тем самым на материале творчества И.И. Катаева выявлена продуктивность принципов символистской поэтики для прозы 1920-х гг. 3. В становлении поэтики И.И. Катаева функциональную значимость приобретает доминирование на раннем этапе традиции А.А. Блока как в поэзии, так и в прозе, впоследствии (с 1934 г.) уступившей место тенденции к бессюжетному лирическому повествованию, связанной уже с прозой А. Белого. 4. Художественным результатом обращения И.И. Катаева к символистской литературной традиции становится создание в 1920-е гг. единого текста творчества, неореалистического (или неомифологического) по своей структуре и стилистике, органично сплавляющего лирическое и мифологическое начала, что позволяет скорректировать общепринятое представление о творческом методе писателя, сложившегося на пересечении символизма и реализма. 5. В поэтике И.И. Катаева определяющими становятся принцип лиризма в прозаическом повествовании концептирования, сложившийся и мифологизирующий в результате способ непосредственного обращения писателя к литературной традиции символизма. 6. Особенности авторского повествования в прозе И.И. Катаева и пространственной символики прозаических жанров, в достаточной 21 мере свидетельствуют о включенности, с одной стороны, творчества И.И. Катаева в общее русло жанрово-стилевых исканий русской прозы 1920-х гг., с другой – об индивидуальном, мифологически выраженном пути эволюции этого писателя. Методологической основой исследования явились отдельные положения работ Ю.Н. Тынянова по проблеме литературной эволюции, М.М. Бахтина по проблемам поэтики, Е.М. Мелетинского и В.Н. Топорова по проблемам мифологизма, Ю.М. Лотмана в аспекте символики пространства, а также концепция русского символизма, разработанная в трудах З.Г. Минц. Методы исследования определяются характером текстового материала (художественного и публицистического) и конкретными задачами анализа. В диссертации используются структурно-типологический метод в исследовании поэтики и выявления мифологического цитатного плана текстов. Актуализирован также и сравнительный метод при типологическом сопоставлении художественных систем, как отдельных писателей, так и разных периодов литературы. Теоретическая и практическая значимость диссертации состоит в том, что ее основные положения и выводы могут быть использованы при дальнейшем изучении творчества И.И. Катаева, при уточнении концепции литературного развития 1920-1930-х гг., а также в вузовских общих и специальных курсах по истории русской литературы ХХ в. Выводы и материалы диссертационного исследования могут применяться при составлении пособий, посвященных проблемам жанрово-стилевой эволюции русской прозы 1920-1930-х гг. Апробация работы. Материалы диссертации используются при чтении лекций, спецкурсов и проведении семинарских занятий на филологическом факультете, факультете иностранных языков, факультете якутской филологии и культуры Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова. Основные положения диссертационного исследования были 22 апробированы на I Межрегиональной научной конференции «Язык. Миф. Этнокультура» (Кемерово, 2003), на республиканских научных конференциях: «Проблемы развития национальной культуры и русскоякутских языковых связей» (Якутск, 2000), «Современные тенденции развития филологических наук и журналистики» (Якутск, 2000), «Русская словесность: история и современность» (Якутск, 2002, 2005, 2007), «Логос. Культура. Цивилизация» (Якутск, 2003). Диссертация обсуждена на заседании кафедры русской литературы ХХ века и теории литературы Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова (2008). Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы. 23 ГЛАВА I. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ИСКАНИЯ И.И. КАТАЕВА 1920-х гг. Уже первые опубликованные рассказы И.И. Катаева 1927-1928 гг. свидетельствуют о его стремлении вписать тематику и стилистику писателей "Перевала" в поиски новых путей на стыке разных традиций. Художественная проза И.И. Катаева 1920-х гг. представляет собой сложное соединение разнообразных традиций. Ее можно рассматривать как своего рода единый текст, возникающий в результате взаимодействия ряда центральных мотивов («одиночество», «жертвенность» и др.). Осмысливая свое время как время переходное, И.И. Катаев описывает Россию, стоящую на пороге новой эпохи, на переломе нового и старого, конфликте материального и идеального, коллективного и индивидуального. Отсюда и сложность, неоднозначность поисков, ведущих к неожиданному, в некотором роде непредсказуемому, соединению литературных традиций прошлого и настоящего. Ощущение надвигающихся изменений, движения истории, переоценки событий прожитого века на рубеже веков наиболее отчетливо выражено в эстетике и художественной практике символистов. Ощущение переходного периода, неопределенности неоднократно осмысливалась как самими поэтами – символистами так и исследователями русской культуры. Так, А. Белый писал: «Мы – дети рубежа, мы ни «конец» века, ни «начало» нового, а – схватка столетий в душе; мы ножницы меж столетиями; нас надо брать в проблеме ножниц» [67: 167]. Эта точка зрения выражена Т. Злотниковой: «Конец века – это время не столько ответов, сколько вопросов», заставляющих «обратиться к опыту прошлого, занявшись экстраполяцией проблем и методов их познания, чтобы отыскать признаки гармонизирующего начала и новых образных структур» [109: 115] или Е. Мущенко «Пребывание «между» (концом и началом, новым и старым, прошлым и будущим) сознается неустойчивым. Чтобы сделать позицию 24 устойчивой, необходимо создать диалогическую ситуацию, общение, установить связи, выполнить «переход», превратив его в «промежуточную» целостность. Отсюда – тяготение к мировой культуре как возможность поиска устоявшихся традиций, целостности и единства. Нетрудно уловить близость этих установок эстетическим декларациям литературного объединения 1920-х гг. «Перевал», наиболее последовательным членом которого был И.И. Катаев. Относительно И.И. Катаева в достаточной мере еще не очерчен полный круг наиболее актуальных контекстов и связанных с этим возможных аспектов анализа, которые должны быть в поле зрения исследователей. Между тем именно выделение и классификация цитат в его художественной прозе позволяет судить об особенностях его творческой индивидуальности, формирование которой проходило в жесточайших тисках между желанием быть понятым, воспринятым читателем, быть прочитанным и в то же время сохранить верность настоящей литературе. Обнаружение ограниченного и легко обозримого интерпретировать количества подтексты в подтекстов качестве дает одного возможность из структурных смыслообразующих механизмов, встроенных в текст. Тем самым эстетические искания И.И. Катаева именно 1920-х гг. представляют собой малоисследованный аспект в литературе этого времени по разным параметрам. Во-первых, собственно эстетические поиски этого писателя, как и его эволюция от первых стихотворных опытов к прозе, представляют собой самостоятельное явление, и до сих пор не рассматривались в качестве специального объекта анализа. Во-вторых, несомненный исследовательский интерес вызывает соотношение в творчестве И.И. Катаева разнообразных и разноплановых литературных традиций, на стыке которых формируется неоднозначно решаемый метод писателя. Перевод же эстетических исканий писателя, провозглашенного в свою очередь одним из крупных представителей группы «Перевал», в 25 плоскость творческого метода, столь актуального для «перевальцев», по отношению к И.И. Катаеву приобретает индивидуально выраженные черты, определяющие его эволюцию, прежде всего как прозаика. В-третьих, именно в прозе И.И. Катаева 1920-х гг. в наиболее полной мере отразились структурирующие свойства его поэтики. В этом смысле ограничение хронологическими рамками 1921-1929 гг. позволит более полно представить эволюцию И.И. Катаева-прозаика в споре и отталкивании как от традиций символизма, так и от современных писателю исканий литературы 1920-х гг. Все эти моменты обусловили обращение к указанным аспектам исследования творчества И.И. Катаева и предопределили структуру и задачи данной главы. 1.1. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ «ПЕРЕВАЛА» И ПОЗИЦИЯ И.И. КАТАЕВА Литературный период 1920-х гг. осмыслен современной наукой как «полифонический» (М.М. Голубков). Многоголосие литературной жизни проявилось в бытовании самых различных художественных, философских концепций, отстаиваемых литературными группировками, различных эстетических систем, сосуществующих в литературном процессе. Позиция «Перевала» (1924-1932) с наибольшей полнотой была высказана в программных заявках группы и литературно-критических статьях и книгах А.К. Воронского «Искусство и жизнь» (1924), «Литературные записи» (1926), «Искусство видеть мир» (1928) и др.; критиков-перевальцев А.З. Лежнева «Современники» (1927), «Литературные будни» (1929), «Разговор в сердцах» (1930); Д. А. Горбова «У нас и за рубежом» (1929), «Поиски Галатеи» (1929); Н. Замошкина «Литературные межи» (1930); С. Пакентрейгера «Заказ на вдохновение» (1930). Коллизии литературной борьбы «Перевала» и ВАПП рассмотрены в исследованиях В.М. Акимова (1979), А. Артюхина (1966), С. Шешукова (1984), однако наиболее полно и объективно эстетическая концепция 26 «Перевала» освещена в работах Г.А. Белой «Из истории советской литературно-критической мысли 1920-х гг. (Эстетическая концепция «Перевала»)» (1985), «Дон-Кихоты 1920-х гг.: «Перевал» и судьба его идей» (1989), «Дон-Кихоты революции – опыт побед и поражений» (2004). Вместе с тем необходимо признать, что вне зоны внимания исследователей попрежнему остается художественное творчество перевальцев, рассмотренное как некая эстетическая целостность во взаимосвязи творческой индивидуальности писателей и эстетической программой «Перевала». В монографии Г.А. Белой «Дон-Кихоты 1920-х гг.: «Перевал» и судьба его идей» дается оценка И.И. Катаева не только как одного из ведущих прозаиков, автора программных произведений содружества, но и теоретика «Перевала» [64: 16-17]. Приняв эту установку как исходную, попытаемся выявить основные составляющие катаевской эстетической концепции и рассмотреть вопрос о соотношении художественного творчества И.И. Катаева и теоретических положений «Перевала». Эстетическая позиция «Перевала», не в последнюю очередь, определившая ту эстетическую целостность видения, которая оформилась у самого И.И. Катаева к моменту создания им своих лучших рассказов и повестей 1926-1928 гг., отчетливо проявилась в программных заявлениях литературного содружества. В этом отношении для нас наибольший интерес представляет Декларация «Перевала» 1927 г., подписанная И.И. Катаевым в числе многих других писателей и поэтов, среди которых значатся имена М. Пришвина, Б. Губера, Н. Зарудина, Дж. Алтаузена, Е. Вихрева, Д. Кедрина, А. Саргиджана (С. Бородина), А. Платонова, А. Караваевой, А. Малышкина и др. Все положения данной декларации сохраняли свою актуальность вплоть до роспуска литературного содружества в 1932 г. Кроме того, в тексте декларации отсутствует терминология, сложившаяся в ходе позднейшей литературной полемики («моцартианство», «сальеризм») и характеризующая 27 главным образом стиль и категории литературно-критического крыла «Перевала». Следует выявить ряд основополагающих аспектов декларации, которые, на наш взгляд, наиболее репрезентативны для характеристики творческой индивидуальности И.И. Катаева. - признание автономности искусства, как особого способа познания действительности и особого вида деятельности и вытекающее из этого требование творческой свободы художника; - принципиально заявленная полемика с эстетической позицией ВАПП (Всероссийской ассоциацией пролетарских писателей), Леф (Левого фронта искусства) и конструктивизма; - признание необходимости органического сочетания «социального заказа» с творческой индивидуальностью писателя; - первостепенное значение вопросов преемственности и культуры, вопросов овладения мастерством и нахождение эстетических источников, наиболее близких и родственных той или иной писательской индивидуальности»; - провозглашение своей «единственной художественной традицией» «реалистическое изображение жизни», которое «исходит из богатейшего литературного наследства русской и мировой классической литературы»; - неприятие «Перевалом» «формалистского бряцания», которое было, по мнению перевальцев, своего рода бегством от своей «внутренней темы» и прикрытием «отчужденности от революции»; - создание «действительно культурной, действительно общественной и художественной писательской среды», своего рода художественного центра, вокруг которого «сохраняя творчески самостоятельные черты», объединились бы «все жизнедеятельные» писатели [94: 58-61]. Как видим, традиционные утверждающая культурные часть рамки, декларации обеспечивающие укладывается в непрерывность 28 литературного развития, при условии сохранения творческой свободы, однако, при том, что художник понимает и принимает изменившиеся и возросшие ожидания аудитории. Наиболее сильная сторона перевальских установок - в пафосе отрицания складывающейся системы регламентации литературного процесса. Критика «идеологического построения» ВАППа, которое, по мнению перевальцев, привело к дискредитации самого понятия «пролетарский писатель», ставшего синонимом «бескрылого направленчества, архаической агитки и художественной беспомощности» [97: 60], безусловно, стала ядром эстетической декларации «Перевала», обусловила главный пафос этого выступления и поставило группу в самый центр ожесточенной литературной борьбы. Поэтому литературная полемика определила не только содержание программных документов перевальцев, она во многом определила структуру художественного мышления писателей «Перевала». В частности, произведения перевальских прозаиков не только были оценены критикой как иллюстрации декларативных выступлений «Перевала», но и самими писателями рассматривались как ответ рационализму, «левачеству», «формализму» пролетарской литературы. «Полемический способ существования мысли, - писала Г.А. Белая, обусловил <…> остроту перевальской позиции и ее подспудную ориентированность на спор и возражения» [64: 8-9]. По справедливому замечанию исследовательницы, полемикой обусловлена диалогическая форма литературно-критических книг А.З. Лежнева «Разговор в сердцах» и Д. Горбова «Поиски Галатеи», а также форма памфлета и фельетона книги А.К. Воронского «Мистер Бритлинг пьет чашу до дна». Отзвуки литературных дискуссий в 1920-е гг. получили своеобразное преломление в художественной прозе И.И. Катаева и его литературной публицистике, относящейся к началу 1930-х гг. - «Искусство на пороге социализма» (1932), «Искусство социалистического народа» (1936). Оба текста первоначально представляли собой выступления писателя: первое – на 29 I Пленуме Оргкомитета Союза советских писателей в октябре 1932 г., второе – на общем собрании московских писателей 31 марта 1936 г. Выраженное публицистическое начало декларировало принципиальную связь установок писателя с предыдущим «перевальским» периодом. В тексте выступления «Искусство на пороге социализма» воспроизводится достаточно большой фрагмент из его неопубликованной статьи 1929 г. «Об искусстве и грядущем человеке», то есть относящийся к моменту наибольшего оживления дискуссии «Перевала» и ВАПП. Примечательно, что данный фрагмент, построенный в форме риторических вопросов к невидимому собеседнику, вновь в качестве «синтетического культурного идеала» выдвинул образ «полноценного и полнокровного человека», связанного со всей предшествующей историей народа: «Культурный идеал эпохи надо черпать <…> из всего океана жизни, из прошлых эпох, <…> и - больше всего, раньше всего – из наличных, действующих духовных накоплений, растворенных в недрах сегодняшних народных масс» [50: 483]. Этот образ составил основу перевальской концепции гуманизма, которая вызывала острую критику со стороны ВАПП, поскольку именно гуманистическая концепция гармонической творческой личности, выработанная «Перевалом», перечеркивала рапповскую теорию «живого человека», главным критерием в изображении которого был классовый подход. Декларация литературного «Перевала» развития фиксировала 1920-х гг., причины выявляла неблагополучия точное понимание перевальцами всей сложности ситуации и намечала пути преодоления кризиса литературы. Так, «Перевал» «со всей резкостью» поставил вопрос о необходимости органического сочетания «социального заказа» и творческой индивидуальности писателя. Этический критерий – «революционная совесть писателя» должен был, по мысли перевальцев, стать основным при подходе к понятию «социальный заказ». Поэтому декларация провозглашала: «В 30 искусстве, где элементы художественного чувства подчиняют себе все остальные, не должно быть разрыва между «социальным заказом» и внутренней настроенностью личности автора» [94: 59]. В своем программном документе перевальцы высказались «против всяких попыток схематизации человека, против всякого упрощенчества, мертвящей стандартизации, против какого-либо снижения писательской личности во имя мелкого бытовизма» [94: 58]. «Мелкому бытовизму» и «мертвящей схематизации человека» писатели «Перевала» противопоставили понимание «неисчерпаемого многообразия человеческой личности» и сложность творческого процесса раскрытия внутреннего мира человека. Основное свойство подлинного писателя, по их мнению, – «отыскание и открытие в жизни все новых и новых оттенков мысли и чувства» [94: 58]. Для И.И. Катаева установка на «полноценного и полнокровного человека» являлась неким мерилом реалий современной ему действительности и искусства. Интерес писателя к проблеме гуманизма был продиктован глубинными внутренними побуждениями и, придя в «Перевал», он продолжил художественное исследование этой, весьма противоречиво трактуемой в 1920-е гг., проблемы. Известно, что в середине 1920-х гг. И.И. Катаев по поручению редакции журнала «Красная новь» работал над литературнокритической статьей «Тема гуманизма в творчестве Барбюса, Роллана, Горького» [78: 143]. Статья не была напечатана, но, по-видимому, ее фрагменты вошли в выступление писателя о задачах современной литературы «Искусство на пороге социализма». В своей речи И.И. Катаев вновь возвращается к линиям давнего спора: «Нас, бывших перевальцев, хотели вычеркнуть из литературы за одно только слово: «гуманизм». Никогда мы сами не думали о нем как о христианском всепрощении, как о профессорском либерализме, как о классовом примирении» [50: 487]. Исчерпывающе и кратко выразил свое понимание 31 перевальского гуманизма А.К. Воронский: «Гуманизм», «христианство» перевальцев состоит в том, что они в отличие от Лефа, конструктивистов, от многих попутчиков полагают, что социализм есть не только господство над природой и вещами, но и переустройство человеческих отношений на новых общественных началах» [95]. Творческая задача самого И.И. Катаева, заявленная в человеческим оболочки и его речи - содержанием «наполнить все организационные ныне формы чувством, радостью, подготовляемые нового живым материальные общества» [50: 479], последовательно претворенная в его лучших повестях и рассказах, вытекала из глубоко гуманистической мысли о том, что нельзя рассматривать так называемые «личные» «вопросы, конфликты, потрясения» как «узко личные драмы», так как они – «отдельные волны штурмующего моря новых общественных отношений» [50: 484]. Присущее писателю чувство значимости и насущности происходящих событий, представление о том, что «ныне живущее интереснее всего, всего прелестней», и поэтому нуждается в немедленной художественной фиксации в силу своей изменчивости и неповторимости, становится основанием для формирования специфического импрессионистического стиля, романтического пафоса прозы И.И. Катаева, продиктованного полемическим неприятием «равнодушного, флегматичного искусства» [50: 484], которое проистекало, по мысли писателя, из прагматизма, литературного «делячества» и «бескрылого цивилизаторства», а не из-за отсутствия таланта или мастерства. Результатом этих явлений в литературе, по мнению писателя, становятся серые «большие полотна», «вялое бытописательство». Критика 1920-х гг. в качестве художественной декларации гуманизма рассматривала повесть И.И. Катаева «Сердце» (1928). На наш взгляд, впервые в рамках творчества И.И. Катаева художественное исследование становления антигуманистической концепции человека и спор с ней осуществляются в недооцененной прижизненной критикой и современными 32 исследователями повести «Поэт» по (1928), времени написания предшествующей «Сердцу». Именно в «Поэте» реализовано представление И.И. Катаева о типе творческой личности, возникающей в новой революционной действительности, характерной особенностью которой становится трагический внутренний конфликт, обусловленный противоречиями времени. Поэтому повесть может быть рассмотрена в плане развития мысли писателя о соотношении личного и общественного в современной ему действительности, трагических противоречиях между творческой личностью и жестким диктатом официального искусства. Декларация «Перевала» определила тип художнической индивидуальности, которому в большинстве своем принадлежали члены содружества и И.И. Катаев в том числе. Отличительной чертой этого поколения писателей была «органическая принадлежность к революции», поскольку, будучи участниками революционных событий и гражданской войны, именно в революции многие получили свое «общественное воспитание» [94: 58]. Вместе с тем этот тип «связывает свою работу с лучшими достижениями художественной мысли человечества», «исходит из богатейшего наследства русской и мировой классической литературы» [94: 58-59]. То есть данный тип писателя, совмещая в себе противоречивые начала: с одной стороны революционность, с другой - традиционность в оценке предшествующей культуры, представлял собой синтетический тип, характеризующийся особым мировоззрением. Между тем современная литературная ситуация, по оценке перевальцев, порождала тип художника, который вынужден отказываться от собственной «органической» «внутренней темы», поскольку лишен возможности прямо высказать свое мнение, прямо проявлять творческую индивидуальность. Уход в «формализм» в этом отношении является следствием деформации сознания художника. Эта форма внутренней, скрытой полемики не принималась «Перевалом». В этом отношении проза И.И. Катаева представляет собой 33 один из путей «легальной», по возможности открытой полемики с установками ВАППа. Концепция художника, выработанная «Перевалом», диктовала в качестве насущной задачи борьбу с разного рода деформациями сознания художника. «Искренность», «органичность» творчества становятся ведущими критериями художественности произведения и были вызваны еще и таким явлением, как литературная мода на западно-европейские литературные образцы. В своих статьях И.И. Катаев назвал это явление художественным снобизмом, выражающемся в следующем: «холодное щегольство фразой, ловким, но мелким афоризмом, эффектной метафорой – формальное новаторство ради новаторства, эстетская переусложненность, писание «под Пруста», «под Джойса», «под Дос-Пассоса», без серьезного проникновения в эти действительно интересные искания, а исключительно ради моды и эпатации общественного мнения» [50: 488]. Таким образом, И.И. Катаев одинаково не приемлет и классовый подход к человеку, свойственный РАППу, регламентирующий творческий процесс, и формальное псевдоноваторство «художественных снобов». Как видим эстетические принципы «Перевала» складывались с глубоким пониманием специфики социокультурной ситуации 1920-х гг., одной из особенностей которой, по мнению М.М. Голубкова, была жестко сформулированная необходимость выбора типа творческого поведения. «Писатель или литератор, – пишет М.М. Голубков, – принадлежащий как той, так и другой культуре, должен был выбирать, и, определяя свой тип бытового и литературного поведения, он неизбежно выбирал семиотически значимое амплуа» [85: 85]. «Перевал» одинаково отрицает «бескрылое направленчество», «архаическую агитку» пролетарских писателей и «формалистское бряцание», «внешние агитационные выкрики» Лефа [94: 59, 60] и связанное с ними амплуа «неистовых ревнителей». Перевальцам современный исследователь вслед за Г.А. Белой отводит роль Дон-Кихотов 34 [85: 87]. Комплекс «донкихотства» перевальцев Г.А. Белая выявляет в связи с выступлением И.И. Катаева на I Пленуме Оргкомитета советских писателей в 1933 г. Составляющими этого комплекса, по ее мнению, являются разрыв «Перевала» с исторической реальностью 1920-х гг., утопизм и «неумеренная романтика» высказываний о проблемах «нового человека», «нового искусства». Несмотря на «сложность романтического утопизма» писателя [64: 19], исследовательнице приходится признать ограниченность позиции И.И. Катаева в неоднозначной действительности 1920-х гг. На наш взгляд, прижизненная критика и современные исследования игнорируют тот факт, что «неумеренная романтика» высказываний писателя является лишь частью комплекса «донкихотства», сложность катаевского «романтического утопизма» проявляется в том, что он реализуется с помощью маски «нарочитой наивности»: «Вопросы, поставленные там, изложены с большой долей наивности, отчасти нарочитой, а как я вижу сейчас, при перечтении, - и невольной. Но может быть, как раз в силу этой наивности мне удалось, как будто бы выдвинуть одну важную проблему достаточно просто и решительно» [50: 479]. Маской «нарочитой наивности» обусловлен ряд особенностей поэтики И.И. Катаева, в том числе сложно структурированный подтекст, ассоциативность мышления, подчиняющих себе все уровни повествовательной структуры от системы персонажей и связанных с ними сюжетных линий, до пространственно-временных и стилевых аспектов. Вместе с тем мысль о неизбежном искажении наследия писателя иногда сознательном, иногда невольном волнует И.И. Катаева. Он говорит об этом и в лучших своих произведениях, и в выступлении «Искусство на пороге социализма»: «Нас (перевальцев – Р.Л.) неправильно поняли, сочли нужным не понять» [50: 487]. Невозможность адекватного восприятия художника современниками связана с устойчивым в творчестве писателя мотивом молчания / прерванной речи. Так, например, поэт Гулевич, герой 35 повести «Поэт», создавший поэму, свое «генеральное произведение», призванное пронести «в века бедное имя автора» [50: 51], впоследствии отказывается печатать, мотивируя тем, что эта вещь не для печати. В спорах о литературе никак не отвечает на нападки малограмотных спорщиков. В повести «Сердце» коммунист-кооператор Журавлев, ведущий постоянный внутренний монолог, обращенный к современникам, коллегам, полный «пафоса и нежности», умирает в момент публичного выступления. Прерывается трагическим известием и речь героя рассказа «Молоко». Так возникает картина всеобщего молчания, невозможности прямого волеизъявления, невозможности подлинного диалога, отсюда уход в многозначность, отсутствие прямого авторского высказывания, недосказанность, символика, шифр, намеки. Таковы, на наш взгляд, причины появления маски «нарочитой наивности», так как она оказалась единственно возможной для писателя, чтобы прямо поставить наиболее болезненные вопросы. Так же, как и в случае с М.М. Зощенко, которого идентифицировали с его литературной маской, критика и прижизненная, и позднейшая ассоциировала И.И. Катаева с наивным, утопически настроенным романтиком. В связи с этим нуждается в некотором уточнении тезис о преимущественно реалистическом методе произведений перевальцев. Художественная практика прозаиков «Перевала», таких как И.И. Катаев, Н.Н. Зарудин, П. Слетов, фиксирует стремление писателей к синтезу художественных форм и понимание необходимости более широкого взгляда на реализм. Об этом же свидетельствуют идеи, развитые критиком и теоретиком «Перевала» А.К. Воронским, которые существенно корректировали прямолинейность декларативной установки. Проблема творческого метода «Перевала» достаточно развернуто предстает в трудах А.К. Воронского: «Искусство как познание жизни и современность (к вопросу о наших разногласиях)» (1923) и «Искусство видеть мир (о новом 36 реализме)» (1928), в которых он пишет: «Художник познает жизнь, но не копирует ее, не делает снимков; он не фотограф; он перевоплощает ее «всезрящими очами своего чувства» [77: 62]; «Наше сознание возникает там, где есть ощутительные жизненные диссонансы; сигнализируя о них, оно требует их устранения. Искусство прекрасно тем, что оно освобождает нас от этого чувства дисгармонии, с которым всегда связана рассудочная деятельность. Оно восстанавливает то равновесие, конечно, относительно, между нами и средой, какое обычно в рассудительной деятельности нарушено. Содержание эстетического чувства сводится, прежде всего, к этому ощущению восстановленного равновесия, хотя и не исчерпывается им…» [77: 63]. В связи с этим он закономерно приходит к мысли о типе художественной индивидуальности, которая должна быть востребована в современной литературе: «Художник-наблюдатель должен потесниться и дать место художнику-творцу. Художник должен не только изображать, но и преображать свой материал» [95]. По А.К. Воронскому, современностью востребованы гибкие, подвижные вещи, нужна гипербола, художественное преувеличение, отчетливая, заостренная типичность характеров, нужна едкая насмешка, сатира, резкое обобщение, контрасты, «гоголевское возведение жизни в «перл создания», обличение и т. д. «Нам нужны, – пишет критик, – более динамичные, острые образы, сравнения, стиль и манера, обращение писателя к широким читательским кругам, свежесть и самостоятельность. Время требует этих поворотов. Старомодная, пресная литература будет сметена. Я останавливаюсь на всех этих вопросах потому, что, к сожалению, наша критическая марксистская литература не уделяет им достаточного внимания и практически мало помогает писателю в поисках нового жанра и формы» [95]. По А.К. Воронскому, стремление художника открыть «подлинные образы мира» лежит в основе особого видения. Отстаивая субъективные, интуитивные возможности творчества, концепция А.К. Воронского утверждает объективный характер настоящего искусства. 37 Согласно этой концепции в «особые органические периоды», то есть в периоды относительной общественной стабильности возможно прозрение в явлениях реальной жизни их подлинного подчас скрытого смысла. Постижение подлинных образов мира доступно свежему непосредственному взгляду, который видит мир «в новом освещении, в самом обыкновенном, примелькавшемся он вдруг находит свойства и качества, какие он никогда не находил» [77: 540, 568]. Как видим, эстетическая концепция А.К. Воронского оказывается близка и созвучна собственным поискам И.И. Катаева и находит выражение в активности его авторской позиции, формирующей узнаваемую стилевую манеру, преломляющую действительность особым «наивным» сознанием. Итак, следует признать, что концепция гуманизма «Перевала» была сформирована под непосредственным влиянием творческого видения действительности, органически присущего И.И. Катаеву и им сознательно культивируемого. Категория «гуманизм», как это следует из литературной публицистики И.И. Катаева, вмещала в себя целый спектр понятий, на которых базировались и эстетическая концепция «Перевала», и творческие устремления самого писателя. С категорией гуманизма связаны «синтетический культурный идеал эпохи», выработанный писателем и принятый другими перевальцами – «полноценная и полнокровная личность», открытость всему достоянию отечественной и мировой культуры, признание суверенности искусства и права художника на свободное творчество. Понимание И.И. Катаевым многогранности и многообразия проявлений человеческой личности стало основой для становления перевальской концепции гармонического непрекращающейся человека литературной и формировалось полемики, в определенным условиях образом повлиявшей на те или иные стороны поэтики писателя. Вопрос о целенаправленном влиянии эстетики «Перевала» на творчество И.И. Катаева может быть снят в силу того, что «Перевал», 38 декларировавший свободу личности художника, не ставил целей влиять на творчество, каким-нибудь образом ограничивая его, а стремился помочь полнее появиться творческой индивидуальности писателя. Свою задачу эта организация видела в «создании действительно культурной, действительно общественной и художественной писательской среды», своего рода художественного центра, вокруг которого «сохраняя творчески самостоятельные черты», объединились бы «все жизнедеятельные» писатели СССР [94: 61]. Перевальцами уже в 1920-е гг. была осуществлена модель такого художественного центра. Известно, что при деятельном участии А.К. Воронского были созданы журнал «Красная новь», редактором которого он был в 1921-1927 гг., издательство “Круг”, возглавляемое им в те же годы, в котором были напечатаны наиболее интересные и значительные произведения не только самих перевальцев, но и многих писателейпопутчиков. Эта продуктивная деятельность соответствовала тем положениям декларации «Перевала», в которых говорится о том, что «перевальцы не отказываются от общения с теми писателями, которые еще окончательно не определили своего пути, ищут его и стараются творчески приблизиться к революции» [94: 59]. Мысль об организации литературного дела по принципам, исходящим, прежде всего из признания особой специфики искусства и творческой свободы художника, приводит к выстраиванию таких взаимоотношений, при которых литературная критика по отношению к писателю – не инструмент давления, одергивания и «запугивания», а инстанция, обеспечивающая творческий рост, приобщение к общекультурным идеалам, создающая необходимые условия для свободного творческого процесса. Таким образом «Перевал», демонстрируя оптимальную модель организации литературного процесса, противостоял идеологизированной, бюрократической структуре ВАППа. А.К. Воронский как создатель, идеолог и теоретик «Перевала», вполне осознанно выстраивал свою деятельность, предлагая возможный путь развития новой литературы. 39 Принципиальное отличие «Перевала» и ВАПП в том, что он не ставил целью выдать в определенные сроки художественную продукцию или предъявить миру «своего» Л.Н. Толстого или А.С. Пушкина. Часто «Перевал» упрекают в том, что он не дал русской литературе сколько-нибудь крупного художника, что большинство перевальцев так и остались в своей эпохе. Главная задача «Перевала» – создать культурную творческую среду, культурный слой, из которого, по мнению И.И. Катаева, прорастет потом «изящество мысли». Участие писателя в деятельности литературного содружества «Перевал», безусловно, сказалось на своеобразии его творческого метода. Живейшие споры, полемика вокруг этой группы и критика самого «Перевала» обусловлены литературной ситуацией 1920-х гг., тем непосредственным контекстом литературы того времени, который во многом предопределил искания прозы этих лет. Непосредственные переклички, общность тематики, наличие единого стилевого качества прозы 1920-х гг. и, как следствие этого, тяготение к неомифологической семантике, орнаментальности прозы, к определенному типу героя все это обусловило единство жанрово-стилевых поисков литературы 1920-х гг. Не избежал этой общности тематического и стилевого качества и И.И. Катаев. В этой связи выявление круга литературных традиций представляется актуальным, что и предпринято в следующем параграфе. 40 1. 2. СИМВОЛИСТСКИЙ КОНТЕКСТ ТВОРЧЕСТВА И.И. КАТАЕВА Одним из конституирующих факторов творчества И.И. Катаева 1920-х гг. становится литературная традиция символизма, понимаемого к концу 1910-х гг. уже не как целостного направления, но в большей мере как принципа творчества. Отталкивание и в известной степени преемственность с символизмом в таком понимании вновь актуализируется в начале 1920-х гг. Современные исследователи рассматривают этот период как этап «латентного» состояния символизма, имеющий, однако свою эволюцию (О. Клинг), исходным моментом которой является существование символизма в еще одной плоскости – в качестве генетического присутствия в возникшем в 1910-е гг. постсимволизме. В частности в концепции И.П. Смирнова период с 1910-х гг. и до конца 1930-х гг. ХХ в. связан с развитием постсимволизма, проходящего аналитическую (1910-е гг.) и синтетическую (начиная с 1920-х гг.) стадии развития [154]. При этом характерной чертой постсимволистской культуры становится множественность ее ветвей и несводимость к какому-то отдельному литературному направлению. В связи с этим в сфере постсимволизма оказываются и акмеизм, и футуризм, и ранний соцреализм. Таким образом, в настоящее время под постсимволизмом принято понимать культурную рефлексию и интерпретацию наследия символизма в различных течениях и жанрах следующих за ним десятилетий. Такой широкий взгляд на сущность и границы постсимволизма позволяет рассматривать прозу И.И. Катаева 1920-1930 гг. в русле поисков новой литературности, определяемой неотрадиционализма и параллельными авангарда, как некую процессами переходную усиления форму, возникающую в сложном соотнесении между художественными системами постсимволизма и соцреализма. По мнению большинства исследователей, в литературном развитии 1920-1930-х гг. рубежным следует считать 1921 г., когда литература, 41 освободившись от диктата поэзии, окончательно повернулась к прозе. Еще до революции критика заговорила о неореализме - реализме, впитавшем некоторые черты модернистских направлений. В 1920-е гг. был возобновлен разговор о синтетизме и новом реализме как синтезе реализма с символизмом, «романтизмом» и т.д. при доминировании реализма. Эта проблематика затрагивалась в статьях В. Брюсова, Е. Замятина, А. Воронского, В. Полонского, А. Лежнева, А. Луначарского и др. А. Селивановский утверждал в начале 1930-х гг., что «пролетарская революция ускорила катастрофический крах символизма», лишила его возможности иметь своих наследников» [148: 266]. По мнению рапповского критика, «советское искусство развивалось, перешагнув через труп упадочного буржуазного искусства предреволюционных времен. Она обрекла на эпигонство таких недавних столпов символизма, как Сологуб и Бальмонт. Она с особой ясностью обнаружила всю эфемерность и реакционность художественной концепции символизма» [148: 59]. Однако еще в 1924 г. Е. Замятин, размышляя о смене литературных эпох, писал, что новая реальность - не мир Эвклида, а мир Эйнштейна – подвластна новому искусству, возникающему на пересечении двух параллельных линий – реализма и символизма [102: 60]. О неореализме, своеобразно сочетающем романтику, реализм и символизм, писал А.К. Воронский [77], оказавший решающее влияние на содержание эстетических деклараций «Перевала». В 1914 г. сами символисты осознали конец символизма как школы, но утверждали оправданность символизма как мироотношения и как принципа творчества. Символизм, по их мнению, выявлял одну из особенностей всякого подлинного искусства, и поэтому он способен к синтезу с любым творческим методом. О «реалистическом символизме» писал Вяч. Иванов, утверждая, произведение что он «возводит воспринимающего художественное a realibus ad realiora – от низшей действительности к реальности реальнейшей» [106]. По мнению М.А. Волошина, быть 42 символистом – значит, в обыденном явлении жизни провидеть вечное, и поэтому символизм неизбежно зиждется на реализме и не может существовать без опоры на него; неореализм (к которому М.А. Волошин причисляет творчество А. Белого, М.А. Кузмина, А. М. Ремизова, А.Н. Толстого) есть синтез с символизмом [65]. Ф. Сологуб считал, что образсимвол должен обладать двойной точностью: «он должен и сам быть точным изображением, кроме того, он должен способствовать отражению наиболее общего миропонимания, свойственного данному времени. Из этого следует, конечно, что наиболее законной формой символического искусства является реализм» [66]. Синтез символической углубленности образа с реалистическим мировосприятием видел в неореализме Р.В. ИвановРазумник [67], лидер и организатор Вольной Философской Ассоциации (Вольфилы). Таким образом, символизм, стремясь к созданию универсальной картины мира, выработал продуктивные принципы поэтики, плодотворно взаимодействующие с реалистической традицией, порождая пограничные с точки зрения метода художественные явления. В этом отношении произведения И.И. Катаева 1920-х гг. могут быть рассмотрены с позиции художественного «синтетизма» (Е.И. Замятин), как один из вариантов экспериментальной прозы, для которой оказалась близка эстетическая концепция символизма. Декларативно заявленная импрессионистичность образов установка была ранних сочувственно символистов воспринята на И.И. Катаевым. Этот аспект поэтики творчества писателя осознавался уже его современниками, об этом, в частности, может свидетельствовать следующий факт. Н.Н. Зарудин, один из членов литературного содружества «Перевал», близкий друг И.И. Катаева, характеризуя его произведения, писал о социальной природе его творчества, сочетающейся с особой импрессионистичностью, которая выразилась в стремлении запечатлеть 43 эпоху в самых будничных и ускользающих проявлениях. Вместе с тем он отмечал, что «образная публицистичность» И.И. Катаева всегда стремится не к легковесному скольжению по поверхности. В «злобе дня» он мог уловить ее философский, вечный, общечеловеческий смысл [100: 3-29]. Именно это свойство творчества И.И. Катаева, по мнению его современника, позволило изобразить переломный момент в жизни деревни, избежав упрощения и схематизации, поднять самые трепещущие вопросы современной ему действительности. Разумеется, поиски символической подоплеки бытовых реалий не были характерны исключительно для символизма. Однако именно символисты оказались выразителями той «мифологии повседневности» (термин Ю.М. Лотмана), которая пронизывала культурное сознание начала века. Вполне закономерно, что творчество зрелого А.А. Блока становится для И.И. Катаева прообразом нового искусства. В произведениях начинает возникать двойственный статус, свойственный в определенной степени поэтике символизма, воспринятой главным образом через творчество А.А. Блока. В лучших рассказах и повестях И.И. Катаева 1920-х гг. символистский, а именно «блоковский» пласт пронизывает все компоненты текста, представляя самые разнообразные виды цитирования от прямых введений текста А.А. Блока до тончайших, но легко реконструируемых аллюзий и реминисценций. «Катаев и Блок» – одна из основных тем, выясняющих отношение прозаика-перевальца, активного участника литературного процесса 19201930-х гг., к традиции крупнейшего поэта-символиста начала ХХ в. Рецепция блоковского творчества, на наш взгляд, помогла И.И. Катаеву сформировать многие кардинальные стороны его воззрений, создать ряд важных образов собственного творчества. Общеизвестно, что большинство писателей и поэтов 1920-1930-х гг. рассматривало А.А. Блока как одного из своих основных предшественников. 44 И.И. Катаева, однако, отличает особое отношение к формам наследования творчества крупнейшего лирика начала ХХ в. «Блоковское» в творчестве И.И. Катаева до сих пор не становилось объектом специального исследования, между тем взаимодействие художественных текстов писателей может быть осмыслено как своеобразный культурный диалог. Выделив основные этапы этой эволюции, постараемся рецепцию А.А. Блока на каждом из таких этапов представить в виде целостной системы, определяемой общим характером творчества И.И. Катаева данного периода. Смена этапов рецепции А.А. Блока должна дать, на наш взгляд, представление о важных сторонах творческого пути писателя, определить характер его эстетических исканий. Необходимо учесть, что каждый объект размышлений писателя, даже самый отвлеченный, принимает в его сознании, так сказать, образоподобный, сенсорно-представимый характер. Такими «символами категориями» (Д.Е. Максимов) становятся и сами имена писателей. Многочисленные цитаты, реминисценции, присутствующие не только в статьях И.И. Катаева о литературе, но и введенные им в художественные тексты, должны быть осмыслены не как «зеркальное» отражение «влияний», а скорее как знаки той традиции, которую они представляют, «ключ к шифру» (А.А. Блок) – тому языку, на котором их можно понять. Особенно следует подчеркнуть, что механизм введения «чужого слова» в творчестве И.И. Катаева во многом следует аналогичному явлению в творчестве позднего А.А. Блока, и восходит одновременно к нескольким разным источникам, то есть по своей сути полигенетично, получая свой общий смысл лишь в отношении ко всем им и во всем объеме своих внутритекстовых связей. З.Г. Минц акцентирует роль полигенезиса в понимании художественного смысла цитаты у А.А. Блока, поскольку «это – один из источников создания той «бездонной многозначности» произведения, которую мы постоянно ощущаем в его лирике» [129: 27]. «Блоковское» в творчестве И.И. Катаева выразилось 45 введением в повествование отдельных мотивов, связанных с видением мира, присущим А.А. Блоку, а также общей стилевой установкой на мифологизм. Показательно, что начальный период литературной деятельности И.И. Катаева, ограниченный 1920-1926 гг. и представленный преимущественно стихотворными опытами, обнаруживает некоторые моменты соотнесенности с блоковской поэтикой. Стихотворения И.И. Катаева публиковались в 19201926-х гг. на страницах армейской газеты «Красный труд» («Нефтерабочий»), в «Тамбовской правде» и ее литературном приложении. С середины 1921 г. в журналах «Кузница», «Октябрь», «Город и деревня». Некоторые стихи опубликованы в коллективных сборниках: «На фронте крови и труда» (г. Грозный, 1920), «ЛЁТ: Авио-стихи» (М., 1923), «Под пятикрылой звездой» (М., 1923). Стихотворения пролетарской И.И. романтической Катаева лирики, передают характерные выразившиеся в черты преобладании приподнятой, торжественной интонации, героико-романтического начала. В целом он развивает идеи и темы, свойственные настроению эпохи начала двадцатых годов. Тяготели к высокой романтической традиции и пролетарские поэты М.П. Герасимов, В.Д. Александровский, В.Т. Кириллов, оказавшие влияние на поэтику литературной группы «Кузница», членом которой, еще, будучи в армии стал И.И. Катаев. Основные темы «Кузницы» торжество света и правды, мировой революции - требовали выбора средств поэтики исключительно патетических. Одним из свидетельств эпохи можно назвать стихотворение «Два года» (1920), проникнутое стремлением к всеобщей гармонии – «вселенской весне». Путь к обретению которой лежит через войну, революционное насилие. Образ «граней» символизирует дисгармонию жизни. «Мы рушим проклятые грани к просторам вселенской весны». В этой борьбе обретается «крепкое содружество масс», но уже тогда Катаев понимает, что эти законы не универсальны. «Мы время помянем, как друга!» – герой расстается с ушедшей эпохой. Осознание невозвратности 46 времени военного коммунизма не перерастает в трагический конфликт с новой жизнью общества, которая многими революционными романтиками был воспринята как эпоха замедленного движения революции. В стихотворении «Война» (1926), опубликованном в № 4 журнала «Город и деревня» за 1926 г., мотив «граней» вновь возникает, как примета дисгармонии мира. Однако в нем утверждается возможность преодоления противоречий с помощью мирного труда – «плуг распашет грани». Автор пытается понять, причины, принуждающие человека взять в руки ружье и пробуждающее жажду крови даже в самом «кротком»: это «зов земли», «звериное» начало. Наивная вера в то, что с победой идеи социализма во всем мире - «все будет наше», не позволяет принять такие причины войны, как «жажда чужих территорий», жажда обогащения. Целое поколение мечтает не о мирном будущем, а о «холмах Европы» и грохоте «неслыханных орудий». Каждый – литейщик, поэт, грузчик – готов покинуть привычное, близкое, любимое ради «боев грядущих». Заглавие стихотворения «Ночной марш» (1921), напечатанного в журнале «Кузница» [2: 5-6] содержит образы, формирующие антивоенный пафос, пронизывающий стихотворение. Метафора «ночь – мертвый сон смерть», реализующаяся в картине «мертвого города», предшествует мысли о гибельном шествии в никуда. Неожиданно «медный звук» прорезывает тишину ночи. Характерный лейтмотив трубного звука на фоне мертвящей тишины можно сопоставить с трубами Апокалипсиса, возвестившими о конце света. Целая лавина звуков – «медные песни», «звонкая нота фанфар», «пьяные трубы», «бодрый крик» «четко-грубого» голоса, гудение земли, металлический топот ног. В финале идея смерти и металлическое бряцание маршевого шествия объединяются: Кто-то в пудовых Чугунных калошах Шагает вперед 47 По гробам, Сгибаясь под бременем ноши. Движение вперед «по гробам» мучительно – заставляет сгибаться «под бременем ноши», финал воспринимается как нравственное осуждение такого марша. Позиция автора далека от поэтизации революционного насилия, романтизации войны. Тема памяти героев войны и жертв голода развита в стихотворениях «Два года», «Памятник» (1921) [6: 43]. Памятник – вечное напоминание о «тоске смертей», олицетворение страшного опыта народа. Как отклик на разочарованность поэтов-романтиков наступившей эпохой НЭПа звучит стихотворение «Дом» (1925) [7: 41]. Это стихотворение фиксирует переход от романтики революционной эпохи к возрождению мирной жизни, определяет дальнейшее направление творческих поисков писателя и появление главной темы его творчества. Руины домов несут на себе память прошлых лет: на самом грустном «расстрелянном доме» «октябрьские пули отпечатали первый декрет». Несмотря на общий патетико-революционный пафос, внешне соотносимый с тематической направленностью поэзии литературных группировок 1920-х гг., в лирике И.И. Катаева заметно неоднозначное отношение действительности, понимание сложности, к «отображению» неоднозначности истории и действительности, стремление к гармонизирующему, созидательному идеалу и в то же время понимание ценности «пустяков, мгновений, видимого беспорядка жизни», внимание к мелочам жизни, быта, поскольку именно в них заключена «предметная истина» [50: 401]. Пролетарская поэзия как переходный этап между авангардом 1910-х гг. и соцреализмом запечатлела, с одной стороны, исчерпанность потенциала авангардной системы, с другой - стала удобной платформой для адаптации политических идей и одновременно демонстрировала процесс усвоения этих идей массами. Основные черты художественной системы пролетарской 48 поэзии связаны с представлением о мире смыслов, как продолжении психофизической действительности, ведущем к тому, что литературные тексты оказываются самой жизнью. Вместе с тем литературные изыски, утонченность формы представляются ненужными, а поэтическое творчество не отличается от всякой другой формы труда и призвано, наряду с политикой, экономикой стать «орудием борьбы» и «воспитательным средством» пролетариата. Как вариант реализации возможностей постсимволистской системы пролетарская культура не могла отвечать установкам И.И. Катаева. В зрелых своих произведениях И.И. Катаев воспроизводит действительность как «слитное» «струение» многообразных потоков жизни. Однако достаточно определенно звучит в его творчестве тоска по гармонии, подавляемая мыслью о том, что несовершенства жизни вытекают из содержания эпохи, поэтому так сильна установка на более счастливое грядущее. «Неприятие мира», трагизм мироощущения, характерные для поэзии А.А. Блока, у И.И. Катаева смягчены. Более того, отдельные моменты «неприятия мира», трагизма мироощущения, проступающие в ряде его стихотворений, отчетливо соотносятся с блоковскими мотивами. Период самоопределения И.И. Катаева вызывает комплекс проблем, связанный с пониманием творческого поведения художника, как поиска им жизненной правды, когда жизнь мыслится как нескончаемый эксперимент над самим собой. Тем самым уже начальный период самоопределения И.И. Катаева в известной мере и в то же время достаточно органично соотносится с литературными традициями как самого символизма, олицетворением которого для И.И. Катаева становится лирика А.А. Блока, так и со своеобразным к 1920-м гг. преломлением символизма в литературе этого времени. Соотнесенность отдельных черт поэтических опытов И.И. Катаева с символизмом и, в особенности, с литературным контекстом 1920-х гг. в еще 49 большей мере начинает проявляться на собственно прозаическом этапе его творчества. Помимо многочисленных свидетельств современников о глубокой привязанности писателя к поэзии А.А. Блока, И.И. Катаев пронизывает свои произведения признаниями: «Знаете Блока? Вообще отличный поэт» («Поэт», 1928). Или: «Блок… прелесть моя, вторая жизнь. Мы считали его своим, народным…» («Сердце», 1927). И.И. Катаев был не единственным, кому блоковское влияние открывало литературу XIX в. как целого. «Через Блока, - писал О.Э. Мандельштам, - мы видели и Пушкина, и Гете, и Боратынского, и Новалиса, но в новом порядке, ибо все они предстали нам как притоки несущейся вдаль русской поэзии, единой и неоскудевающей в вечном движении» [127: 175]. Именно такое восприятие, верно подмеченное поэтом, было характерно для самого А.А. Блока, прежде всего, он стремился уловить общий символический смысл явления, его чувственную музыку. Своеобразие такого подхода исследовательница теории и образного мира символизма Е.В. Ермилова объясняет «характерным для символизма (и искусства модерна в целом) отношением к именам и концепциям как к символам, или знакам, или даже аллегориям» [96: 138]. В поздней лирике А.А. Блока, а также в период создания статей о народе и интеллигенции факты действительности мыслятся не только как эмпирические, но и имеющие обобщенно-логическое значение. По З.Г. Минц, жизненные явления для А.А. Блока в этот период – отраженные и символическизамещающие знаки «духа эпохи» [131: 384]. В мире вечных возвратов в любом явлении настоящего просвечивают его прошедшие и будущие инкарнации. По А.А. Блоку мир полон соответствий, надо только уметь увидеть в бесчисленном мелькании «личин» истории и современности сквозящий в них лик мирового всеединства, воплощаемый в мифе. Но поэтому же и каждое единичное явление сигнализирует о бесчисленном множестве других, суть их подобие, символ. 50 Эта блоковская черта была, по видимому, дорога и близка И.И. Катаеву. О своей «привычке обобщать» он пишет Е. Вихреву и указывает на причину этой привычки: «Любопытно, какой бы «единый» и музыкальный смысл уловил бы в нонешнем лете А.А. Блок?». Далее в письме возникает образ «дождя, который замыслил и хочет вырастить на туманной, раскисшей земле что-то невиданное…» [78: 52]. Эта мимолетная фраза писателя свидетельствует о таких существенных моментах его творчества, как поиск единого, большого смысла в малом, определившем способ типизации от единичного к общему, о формировании общей картины мира, возникающей из образов «дождя», «земли», ростков «невиданного». Весьма тесно эти два момента смыкаются с мотивами символистской эстетики. Символическое искусство, по известному выражению Вяч. Иванова, должно изображать малое и делать его великим. Символ – основополагающее понятие, с помощью которого раскрывается «реальная сущность вещи» [106: 437]. Творческое наследие русского символизма как раз связано с последующей разработкой в литературе понятия «символа». Для зрелого И.И. Катаева особенно значимым предстает творчество А.А. Блока периода статей о народе и интеллигенции. Как убедительно показала З.Г. Минц, этот этап творческой эволюции Блока связан с усвоением элементов материалистической эстетики «шестидесятников», причем порой именно в ее самых крайних, «утилитарных» формулировках. Идеал народного искусства, в котором все цельно и нет противоречий «между человеком и природой», выдвинутый А.А. Блоком, определил содержание и концептуальность статей И.И. Катаева («Искусство на пороге социализма» и «Искусство социалистического народа»), в которых идет речь о том, что идеал «стихийной жизни» сменяется историческим идеалом «будущего», мечтой о гармонически сложном человеке «нового века», мыслями о роли искусства. 51 Одна из важнейших тем прозы И.И. Катаева, и особенно таких значимых произведений, как повести «Поэт» и «Сердце», связана с непростым выбором нового человека между полезным и прекрасным. Наибольшую остроту эта проблематика получает в русской классической литературе в художественной прозе и публицистике «шестидесятников». В творчестве А.А. Блока этот аспект развит в статье «Поэзия заговоров и заклинаний» (октябрь 1906 г.), в которой А.А. Блок выдвигает идеал народного искусства, в котором все цельно и нет противоречий между словом и делом («слово становится делом, обе стихии равноценны»), пользой и красотой: «В первобытной душе – польза и красота занимают одинаково почетные места. Они находятся в единстве и согласии между собой; союз их определим словами: прекрасное – полезно, полезное – прекрасно». Эта гармония разрушена «цивилизованным» сознанием, и современное, удалившееся от норм народной жизни искусство служит либо «робкой и уединенной» красоте, либо «жесткой и грубой» пользе. Но вне такого синтеза бессильны и прекрасное, и полезное, и потому в будущем – революционном и народном – искусстве то и другое «должно быть примирено в чувстве чего-то высшего, чем только красота и польза» («Генрих Ибсен», октябрь – ноябрь 1908 г.) [71: V: 317]. Долг современного художника – стремиться «к той вершине, на которой чудесным образом подают друг другу руки заклятые враги: красота и польза» («Три вопроса», февраль 1908 г.) [71: V:237]. З.Г. Минц, рассматривая разнообразные взаимосвязи А.А. Блока с предшествовавшей литературой, писала, что мысли о «пользе», об общественной роли искусства пронизывают все статьи поэта 1907-1908 гг. Вопрос о необходимости и полезности художественных произведений – это, по мнению поэта, «самый соблазнительный, самый опасный, но и самый русский вопрос». [71: V:236]. Но А.А. Блок пишет не только о равноценности эстетической и социально-активной роли искусства. Борясь с символистской эстетикой, преодолевая собственные взгляды на 52 искусство начала 1900-х гг., А.А. Блок полемически утверждает, что жизнь выше искусства. Сблизившись с реалистической (и даже «утилитарной») эстетикой в оценке отношения искусства и жизни, А.А. Блок «пользу» искусства видит в ее правдивости, а правдивость отождествляет с постановкой «жгучих» социальных проблем: «Всякую правду <…> мы примем с распростертыми объятиями <…> Правда никогда не забывается, она существенно нужна <…> Напротив, все, что пахнет ложью или хотя бы только неискренностью <…> мы отвергаем. И опять – таки такое неподкупное и величавое приятие или отвержение характеризует особенно русского писателя» («Письма о поэзии», август 1908 г.) [71: V: 278]. И, наконец, «польза» и «правда» оказываются неотделимы от мыслей о народности искусства, которую А.А. Блок видит не только в возрождении эстетики фольклора, традиций народного театра («Поэзия заговоров и заклинаний», «О театре» и др.), но и – подобно революционнодемократической критике – более всего в отражении передовых идей эпохи [129: 290]. Концепция русской культуры, изложенная в статье «Судьба Аполлона Григорьева» (январь, 1915 г.), по методу и некоторым выводам тесно связана с речью А.А. Блока «О современном состоянии русского символизма» (мартапрель 1910 г.) и соотносится со статьей Вяч. Иванова на ту же тему. А.А. Блок находит в развитии культуры прошлого века «тезу», «антитезу» и «синтез». «Теза» - «русская культура пушкинской эпохи» [71: V: 487], раннее русское возрождение. «Антитеза» - «шумное поколение сороковых годов во главе с Белинским», «белым генералом русской интеллигенции», которым «наследие Грибоедова и Пушкина, Державина и Гоголя было опечатано» [71: V, 488]. «Синтез» – культура «конца прошлого столетия и начала ХХ в., периода «нового русского возрождения» [71: 487]. «Теза» и «синтез» внутренне близки. Это периоды истинной культуры родственны и устремленностью к созданию культуры народной и национально-русской. 53 Напротив, период «антитезы» – это время утилитарного принижения искусства, сведения всех его задач к «русской общественности и государственности», рассмотрения культуры «под знаком «правости» и «левости», с точки зрения сиюминутной позиции «твердынь косности» [72: V, 487, 488]. Девизом эпохи А.А. Блок считает утверждение, «что сапоги выше Шекспира», принятое (прямо и косвенно) русской критикой от Белинского и Чернышевского до Михайловского и … Мережковского [71: V, 490]. Нападки на «западников» проецируются у А.А. Блока на его неприятие буржуазности, а борьба с «утилитаризмом» – на отрицание мещанскипримитивного подхода к искусству. Эти эстетические искания А.А. Блока в пореволюционный период в восприятии молодых поэтов 1920-1930-х гг. предстают утратившими сложность и приобретающими уже аксиоматический характер. Поэтому проблема их адекватного прочтения и усвоения становится одной из центральных в творчестве И.И. Катаева. «Блоковские» мотивы в ранних стихах и в прозе И.И. Катаева 1920-х гг. создают целый пласт блоковского влияния, прямых цитатных и опосредованных через реминисценции отсылок к творчеству А.А. Блока. При этом «блоковский» слой в творчестве И.И. Катаева предстает в виде наиболее значимого, по сравнению с другими символистами, целостного начала, которое можно рассматривать как функционально значимую традицию, оказавшей существенное влияние на его творческое самоопределение. Характер эволюции творчества И.И. Катаева от стихов к прозе задан общим ходом литературного развития 1920-1930-х гг. Переломным принято считать 1921 г., который становится некой границей, когда литература, освободившись, от диктата поэзии, окончательно повернулась к прозе. Основными проблемами для И.И. Катаева в этот период являются выработка индивидуального стиля, творческого метода. Этот процесс можно представить как некое единство, на одном полюсе которого мыслится 54 отрицание орнаментальной прозы как литературного трюкачества. Другим полюсом, к которому стремится (не сливаясь с ним) проза И.И. Катаева массовое, народное искусство. Как отмечалось, свой взгляд на проблему массового, народного искусства И.И. Катаев высказал в речи на общем собрании московских писателей 31 марта 1936 г. «Искусство социалистического народа». Таким образом, для писателя переход к прозе связан, прежде всего, с установкой на реализм, универсализм, поэтому следующим шагом становится утверждение простоты стиля как эстетической ценности и отказ от украшенности, как приметы романтического, орнаментального стиля. Отправляясь от справедливого утверждения Ю.М. Лотмана о том, что эстетическое восприятие прозы оказалось возможным лишь на фоне поэтической культуры, можно применить данную точку зрения и к индивидуальной поэтике отдельного писателя [123: 23-29]. Проза И.И. Катаева формируется в условиях достаточно острой литературной полемики, поэтому этим можно объяснить выраженный полемизм его слова не только в публицистических выступлениях и статьях о литературе, но и в его художественной прозе. Внутренней полемикой проникнуты почти все его наиболее значимые тексты. Однако с большей очевидностью и наглядностью это свойство его прозы проявляется в повести «Поэт», которая, при внешней простоте и незамысловатости, обладает чертами высокоинтеллектуальной прозы. Одним из актуальных контекстов, определивших содержательный уровень этого произведения, следует признать историко-литературный аспект, позволяющий рассмотреть повесть в свете традиции произведений, написанных «на смерть поэта», с характерными для русской поэзии мотивами «поэта и черни», «вражды», высокой оценки творчества поэта. В начале 1920-х гг. наибольшую остроту получает мотив искажения наследия поэта, который был связан непосредственно с восприятием и трактовкой 55 поэзии А.А. Блока. В связи с этим в повести И.И. Катаева особую значимость приобретает мифологема «первого поэта», имеющая очевидный «пушкинский» подтекст. Прежде всего, следует отметить, что осознание особой, исключительной роли А.А. Блока в русской литературе ХХ в. пришло только после его смерти и отразилось в художественной литературе и особенно в литературно-эстетических выступлениях тех лет. Характерное сравнение смерти поэта с закатившимся солнцем в стихотворении А.А. Ахматовой «Смоленская нынче именинница», написанном 10 августа 1921 г., в день похорон А.А. Блока было созвучно словам А. Белого: «Блок — национальный поэт...», «народный» [68: 443]. Таков главный тезис выступлений А. Белого на вечерах памяти А.А. Блока, рассматривавшего смерть поэта в контексте гибели культуры. Однако, как писал в 1921 г. Б.М. Эйхенбаум, «одновременно с растущей модой на А.А. Блока росла и укреплялась вражда к нему — вражда не мелкая, не случайная, а неизбежная, органическая. Вражда к «властителю чувств» целого поколения — чувств, уже потерявших свою гипнотическую силу, свое поэтическое действие» [174: 353]. Литературный критик стал выразителем идеи смерти поэта, наступившей прежде физической смерти А.А. Блока-человека, тем самым, высказав общее представление о дальнейшем пути поэзии, который виделся в преодолении символизма. Противоречивость, неоднозначность восприятия поэзии А.А. Блока и символизма, наиболее ярким выразителем которого он был, литературной общественностью 1920-х гг. находят своеобразное преломление в повести И.И. Катаева на уровне системы персонажей, сюжетной и композиционной организации, проливая свет на собственные эстетические искания тех лет. Таким образом, историко-литературная составляющая этого произведения связана с моментом творческого самоопределения писателя и обретения им собственного художественного языка, формирующегося в 56 споре/отталкивании с ранней пролетарской поэзией, трактуемой в русле авангарда и, опосредованной поэзией А.А. Блока, рецепцией символизма. Проблема литературной саморефлексии И.И. Катаева в условиях смены художественных парадигм (реализм – символизм - авангард) оказывается следующим существенным аспектом повести И.И. Катаева «Поэт». Показательно, что проблема наследования традиции А.А. Блока в начале 1920-х гг. весьма остро была поставлена А. Белым на заседании Вольной философской ассоциации (Вольфилы) 28 августа 1921 г. А. Белый, говоря о недостаточно полном понимании наследия А.А. Блока, называет два абсолютно неприемлемых подхода к поэме «Двенадцать» - «черносотенном» и «партийном»: «Двенадцать выходит в купюрах, - два-три лозунга… и остается от «Двенадцати» один плакат. С точки зрения такой поэзии можно Александру Александровичу уделить скромное место на той скамейке, на которой первое место занимает Демьян Бедный» [68: 497]. Далее А. Белый упоминает о своей работе с кружком пролетарских поэтов, на которых оказал влияние А.А. Блок, но это влияние носило не политический, а эстетический, художественный характер: «…Им дорог Александр Александрович. Не потому, что можно набрать такие-то и такието купюры для плакатов из его строчек, а потому, что писал он так чудесно: «золотистые пряди на лбу, золотой образок на груди» [68: 497]. Андрей Белый в своей речи памяти А.А. Блока призывает именно к целостному восприятию и усвоению блоковского наследия. Центральным мотивом повести И.И. Катаева «Поэт» в связи с этим может быть выделен мотив «трагедии творчества», заключающийся в «невоплотимости», отнесенный символизмом к разряду «вечных проблем» взаимоотношения творческой личности и общества. Причем ведущим становится мотив непонятого и неведомого поэта. Для И.И. Катаева очень важно быть прочитанным современниками, в этом можно усмотреть 57 отголоски символистского императива о преобразующей, жизнетворческой задаче искусства. Сюжет повести «Поэт» имеет автобиографическую основу, в повествование введены реальные исторические события, многие персонажи рассказа имеют реальные прототипы, нередко сохраняются с небольшими изменениями подлинные имена. Например, в пространство рассказа введен под своим имением Иван Яковлевич Жилин – начальник политотдела 8-ой армии. П. Анчарский так характеризует его: «Старый большевик, отличный партийный организатор, в прошлом журналист. Много лет провел в ссылке, слабый здоровьем, он всегда был бодр, весел, любил пошутить, сказать острое словцо» [79: 16-17]. Данная трактовка личности вполне применима к катаевскому персонажу. В облике и имени главного героя – Александра Гулевича присутствуют черты Александра Гулевича, поэта, одного из участников литературной группы «Кузница». [79: 33]. Личный опыт писателя, покинувшего дом отца в ранней юности, несомненно, сказался в этом рассказе и обусловил форму повествования от первого лица. Данный прием связан с установкой на субъективность и особый лиризм повествования. Авторская точка зрения близка точке зрения рассказчика, однако, временная дистанция, разделяющая их, ведет к характерному удвоению точек зрения, следствием этого становится появление авторской самоиронии. Фигура интеллигента поэта в Александра революции, Гулевича поэзии и фокусирует стихотворной проблемы конъюнктуры, выраженной в противопоставлении стихов «тихих» и «служебных». Очевидно, что первый круг проблем апеллирует к поэзии и публицистике А.А. Блока, что подкрепляется разного рода цитатами и реминисценциями. Значительный объем литературных цитат исключает случайность их введения и становится важнейшим стилевым средством, позволяющим писателю сформировать особую текстовую структуру, сочетающую как 58 прозаический, так и стихотворный тип речи. «Блоковский» цитатный слой, присутствующий в тексте в виде явных и скрытых, ситуационных цитат, однако соседствует со стихотворными вкраплениями неизвестных авторов, но самая значительная часть стихотворных фрагментов принадлежит самому И.И. Катаеву. Целый ряд этих фрагментов воспроизведен в статьях, включенных в «Воспоминания об Иване Катаеве», некоторые из них были опубликованы в разное время в армейской газете и других изданиях. Другие, главным образом те, что приписаны герою рассказа Гулевичу, по всей видимости, писались специально для этого рассказа. Пародийный аспект этих стилизованных стихотворных фрагментов выражен, но адресатом пародийного компонента может быть и сам автор, и та часть ранней советской поэзии, эволюционировавшая от «пролетарской поэзии» к копированию символистских или, главным образом, блоковских ритмов и мотивов. Поэтому авторская ирония направлена против однобокого, искаженного восприятия творчества А.А. Блока, которое становится символом предшествующей культурной традиции. По И.И. Катаеву, молодым поколением поэтов творчество А.А. Блока усвоено как политический лубок, лозунг. В этой связи следует обратиться к ряду важных аспектов этой проблемы, восходящих к методологически значимой в этом плане работе Ю.Н. Тынянова «О литературной эволюции». Характерной особенностью периода смены литературных эпох, по Ю.Н. Тынянову, является возрастание обращений к теме, обозначенной им как «литература о литературе», цель этого обращения – преодоление автоматизма стертых форм. В этом отношении повесть «Поэт» становится своеобразной попыткой преодоления кризиса и обновления старых тем. На сюжетном уровне выделяются мотивы «служебной» и «настоящей» поэзии, при этом для первой свойственны «риторичность», «громогласность», а вторая представлена «тихими» и «грустными» стихами. В самых общих чертах это 59 противопоставление соответствует специфике периода 1920-1930-х гг., обозначенной Ю.Н. Тыняновым как борьба двух установок: митинговой установки стиха В. Маяковского («Ода») и камерной романсной установки С. Есенина («Элегия») литературной [160: эволюции, Тем самым осмысление проблемы смены систем литературы, решается 201]. как исследователем на тематическом и сюжетном уровне. Повесть И.И. Катаева «Поэт» свидетельствует, прежде всего, об аналогичном тыняновскому понимании писателем литературной ситуации 1920-1930-х гг., и, поскольку, тема эта решается в пространстве художественной прозы, сам текст может быть трактован как прямая реализация процесса смены литературной системы, которая в творческой эволюции самого И.И. Катаева мыслится как переход от стихотворной речи к прозаической. В «Поэте» И.И. Катаева противопоставление стихов «настоящих» и «служебных», на первый взгляд развивается как оппозиция лирики А.А. Блока 1910-х гг. и поэмы «Двенадцать». Введенное в текст повести стихотворение «Осенняя любовь» актуализирует мотив Христа, продолженный в названии поэмы катаевского героя - «Голгофа», ритмы и образы которой (мотив «святой мести», «святой злобы») воспроизводят аналогичные мотивы поэмы «Двенадцать». Вместе с тем, концептуальность цитирования в катаевской повести обусловлена значимостью образа Христа для этих текстов. Стихотворение «Осенняя любовь», проникнутое пафосом жертвы, связало путь поэта к «родине суровой» из мира «красивых уютов» с образом Христа. Этот путь завершается поэмой «Двенадцать», ярко свидетельствующей о стремлении А.А. Блока осмыслить революцию в универсально-космическом аспекте, символическим выражением которого является ветер «на всем Божьем свете». Тем самым оба текста воспринимаются важными составляющими генерализующего блоковского «мифа о Человеке». 60 По свидетельству З.Г. Минц, «миф о человеке» осмыслен А.А. Блоком в образах фольклора, Ветхого Завета, Евангелия, Апокалипсиса, средневековой рыцарской литературы, в образах «маленького человека» и в героической традиции романтизма XIX и начала XX в. [133: 513]. При этом исследователем отмечается поэтическая синонимичность образов лирического «я», Человека и Христа. В структуре сюжета повести И.И. Катаева в самых общих чертах воспроизводятся элементы блоковского «мифа о человеке»: Человек, который когда-то «небо знал» (в пространстве повести – поэт Гулевич), оказывается в «страшном мире» гражданской войны; познав «искусы» бытия, «унижение», «обнищание» (голод, бытовая неустроенность, тифозный барак), должен стать создателем «мифа об Истории» (Гулевич – автор поэмы «Голгофа»); пережить творческий восторг и «освободить» «пленную царевну» Душу мира (возлюбленная Гулевича – Этта Шпрах – его «муза» и лирическая героиня поэмы); Человек – участник героического «вечного боя» за Россию должен победить «страшный мир», принести в мир новую Радость (новую поэзию). Сочетание конкретно-исторического и мифологического пластов в повествовании становится заметным прежде всего на уровне подтекста, который формируется присутствием в тексте микроцитат. Например, слова начальника политотдела Ивана Яковлевича, о политотдельских поэтах: «Наши доморощенные поэты дальше «впереда – народа» пока не ушли», воспринимаются как пародийная рифма из поэмы А.А. Блока: «Помнишь, как бывало / Брюхом шел вперед, / И крестом сияло / Брюхо на народ?..». О значимости рифмы «вперед – народ» в поэме «Двенадцать» писал Б.М. Гаспаров: «парадоксальным образом вводится рифма «вперед-народ», столь важная в последующем течении поэмы» [80: 10]. В экспозиции поэмы она вписана стилистику кукольного балагана, однако уже здесь замаскирована тема креста, которая преобразуется далее в тему Христа. В своей повести И.И. Катаев, воспроизводя блоковскую рифму, воссоздает характер введения 61 «чужого» текста, так как данная рифма у А.А. Блока в свою очередь представляет собой стилизацию характерных образов революционнодемократической поэзии XIX в. Помимо прямого введения в текст стихотворения А.А. Блока «Осенняя любовь», в тексте просматриваются скрытые цитирования, так называемые «ситуационные цитаты» (термин З.Г. Минц), наиболее вероятным источником которых является драма «Роза и крест» (1913), представляющая одну из вершин поэтического творчества А.А. Блока, запечатлевшая искания поэта в период глубокого кризиса его романтического мировоззрения в годы, непосредственно предшествовавшие Октябрьской революции. И.И. Катаеву близка блоковская тема человека, его места в мире, его судьбы, его «невольных мук», страдания и гибели, выдвинутая в творчестве А.А. Блока 1910-х гг. на первый план. Известная работа В.М. Жирмунского об источниках драмы «Роза и Крест» констатирует возможность своеобразного «полигенезиса» – нескольких поэтических источников, одновременно притянутых жизненным переживанием. Весь свой творческий путь, как отразился он в трех томах его лирики, А.А. Блок осмыслял как «трилогию вочеловечения», историю превращения поэта в «человека общественного» в «художника, мужественно глядящего в лицо миру». А это означало, что поэт обязан не бездейственно созерцать происходящее вокруг него, а уметь различать в действительности то, что растет, набирает силу и открывает путь в будущее. Для А.А. Блока, в его раздумьях о различиях проявления исторической тревоги в быту, поведении людей в их общественных столкновениях, важна мысль об их неразрывности, слитности. Центральная конфликтная ситуация драмы А.А. Блока «Роза и крест» связана с темой смутного зова, слышащегося Изоре и реализующегося в песне Гаэтана о Радости-Страданье, и в свою очередь является одним из проявлений общей тревоги – большого перелома жизни. 62 В структуре художественного пространства блоковской драмы бросается в глаза противопоставленность севера и юга. Фигура поэта Гаэтана сливается с суровым бретонским пейзажем, мир Изоры – с царством южной неги и роз. Исследователь поэзии А.А. Блока, З.Г. Минц установила, что большое влияние на его драму «Роза и крест» оказала лирика Вл. Соловьева, в частности его стихи о Сайме. Обращает на себя внимание семантическая близость символов вьюги, метели, тумана у Вл. Соловьева и А.А. Блока. Метельный антураж соответствует символическим образами и у Вл. Соловьева, и у А. Белого. Можно утверждать, что центральный мотив песни и драмы есть не что иное, как идея общественной правды, основанной «на принципе самоотрицания или любви», которую развивает Вл. Соловьев в «Чтениях о Богочеловечестве». В повести И.И. Катаева поэма Гулевича потрясла рассказчика «своей глухой музыкой, вошла в меня как нечто совсем новое, не похожее на читанные прежде стихи. Это были первые стихи, в которых революция и одинокая судьба человека предстали для меня слитными, мчащимися по единому руслу» [50: 51]. Одним из важнейших смыслообразующих факторов повести «Поэт» является световая и цветовая детализация, описания пейзажа, образующие ряд лейтмотивов, которые, проецируясь на поэзию А.А. Блока, получают значение определенных символов. Особенно показательна сцена чтения поэмы Гулевича. Здесь отчетливо выделяются лейтмотивы «сумрака», «ветра», «метели», «города». Сумрак: «чердак (где Гулевич читает свою поэму юноше), был огромен, концы его терялись в сумраке», крыши «затоплялись синей влагой сумерек», «чердачный сумрак сгустился в непроглядный мрак» [50: 52-53]. Ветер, вьюга, метель: «в лицо колюче впивался ветер и по ногам мело поземкой», «степной ветер гудел близко над нашими головами, над крышей, мча и опрокидывая тучи снега», «ветер свистел в щелях окна и гремел на 63 крыше», я дрожал, «словно ветер белой пустыни, наконец, прорвался в меня и загулял там, внутри» [50: 44, 51]. Город: «ободранный боями и окоченевший от стужи», «город уже не мог сопротивляться степи, и она завладела им, вымораживая все теплое и человеческое», «ветер опрокидывал тучи снега на погибающий город», «город тонул, опускался все глубже на дно» [50: 44, 51, 53]. Как видим мотивы «сумрак», «ветер», «город» усиливаются не только в результате настойчивой повторяемости, но и смысловой градации, сгущающей прямое значение этих слов до метафоры смерти. Известно, что образы метели, ветра получили апокалипсическое значение в поэме А.А. Блока, вслед за ним в романе Б.А. Пильняка «Голый год». В повести И.И. Катаева этой метафоре соответствует и световая символика: «бледный и хмурый свет полукруглого окошка», «снежные крыши … в тумане метели», «синяя влага сумерек», «непроглядный мрак» [50: 51]. Происходит медленное перетекание слабого, бледного света в сумерки, а потом в непроглядный мрак. Постепенное угасание света воспринимается как конкретная реализация выражения «конец света». Обратимся в этой связи к символике света в поэтике А. Белого. В статьях и особенно в романе А. Белого «Петербург» развита идея двойственности красного цвета – «в красном цвете сосредоточены ужас огня и тернии страданий» [67: 120]. В статье «Священные цвета» (1903) он пишет: «Относительность, призрачность красного цвета – своего рода теософское открытие. Здесь враг раскрывается в последней своей нам доступной сущности – в пламенно-красном зареве адского огня… Это – Марево.». По А. Белому, нужно «собственной кровию погасить пожар, превратив его в багряницу страдания… Нужно было воплотиться Христу в средоточие борьбы и ужаса, сойти в ад, в красное, чтобы, преодолев борьбу, оставить путь для всех свободным» [142: 91]. Символика «тумана», «бледного» цвета у символистов также связана с идеей конца света и является знамением Антихриста. Например: «это черт своим 64 хвостом туман на свет божий намахивает. Тоже знамение Антихриста» (В. Соловьев «Три разговора»). Следует упомянуть в этом ряду название романа Б. Ропшина «Конь бледный» и стихотворение В.Я. Брюсова «Конь блед», содержащие цитаты из Апокалипсиса. Н. Пустыгина, опираясь на статьи А. Белого, так интерпретирует сочетание «тумана» и «красного домино» в романе «Петербург»: этот символ вбирает в себя фольклорное значение «красного петуха» (= «мирового пожара»), «пророчества» Ницше о гибели культуры, в конечном итоге это – «символ «конца» всемирной истории» [143: 101-102]. В повести И.И. Катаева прямые цветообозначения преобладают не в повествовании, а в отрывках поэмы Гулевича и представляют собой выразительный контраст общей цветосветовой гамме. «Искры пламенной стихии», «дети красного огня», «красные боевые знамена», «зима седая». Красный, серый, бледный, туманный, сумрачный, мрачный, черный – таковы, если суммировать, в этом отрывке прямые и косвенные цветообозначения. В описаниях сохраняется предметное значение цвета, но оно отражает и состояние героя, и состояние мира в целом. Несмотря на то, что красный цвет представлен только в поэме Гулевича, в этом фрагменте и поэма, и восприятие ее рассказчиком предстают как нечто неразрывное: «Струящаяся вместе с бледным и хмурым светом полукруглого окошка, окутанная паром, поэма потрясла меня своей глухой музыкой, вошла в меня как нечто совсем новое, не похожее на читанные прежде стихи» [50: 51]. Интересно, что в предыдущих главах, именно совмещение серого и красного, причем в конкретном обозначении сопровождает внешний облик поэта Гулевича: «На голове у него армейская папаха с алой лентой мобилизованного. Дальше начиналось необычное - выцветший брезентовый пыльник, очень потертое драповое пальто, светло-серая поддевочка. И, наконец, сняв поддевочку, этот человек оказался в ярко-красной сатиновой 65 косоворотке» [50: 31-32]; «волосы какого-то неопределенного серого цвета» [50: 32]. В уже упоминавшейся речи А. Белого была отчетливо намечена эволюция творчества А.А. Блока от «Ante Lucem» до «Двенадцати» и «Скифов». Причем эволюция доминирующей световой символики выступает как наиболее существенная черта его поэтики. Разумеется, здесь сказалась прежде всего убежденность самого А. Белого, как теоретика символизма. Между тем возможны переклички с аналогичными трансформациями цвета и в его творчестве. Общей чертой художественной жизни 1990-х гг. XIX в. А. Белый считает настроение «пессимизма, стремления к небытию» [68: 473], а общим колоритом эпохи – сине-серый цвет, «обыкновенно синие пейзажи на фоне синих зимних сумерек». Этот же цвет отпечатлелся в «Ante Lucem» А.А. Блока: «земля мертва, земля уныла», «назавтра новый день угрюмый еще безрадостней взойдет». Период первой революции был окрашен «красным цветом зари» [68: 473]. По А. Белому, общий колорит «Двенадцати» подготовлен всем его предыдущим творчеством. Для нас важно именно это цветовое восприятие поэзии А.А. Блока, как некая примета, которая, по видимому, была созвучна и восприятию поэзии Блока И.И. Катаевым. Таким образом, в повести воспроизводится не только цветовая символика поэмы А.А. Блока, но запечатлена эволюция цвета от сине-серого до красного, как цветовая примета всего творчества А.А. Блока. Постепенное угасание зимнего дня и сопровождающее его чтение «красной» поэмы, длительность процесса, постепенное нарастание эмоций и поэта, и слушателя, а также подчеркнуто длительное «разоблачение» поэта, где также сохраняется смена цветов от неопределенно-серого до ярко красного, позволяют предположить существование двух пластов сюжетного повествования: «своего» и «блоковского», позволяющего соотнести их с трактовкой эволюции А.А. Блока, прозвучавшей в речи А. Белого. 66 В повести «Поэт» беловско-блоковский контекст нередко предстает нерасчлененным, сложно переплетенным. Интерпретация этого контекста возможна на уровне незначительной, на первый взгляд, вещественной детализации. Запоминающимися сигнатурами внешнего облика Гулевича являются уже упоминавшиеся выше красная рубашка и сапоги: «…сняв поддевочку, этот человек оказался в ярко-красной сатиновой косоворотке и брюках в полоску»; «Конечно же, все именно так и должно быть у поэта – и красная рубашка и деревянный гребешок!» [50: 32]; «Поэт сидит за столом, в своей красной рубахе с расстегнутым воротом, в правой руке – вставочка с пером» [50: 48]; «Гулевич ушел из редакции с непокрытой головой и в одной своей красной косоворотке» [50: 51]. Причем именно красная косоворотка воспринимается юному повествователем как неизбежная принадлежность поэтов, в ней же Гулевич впервые читает юноше свою поэму. Чтение стихов на огромном, сумрачном чердаке проецируется на общеизвестный факт чтения стихов А.А. Блоком на «Башне» у Вяч. Иванова, тем самым, активируя символистский пласт ассоциаций. Любопытно, что при этом мотив «красной рубашки» оказывается также вписанным в контекст прозы А. Белого, а именно связан с героем его романа «Серебряный голубь» поэтом Дарьяльским, характеристики которого, по наблюдению В.Н. Топорова, так или иначе отсылают к образу А.А. Блока [135: 217]. «Блоковский» мифопоэтические свидетельствующим слой в романе истоки образов об архетипическом и А. Белого оказывается начале обнажает приемом, сознательных и бессознательных восприятий автора. «Сапоги» и «красная рубашка» становятся, по В.Н. Топорову, ярким знаком круга идей А.А. Блока, обнимающих отношения народ – интеллигенция, народная вера – христианство, Россия – Запад. Причем эстетические поиски А.А. Блока, приводящие его к смешению несмешиваемого: «Жены, облеченной в Солнце, с калошей, Прекрасной Дамы с проституткой и мнимой величиной, на 67 которые она разложилась, высокой мистики и подлинной теургии с «полевым Христом, колдунами и болотными чертенятами» [135: 220], опознаются А. Белым как «наваждение», «кощунство» и требуют спора, преодоления. Соединение разнонаправленных содержательных схем в едином образе порождает иронический аспект повести И.И. Катаева, которой также присуще смешение высокого и низкого, патетического и смешного, духовного и материального. Тема «сапог», отсылая и к публицистике А.А. Блока, и к роману А. Белого, является одним из лейтмотивов прозы И.И. Катаева 1920-х гг. и своеобразно преломляет тему «пользы», «долга», «жертвенности» со всей остротой представленной в литературе 1920-х гг. В композиционном отношении повесть «Поэт» некоторым образом тяготеет к структурам, обозначенным Ю.М. Лотманом как «текст в тексте», понимаемый как «специфическое риторическое построение, при котором различие в закодированности разных частей текста делается выявленным фактором авторского построения и читательского восприятия текста. Переключение из одной системы семиотического осознания текста в другую на каком-то внутреннем рубеже составляет в этом случае основу генерирования текста» [120: 66]. Текст, при этом, приобретает черты повышенной условности, подчеркивается его игровой характер, иронический, пародийный смысл. Характерный для подобных конструкций мотив зеркала реализуется в теме двойника, который, по Ю.М. Лотману, есть остраненное отражение персонажа, и позволяет увидеть инвариантную основу черт, присущих персонажу и сдвигов, заменяющих симметрию правого-левого и получающих интерпретацию самого различного свойства. В повести И.И. Катаева взаимосвязи персонажей выстроены по зеркальному принципу и практически каждый из них может быть интерпретирован в качестве двойника главного героя. Наиболее очевидно сопоставлены пары Гулевич – Морозов, Гулевич – Копп, Гулевич - Этта Шпрах, хотя возможны также и параллели Гулевич – Иван Яковлевич, Гулевич – Федя Каратыгин. 68 Примечательно, что линии сравнения имеют два плана - обыденный, и возвышенный. С первым связана материальная, предметная сфера, со вторым – духовная, творческая. Пара «Гулевич – Морозов», со- и противопоставлена по принципу «Дон Кихот и Санчо Панса», по типу «хозяин – слуга», «творческое начало – практический, здравый смысл», герой интеллигентный – герой народный, литературное творчество и фольклор, поэма – песня балладного типа. Прежде всего, следует отметить противопоставленность описания внешности Гулевича и Морозова. У Гулевича «плохо отмытые, впалые, небритые щеки, и добрые, медлительные глаза в красноватых веках, и длинный нос с толщинкой к концу,… черные, гнилые зубы, которые обнаруживала его печальная, голодная какая-то улыбка» [50: 33]. В дальнейшем в описаниях облика поэта неоднократно будут подчеркнуто упоминаться высокий рост, длинный нос, голодная улыбка, черные зубы: «Лицо серое, как картофельная шелуха, вместо щек – дырки, нос стал еще длиннее и, казалось, тянул книзу всю голову,- похоже было, что оттого и ходит Гулевич понурившись. <…> веки напряженно мигали, на утолщенном кончике носа дрожала капелька» [50: 41]. Алеша Морозов - «прирожденный запевала, странный голос его – тонкий, совершенно бабий, и не какой-нибудь фальцет, а чистейший дискант, очень ценили в команде. Белобрысый, безусый, с пышными, нежнорумяными щеками, неизменно веселый и деятельный» [50: 42]. В противоположность Гулевичу лицо его «румяное, масленое и круглое, как блин» [50: 57]. Портретные характеристики этих персонажей вписаны в понимание духовного и материального как двух неразрывных сторон человеческой жизни. В дальнейшем эта тема становится ведущим лейтмотивом всего творчества И.И. Катаева, в данной же повести она впервые получает наиболее последовательное развитие. Одним их компонентов этой темы является мотив пищи духовной и материальной. С Морозовым связан важный элемент сюжетного повествования – еда и 69 готовка: «…Морозов попробовал однажды поэтову кашу, ни слова не говоря, подошел к двери и вытряс кашу из котелка, после чего сварил сам настоящую – с луком, свиным салом, и, кроме того, нажарил пропасть оладьев, пузырящихся, пухлых и румяных. Все это они уплели вдвоем и с тех пор стали жить напополам» [50: 42-43]; «…Я ему то одно, то другое подсуну, то лепешку, то котлету,- он и не заметит, а съест…Что начпоарм ему выпишет, то я ему и сготовлю, кашу там рисовую или мясо зажарю…Ему усиленное питание нужно… Ну, я и носил ему, какаву там, или консервов в банках, или еще чего… Вот так и берег я его» [50: 80-81]. Гулевич и Морозов неявно соотнесены с персонажами драмы А.А. Блока «Роза и крест». Безвестность, одиночество, жертвенность Бертрана отнесены к поэту, а «зов», «песня», «голос», характеризующие Гаэтана связаны с Алешей, обладателем «странного» «чистейшего» голоса и его любимой песней о «Вирене и охотнике», которая на самом деле оказывается Венерой. Таким образом, в результате трансформации блоковского сюжета в повести Катаева подлинным носителем музыкального начала становится не утонченный поэт- символист, а Морозов и через него - отчасти Гулевич. В связи с этим в повести И.И. Катаева особую значимость получают музыкальные цитаты. В контексте противопоставления двух типов поэтического слова – риторического и органического - обращает внимание поляризация жанров, упоминающихся в тексте, являющаяся продолжением литературной полемики. Приметой риторической поэзии является ода, ей противопоставлена песня, как жанр более демократический, менее связанный жанровыми канонами и допускающий многочисленные вариации. Так, в тексте упоминаются песня на слова П. Арского «В могиле, цветами усыпанный, убитый лежит коммунар», которая исполняется «металлическим, холодным» тенором в зале агитпункта и баллада о молодом охотнике и красавице, любимая песня всех красноармейцев: «Песня была длинная, очень неясная, красавицу звали Вирена, и непонятно, значило ли это Венера или 70 сирена…» [50: 42]. Интересно, что эта песня цитируется И.С. Шмелевым в рассказе «Неупиваемая чаша» и повести «Лето Господне». В «Лете Господнем» отрывок воспроизведен в главе «На святой», посвященной Ю.А. Кутыриной, исследователю русского фольклора. «Тогда они старинную песенку проиграли, называется – «романез-пастораль», которую теперь никто не поет – не знает: Един млад охотник В поле разъезжает, В островах лавровых Нечто примечает. Венера-Венера, Нечто примечает. Деву сколь прекрасну, На главе веночек, Перси белоснежны, Во руке цветочек. Венера-Венера, Во руке цветочек» [171: 527-528] Этот факт, свидетельствующий о знакомстве И.И. Катаева с прозой И.С. Шмелева, скорее всего - с опубликованной в 1919 г. повестью «Неупиваемая чаша», привлекает внимание также целым рядом сюжетных и тематических сближений в произведениях И.С. Шмелева и И.И. Катаева. При этом ведущим является мотив непонятого и неизвестного художника, поэта. Картина неизвестного художника, привлекающая восхищенное внимание всех, увидевших ее, рукопись неизданной поэмы, строчки которой повторились в стихах других поэтов – это все, что осталось от их жизни полной страдания, радостной муки творчества. 71 Следует отметить, что в рассказе И.И. Катаева текст «романезпасторали» сознательно искажен. Нарочито неточное цитирование (например, «Вирена» вместо «Венера») связано с попыткой преодоления сентиментальности пасторали, поэтому особое значение получает иронический подтекст. Однако мысль о противопоставлении городского мира и мира чувств и быта простых людей, характерная для пасторального жанра, явственно звучит и в рассказе И.И. Катаева, и в повести И.И. Шмелева. В рассказе, кроме того, важное значение приобретает стилизация безыскусственности, свойственная самым ранним формам пасторали. Галантные диспуты героев на фоне изящных декораций природы в катаевской повести трансформированы в спор о стихах «тихих» и поэзии «преувеличений». Однако именно с этой песней связывает автор идею гармонизирующей силе искусства, способной преобразовать жизненный хаос и объединить противоречивые начала. В обеих повестях подчеркнуто, что песня нравилась всем, кто слышал ее: «Так она (песня - Р.Л) всем понравилась, и мне понравилась, и я ее заучил на память, и отец после все ее напевал» («Лето Господне») [171: 527]; Морозов «тончайше заводил свою любимую, склонив голову набок и приподняв одну бровь <…>. Сразу от его полевого голоса становилось светлей и просторней в душной теплушке <…> пели эту песню, как все морозовские песни, с увлечением» («Поэт») [50: 42]. Таким образом, введение фрагмента песни и обыгрывание ее сюжетной линии, которую можно свести к поискам Венеры, символизирующей прекрасное, женственное начало, вызывает пласт ассоциаций с поэтикой символизма, соотносящего музыку с творчеством жизни. Пара «Гулевич – Копп» представляется тем более значимой, что в конце рассказа «странный и горький случай» примиряет героев – антагонистов: оба героя умирают и их хоронят в одной могиле, а на табличке политотдельский художник выводит: «Пролетарский поэт Александр 72 Гулевич. Литератор Эрнст Копп». Перед этим обнаруживается, что гроб Гулевича безнадежно короток, а достать другой невозможно. На что дежурный собеса отвечает равнодушно - значимым замечанием: «Как-нибудь подогнете». Выходом из этой ситуации становится смерть Коппа, которого хоронят в гробу Гулевича, так как он маленького роста, а поэту выписывают новый. Так, далекий от литературы корректор Копп, единственный человек, невзлюбивший Гулевича, похороненный в гробу поэта, становится литератором. Противопоставление понятий «поэт и литератор» возникающее в сюжетной линии Гулевича и Коппа, безусловно, лежит в ряду общего противопоставления «тихой», «истинной» поэзии и «служебных» стихов, написанных на злобу дня. Пафос злободневности, назидательности, утилитарности ведет к противопоставлению в контексте рассказа А.А. Блока и Козьмы Пруткова: любимый поэт Гулевича – А.А. Блок, тогда как любимым стихотворением Коппа, в облике которого, по замечанию рассказчика, «не было ничего особенного, литературного», является двустишие Козьмы Пруткова: Вы любите ли сыр? – спросили раз ханжу. - Люблю, - сказал ханжа, - я вкус в нем нахожу. Хотя, возможно, здесь Козьма Прутков воспринимается как крайняя степень удаленности от личности автора. Ряд второстепенных, на первый взгляд, деталей в развитии темы «Гулевич – Копп» усиливают ощущение зеркальности данных персонажей. Например, рассказчик, характеризуя Гулевича, говорит, что он напоминает ему портрет одного из королей династии Меровингов, виденный когда-то в учебнике истории. О Коппе также вскользь сообщается, что он из меннонитов. Созвучие Меровинг – меннонит воспринимается как неточная рифма, основанная на совпадении отдельных согласных и ударения. Кроме того, в этих понятиях общей становится установка на иноземность, непричастность здешнему привычному миру. Меровинги – основатели 73 первой европейской королевской династии, таким образом, соотнесены с Гулевичем, формируя подтекст, ассоциированный с понятиями «благородство», «избранность», «зачин чего-либо», благодаря чему Гулевич может быть рассмотрен как носитель творческого начала, поэт-новатор, открывающий новые пути, новые темы и образы. В то время как с Коппом связываются «сектантство», «закрытость», «отторженность от основной линии». Вместе с тем, тема меннонитов, проповедующих смирение, отказ от насилия и веру во второе пришествие Христа, вновь на ином уровне возвращает к теме Христа и теме аскетизма и служения долгу, которые присущи Гулевичу. Еще одна деталь устанавливает параллелизм этих персонажей. По принципу зеркальной симметрии увязаны мотивы непрактичности, бытовой неприхотливости Гулевича и жадности, привязанности к вещам Коппа: «Копп вообще очень дорожил своим имуществом, съедобным и несъедобным. Однажды в теплушке от скуки и ради развлечения мы спрятали его большой, толстый перочинный ножик в пожелтевшей костяной оправе со множеством крючочков, щипчиков, отверток и всяких других складных приспособлений. Копп перевернул все вещи в вагоне, ползал по полу, ковырял щепочкой в щелях…Когда мы насытились его отчаянием, кто-то с восторженным изумлением изобразил, что ножик найден, и передал его владельцу, окостеневшему от счастья» [50: 47-48]. Повтор «костяной», «окостеневший», употребленный в первом случае в прямом, предметном значении, а во втором – в метафорическом, характеризует приземленность, сосредоточенность Коппа на предметном, материальном мире. Гулевич же в свою очередь демонстрирует полнейшее невнимание к бытовой, материальной сфере: «Об еде Гулевич заботился мало, - если кормили - ел, и помногу, а если нет, то мог и так день прожить» [50: 40]. Комически утрированный характер имеют некоторые параллели и схождения в облике и поведении Гулевича и Коппа. До приезда в армию поэта, Копп 74 получал дополнительный сахарный паек и зашивал сахар в маленькие мешочки. Гулевич, к которому отошла одна из обязанностей корректора Коппа, невольно лишил его дополнительного пайка, и этим объясняется недружелюбие и постоянные придирки со стороны Коппа. Сахарное «сокровище» Коппа ставит его в один ряд со сказочными (фольклорными) карликами, гномами, обладателями несметных богатств. В то же время мешочки с сахаром Коппа представляют некий контраст с запасом пшена, которым обзавелся Гулевич, «глядя на других»: он «выменял себе перед отъездом два пуда пшена. Он не успел разыскать мешок и потому насыпал пшено в кальсоны, предварительно завязав внизу тесемочки. В каждую штанину как раз вошло по пуду. Получились две огромные белые сосиски, которые очень удобно было носить через плечо – одна спереди, другая на спине. Так он и притащил их в вагон и позднее, в Воронеже, расхаживал с ними по улице» [50: 39]. Параллель «Гулевич – Этта Шпрах» актуализирует оппозиции мужского-женского, аскетизма – распущенности, доброты – равнодушия. Характерная двойственность Этты и Гулевича обусловлена своеобразной трансформацией фундаментальной символистской идеи двоемирия, противопоставляющей мир «дольний» (земной) миру «горнему» (небесному). В повести И.И. Катаева оба персонажа причастны двум мирам: «земной», реальной действительности и «творческому» миру пространства поэмы Гулевича. Вследствие этого в облике этих персонажей при всей подчеркнутой материальности и узнаваемости просвечивает «идеальный» план, заданный героическим пафосом «поэмного» мира. Идеальному облику Этты присущи мотивы «скорби», «огненной», «святой» любви, «мятежа». Реальный план преобразует указанные мотивы в их противоположность: скорбь в равнодушие, любовь в половую распущенность, мятеж в уступчивость. В сознании повествователя Гулевич и Этта связаны мотивом «странности», «двойственности», смешения противоположных начал: «Мне 75 никогда до нее не случалось видеть в женщине такое странное смешение черт привлекательных и отталкивающих» [50: 46]. В результате этого амбивалентность Этты может быть осмыслена как своеобразная проекция символистского сюжета падшей женщины, роковой обольстительницы, увлекающей поэта в бездну, но этот мотив иронически снижен. Блоковский образ царицы демонического мира - «змеи», «русалки» преобразован в обыденный, сниженный мотив «лягушки». Неоднократно подчеркивается, что во внешности Этты было что-то лягушачье: зеленого цвета платье, «моросящие глаза», «плескающийся, плачущий смех», «мокрый рот с бледными вялыми губами» - все это «застилает взгляд теплым туманом». Повествователь иронически восклицает: «Ну и муза! Вот уж не подходящий предмет для поэзии» [50: 65]. Однако, утратив черты демонизма и инфернальности, героиня попрежнему несет в себе гибельное начало, будучи причастной миру хаоса. «Идеальный» и «реальный» облик Этты объединены повтором характерной детали - в поэме: «Глаза твои впали глубоко, скорбь трауром взгляд одела»; и в восприятии юноши-повествователя: «Глаза ее темнели глубоко в смутном расплывающемся лице». И в том и другом случае восприятие героини сопровождается негативными эмоциями: «траур», «жестокий мир»; «сказала резко, так, что я вздрогнул <…> сердце заколотилось, я пошатнулся». Символика смерти, сопровождающая комплекс «невесты» в поэтике А.А. Блока связана, с народнопоэтической традицией, согласно которой невеста представительствует «чужой», потусторонний мир, отчетливо просматривается в облике Этты и подтверждается на сюжетном уровне, поскольку Гулевич умирает от сыпного тифа, заразившись от Этты. Позднее мифопоэтический мотив «невесты» проявится в рассказе «Молоко», подтверждая значимость данного блоковского комплекса для творчества И.И. Катаева в целом. 76 Знаковая природа художественного текста двойственна в своей основе: с одной стороны, текст прикидывается самой реальностью, прикидывается имеющим самостоятельное бытие, независимое от автора, вещью среди вещей реального мира. С другой, - он постоянно напоминает, что он чье-то сознание и нечто значит. В этом двойном освещении возникает игра. «Риторическое соединение «вещей» и «знаков вещей» (коллаж) в едином текстовом целом порождает двойной эффект, подчеркивая одновременно и условность условного и его безусловную подлинность» [124: 70]. В функции «вещей» могут выступать документы в рассказе И.И. Катаева, таким документом становятся отрывки стихов, подлинность которых не подвергается сомнению. Если наиболее частой является конструкция «роман в романе», то катаевский текст можно обозначить как вариант данной конструкции - «поэма в рассказе». Мир реальный и мир отраженный принципиально несхожи, несмотря на то, что и в том, и в другом присутствует ситуация гражданской войны. В поэме дисгармоничный мир предстает преображенным, эстетизированным, тогда как хаос действительности зримый, вещный, приземленный, антиэстетический (одной из примет дисгармонии мира реального является сыпной тиф, от которого в конечном итоге и погибает герой, а не от руки врага). Поэтому замечание рассказчика о противоречивости поэмы, не только свидетельствует об ограниченности его читательского восприятия: «Вы вот в поэме пишете, что у вас винтовка, что вы должны убивать и сами должны погибнуть, а на самом деле вы работаете в газете и никого не убиваете. Тут, по-моему, противоречие…» [50: 62]. Значительно более важно, что декларируется подлинность, реальность картины, противопоставленной поэмному, лирическому контексту. Отсюда вытекает обилие предметных, осязаемых деталей: мотив еды, часто совмещенный с нематериальными категориями, например, «литературные блины», то есть дискуссия о литературе, совмещенная с поеданием блинов. В контексте авторского повествования 77 выразительная метафора «литературные блины» как часть известного фразеологизма блин («первый комом») может быть отнесена к характеристике образцов поэзии «риторической». Композиционный уровень рассказа также может быть осмыслен как своеобразная параллель к изображенному «поэмному» тексту. Сказано, что поэма «Голгофа» состояла из десяти песней, пронумерованных римскими цифрами, рассказ же состоит из девяти главок, имеющих аналогичную нумерацию. Неполное, частичное совпадение структур реального и изображенного текста, подчеркивает их соотнесенность, сопоставленность, но нетождественность друг другу. Ряд характерных особенностей проявляется на уровне сюжетнокомпозиционной структуры рассказа «Поэт». Во-первых, каждая главка начинается с временной и пространственной маркировки, данной по принципу дневниковых записей: «Это было в середине ноября, в дни великого перелома»; «Через неделю…В Грязях»; «Весь декабрь штаб пробыл в Воронеже» [50: 31, 38, 44] и т.д. Можно заметить, что к концу повествования время становится более сжатым. Маршрут движения достаточно точен: от села Куршак Тамбовской губернии до города Луганска. Во-вторых, почти каждая главка содержит стихотворное вкрапление. Первая глава – строфу из стихотворения А.А. Блока «Осенняя любовь»; вторая глава – фрагмент из народной баллады «Венера», нарочито искаженный; третья – двустишие Козьмы Пруткова и текст, стилизованный под малограмотный образец творчества начинающего автора и др. В результате возникает взаимопроникновением повествование, лирических и характеризующееся прозаических элементов. Функциональная значимость такой разнородной структуры многообразна. Главные персонажи - поэт и Этта, отождествленные с лирическими героями поэмы «Голгофа», приписываемой Гулевичу, получают двойное освещение, как реальные люди и как персонажи поэмы. Тем самым принцип зеркальности, ведущий к удвоению смысла конкретных деталей, мотивов на 78 сюжетном и стилевом уровне, а главное – сюжетно-композиционного повествования в целом, становится важной чертой поэтики и стилевой эволюции прозы И.И. Катаева. Анализ эволюционных аспектов творчества И.И. Катаева свидетельствует о том, что характер его эволюции был задан не только ходом литературного развития 1920-х гг., но во многом был обусловлен индивидуальными чертами стилевого и сюжетно-жанрового движения в творчестве самого писателя. К определяющим чертам этого развития следует отнести: а) переход от стихотворного типа речи к прозаическому, предопределивший не только начальную, но и последующую эволюцию И.И. Катаева; б) ослабление сюжетности в прозаическом повествовании и усиление лирического начала; в) известная степень жанровой нерасчлененности прозы И.И. Катаева, когда невозможно провести четкую грань между «рассказом» и «повестью», что, в частности, было отмечено прижизненной критикой; г) появление мифологической усложненности повествования, в частности, мифологического кода «еды»; д) принцип сюжетного и композиционного удвоения персонажей, ведущий порой к появлению композиционной структуры «текст в тексте». Таким образом, глубинная эволюция творчества И.И. Катаева в значительно большей мере была обусловлена влиянием поэзии на прозу. Это воздействие стихотворного этапа творчества проявлялось на протяжении всей эволюции творчества. Результатом взаимодействия поэзии и прозы в произведениях И.И. Катаева стало появление отчетливо выраженного эпического начала, глубинного мифологически - ассоциативного подтекста, что в целом вело к лиризму прозы писателя, как определяющей 79 индивидуальные особенности внутренней эволюции, выразившей уже в доминирующих чертах поэтики. 80 ГЛАВА II. МИФОЛОГИЗМ ПРОЗЫ И.И. КАТАЕВА 1920-1930-х гг. Эстетические искания И.И. Катаева в наиболее полном объеме выразились в поэтике его прозы конца 1920-х и начала 1930-х гг. Однако до сих пор недостаточно исследованной предстает поэтика этого писателя даже в самый зрелый период его творчества – 1920-е гг. Тем более что именно на этом этапе преобладала преимущественно художественная проза, тогда как в последующий период творчества – в 1930-е гг. – общая направленность творчества связана с созданием очерковой прозы. Одним из концептуализирующих факторов, предопределивших художественную концепцию и своеобразие поэтики И.И. Катаева, становится собственно эволюционный. Именно в 1920-е гг. многоплановость творческих исканий И.И. Катаева определяется общей направленностью его эволюции от поэзии к прозе, что обусловило, с одной стороны, лирическую составляющую собственно прозаических текстов писателя. С другой стороны, эволюционный аспект в поэтике И.И. Катаева включает в себя выраженное мифологическое начало, становление которого соотносится с эволюцией прозы писателя от собственно художественной к очерковой. Тяготение к мифологизму становится общей тенденцией литературного развития начала ХХ в., приобретая вместе с тем различные очертания и разнообразие форм проявляясь, как в творчестве отдельных писателей (А. Белый), так и в пределах одного произведения отдельного автора. По мнению Е.М. Мелетинского, мифологизм литературного текста в ХХ в. возникает в результате «реабилитации» и частичной апологетизации мифологии как вечного символического выражения основ человеческого бытия и человеческой психики, что выражается в обращении к мифологии как к средству структурирования повествования [129: 423-424]. Мифологизм может быть выражен в сложном взаимодействии в пределах одного 81 произведения разных текстов-источников (причем как мифологических и фольклорных, так и пространственной литературных). организации При текста этом в возможно сюжетной и одновременное синтезирование мифологических, фольклорных (чаще всего - сказочных) архетипических структур. Тем самым, в литературном тексте прослеживаются разные формы мифологизма: от прямого введения в текст компонентов традиционного мифа до его неявного (в разной степени) бытования, ведущего к самостоятельному мифотворчеству. Более того, опора на отдаленный мифологический архетип, отсылающий к мифологической семантике, но трактуемый в тексте в соответствии с собственными художественными задачами, зачастую приводит к парадоксальному «переворачиванию» мифа, превращению мифа в антимиф. При этом неизбежна утрата мифологической гармонизации представлений об окружающем мире и месте в нем человека, миф тем самым становится выражением одиночества индивида, его социальной неукорененности. Специфика мифологизма в художественной прозе И.И. Катаева, как основы, определяющей поэтику писателя, не была до сих пор предметом специального рассмотрения, что и предопределило задачи и структуру данной главы. 2.1. СВОЕОБРАЗИЕ МИФОЛОГИЗМА ПРОЗЫ И.И. КАТАЕВА Мифологизм как особенность поэтики возникает в творчестве И.И. Катаева на фоне реалистической традиции, однако, так или иначе соотнесенной с традицией неомифологизма. Основой ориентированного на миф творчества И.И. Катаева является его стихийный пантеизм и в дальнейшем, отчасти, панэстетизм, возникающий как реакция на усиление идеологизации литературы и глубоко связанный с попытками проникнуть в природу современной действительности с помощью эстетизированного мифа. Проза И.И. Катаева с самого начала оказывается высоко 82 интеллектуальной, направленной на саморефлексию. Ей присуще стремление выявить в современной жизни «общечеловеческое» содержание, «вечные» разрушительные или созидательные силы, вытекающие из природы человека, из общечеловеческих психологических и метафизических начал. Мифология в силу своей исконной символичности оказалась удобным языком описания вечных моделей личного и общественного поведения, неких сущностных законов социального и природного космоса. В отличие от неомифологизма начала ХХ в., И.И. Катаев не стремился к прямому введению в художественную ткань мифологических образов, сюжетов или вариаций, задаваемых мифом, обрядом или архаическим искусством. Прямые отсылки к мифологическим явлениям у Катаева единичны: например, образ Пана в стихотворном творчестве. Более развернуто позиция писателя по проблеме мифологического была раскрыта в статье «Искусство социалистического народа», содержание которой составили основные положения речи И.И. Катаева на общем собрании московских писателей 31 марта 1936 г., (опубликованы в журнале «Красная новь» и «Литературной газете»). Творчество алтайского писателя, основоположника ойротской литературы П.В. Кучияка, рассмотрено И.И. Катаевым как яркая составляющая литературного процесса 1920-1930 гг., интересного, прежде всего тем, что «национальная словесность на наших глазах становится литературой» [50: 493]. В поэме П.В. Кучияка «Темир-санаа» «декоративность, узорность текста, - пишет автор статьи, - выражена еще сильнее, <…> странные краски горят еще резче, все перевито иносказаниями, усыпано метафорами, а гипербола возводит мир в кубическую степень. <…> Внешняя условность алтайского национального эпоса, как и всякого другого, бесконечно далека от вычурности и бесполезной сложности столичной буржуазной литературы периода ее окончательного вырождения. Там, у народа – причудливость, а здесь – манерность. Там – детски-радостная игра воображения, здесь – старчески-усталое, невнятное бормотание. Там – сквозь все узоры всегда 83 сквозит ясный реалистический, вещий народный разум, здесь – перед нами угасающее бессильное сознание» [50: 494]. Судя по этим высказываниям, интерес писателя к национальной культуре вписывается в круг явлений, связанных с резко обозначившимся на рубеже XIX и XX вв. интересом к мифологическому наследию неевропейских народов, которое начинает восприниматься не только как эстетически полноценное, но в известном смысле и как высшее искусство, отвечающее современным запросам демократизма в искусстве. И.И. Катаеву было присуще понимание того, что в современной ему литературе своеобразие культурно-исторической ситуации делает возможным сосуществование элементов историзма и мифологизма, социального реализма и разнородной фольклорности. Еще одной характерной чертой мифологизма «нового искусства» являлось введение в круг художественных ценностей народного театра, изобразительного и прикладного искусства. В этом же русле лежал и интерес к сохранившейся обрядности, к легендам, поверьям, заговорам и заклинаниям и т. д. Для И.И. Катаева и ряда писателей-перевальцев таким открытием становится искусство Палеха, воспринятое как «чрезвычайное явление культуры», «лучшее, что мы имеем сейчас в советской живописи» [50: 500, 501]. «Для меня Палех важен не столько своими произведениями, даже первого десятка старейших своих мастеров… Поразителен этот небывалый взрыв искусств, - не только живописного, - потрясший древнее село и соседние деревни, изменивший их суть и облик. Поразительно зрелище сотен деревенских людей, втянутых, - не в художественную промышленность, - в настоящее дело искусства» [50: 501]. По мнению И.И. Катаева, городскому профессиональному писателю как никогда необходимо восприятие ценностей народного массового искусства. «Ведь это массовое искусство, - подчеркивает писатель, - почти всегда декоративно, орнаментально, часто зашифровано знаками древних традиций, полно неясных рудиментов,- оно большей частью архиусловно в 84 своих выразительных средствах, будь то рисунок, скульптура, былина или – тем более – вышивка или роспись по дереву и глине. Но мы знаем, что в предмете истинного народного искусства всегда горит реалистический смысл и часто самая условная форма наиболее совершенно и резко раскрывает этот смысл, что надо только уметь видеть его и понимать. <…> Форма произведений народного искусства вовсе не примитивна, а высока и сложна, да и непонятно, как это в примитивных формах может жить значительное, мудрое содержание, Ведь они всегда – эстетическое целое, в них – живая натура мастера, в них природа и эпоха, выраженные каждым изгибом произведения» [50: 502-503]. Тем самым представления И.И. Катаева о народном искусстве, его примитивности, условности и одновременно сложности смысла достаточно прозрачно проецируются на его собственное творчество. Мифологическое, как и фольклорное начало, оказываются, по представлениям писателя, сложным соединением, взаимопроникновением разнородных элементов: декоративности, орнаментальности и реалистической предметности, универсального и индивидуального. В художественной прозе И.И. Катаева 1920-х гг. отчетливо проступает собственное понимание мифологизма, однако соотнесенное в определенной степени с традицией мифологизма в творчестве других писателей этого времени. Мифологизирование как способ концептирования художественного пространства и видения в тексте становится определяющим в прозе 19201930-х гг. Соотношение мифологического и исторического в произведениях «неомифологического» искусства может быть самым различным – и количественно, и семантически. Сам спектр мифологического оказывается достаточно широким: от разбросанных в тексте отдельных образов-символов и параллелей, намекающих на возможность мифологической интерпретации изображаемого, до введения двух и более равноправных сюжетных линий: 85 ср. «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова. В прозе этого периода миф и, соответственно, мифологическое получают многообразное осмысление: вопервых, как выражение «естественного», не искаженного цивилизацией сознания человека; во-вторых, как отображение мира первогероев и первособытий, лишь варьирующихся в бесчисленных коллизиях истории; втретьих, как воплощение «коллективно-бессознательного» и своеобразная энциклопедия Впрочем, «архетипов». произведениях «неомифологических» и не эти мотивировки проводятся до в конца последовательно: позиции мифа и истории могут соотноситься не однозначно, а «мерцать» друг в друге, создавая сложную игру точек зрения. Поэтому очень частым признаком «неомифологических» произведений оказывается ирония — линия, идущая в России от А. Белого. Однако типичная для «неомифологических» текстов множественность точек зрения воплощает идеи релятивизма и непознаваемости мира; становясь художественным языком, она получает возможность отображать и другие представления о действительности, например идею «многоголосного» мира, значения которого возникают от сложного суммирования отдельных «голосов» и их соотношений. Специфично для многих произведений «неомифологического» искусства и то, что функцию мифов в них выполняют художественные тексты (преимущественно нарративного типа), а роль мифологем — цитаты и перефразировки из этих текстов. Мифы и литературные тексты, дешифрующие эту линию, могут составлять некое противоречивое единство: все они подчёркивают родство героев с первозданно прекрасным архаическим миром. Так «неомифологическое» произведение создаёт типичный для искусства XX в. панмифологизм, уравнивая миф, художественный текст, а зачастую и отождествлённые с мифом исторические ситуации. Но, с другой стороны, такое уравнивание мифа и произведений искусства заметно расширяет общую картину мира в «неомифологических» 86 текстах. Ценность архаического мифа, мифа и фольклора оказывается не противопоставленной искусству позднейших эпох, а сложно сопоставленной с высшими достижениями мировой культуры. «Ремифологизация» (термин Е.М. Мелетинского) XX в. хотя и связана, прежде всего, с искусством модернизма, но в силу разнообразных идейных и эстетических устремлений художников, обращавшихся к мифу, далеко к нему несводима. Тем самым, мифологизирование в XX в. стало орудием художественной организации материала не только для типично модернистских писателей, но и для некоторых писателей-реалистов, к числу которых относился И.И. Катаев. Мифологизм писателя находит выражение в скрытой мифологизации действительности. И.И. Катаеву было присуще представление о своем времени как особом, «начальном» времени. Поэтому его произведения 1920х гг. представляют собой некое единство, повествующее о событиях «раннего» времени – это как бы кирпичики вновь создающегося мира: создание «первых стихов» о революции и человеке («Поэт»), первый брак («Жена»), первая советская семья («В одной комнате»), первые кооперативы («Сердце»). Всему этому присуща идеализация «раннего» времени как «золотого века». Мифологизм в прозе И.И. Катаева находит выражение, с одной стороны, в создаваемой им картине мира, при всем сохранении четкой временной и пространственной приуроченности к реальности, бытовой эмпирии, стремящейся запечатлеть «вечные» темы (любовь, смерть, одиночество «я» в мире), но в коллизиях современной действительности. Это и подсвеченный символистской эстетикой урбанизированный мир («Сердце»), сложная меняющаяся картина деревни («Молоко»). Потребность в сложном соединении тем современности и осмысления «вечности» истории приводит писателя к созданию разнообразно структурированного мифологического подтекста в художественной прозе 1920-х гг., что позволяет рассматривать мифологическое в этой прозе как способ концептирования действительности. 87 С другой стороны, в прозе И.И. Катаева обнаруживается достаточно отчетливый пласт мифологического в виде отдельных мифологем или ритуально-обрядовых параллелей (замещений). В прозе писателя так или иначе воссозданы черты мифологемы «умирающего и воскресающего бога», причем в качестве метафоры, концептуализирующей движение истории, мифологемы «священной свадьбы» и другое. Однако в творчестве И.И. Катаева мы сталкиваемся в то же время с такой особенностью мифологизма, как разрушение традиционного мифа, его «переворачивания», что находит выражение в потенциальной нереализованности фольклорно-мифологического сюжета, одновременно создающего неоднозначность, многомерность авторской позиции. Еще одной формой мифологизации и художественного пространства и художественного смысла текста становится использование универсальной оппозиции «свой/чужой», «мужское/женское» в русской Оппозиция «мужское/женское». классике выступает универсальным классификатором, сексуализирующим мир, к тому же она предстает вариацией взаимодействия мифопоэтической оппозиции «свой - чужой» мир, что подкрепляется не только фольклорной поэтикой свадебного обряда или схемами волшебной сказки, но и фундаментальным для романтического сознания членением мира на эмпирический и умопостигаемый. Семантические комплексы «любовь-брак/семья», «мужчина-женщина» составляют общее тематическое ядро в прозе И.И. Катаева, именно эти оппозиции проясняют мифопоэтический/метафизический код в прочтении эмпирической темы. Следует признать, что в произведениях И.И. Катаева противопоставление женского и женственного обусловлено не только влиянием А.А. Блока. Указанный двойственный статус характеризует творчество и других писателей-символистов. Так же вызывающе противоречивы женские образы повестей А. Белого и романа Ф. Сологуба 88 «Мелкий бес», которые в свою очередь создавались с оглядкой на произведения Н.В. Гоголя. Истинный облик героинь «Серебряного голубя» и «Мелкого беса» тщательно скрывается от стороннего наблюдателя, однако в нем явственно угадывается символ демонической, плотской привлекательности. Женщины-ведьмы управляют безвольными мужчинами, увлекая их к бесчестию и гибели. Трактовка Этты Шпрах в повести И.И. Катаева «Поэт» соотносится с героинями символистской прозы, носительницами пагубной, злой земной страсти, напоминающей смерть и несущей гибель. Двойственность Этты Шпрах мотивирована тем, что она предстает в двух ипостасях: с одной стороны, как реальный человек, с другой – как прототип лирической героини поэмы Гулевича, его «муза». Ироническое осмысление она получает в связи с мотивом «болота», «лягушки», сопутствующего ей в оценке героя-повествователя: у нее «моросящие глаза», «плескающий смех», вялая бесформенная грудь, «в зеленом она еще больше похожа на лягушку» [50: 69]. Путь прочтения оппозиции «женское/мужское» состоит в соотношении с оппозицией «свой/чужой» мир через мифопоэтическую логику свадебной обрядности, согласно которой «невеста» представительствует «чужой», потусторонний мир и являет собой эротический аспект смерти, а «свадьба» соотносится с «похоронами». В реализации любовно-семейной темы в значительной степени просматривается биографический подтекст автора, рано покинувшего родной мир и семейный круг. Распространенный мотив сурового отца и сурового мужа в повести «Поэт», рассказах «Жена» и «Молоко», сохраняя злободневный социально-бытовой аспект, в результате введения цитат, получает обобщенный смысл. Отцы прямо или косвенно также соотнесены с инфернальной сферой и «чужим» миром, либо выступают пассивными орудиями злой силы, либо наделены признаками, которые в фольклорно-мифологической системе имеют инфернальную семантизацию (одноглазость и пр.). 89 Кроме того, предикации «суровых» отцов делают их эквивалентными с нижними мифологическими стихиями, отмеченными эротической экспансией и узурпацией. «Суровый», «строгий» отец ассоциируется и с ветхозаветной Отчей суровостью и хтонической ипостасью родительской сферы. В общем, родители представлены как отсутствующие / неподлинные родители, а дети – полные или частичные сироты, стремящиеся в любви и браке обрести семью, а в возлюбленной / возлюбленном «отца и мать». Сакрализация возлюбленных сакрализует тему любви и брака, мистический контекст проясняет значение возлюбленной / возлюбленного как «отца и матери», их соединение как строительство Церкви. Романтизм говорит о любви как о встрече со своей половиной души. Поэтому «я» не мыслится в романтизме без «другого», но «другой! – это то же самое «я», поскольку земное «я» - всего лишь часть метафизического целого. Различные коллизии восстановления сакрального миропорядка, эквивалентом которого становится мотивика брака, нового дома, Богоматери (парадигматический мотив возлюбленной / царицы / мадонны / матери / Богоматери). Мотивы милосердия, кротости ассоциируют героиню с иконографической Богоматерью. Эти признаки отождествляют ее не только с матерью / Богоматерью, но и с мистическими «царицей», «невестой» и «душой». Ср. гностическое отождествление «души» с «женой». Отождествление «души» не только с «царицей», но и с «невестой» / «женой», типичные для мистической традиции, а также важно отметить, что понятию Красоты в теософском значении всегда сопутствует мистическая мотивика брака Жениха и Невесты. Итак, «красавицы» / «царицы» наделяются сакральными признаками и им приписываются сакральные функции Матери - Отца. Мать соотносится с Богоматерью / Царицей Небесною / иконой Богоматери. Культ Богоматери, характерный для народного православия, навеянный общеромантической литературной традицией, ставящего ее выше Христа, несомненно, повлиял на И.И. Катаева. 90 В разработке тематического комплекса «мужчина и женщина» в прозе И.И. Катаева 1920-х гг. можно усмотреть черты, унаследованные от символистов и в целом от общей мистико-романтической литературной традиции, связанной с «софийностью», культом женщины, матери, брака, семьи. Наиболее отчетливо эта тенденция прослеживается в русской литературе, начиная от Н.В. Гоголя и заканчивая А.А. Блоком. Рассказ И.И. Катаева «Жена» (1927) хронологически предшествует повести «Поэт» и имеет общие черты тематики и проблематики. Заглавие рассказа «Жена» в какой-то мере воспринимается как отсылка к символистскому комплексу «Мать, Сестра и Жена». Если тип «невесты» соответствует героиням рассказов «Поэт», «Молоко», то Варе Стригуновой, героине рассказа «Жена», в какой-то степени приданы черты софийности. Эта героиня предваряет высший тип женского начала – Мать, который появляется в рассказах И.И. Катаева начала 1930-х гг. – «Ленинградское шоссе» (1932), и отчасти - «В одной комнате» (1933). В отношении рассказа «Жена» следует особо выделить характерный для И.И. Катаева «блоковский» цитатный слой. В заглавии рассказа явственно слышны отзвуки философскомистической концепции А.А. Блока о Душе Мира – Вечной Женственности, воплощенной в триединстве Мать и Сестра и Жена. Однако в сюжетной структуре рассказа экстатически возвышенный пафос лирики А.А. Блока снят, преобладает иронически отстраненный взгляд. Первая фраза рассказа: «Вода пробегала вдоль борта, густая на вид и гладкая» и следующий за ней фрагмент об изяществе и «красоте водных вертикалей, сравнимых только с очертаниями человеческого тела» [50: 165], вводят характерный для романтического ландшафта мотив гармонического единения мира природы и человека, который обычно соотносился с мотивами покоя, тишины и примыкающим к ним мотивом встречи. Однако в пространстве рассказа этот мотив словно отсрочен, вернее, встреча двух давних сослуживцев уже произошла раньше, об этом мы узнаем из 91 дальнейшего повествования: «Странны эти московские встречи с людьми, которых вовсе было оттиснули и спрятали годы. Кто планирует эти пристальные, туго узнающие взгляды в трамваях, в банях, в коридорах МК и ЦК, эти восторженные или натянутые «А-а!..», эти размашистые или осторожные рукопожатия?» [50: 166]. Составляющими мотива встречи часто становятся мотивы активизации духовной энергии, направленной на воспоминание, возвращение, углубления в себя и созерцания невидимого, невыразимого. У И.И. Катаева мотив мистического контакта заменен мотивом погружения в прошлое, которое переплетено с настоящим и ассоциировано с характерным образом воды, символизируя слитность и нераздельность времени: «прошлое, неотступное, все еще живое, заструилось быстрее, стало отчетливей. Так бывает, когда двое, глядя друг другу в глаза, входят в его туманы», «три струи времени сошлись во мне после стригуновского рассказа», «далекий год встал передо мной, как вчера, беспокоящий и счастливый, как все ушедшее» [50: 180, 169]. Присутствие водных гладей вводит символику зеркала, тишины, с которыми связан мотив двойника. В рассказе также присутствуют эти мотивы, хотя и в неакцентированной форме. Героя рассказа и героя-повествователя сближает прошлое, оба – участники гражданской войны, их сблизила служба в армейском политотделе, кроме того, в дальнейшем возникает мысль о том, что повествователь «лучше других знал Стригунова и больше всех мог о нем говорить». В воспоминаниях повествователя прошлое идеализируется, несмотря на то, что это было время тяжелых испытаний: «мужское одиночество и заброшенность, голод, бытовая неустроенность, войны, голодовки, бродяжество», но с этим временем связано и счастье, так как все любили друг друга и верили в то, что «жизнь будет большая». Как будто бы в унисон воспоминаниям повествователя звучат слова Стригунова: «Годы хорошие, попрекнуть ничем нельзя. Веселое время, энтузиазм», однако далее 92 он высказывает главное: «Но приходится за эти-то порывы платиться. Многое из того, что мы тогда наглупили до сих пор отзывается». «Грустный пережиток прошлого» - это его жена. «В те годы все люди, окружавшие меня действительно были хороши и друг друга любили» [50: 172]. В интонации этой фразы повествователя чувствуется возможность иной оценки. Прежде всего, это связано это с двойственностью образа Стригунова, мотивированной удвоением временных пластов. Сегодняшний облик Стригунова словно корректирует воспоминания и он видится повествователю в ироническом освещении: «Стригунов был серьезен, вшив и больше всего хотел есть» [50: 170]. Мотив реки актуализирует антитезу двух пластов жизненных впечатлений и людей, связанных с прошлым и настоящим. И, прежде всего, следует сказать о противопоставленности в пределах рассказа Стригунова и его жены Вари. С обликом Стригунова связаны мотивы холода, неустроенности, неполноты жизни: «прищуренные глаза цвета ноярьского неба» [50: 166], «лицо Стригунова, поглощенное очками, показалось мне нечеловечески скудным, почти исчезающим. Я смотрел на его сухие, будто всосанные внутрь щеки, на светлые и редкие волосы его, далеко отступающие перед заливами лба» [50: 168], «он уже был, по всем видимостям, идеолог и академик в эмбрионе, популярный в своем кругу, по-свойски острящий на собраниях, несмотря на некоторое косноязычие и связанность в движениях» [50: 168]. Варя несет в себе символику огня, жара, зноя. Ср. мотив румянца, горячих щек у Вари: «Варя появилась с горой блинов, немного испуганная, с голыми руками и разрумяненными от жара щеками», «Ветер летит над Звенигородом, остужает жаркие Варины щеки» [50: 171,180]. Эпитет румяный в системе лейтмотивов творчества И.И. Катаева в целом и в пределах данного рассказа в частности обладает особой значимостью, так как эта характеристика отличается устойчивостью и, по сути, является главной 93 оценочной категорией в подходе к тому или иному персонажу, явлению: «Годы пошли иные, румяные; крупные яблоки падали в садах, крупные дети родились…»[50: 173]. Заметен в контексте рассказа также фрагмент, в котором жар, огонь имеет невещественное значение: «Варю просили плясать, и она поплыла в медлительной наурской, поглядывая на нас с важностью и далеким огнем в глазах» [50: 171]. Продолжен мотив жара и в косвенных деталях, при этом жар эквивалентен страсти: любовь Стригунова и Вари развивается по правилам жестокого романса: «ураганно цвела белая акация», «городишко задыхался в сладком пьяном дыму», «августовские опаленные ночи, проведенные в желтой траве на берегу глинистой и бурной речушки, совсем ослабили Варю. Она гладила ему волосы, целовала ему руки» [50: 169]. У И.И. Катаева мужчины не являются инициаторами брачных отношений, часто они находятся в плену ложных идей, именно с женщиной связано активное стремление к любовным отношениям, браку, семье. О женитьбе Стригуновых говорится так: «Он поведал, как это вышло. Ночью к нему постучали в окно, он отпер, вошла Варя. Она постояла, разматывая и сматывая клубок шпагата, …крепко взяла его за руку… вывела его, упирающегося… повела на площадь…, отперла ключом дверь какого-то дома и ввела в комнату. Там уже стояла чистая раскрытая постель, на стене висели календарь и портрет Луначарского. – Тут мы жить будем, - заявила Варя, - пожалуйста, дурака не валяй. Стригунов остался» [50: 170]. В отличие от героини рассказа «Поэт» Этты Шпрах, которая вписывается в систему «низких» героинь, носительниц плотской страсти, влекущих мужчин к гибели, Варя представляет собой тип женщины в их материнской ипостаси – хранительницы традиций, определенной консервативности, устойчивости. С ними связаны мотивы кормления, еды, она полюбила Стригунова за «несчастность», в ее любви силен момент самопожертвования. Несмотря на то, что брак Вари и Стригунова не стал олицетворением гармоничного брака 94 земли и неба, сакральность его подчеркнута замечанием о том, что «это был первый в нашей жизни брак, на наших глазах, после стольких лет мужского одиночества и заброшенности. Мы радостно следили за ним, зная, каждый про себя, что и нам вскоре не миновать этого. В то время только начинала расти та волна настоящих любовей, женитьб и поспешных деторождений, которая потом могущественно пошла по всей России» [50: 172]. Варя, так же, как и Стригунов предстает в двойном освещении, но двойственность ее облика обусловлена не удвоением временных пластов, а неоднородностью сюжетно-композиционной структуры рассказа. В состав ее входят следующие фрагменты: вступление и эпизод с катанием на лодке; описание встречи Стригунова с повествователем; описание вечерней Москвы-реки и ее берегов; воспоминание о прошлом; рассказ Стригунова; панорама Москвы и мысли о прошлом, воспоминания о разрушенном доме. Кроме того, в рамках этих мотивов развивается также противопоставление героев по другим признакам. С Варей связан круг мотивов, характеризующих здоровье, изобилие, щедрость, то есть телесное, материальное благополучие. Ее принадлежность стихии земли, природное начало подчеркивается в повествовании рядом деталей: «Варя – политотдельская хористка, желтоволосое и толстоногое контральто» [50: 169], с ней также связан мотив кормления, съестного изобилия: «Варя встает, чтобы подбавить мне супу или положить на тарелку кусок баранины с толстым белым жиром. «Только рассказывай, голубчик, а я уж тебя закормлю», - читаю я в Вариных движениях», «Варя глядела на наши напряженно шевелящиеся в жевании впалые щеки с неизменным ласковым любопытством» [50: 172, 173]. Голод, поглощение пищи связаны со Стригуновым: «Он мог гулять, с удовольствием ел баклажаны и мамалыгу с черемшой, но больше ничего не умел» [50: 170]. Этот брак воспринят как удачная для всех женитьба. «Многие из нас стали шутить, что зачислились на паек у Стригуновых. Мать просила «хоть тишком да обвенчаться», 95 сама Варя никогда не заикалась насчет церкви, подала заявление в партию», «Стригунов – молодечески воспрянул, залился по митингам, победительный. Было похоже, что он почувствовал за собой надежную стену заботливого обожания, чистого белья, обдуманных обедов и уверовал в свое предназначение» [50: 170-172]. Любимые герои И.И. Катаева - Журавлев («Сердце»), Гулевич («Поэт») характеризовались такими признаками как «задумчивость», «беспокойство», «сиротство», которые традиционно указывали на принадлежность персонажа высокому миру. В рассказе «Жена» в облике антигероя Стригунова эти же признаки характеризуют ханжество, суету, отсутствие живого непосредственного чувства. Дальнейшим развитием мотивов жара/холод в антитезе Стригунова и Вари становится антитеза загар/бледность. Неоднократно подчеркивается в тексте неестественная бледность и худоба Стригунова: «Он мужественно засучил рукава, и теперь мне грустно было видеть его худые комнатноголубоватые руки. Все такой же он, узкоплечий и добропорядочный, лишенный живой веселости, той, что с кровью гуляет в теле, и тщательно веселящийся, когда это, по его мнению, нужно для пользы дела» [50: 166]. Контрастом к неумелой гребле и неспортивной фигуре Стригунова выглядит описание молодежи на Москве-реке: «Летят по воде неслышные гички, взмах десяти весел, как сладостный вздох внимания. Кишат народом, пестреют полосатыми костюмами, блещут голыми плечами деревянные амфитеатры купален.<…> Сюда манит за собой загорелая, златокудрая юность, мчащаяся на легких веслах, а ля брасс и острым плечом рассекающая волны, шумно плескающаяся в водяном поло» [50: 167]. Образ загорелой и златокудрой юности при всей своей советской плакатности и эталонности, апеллирует к высказанному И.И. Катаевым в его статьях о литературе пониманию гармонического человека как полноценной и полнокровной личности, сохранившей «богатство и тонкость души, 96 способность откликаться ею на разнообразнейшие и мельчайшие прикосновения мира» [50: 481]. Именно душевная отзывчивость, умение сопереживать, даже в некоторой степени жертвенность, по И.И. Катаеву, важнее, скажем, учености, образованности. Неслучайно имя героини можно трактовать в традиции значащих имен. «Варвара», означает «дикарка», и этот аспект получает развитие в истории, рассказанной Стригуновым. Он, «академик в эмбрионе» начинает тяготиться малограмотной женой, строго выговаривая ей: «Брось, Варя, слезами тут не поможешь, учиться надо, работать над собой». Последовавшая за этим наивная и беспомощная попытка подняться в глазах мужа путем переписывания пейзажей из Тургенева, Чехова, СтепнякаКравчинского в письмах, адресованных ему, ставит точку в их отношениях. Уличенная им в обмане, Варя с ужасом смотрит на мужа «бледная, ну как бумага, и глаза огромные, будто смерть перед ней» [50: 178]. Он «ей выговор закатил форменный, выявил всю дикость ее поступка. Она прощения просила» [50: 178]. Здесь распространенный мотив сурового отца и сурового мужа вновь, так же как и в других рассказах, например, в рассказе «Молоко», получает обобщенный смысл, при этом, характерная для поэтики символизма соотнесенность с инфернальной сферой и «чужим» миром, трансформирована в вполне актуальный социально-бытовой аспект. В рассказе И.И. Катаева эти мотивы воплощены в бледности, худобе, косноязычии Стригунова. Принадлежность его злой, «болотной» стихии реализуется через предметную косвенную деталь: непомерно круглые очки в черной оправе становятся объектом насмешек девиц в лодке: «Очки нацепил лягушачьи, а грести не умеет»; мотивика холода фиксируется в метафоре: за круглыми очками Стригунова - прищуренные глаза цвета ноябрьского неба. «Лягушачье» во внешности Стригунова, вписанное в контекст холода, образует в пределах прозы 1920-х гг. устойчивый лейтмотив, имеющий 97 оценочно-характерологическое значение. В рассказе «Поэт», например, сравнение с лягушкой отнесено к Этте Шпрах, из-за которой гибнет поэт. Заикание Стригунова также можно рассматривать в данном мифологическом ключе, соотносимом с темой косноязычия инфернального персонажа в символистско-романтической традиции. В рассказе подчеркнута необычайная склонность Стригунова к «выступлениям на собраниях и митингах, заикаясь, торжественно и грозно требовать наказания, расправы». Рассказывая о своей жене, Стригунов словно продолжает свои митинговые речи: «В общем, стала она заметно развиваться, разбирается во всем самостоятельно, со всеми, кто ко мне зайдет, разговаривает, …довольно дельные замечания»; «глупа она стала совсем, вполне объективно говорю. Куда же она пойдет? … квалификации у нее никакой, висит на мне этот груз. Грустный, так сказать, пережиток военного коммунизма» [50: 175, 179]. В его восприятии Варя утрачивает черты «зари», «невесты», «изобилия», эти мотивы трансформированы в «нескладность», «тяжесть»: «Она ведь нескладная, здоровенная. Так она идет вдалеке, каблуки гремят, а меня уж всего передергивает» [50: 178-179]. Мотив сурового мужа, отца можно рассматривать как своеобразную отсылку к герою А.А. Блока «стриндберговского» типа (З.Г. Минц). Появление героя «стриндбергского» типа предусматривает сочетание образа сильного мужчины и страдающей женщины. Он мечтает о «священном мече войны» и жертвенно отказывается от «красивых уютов», от счастья, которое заставляет забыть героику «битв». По отношению к герою рассказа «Жена» применение данной типологии вряд ли уместно в таком же целостном виде. В герое И.И. Катаева «северное» происхождение образа замкнуто лишь в рамках иронического повествования, стремление к «битвам» также трансформировано в словесные баталии советского «академика в эмбрионе» и «идеолога». Случаи цитации стихов А.А. Блока в рассказе И.И. Катаева, как видим, достаточно многочисленны, в указанных фрагментах преобладают главным 98 образом ситуационные цитаты, воспроизводящие самые общие черты блоковского текста. Однако можно выделить и более детальное цитирование, сохраняющее там, где это возможно, лексические и сюжетные составляющие исходного текста. Далее уместно будет рассмотреть случаи дословного и ситуационного цитирования лирики А.А. Блока в структуре самого рассказа И.И. Катаева. Упомянутая выше ситуация двойного взгляда на героиню, соотносятся в какой-то мере с мотивом изменчивости лирической героини и двойственности ее восприятия лирическим героем «Стихов о Прекрасной Даме». Мотив мистического ожидания Прекрасной Дамы сопровождается священным восторгом и трепетом лирического героя, в преддверии Ее прихода он испытывает чувство мистического ужаса: «Я жду призыва, ищу ответа // Немеет небо, земля в молчаньи // Все мнятся тайны грядущей встречи // Свиданий ясных, но мимолетных // Я жду - и трепет объемлет новый // Все ярче небо, молчанье глуше…». Напряженность ожидания усилена грозовой атмосферой, Ее появление предваряют отзвуки грозы: «В светлый миг услышим звуки // отходящих бурь» [73: 17, 45]. В рассказе И.И. Катаева данный мотив звучит в сниженном варианте: «Так она идет вдалеке, каблуки гремят, а меня уж всего передергивает». Знаком Ее приближения в лирике выступает ветер: «С ними и в утро туманное, // Солнце и ветер в лицо! // С ними подруга желанная // Всходит ко мне на крыльцо!» [73: 20]. Фраза повествователя о том, что до прихода нашей армии Варя «пела в церковном хору» без сомнения отсылает к блоковскому: «Девушка пела в церковном хоре». В катаевском рассказе, кроме названных выше образов огня и жара, как устойчивых примет облика Вари, в конце рассказа также возникает образ ветра, который соотносит героиню с повествователем и его раздумьями о временных потоках. «Ночной западный ветер летит над Звенигородом, 99 остужает жаркие Варины щеки – я не видел их шесть лет, потом Москварека туманной белой лентой вьется внизу, в полях, потом дачные поселки, огороды, душные каналы улиц, и вот уже ветер шевелит мои волосы, а я молча нажимаю на весла» [50: 180]. Символика художественного времени в прозе И.И. Катаева часто ассоциирована с течением водяных струй. Восприятие движения времени как движения речных струй ярко звучит и в рассказе «Жена», и рассказе «Молоко»: «Как еще смутно, растерто и слитно вокруг! Нигде не найдешь резких границ и точных линий… Не поймаешь ни конца, ни начала, - все течет, переливается, плещет, и тонут в этом жадном потоке отдельные судьбы, заслуги и вины, и влачит их поток в незнаемую даль… не в этом ли вечном течении победа жизни? Должно быть так. А все-таки страшновато и зябко на душе…» [50: 266]. В рассказе «Жена», по признанию повествователя, «три струи времени сошлись во мне после стригуновского рассказа». Это первые послеоктябрьские месяцы, гражданская война и мирная жизнь 1920-1930-х гг. Сложное переплетение временных пластов соотносится и с аналогичным восприятием художественного пространства. Москва видится повествователю в единстве и неразрывности времени и пространства: «Почувствовал этот город весь сразу … в полях и годах, при мне и без меня» [50: 180]. В структуре связующим рассказа мотив реки и катания началом воспоминанием фрагментов повествователя и повествования, рассказом на лодке является представленных Стригунова. Рассказ и воспоминание взаимно противопоставлены и по отношению субъектов речи к героине, и по стилевым и эмоциональным компонентам. Лейтмотив реки, лодки актуализирует ряд подтекстов, один из которых связывает брак, женитьбу с рекой. Тема переправы, реки, разделяющей невесту и жениха, общеизвестная семантическая модель в фольклоре. Однако этот мотив у И.И. Катаева имеет не фольклорное происхождение, он дан опосредованно - через лирику А.А. Блока. Г.А. Левинтон утверждает, что данный мотив встречается 100 у А.А. Блока во многих текстах. «Покрывало, накинутое на невесту, объяснялось как отражение брака неба и земли, покрывало уподоблялось туману, облегающему весной землю, алый цвет символизировал алую предрассветную зарю». «Невеста по полю идет хмарою, а в хату входит зарею» [113: 84]. Обращает на себя внимание следующий ряд цитатных вкраплений лирики А.А. Блока в тексте рассказа И.И. Катаева: И правит окриками пьяными // Весенний и тлетворный дух // Вдали над пылью переулочной // Над скукой загородных дач //<…> Среди канав гуляют с дамами // Испытанные остряки // Над озером скрипят уключины // И раздается женский визг // А в небе, ко всему приученный // Бессмысленный кривится диск // И каждый вечер, в час назначенный // Иль это только снится мне? // <…> И вижу берег очарованный // И очарованную даль // [73: 72] В текстах И.И. Катаева блоковские цитаты приобретают следующие очертания: «Пустые и сожженные июльские вечера, июльская пыльная застарелая скука владычествует над обоими берегами, над всем этим окраинным миром»; «дачные поселки, огороды, душные каналы улиц»; «И усталость- усталость в мертвом воздухе, пронзенном горячим закатным лучом, в садах, опустивших ветви к воде, в реке, которая уже замерла и не дышит»; «Левый берег – скучные насыпи, сточные канавы…»; «Незатихаемый гам стоит кругом – дальняя перекличка вокзалов, гармонь и лодочные заливистые песни»; «взвизгнула девица с резвыми кудельками»; «Багровое расплющенное солнце ушло за крышу»; «над другим пологим берегом разлилась уже просторная заря»; «над левым берегом рдяная заря стала грозней и гуще» [50: 165-174]. Таким образом, тема семьи, супружества в рассказе обладает двойственностью. С одной стороны - это представление о семье, браке как 101 символа восстановления «благой жизни»: «Годы пошли иные, румяные; крупные яблоки падали в садах, крупные дети родились» [50: 173]. С другой стороны, неистинный, лишенный гармонии брак, по определению Стригунова «неравный брак у нас вышел, вроде как морганатический, знаешь – были раньше» [50: 175], является символом кризиса в человеческих отношениях, в конечном итоге - разрушения и хаоса. В конце рассказа возникает красноречивый образ разрушенного дома: «Здесь, сейчас за Крымским мостом, рядом с нынешним кустарным павильоном, стояли когда-то на пустыре два одиноких дома. В одном из них я жил и встретил страшную для меня неделю октябрьских боев. Первые же послеоктябрьские месяцы закрутили меня, как лист, и я попал сюда только в девятнадцатом. Проходя по Крымскому валу, я привычно взглянул на свой дом и сквозь него увидел небо: он был разгромлен или сгорел, - не знаю, только все внутри него обрушилось, и торчали голые балки. В двадцать третьем оба дома были снесены под выставку. Их нет. Я только в воздухе могу показать: вот тут, на четвертом этаже, была наша столовая. Еще я могу закрыть глаза и вспомнить этот дом, как вспоминают лицо умершего человека» [50: 180]. Мотив дома, семьи традиционно являлся исходной точкой путешествия. В фольклорном и романтическом сюжете путешествие в «иной» мир является необходимым условием финального брачного союза и прочитывается как инициация героя, подразумевающая умирание / падение и новое рождение / воскрешение / очищение героя, его освобождение из-под власти ложной сферы. Идиллический полный семейный круг, наличие «духовного отца» - признак «благой жизни» и прочитывается в метафизическом контексте как эквивалент «небесной семьи», «дома». Таким образом, семейный финал должен упрощенно восстанавливать благостный миропорядок в его эмпирическом и метафизическом значении. Возвращение и обретение «дома» в финале и в эмпирическом, и метафизическом значении должно было стать смысловым полюсом странствия. Однако, как видим, в 102 рассказе И.И. Катаева «Жена» невписанность в традицию романтического сюжета имеет принципиальное значение, тем самым, сигнализируя о невозможности обретения гармонии в современном обществе. Тема пищи - материальной и духовной - в рассказе имеет и мифологическую, и литературную кодификацию. Прежде всего, следует отметить, что ‘еда’, поглощение пищи, утоление голода, подобно древним представлениям, связаны с мыслью о соотнесенности с моментами жизни и смерти, умирания и воскрешения, соединения полов, выражая в своей основе архетипическую соотнесенность с обрядами жизненного цикла, с ритуальной цикличностью вообще. Образы 'еды' принято рассматривать как содержательные единицы, с помощью которых активизируются компоненты художественного текста. В эмоциональные и ценностные прозе И.И. Катаева эти образы реализуются в различных вариациях, участвуя в образовании смыслов, и имеют не только эмоционально-экспрессивную, но и этическую функции. Данная тема для писателя совсем не случайна. Еще на стихотворном этапе творчества она звучит, однако, в противоположном значении: ранняя поэма самого И.И. Катаева носит название «Голод». Нельзя не отметить созвучие названия с названием поэмы героя рассказа «Поэт» - «Голгофа». Образ еды, съестного изобилия или, напротив, съестной скудности является органической частью художественного текста, способной оттенять и дополнять сюжетное событие в тексте культурно-историческими элементами, необходимыми для создания достоверности художественного изображения. В прозе И.И. Катаева ярко выражено стремление внести в описание еды и процесса приема пищи символический смысл. Нередко в текст вводятся элементы словесного натюрморта, описания застолья и процесса приготовления пищи. Застолье и приготовление пищи могут быть рассмотрены как некие ритуализованные действия. Отдельная культурная область «еда» представляет собой особый язык - язык культуры: не только 103 потому, что здесь находит себе выражение в материальных формах духовное содержание, но и потому еще, что текст на этом языке читается лишь на основе культурно-исторических ассоциаций. В повести «Поэт» находит выражение традиционное представление о патриархальности сельской жизни с ее буйством еды и контрастное противопоставление деревенского мира городскому, причем неизменно сохраняется оппозиция севера и юга: «Ни за какое дело не хотелось браться: а вдруг завтра тронемся!... Что же оставалось? Еда! Пристанционная округа трещала от грузного съестного изобилия. На платформе с утра до вечера дежурили густые шеренги баб, нагруженных всяческой смачной снедью. Бабы – все как на подбор рослые, многоярусные, наглые – наперебой закликали штабных, гонялись за ними, навязывали свой товар, уговаривая их сладкими голосами и шипя друг на друга. Пышные буханки пшеничного хлеба, ковриги крутопосоленного сала, украинские колбасы, толстые, как удав, солнечно-янтарные от масла тушки жареных кур и гусей, пузатые глечики и горшочки с маслом, молоком, сметаной – все эти давно позабытые и оплаканные северянами блага атаковали изголодавшийся штаб в первый же час после прибытия и с тех пор не отступали ни на один шаг» [50: 56]. С едой, кроме того, связано представление о преодолении смерти, об обновлении жизни, о воскресении: «Еще не оправившись как следует от тифа, я ходил слабый и шаткий, с бессмысленной младенческой улыбкой <…> Я улыбался блаженно каждому знакомому лицу, <…> и толстому, бугроватому обрубку колбасы, которая должна войти в меня вместе с ломтем доброго мягкого хлеба и прибавить мне густой крови» [50: 54]. Как правило, застолье, имеющее статус сюжетного события, содержит некие ритуализированные действия, которые строятся по определенной 104 схеме, которую можно свести к следующим моментам: еда, разговор, танцы, песни, тосты. Однако в рассказе «Поэт», рисующем картины «теплушечного» быта, данная схема, характеризующая основательный, оседлый патриархальный быт, «не работает». Чаще всего застолья в традиционном понимании нет - начальник штаба ест пшенную кашу за рабочим столом: «сухие скулы Ивана Яковлевича напряженно двигались, - он жевал беззубыми деснами. Каша сыпалась на его стеганую солдатскую телогрейку» [50: 33]. По ходу он просматривает анкету Гулевича, решает, куда направить новобранца. При этом рассказчик замечает, что Гулевич сидел, как невеста на смотринах, потупив глаза. Тональность беседы имеет характер поединка, пикировки, что подчеркнуто жестами и интонацией: «Питаете ли вы симпатию к лошадям, фуражу, сбруе и прочим таким изящным предметам? - Иван Яковлевич вопросительно сощурился. Гулевич приподнял подбородок, поправил пенсне на носу и ответил с легкой обидой в голосе»; «отозвался громко и рассерженно»; «Иван Яковлевич выпятил губы так, что верхняя подошла к самому носу, и старушечьи засмеялся: кхе-кхе-кхе… - Поэт?- переспросил он, смеясь, - и талантливый? Александр Гулевич… что-то не слыхал, Александра Пушкина знаю, Александра Грибоедова, Александра Блока… Гулевич передернул плечами» [50: 34]. Подчеркнутая значимость пищевого кода в рассказе ведет к мифологической аналогии. В мифологии, по свидетельству О.М. Фрейденберг, обряды еды прикреплены к воскресающим богам, отсюда и древние «пиры бессмертия», нектары и амброзии, дающие избавление от смерти и вечную молодость. В античности, как заметила исследователь, когда случалось бедствие (мор, смертельная опасность, война), сейчас же прибегали к пульвинариям и всякого рода культовым и общественнообрядовым трапезам, это была искупительная жертва, избавлявшая от смерти [153: 118]. Поэтому и в рассказе Катаева роль еды, снеди, может иметь 105 подобное толкование: «И люди ели. Нет, не ели, а жрали,- баснословно, умопомрачительно. С этим обжорством не могло и в сравнение идти куршакское пшенное благополучие. Оно казалось бедным, постным, наивным. Здесь круглый день жевали что-нибудь сочное и сдобное. Жевали сидя, лежа, на ходу. В одиночку, попарно, компаниями. Кипящим маслом плевались сковородки, трещали раздираемые кости, желтое сало текло по щекам» [50: 56]. Неслучайно, Гулевич, проповедующий идею революционной жертвы и уверенный в обреченности всего поколения, равнодушен к еде, его «голодная улыбка» и «черные, гнилые зубы» косвенным образом свидетельствуют о характере его умонастроения. Морозов же, играющий при нем роль повара, может быть соотнесен с мифологическим жрецом, чьи охранительные действия призваны защитить поэта, спасти от смерти. Вместе с тем, возвращаясь к проблеме мифологического кода в рассказе, следует заметить, что подтверждением обоснованности мифологической интерпретации сюжета может быть наличие в нем мотива борьбы, единоборства, приуроченного к теме еды. Борьба рукопашная, единоборство занимает в производственной и общественной жизни первобытных охотников одно из главных мест; борьба — то центральное событие, которое мировоззренчески главенствует в охотничьей системе образов. Тотема убивают в рукопашной, затем разрывают и едят: вот почему еда семантически увязывается с борьбой и поединком. В позднейшем обряде и обычае во время еды устраивается единоборство; самая еда и питье тоже становятся борьбой, позже состязанием, и в мифе одно принимает характер другого; метафора 'еды' уравнивается с метафорой 'борьбы'. Однако этот мотив в пределах рассказа предстает в усеченном виде, как его своеобразное замещение выступает литературный спор, которому предшествовало поедание «несчетного количества блинов со всеми прилагательными» [50: 57]. Предметом спора становятся «настоящие», а не «служебные» стихи Гулевича, которые один из участников «раскритиковал в пух и прах, заявил, 106 что это самые обычные слова, только в рифму. От поэзии Федя требовал громовой торжественности и обязательно – преувеличений» [50: 58]. Рассказчик оценил их как «очень грустные и тихие». Стихотворный фрагмент, который воспроизводится в тексте, по сути, есть описание ритуала: «На площади Красной без тихих молитв / Хоронят героев, павших средь битв». В сюжетном отношении этот текст предваряет финал рассказа, с описанием похорон самого Гулевича. Мифологический код, таким образом, позволяет органично совместить два плана сопоставления Гулевича и Морозова – материальный и духовный. Морозов как двойник Гулевича близок к нему как носитель народного, а, следовательно, истинного и искреннего творчества. Лирический песенный жанр, представленный как в творчестве Гулевича (поэма «Голгофа» состоит из десяти песней), так и творчестве Морозова (песня об Охотнике и Венере), и противостоит образцам «риторической поэзии». Проза И.И. Катаева в лучших своих проявлениях отличается отчетливо выраженной ориентированностью на миф, что, при сохранении реалистической основы этой прозы в жанрово-стилевом плане (повесть, рассказ, очерк), становится моментом своеобразной реакции на усиливающуюся идеологизацию литературы 1920-х гг. Именно этим качеством произведения И.И. Катаева конца 1920-х гг. существенно выбивались как из общего контекста, так и эпигонских тенденций, знаменуя поиски совершенно новых путей эстетических исканий. При этом цементирующим мифологизм, началом становится представляющий, трансформацию действительности. индивидуально как показывает символистского способа преломленный анализ, творческую концептирования 107 2.2. МИФОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДТЕКСТ В РАССКАЗЕ «МОЛОКО» В эволюции прозы И.И. Катаева рассказ «Молоко» занимает особое место в виду своей концептуальнсти в мифологическом плане. Значимость этого произведения определяется тем, что в нем наиболее полно воплотилось своеобразие мифологизма, особый мифологический подтекст в том его понимании, которое характерно для этого писателя. По свидетельству М.К. Терентьевой-Катаевой, рассказ «Молоко» был начат зимой 1928 г. в селе Солнечная гора, на озере Сенеж, где тогда жил И.И. Катаев [79: 155]. К этому году он уже автор повестей «Сердце», «Поэт», рассказов «Жена», «Автобус», «Зернистый снег». Рассказ «Молоко» был написан в 1929 г. и опубликован в перевальском альманахе «Ровесники» в 1930 г. и сразу воспринят критикой как «сугубо перевальская вещь» [136: 17]. Пора творческой зрелости писателя совпала с началом организованной травли литературного содружества «Перевал» и с участившимися нападками на самого Катаева. В ходе дискуссий о «Перевале», прошедших в Доме печати и в Комакадемии в начале 1930-х гг., официальной критикой вырабатывается трактовка рассказа, искажающая его объективный смысл и содержание. Предельно упростив характеристики главных героев, придав им вид политических ярлыков (Нилов - «затаившийся кулак», инструктор «наивный обыватель», сам автор – «мелкобуржуазный интеллигент»), В. Ермилов, А. Гельфанд и др. вынесли приговор и самому произведению, оценив его как вредное, враждебное и художественно слабое в творческой биографии писателя. «Молоко», по мнению И. Гроссмана-Рощина, представляет собой «переваловскую методологию, данную в образах», «катаевщина – смесь диалектики и софистики под флагом признания противоречия бытия», писатель обвинялся в проповеди «кулацкого гуманизма» [88: 24]. Критик утверждал, что в данном рассказе «реализация идейки нового гуманизма привела И.И. Катаева к чудовищному оппортунистическому извращению действительности» [88: 25]. Итогом 108 подобных выступлений стало утверждение о том, что рассказ «Молоко» нужно считать провалом, неудачей в творческой биографии писателя. Появление в печати этого рассказа убедило оппонентов И.И. Катаева в необходимости пересмотра всего его творчества, в том числе и повести «Сердце», получившей в целом благоприятный отзыв критики. На фоне политики поголовной коллективизации и ликвидации кулачества как класса, которая набирала силу в начале 1930-х гг., появление произведения, рассказывающего о процессах кооперирования в деревне и допускающего возможность участия в этих процессах «культурных хозяев», было шагом более чем вызывающим. «От «Сердца» к «Молоку» творческий путь И.И. Катаева делает зигзаг в сторону от революции. Это объективно вредная вещь, служащая классовым врагам», писал в рецензии на сборник «Ровесники» М. Бочачер [74: 16]. Писателю предлагалось признать ошибочность своего произведения и покаяться, однако твердость позиции, с которой он отстаивает свою правоту, говорит о том принципиальном значении, которое он придавал этому рассказу. Единственное, с чем И.И. Катаев согласился, это то, что «возможно, в рассказе действительно получили отражение некоторые вредные тенденции» [162]. Опасность тех тенденций, которые набирали силу в деревне на рубеже 1930-х гг., была для И.И. Катаева – экономиста, прозорливого и честного писателя, очевидна. Один из членов «Перевала» Г. Глинка, в 1954 г. писал: «Нужно хорошо знать советскую действительность, еще лучше - нравы советской литературной общественности, для того, чтобы оценить смелость И.И. Катаева, выступившего в самый разгар раскулачивания и коллективизации с подобным рассказом, когда вся большевистская пресса была мобилизована на борьбу с родовыми устоями русской деревни. … Испугались «Молока» и явные друзья «Перевала». Даже Лежнев в своем предисловии к этому альманаху, по-видимому, не решается опереться на этот рассказ, и восторженно отзывается о другой вещи И.И. Катаева – «Сердце», 109 которая к этому времени вышла отдельной книжкой» [82: 29]. После посмертной реабилитации И.И. Катаева и восстановления в правах члена Союза писателей в 1954 г., казалось бы, должны были быть сняты обвинения рапповской критики и с его произведений. Член комиссии Союза писателей по изучению наследия И.И. Катаева В.С. Гроссман делает отметку в своих записях о рассказе «Молоко»: «Реабилитировать произведение, не только человека» [РГАЛИ]. Это было необходимо потому, что новая интерпретация мало отличалась от прежней, только теперь пафос рассказа виделся не в защите, а в разоблачении кулака. В.Ц. Гоффеншеффер в статье, вошедшей в сборник «Воспоминаний об Иване Катаеве», писал: «Только в условиях ожесточенной литературно-групповой борьбы можно было несправедливо приписать этому рассказу «идеализацию кулака». По мнению критика, в этом рассказе дано художественное разоблачение теории «врастания кулака в социализм». И разоблачение это звучит тем более выразительно, что показан не примитивно - стандартный кулак, а сложный образ «прогрессивного», «образцового хозяина»» [79: 264]. По мнению критика, И.И. Катаев не случайно ведет повествование от лица инструктора по прозвищу Телочка. История крушения иллюзий Телочки – это крушение определенного мировоззрения, для которого характерны благодушие и наивность в восприятии непростых реалий действительности. Е. Пермитин сводит проблематику рассказа Катаева к призыву к «большей зоркости и непримиримости борьбы с изощреннейшими «ниловыми» [79: 93]. Очевидно, что такой подход к рассказу «Молоко», продиктованный стремлением сгладить остроту противоречий между официальной и авторской точками зрения на проблему судьбы русской деревни в 1920-1930-е гг., искажал содержание произведения. Таким образом, прижизненная литературная критика рассматривала, главным образом, социально-политический аспект проблематики рассказа «Молоко». Полемика, развернувшаяся вокруг этого произведения, в 1950- 110 1960-е гг. также велась, в основном, на проблемно-тематическом уровне. Вопросы поэтики рассказа И.И. Катаева «Молоко» прежде не входили в спектр внимания критики. Между тем в творчестве И.И. Катаева рассказ «Молоко» (1930) занимает особое место, определяя ход его последующей эволюции от лирико-романтического очерка к жанрам лирико-философского рассказа и повести, и вместе с тем завершая целый ряд исканий его раннего творчества в области новых форм повествования, что позволяет рассматривать это произведение как этапное в индивидуальной эволюции писателя. В связи с этим особую значимость приобретает изучение поэтики именно этого рассказа И.И. Катаева. Определяющим же в поэтике этого произведения становится понятие цитатности, наличие в произведении разных семантических пластов, восходящих к разным подтекстам. В 1969 г. было осуществлено переиздание лучших произведений И.И. Катаева. Рецензируя этот сборник, Е.А Краснощекова выделила рассказ «Молоко» как предостережение «от догматического прямолинейного прогнозирования сложных процессов в деревне» [110: 209]. В диссертации Т.А. Чернеги «Иван Катаев. Творческая индивидуальность писателя в литературном процессе 1920-1930-х гг.» (1992) также акцентируется роль рассказа в системе эстетических ценностей писателя, отмечается концептуальный смысл заглавия рассказа [155: 11]. На наш взгляд, несмотря на определенную степень изученности этого произведения в современном литературоведении (Н.А. Золотарева, Н.А. Грознова, Т.А. Чернега), недостаточно исследованной предстает поэтика этого рассказа, не в последнюю очередь, определяемая сложностью мифологического подтекста, стоящего за этим произведением. По отношению к творчеству И.И. Катаева до сих пор специально не ставилась проблема мифологического. Между тем одним из аспектов рассмотрения этого произведения является то, что рассказ И.И. Катаева воспринимается как любопытная попытка преодоления тенденций прозы 1920-1930-х гг., 111 связанных с инерцией сказового слова и засильем «бескрылого бытовизма». В связи с этим представляется необходимым выявление и интерпретация сложного мифологического подтекста, присущего этому рассказу. Насыщенность рассказа разнообразными подтекстами позволяет писателю расширять смысловое поле, сообщать ключевым образам полисемантизм, который не позволил современной Катаеву критике адекватно оценить это произведение. Наиболее интересным представляется выявление и интерпретация мифологического подтекста рассказа. В соответствии с этим целью настоящего анализа является выделение в рассказе доминантных мотивов, так или иначе связанных с выявлением возможных источников мифологического подтекста. Проблематика рассказа «Молоко» восходит к периоду работы И.И. Катаева в качестве редактора-организатора в редакции журнала «Город и деревня», в котором он напечатал ряд очерков о кооперации. Эти очерки «Башмарь – потребитель» (1925), «Сосновый хмель» (1926) – И.И. Катаев называл небольшими этюдами к большому полотну, которым, вероятно, стал рассказ «Молоко». Значительность этого произведения не во внешнем объеме, не в обилии материала, а в противоречивости и остроте поставленных проблем. Сюжет рассказа «Молоко» можно вкратце свести к следующему. Инструктор по прозвищу Телочка рассказывает случайному попутчику в поезде о своей поездке по деревням, где он удачно провел перевыборную кампанию в шести молочных товариществах. В селе Ручьево, «победоносный» ход кампании осложнился тем, что один из членов правления Михаил Никифорович Нилов, «уважаемый всеми старик хуторянин», которого сам Телочка полтора года назад рекомендовал в «доверенные» этого товарищества, не оправдал возложенных надежд, «обнаружив кулацкий уклон». Поэтому на Телочку возложена «миссия» «освежить состав правления, … сорвать всю головку и посадить новых 112 людей». Телочка узнает об истории женитьбы сына Нилова Кости на грузинке Меричке, которая взбудоражила все село. Во время перевыборного собрания узнают, что отец девушки, грузин-аптекарь, выжег глаза Кости серной кислотой. Это известие становится косвенной причиной «падения авторитета» старика Нилова, в результате этого ход голосования, до этого бывший на стороне старого правления, кардинально меняется, в итоге «мужички» единогласно проголосовали за новый состав правления. Казалось бы, цель Телочки достигнута, но ему «страшновато и зябко на душе». Особая роль отведена кооператору Телочке, от лица которого ведется повествование. Современники писателя восприняли его как пассивного наблюдателя, напуганного размахом происходящих событий. Однако, становится понятно, что данный персонаж не так однозначен и прост, как это может показаться на первый взгляд. Телочка – человек крестьянского происхождения, заинтересованный в усилении благосостояния деревни, энтузиаст кооперативного дела. Он оценивает новые места и людей «не как турист мимолетный», а стремится вглядеться в их жизнь, потому что «нет в одной волости двух мест вполне схожих… И весело наблюдать, как на этом молоке в разных местах разные распускаются люди» [50: 242]. Именно Телочка, рассказчик, формулирует главную тему повествования: «…иной раз случается, что не качества важны в человеке, а важна главная струя < …> общая струя, по которой плывет его отдельная жизнь…Судьба его,< …> Или, скажем, место его на земле, которое он не сам и выбирает» [50: 235]. То есть злободневный контекст современности является лишь фоном или поводом для размышлений о дисгармонии во взаимоотношениях человека и общества. В связи с этим следует отметить своеобразную многозначность повествования, обусловленную тем, что в семантической структуре рассказа формируется подтекст, предназначенный для интеллектуального восприятия, которое получает специфическую двуслойность, когда к заключенной в 113 непосредственно воспринимаемой структуре объекта, приплюсовывается и иная, скрытая, исходящая из модели данного объекта информация. Насыщенность рассказа разнообразными писателю расширять смысловое подтекстами позволяет поле, сообщать ключевым образам полисемантизм, который не позволил современной И.И. Катаеву критике адекватно оценить это произведение. Этому способствовала неоднородность и многообразность социально-публицистического, литературного фольклорно - мифологического подтекстов, реализуемых и посредством намеков, цитат, умолчаний и т.д. Например, незначительная, на первый взгляд, фраза о датских параллелях, использованных Телочкой телят» [50: 234], отсылает к в разработке «норм для выпойки популярной в 1920-е гг. проблеме интенсификации сельского труда, ориентированной на индивидуальные хозяйства фермерско-хуторского типа. Экономическая теория, допускающая развитие подобных хозяйств в русской деревне, впоследствии была подвергнута суровой критике. Группу ученых-экономистов обвинили во вредительской деятельности и создании «Трудовой крестьянской партии». Наиболее интересным представляется выявление и интерпретация мифологического подтекста рассказа. В соответствии с этим цель настоящей работы состоит в выделении доминантных мотивов и их соединений, а также в фиксации возможных источников мифологического подтекста. «Молоко» – одновременно и заглавие рассказа и центральный символ, этим подчеркнута его концептуальная значимость. Характерное сопоставление «молоко» - «кровь», проводимое в начале повествования, заставляет искать его корни не только в ближайших мифологических системах, но и в древнейших представлениях о происхождении мира и человека. В ведийском мифе о жертвоприношении Первочеловека - Пуруши из частей его тела возникает вся Вселенная. Молоко возникает из жертвенной крови Пуруши, таким образом, это понятие получает в мифе значение 114 «первовещи», приобретает космологическое осмысление. В рассказе молоко - «влага жизни» осмыслено как синтез духа и материи в соответствии с учением об эманации - как нисхождение высшей онтологической ступени универсума к менее совершенным и низшим ступеням. Вещественным воплощением эманации - нисхождения высшей субстанции - становится метафора «березовая роща» – молочные струи, бесшумный молочный дождь. Мифологический код этого оригинального образа подкреплен введением мотива сакрального. «Туда (в березовую рощу - Р.Л.) хожу я по праздникам, в строгом одиночестве, – помолчать и помолиться богу земли нашей» [50: 250]. Указания на посещение рощи воспринимаются как ритуальные действия жреца, а слезы умиления, которых он не может сдержать «все текут и текут, точно и я хочу послужить земле скудно отпущенной мне влагой жизни» [50: 250] - отдаленный отзвук искупительной ритуальной жертвы, когда телесные воплощения божественной сущности предаются земле. Таким образом, дождь, человеческие слезы, молочные струи в рассказе получают мифологическую идентификацию. А.Н. Афанасьев свидетельствует о тождественности «дождя» и «молока» в народной мифологии. Само слово «дождь» имеет корнем санскритское duh - доить, чешск. - dogili; санскр.doha и dugha - молоко, nabhoduha - туча [56: 665]. Фольклорное происхождение образа подчеркивается возникающими в пределах рассказа ассоциациями «молоко» - «дождь, кровь, слезы». В древнейших представлениях сближалось и отождествлялось все, что только напоминало текучие струи влажной стихии, поэтому не только вода, но и кровь, молоко, сок дерева, растительное масло и общеупотребительные напитки (мед, пиво, вино) стали метафорами дождя. Так, народнопоэтический образ «дождь, роса есть молоко облачных коров (туч)» в рассказе Катаева реализуется в обратной метафоре: «молоко священный дождь, небесная животворящая влага, дарующая силы, здоровье, красоту, чадородие». 115 Не менее красноречива параллель «молочные струи» / «березовые стволы», по видимому, восходящая к мифу о «древе жизни», наиболее распространенному во всех языческих религиях. «Это баснословное дерево, пишет А.Н. Афанасьев, - есть мифическое представление тучи, живая вода при его корнях и мед, капающий с его листьев, - метафорические названия дождя и росы, а море, где оно растет, - воды небесного океана» [56: 214]. В образе мирового древа, характерного для мифопоэтического сознания, запечатлена универсальная концепция мира. В рассказе зафиксирован этот образ в его культурно-историческом варианте «древа жизни». Этот образ помогает различать основные зоны вселенной: верхняя - средняя – нижняя, прошлое – настоящее – будущее, день – ночь, благоприятное время – неблагоприятное время года, предки – нынешнее поколение – потомки. Со средней частью древа ассоциируются птицы, реже пчелы. В сюжете так называемого основного индоевропейского мифа также обыгрывается вертикальная структура мирового древа: бог грозы, находящийся на вершине дерева (или горы), поражает змея у корней дерева и освобождает похищенный змеем скот, богатство (средняя часть дерева). В рассказе фиксируется этот образ в его культурно-историческом варианте «древа жизни». Миф о древе жизни содержит в себе множество других мифов, отзвуки которых отчетливо ощутимы в рассказе и могут быть выделены в следующие тематические группы: 1) мифы, связанные с культом бога Перуна и сопутствующие ему мифы о пчеле, о небесном огне - молнии и др.; 2) миф об острове Буяне, стране вечного лета и изобилия; 3) миф о «живой воде» - молоке, волшебной корове, тельце; 4) мифы, связанные с мучениями Перуна, Велеса, св. Георгия; 5) античные мифы о Пане, Фавне и Сильване. Наиболее интересны представления о повелителе молний, «тучегонителе», боге-громовнике Перуне. Этот мифологический герой универсален и многолик. Он является божеством небесного огня, 116 повелителем небесной влаги, символом плодородия, богатства. Некоторые характерные приметы Перуна присущи главному герою рассказа - Нилову. Описание его внешности, его поступки имеют мифологические коннотации. Появление героя в необычном вечернем освещении, вызвавшее испуг рассказчика, трактовалось как проявление негативной авторской оценки этого персонажа. «Солнце в это время сникало за легкими тучками к западу, и вдруг из последнего узкого облака с огнистой каемкой оно и выпало. В то же мгновение кровяно-красный его луч с могучей силой рассек завесу хмелевой листвы, и, обрезавшись о зеленую решетку, раздрызгался, раскропился, испятнал огнем пол и стену. В глазах у меня зарябило от дикой этой крови, и зелени, и золота, - зажмурился я... А когда раскрыл глаза, стоял с краю террасы, возле самых ступенек, огромного роста старик в пышном облаке розовых волос...» [50: 244].Следует отметить нерасчлененность пейзажного и портретного описаний, а также их семантическое и цветовое единство: «облако с огнистой каемкой» - «облако розовых волос». Полисемантические повторы слов «тучи», «облако», достаточно заметные на небольшом пространстве отрывка, укрепляют ассоциации с «тучегонителем» Перуном. Они усилены мотивом небесного огня, мощь которого эмфатически подчеркнута сопоставлением его с кровью, золотом. В данном случае происходит замена мифологического – описания Перуна, владыки молний, близким ему образом Зари-царевны, повелительницы утренней и вечерней зари. В дальнейшем в портрете героя по-прежнему подчеркнуто присутствуют мотивы облака и огня: «огонь лица его утих, превратился в добрую улыбку», «испугался этого вздыбленного облака волос» [50: 244]. Вариацией образа молнии в фольклоре является пчела, а мед как результат деятельности пчел, соединился с образом дождя. Пчела в народной мифологии неизменно являлась спутником Перуна, у греков - Зевса, в индийской мифологии - Вишну. В этом контексте сцена «оживления» пчел в 117 рассказе приобретает многозначительность: «Вынул он ...двух задохнувшихся, неподвижных (запутавшихся в волосах) пчел. Положил их на ладонь, поворошил пчелок пальцем. Они зашевелились. Вытянул руку, - они снялись и улетели» [50: 244]. В рассказе подчеркнута не только физическая сила героя - огромный рост, «черные ручищи», ладонь, широкая как лопата, но и возникает ощущение некого сверхъестественного могущества. Пчелам и меду было приписано чудесное свойство вдохновлять поэтов. Дар красноречия и поэзии связывают с идеей о вдохновительном напитке, который возникал из божественной влаги, крови богов. Это косвенным образом связывает миф и необычайное красноречие Нилова, способного также ярко и артистично переживать впечатления от произведений искусства. Не менее интересны свидетельства о трансформации Перуна и Велеса (Волоса). Последний известен как «скотий бог», покровительствующий не только небесным стадам (тучам), но и земным. А.Н. Афанасьев утверждает, что первоначально название Волос (Велес) было не более чем один из эпитетов Перуна, впоследствии обособившееся и принятое за собственное имя отдельного божества [56: 403]. Он же говорит о сравнении Велеса с Паном, богом пастухов в греческой мифологии, а в представлении славян Пан - означает «господин», «пастырь», то есть не только пастух, но и пастырь народа - царь и священник. Мифологический Пан и соответствующие ему в римской мифологии Фавн (покровитель стад) и Сильван (демон лесов) в творчестве И.И. Катаева обладают известной устойчивостью. Впервые Пан появляется в ранних стихотворных опытах, как персонаж одноименного стихотворения. «Пан», пришедший на первомайскую демонстрацию, становится прообразом деревни, стремящейся к новым идеям. Несмотря на очевидную публицистичность символики раннего стихотворения писателя, его следует учесть в качестве примера возникновения индивидуальной авторской ассоциации. Впоследствии тема 118 Пана будет интересовать И.И. Катаева в связи с теми смыслами, которые вносил в свой одноименный роман Кнут Гамсун: Пан как выражение стихийных, природных процессов. В рассказе эта тема реализуется в идее пантеизма, заключающейся и монологе Нилова, и в концепции всего произведения. С мифом о Перуне соотнесен миф об острове Буяне, месте обитания Перуна и Зари-царевны. Этот мифический остров трактовался как страна вечного лета, вечного изобилия. К мифам об утопической стране благоденствия относятся и сказания о Макарийских островах, где реки медовые и молочные, а берега кисельные. Как видим, в народных представлениях о рае, ведущим символом, наряду с другими, является молоко, молочное изобилие. Уединенный хутор, где расположилось хозяйство Нилова, воспринимается как реализованная крестьянская мечта о сытой, изобильной жизни. «Плотно слажен сей хутор, одна его часть подпирает другую, а третья сама рождается от второй, и все это вращается круглый год без всякого скрипа и тряса» [50: 249]. Эта метафора некоторым образом напоминает сказочные волшебные жерновки или чудомеленку - символы изобилия, добытые на небе, или принесенные волшебным петухом. Обращает на себя внимание отсутствие традиционных в литературе о деревне картин крестьянской страды, тяжелого физического труда. Изобилие словно возникает само собой, без участия человеческого старания. Образцовая чистота, порядок, «фантастическая» оснащенность хозяйства создают ощущение его исключительности, идеальности. Таким образом, с фигурой Нилова и его хозяйством связана идея благостного миропорядка в его эмпирическом и метафизическом значении, приметами его являются также идиллически полный семейный круг, наличие «духовного отца». Эта семейная «полнота» - признак «благой жизни» и прочитывается в метафизическом контексте как эквивалент «небесной семьи», «дома». 119 Усиливается сопоставление усадьбы Нилова со сказочной страной изобилия благодаря введению нового персонажа. Здесь впервые встречается герой-рассказчик с Костей Ниловым, которому в рассказе приданы черты идеального героя. С этим персонажем связаны сюжетные линии, на развитие которых существенное влияние оказывают типичные сказочные мотивы. Герой русской волшебной сказки Иванушка, по В.Я. Проппу, имеет две ипостаси - Иванушка-дурачок и Иван-царевич. Нередко эти два образа совмещены и претерпевают эволюцию: 1) дурачок, лежебока; 2) путешествующий в царство мертвых, «тридевятое царство», куда путь открыт, благодаря тайным знаниям; 3) жених, который, пройдя испытания, воцаряется. Любовный сюжет, связанный с женитьбой Кости Нилова и грузинки Мерички в рассказе воспринимается как не основной и побочный, не связанный с главной линией. Однако именно он развивает оппозицию «женское – мужское», тем самым дает ключи к пониманию общего смысла рассказа, поэтому особо акцентируется его значимость: «Втрое занятней стала для меня вся эта грузинская трагедия, потому что уж очень как-то любопытно столкнулись в ней многие обстоятельства» [50: 241]. Оппозиция «женское – мужское» соотносится с противопоставлением «свой – чужой», что соответствует мифопоэтической логике свадебной обрядности, при которой «невеста» представительствует «чужой» потусторонний мир. Избранница Кости – Меричка, дочь аптекаря-грузина, который противится браку девушки с человеком иной национальности: «Знакомства аптекарь почти ни с кем не вел и пуще всего над дочерьми дрожал – как бы не спутались с русскими. Все собирался с ними на Кавказ съездить, отыскать им женихов из ихней национальности, а не выйдет – пускай сидят в девках. Ну, а русских, хотя бы там бывший граф или нарком просвещения, - чтоб ни-ни… «Чуть что замечу,- грозился, - моментально секим башка обоим» [50: 240]. Таким образом, вводится мотив нарушения 120 брачного табу, который в рассказе, так же как и мифе трактуется двойственно и маркирует исключительность героя, его зрелость и в то же время косвенно сигнализирует об иссякании магической силы старого вождя – представителя старшего поколения. Нилов старший, благословляя молодых, в свою очередь, накладывает запрет на добрачную связь жениха и невесты, который неукоснительно выполняется сыном: «Жили они в Москве на разных квартирах, только по театрам вместе ходили» [50: 240]. Семья «изобилию» Мерички семейного контрастно круга противопоставлена Ниловых. «полноте» Красноречивое и отсутствие материнского начала в рассказе эмфатически выделяет тему «сурового отца». Мистико-романтическая литературная традиция сакрализует возлюбленных, их соединение означает восстановление сакрального миропорядка. В свою очередь неполнота семьи символизирует ее ущербность и принадлежность хтонической / инфернальной сфере. Отец девушки соотнесен с «чужим», «иноземным» миром и наделен признаками, которые в фольклорномифологической системе имеют инфернальную семантизацию: «желтые зубы», маленький рост, тонкий крючковатый нос, бессмысленные рачьи глаза. Неоднократно подчеркивается его отдаленность от мира людей, сосредоточенность на каких-то тайных действиях: «Девушек никуда не пускал, …не обряжал, а все больше о своих каких-то банках беспокоился» [50: 238]. С ним связан и сказочный мотив «колдовства» и «мертвой воды» он выжигает серной кислотой лицо и глаза Кости Нилова. Так, Меричка становится косвенной причиной ослепления Кости и падения авторитета Нилова-отца, тем самым, реализуя мифологические представления о «невесте» как эротическом аспекте смерти и «свадьбе», соотнесенной с «похоронами». Двойственность образа Мерички связана и с фольклорномифологической традицией, и с литературной традицией символистской мифопоэтики. Обращает на себя внимание, что имя Меричка ассоциативно восходит и к Марии, Богородице, Мадонне и к Мэри, лирической героине 121 А.А. Блока. В поэзии А.А. Блока имя Богородицы вслед за фольклорной традицией заговоров включено в свадебный контекст, связывающий темы брака и смерти. Имя Мэри у А.А. Блока, по справедливому замечанию Г.А. Левинтона, исследовавшего этот аспект у А.А. Блока, встречается в контекстах, естественных для имени богородицы: «О Деве с тайной в светлом взоре <...> О дальней Мэри, светлой Мэри…». Вместе с тем исследователем подчеркивается двойственность этого имени в разных контекстах, в ряде стихотворений А.А. Блока с ней связан мотив «кощунства», «профанации», «черной мессы» [113: 184]. Как показывает анализ, культ Богородицы в рассказе И.И. Катаева, несмотря на отсутствие детальной разработки, имеет концептуальное значение, поскольку связан с центральным символом «молоко» и соотносится с культом Матери, Мадонны: «Влагой питают нас матери наши, влагой насыщена наша плоть, ею движимая, ею мыслящая, из нее созидающая новые жизни. И потому-то, друг мой, от века нет зрелища священней и прелестней, нежели вид матери млекопитающей» [50: 251]. Черты этого культа не распространяются на Меричку, хотя в тексте присутствует сравнение девушки с птичкой, являющееся косвенным признаком ее божественности: «Где-то увидалась с парнем, где-то перемигнулась, где-то слово было сказано, - и выпорхнула пташка из клетки» [50: 240]. В описании внешнего облика девушки более явственно проступают черты, свидетельствующие об инфернальности героини: «Мелькнуло мне в ветре, в снежной пыли женское лицо прекраснейшее, дымные брови широкие, длинные черные глаза. И шапочка котиковая, снегом запорошена…Больше ничего» [50: 239]. Данный фрагмент апеллирует не к фольклорно-мифологической традиции, а воссоздает образы, общий антураж «снежного» цикла А.А. Блока и воспринимается как ситуационная цитата блоковской лирики. При этом, безусловно, ассоциативный пласт «работает» 122 на трактовку героини И.И. Катаева как вариант инфернальных героинь циклов «Снежная маска», «Земля в снегу» и др. Очевидные фольклорно-мифологические коннотации имеет мотив похищения невесты. Костя с благословения Нилова – старшего решается на увоз девушки. В рассказе действуют оба типа героя – «дурачок» и «добрый молодец». Костя Нилов воплощает черты высокого героя, инструктор по прозвищу Телочка, простоватый и наивный, – соответствует второму типу героя. С последним связан мотив пути, движения, путешествия. Путь в фольклоре воплощает идею человеческой жизни, постепенного взросления. Подобно тому, как преображается Иванушка, так и меняется отношение рассказчика к себе, к своему делу, своему времени. В финале рассказа наивный и ласковый герой, предстает уже другим, умудренным полученным жизненным уроком. В контексте мифа проясняется и тайный смысл прозвища рассказчика. Известно, что в мифе «телец», бык утверждается как зооморфный символ Перуна, Зевса. Например, в сюжете о превращении Зевса в быка, он полностью отождествлен с божеством. Более распространены сказочные и мифологические сюжеты, в которых бык (корова) изображаются волшебными животными, помогающими герою. Таким образом, мифологический фон содержит значительное количество аллюзий, проясняющих функциональную значимость некоторых второстепенных на первый взгляд составляющих текста. В соответствии с этим, Телочка становится ключевым персонажем повествования, как носитель некой тайной миссии, тайного знания и может быть сопоставлен с центральными персонажами, как своеобразный спутник-двойник Ниловых. Наличие героев спутников-двойников является результатом дробления единого мифологического образа в литературе. Костя воспринимается как двойник Нилова, продолжатель его дела, наследник, тем самым актуализируется мысль о смене поколений, которая в мифологическом сюжете реализуется как инициация – взросление героя, достижение им 123 зрелости. Умирающий — рождающийся герой может предстать как два лица — отец и сын. В рассказе отголоски календарного мифа акцентированы характерной символизацией времени года: в летней сцене Нилов могуч, силен, полон магических сил, Костя молчалив, скромен, только смелые глаза выдают в нем сильную личность, зимой же Нилов застывший, молчаливый, по замечанию рассказчика, что-то в нем появляется «застывшее, гробовое», «седины посверкивают, как серебряный глазет» [50: 260]. Такое же оцепенение ощущает и рассказчик Телочка: «Я лично находился в том, же разбитом состоянии, все у меня плыло перед глазами» [50: 260]. Таким образом, отец и сын Ниловы выступают как ипостаси одного образа. Известие о нападении на сына и ослеплении его ведет к падению авторитета Нилова-старшего. После трагической развязки сюжетной линии, связанной с мотивами «жениха» и «невесты», «падения» Нилова, герой-рассказчик воспринят как тайный представитель Ниловых, но в пределах рассказа мотив «воцарения», «помощи божественного покровителя» не реализован и выглядит как красноречивый минус-прием (термин Ю.М. Лотмана). Структурная разомкнутость повествования, подчеркнутая так называемым «открытым» финалом, усиливает многозначность рассказа, возможность множественного его прочтения, в том числе мифологического. Подводя итоги, следует отметить, что рассказ И.И. Катаева «Молоко» представляет собой определенный этап в творческой эволюции писателя, символизируя собой завершение сложных исканий 1920-х гг. в плоскости обогащения реализма новыми повествовательными возможностями: отход от бытовизма в сторону углубления многозначности, ассоциативности слова (в широком бахтинском понимании), растворении злободневного контекста современности в «вечных» мотивах мифологического контекста. Все это позволяет рассматривать рассказ И.И. Катаева впервые в широком мифологическом контексте, в своих истоках восходящего, с одной стороны, к собственно фольклорно-мифологической традиции, с другой – к 124 литературной традиции символистской мифопоэтики, в первую очередь ассоциируемой с лирикой А.А. Блока. В рассказе «Молоко» представлен достаточно обширный и разнообразный по своей семантике пласт мотивов, в совокупности создающих определенный мифологический подтекст. При этом произведение характеризуется некой полисемантичностью, и соответственно, полигенетичностью, поскольку эти мотивы восходят к разным мифам: календарным мифам, связанным с мучениями Перуна, Велеса, мифам, связанным, в том числе с культом Перуна, к мифу об острове Буяне, стране вечного лета и изобилия, к мифу о «живой воде» - молоке. Вместе с тем сложное соединение в пределах одного произведения целого ряда мифологических источников позволяет говорить о глубине и неоднозначности трактовки мифологического даже в рамках социальнобытовой на первый взгляд тематики, что в целом свидетельствует о непрекращающейся внутренней полемике с преобладавшим в конце 1920-х и начале 1930-х гг. подходом, а мифологический подтекст рассказа представляет собой своеобразный ответ общему контексту полемики РАПП и «Перевала». В свою очередь наличие глубинного мифологического подтекста в прозе И.И. Катаева свидетельствует об устойчивости такого типа поэтики, в которой определяющей индивидуальной чертой становится мифологизм, типологически восходящий, как это показывает анализ, не к современной литературе, а к поэтике символизма начала века, творчески преломленной в 1920-е гг. 125 ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЙ ПОЭТИКИ И. И. КАТАЕВА Целостное изучение произведений писателя, их языка связывается с образом автора, – шире – языковой личностью (Ю.Н. Караулов). Наиболее общими и характерными чертами творческой личности И.И. Катаева являются одновременно и эмоциональность, и интеллектуальность, выразившиеся в попытке воссоздать в своих произведениях мир во всей полноте ощущений и проникнуть в смысл человеческого существования, предугадать в современности черты прошлого и будущего. Художественные поиски писателя пролегают в русле усиления интеллектуальности прозы первой трети ХХ в. Существенную роль в становлении личности писателя, как было показано выше, сыграли концепции «Перевала», предопределившие открытость его творческой личности наиболее плодотворным тенденциям литературы, одной из которых являлся символизм. Результатом этого становится формирование своеобразной стилевой манеры, органично сочетающей глубину изображения противоречий действительности с живописностью и лиризмом. Полнота, непосредственность и глубина восприятия действительности, воплощенные в творчестве – еще одна важная и характерная черта личности писателя. По воспоминаниям и свидетельствам современников, И.И. Катаев по мироощущению - лирик, тонко чувствующий поэзию, человек удивительной наблюдательности, умеющий подмечать неуловимое и запечатлевать увиденное в ярких, неповторимых образах [78]. Художественное воплощение пережитого жизненного опыта стало основой для формирования узнаваемой повествовательной манеры писателя, становление которой имело ряд особенностей, которые и предстоит рассмотреть в данной главе. При этом в становлении индивидуальной манеры писателя определяющими становятся тип авторского повествования и пространственно-временная организация в его художественной прозе. 126 3.1. К ПРОБЛЕМЕ АВТОРСКОГО ПОВЕСТВОВАНИЯ В ПРОЗЕ И.И. КАТАЕВА Эволюция повествования в художественной прозе И.И. Катаева может быть представлена как движение от усложненности к простоте, что, в общем, соответствует аналогичному процессу в прозе 1920-1930-х гг. в целом. Исследователи связывают данное явление с общим ходом литературного развития, но немаловажное значение имели и внелитературные факторы, повлиявшие на усиление литературности и нормативности авторского слова, вытеснение характерности и возвращение к объективной манере повествования. Н.А. Кожевникова констатирует, что данный процесс наметился в конце 1920-х гг. и стал убыстряться, начиная со второй половины 1930-х гг., после дискуссии о языке 1934 г. [106: 136]. Исходя из этого, в прозе И.И. Катаева можно представить следующую смену повествовательных форм, обозначившую определенные этапы эволюции: 1) Период 1927-1930 гг. («Поэт», «Великий Глетчер», «Сердце», «Молоко») характеризуется разнообразием принципов изображения и сложным соотношением авторского начала и слова персонажа. С одной стороны заметно, что проза И.И. Катаева запечатлела многие общехудожественные приемы, обусловленные ведущими стилевыми тенденциями начала 1920-х гг., обозначенными в литературоведении как «орнаментальность» и «сказ». С ними связаны такие свойства его художественной прозы как стремление к адекватной передаче эмоционального восприятия мира, а не адекватности изображения изображаемому («Поэт», «Сердце»); введение категории рассказчика, речь которого развивается как в рамках литературности («Сердце»), так и в русле характерной, социально окрашенной речи («Молоко»). Вместе с тем уже на раннем этапе произведения писателя отличаются стилистической ясностью и отсутствием изощренной образности, вычурности синтаксиса. 127 2) Период 1932-1937 гг. («Ленинградское шоссе», «Встреча», «Под чистыми звездами», «Хамовники») хотя и связан с увеличением роли собственно авторского повествования, трудно оценить как однозначно объективный по принципам организации художественной речи. Такие аспекты авторского слова, как лирические отступления, обращения к отсутствующему собеседнику, восклицания, развернутые описания, образующие завершенные единства, играют важнейшую роль в структуре не только «Хамовников», но и «Ленинградского шоссе» и «Встречи». Тип художественного мышления, свойственный И.И. Катаеву, отразился в своеобразии его художественной речи, совмещающей и лирическое, и эпическое начала, что явилось закономерным продолжением раннего стихотворного этапа творчества. В этом отношении интересно наблюдение В. Шмида о заметном усилении орнаментальной прозы именно в эпохи, когда преобладает поэтическое начало и лежащее в его основе мифическое мышление [168: 263]. В результате этого творчество И.И. Катаева включилось в единый процесс «поэтизации» прозы, захвативший значительную часть писателей 1920-х гг., таких как Е.И. Замятин, А. Веселый, С.А. Клычков, Б.А. Пильняк и др. Наиболее предпочтительным для обозначения вышеозначенного процесса является термин «орнаментальная проза». По справедливому указанию Л.А. Новикова, он является более емким, так как «не содержит в себе указания на жанровые, аспектные (ср. лирическая, поэтическая проза; ритмизованная проза) или временные, канонические ограничения (ср. неклассическая проза как противопоставление классической) [135: 29]. Современное литературоведение выработало широкое понимание сути орнаментальной прозы как «системы возможностей, предел поэтической изобразительности художественной прозы» [135: 30]. В связи с этим оппозиция между орнаментальной и неорнаментальной прозой не является «жесткой», предъявляя различные переходные типы прозы, характеризующиеся разной степенью орнаментальности. Поэтому, обладая 128 общими характерными чертами, орнаментальная проза все же представляет у каждого писателя явление специфическое. Степень орнаментальности творчества И.И. Катаева вряд ли сопоставима с орнаментализмом замятинской или пильняковской прозы, однако представляется возможным рассмотрение орнаментальности как одной из особенностей его повествовательной манеры. В этом отношении интересно взглянуть на прозу И.И. Катаева с позиций особого типа сказа, созданного А. Белым, мастером субъективации повествования и стилизации речи, обозначенным в литературоведении как интеллектуальный сказ (Л.А. Новиков). В отличие от сказа «низового героя», ориентированного на просторечие, диалектизмы, профессионализмы и т.п., интеллектуальный сказ является определенного рода интеллектуальной стилизацией, типом художественного повествования, тяготеющего к образу мысли и слогу высокообразованного человека. Повествователь-рассказчик, соответствующий этому сказу, является также стилистически отмеченным, но в отличие от сказа «низового героя» он обычно соответствует верхнему пределу оценки и представляет собой важнейшую доминанту композиционно-речевой структуры произведений И.И. Катаева. В прозе И.И. Катаева 1920-х гг. рассказчик максимально приближен к автору, хотя и не совпадает с ним. В повестях «Поэт» и «Сердце», рассказе «Жена», отмечается автобиографизм, повествование ведется от первого лица, оценки выражены внутри литературного языка и в целом совпадают с авторской оценкой. Основная задача – психологическое самораскрытие повествователя, который представляется в какой-то степени двойником автора и по своему мировоззрению, и по речи, - определяет и особенности повествования. Одним из наиболее характерных катаевских приемов повествования была уже названа маска «нарочитой наивности», обусловившая такие черты, присущие 129 повествователю, как непосредственность, искренность, романтическая восторженность, жизнелюбие. В «Поэте» рассказ ведется от лица семнадцатилетнего юноши, секретаря начальника политотдела Южной армии, это подчеркивает близость герояповествователя биографическому автору. Вместе с тем точка зрения рассказчика и автора корректируется временным дистанцированием, однако, оценки автора и рассказчика лежат в одной плоскости и, по сути, замещают друг друга: «Все, все нравилось мне в нем. И плохо отмытые, впалые, небритые щеки, и добрые медлительные глаза в красноватых веках, и длинный нос с толщинкой к концу, усиливавший сходство поэта с каким-то королем из династии Меровингов, виденным мною в учебнике средней истории. Смущали меня только черные, гнилые зубы, которые обнаруживала его печальная, голодная какая-то улыбка. Но разве у настоящего поэта могут быть хорошие зубы? – решил я, примиряясь и с этим незначительным изъяном: поэту не до зубов!» [50: 33]. «Чужое» слово оформлено главным образом в виде реплик, нередки также формы несобственно-прямой речи: «Гулевич дорогой больше помалкивал и только в ответ на мои расспросы отрывисто сообщил мне кое-то о себе. Родом он из Донской области, из казачьей семьи. Еще мальчишкой, задолго до войны, ушел из дому, попал в Москву, где перепробовал много всяких профессий и даже фонари на улицах зажигал. Потом изучил граверное дело и стал работать на красильных фабриках» [50: 36]; «Он должен прочесть мне свою новую поэму. Поэма эта начата еще в Куршаке и только что закончена. Это его генеральное произведение (так он и сказал – генеральное). Оно проникнуто центральной идеей эпохи и потому пронесет в века бедное имя автора (тоже его подлинные слова, – я хорошо запомнил) [50: 51]. Речь Гулевича, как видим, не представляется контрастной по отношению к слову рассказчика, это речь, соответствующая нормативной литературной речи, но обладающая известной степенью характерности. Это подчеркнуто в первом случае двойной цитатой, выделенной курсивом (поскольку является прямым воспроизведением реплики Гулевича и 130 одновременно неточной цитатой из лирики А.А. Блока), во втором случае введение оборотов научной речи и характерной лексики, восходящей к литературно-критической публицистике и прямо мотивируется как подлинные слова персонажа. Аналогичным образом построено слово при воспроизведении речи персонажа, чья точка зрения не сливается с авторской: «Редко можно было встретить в этих передовых приветливое и праздничное слово, а вот на всевозможные мести Сугробов не скупился – это был его конек. Священная месть эксплуататорам, кровавая месть насильникам и интервентам, беспощадная месть кровопийцам и многие другие, гремя и шипя, извергались изпод его пера» [50: 45]. Штампы газетной публицистики тех лет, включены в авторское повествование как цитата. При этом цитатный, иронически отстраненный характер употребления газетной фразеологии обусловливает и взаимоотношения между повествовательной речью, в которой выражена точка зрения автора, и газетной формулой, которая не только является в этом случае приметой профессии персонажа, но и стереотипом его речи и мышления. В устах Сугробова газетная фразеология - демагогический прием, позволяющий контрастно сопоставить этого персонажа и главного героя поэта Гулевича. Вместе с тем оценки, близкие к авторским, могут быть выражены и средствами нелитературной речи. Один из красноармейцев отзывается пренебрежительно о Гулевиче. Алеша Морозов, вступившись за него, говорит о том, что он - «самый образованный и умственный товарищ. Душа у него как у младенца, неопытная, а в мыслях может всю жизнь обхватить… Я так считаю, он лучше Демьяна сочиняет, он, брат, как Пушкин будет!» [50: 43]. Эта реплика персонажа дублирует возникающую в статьях И.И. Катаева о литературе своеобразную мысль о том, что сложное содержание может быть легче всего выражено в интонации «нарочитой наивности». Реплика Морозова, сознательно оформленная в виде персонифицированного характерного простонародного слова, сжато передает 131 авторское отношение к главному герою рассказа. Наивность, воспринятая как синоним искренности, является центром ценностной системы писателя, неслучайно перевальцы, несмотря на критику, декларировали требование искренности и органичности творчества современного писателя. Поэтому Морозов может быть трактован как персонаж, чья точка зрения о поэте и творчестве в большей степени приближена к авторской. Интересно, что в рассказе «Автобус» (1929), в котором авторское слово выражено со всей очевидностью, высказана мысль о том, что поэт «одинок, отъединен от людей и в то же время погружен взглядом в кипение мира» [50: 199]. Как видим, внешняя пассивность, созерцательность, в сочетании с напряженностью и интенсивностью внутренней творческой деятельности, отличающие Гулевича, декларируются как общая черта присущая поэту, причем это мысль повторяется как некий лейтмотив творчества И.И. Катаева. В «Сердце» повествовательная структура также характеризуется установкой на нормативную литературную речь, присущую герою-интеллигенту, однако в отличие от повести «Поэт», повествование которой в большей степени было связано с формами устной речи, в «Сердце» активизируется внутренний монолог персонажа: «Удивительно хорошо устроено: кто-то где-то для нас хлопочет, и утром, заново ощутив свое тело, свою жизнь, мы можем еще ощутить бессонную жизнь страны, всего огромного мира! Не по заслугам хорошо…» [50: 91-92]. Этот внутренний монолог усложнен, диалогизирован, так как включает в себя разговор героя с самим собой, обращения к отсутствующему собеседнику, хотя реплик собеседника нет, монолог – диалог как бы включает их в себя. За словами повествователя - рассказчика угадываются и немые реплики собеседника – жест, мимика, и его речь: «Васька Аносов, ты недовольно косишься на меня и думаешь, что я плохо слушаю твой ясный тенор. Нет, я слушаю тебя. Да, да, я знаю, без торговой сети «Красного табачника» район не может быть обслужен, а будет все тот же параллелизм и нездоровая конкуренция» [50: 98]. 132 Единство и непрерывность потока речи создается многочисленными присоединениями, которые перебрасывают мостики между фразами, внутри абзаца и между абзацами. Характер этих построений связан с разговорной речью и определен двойственностью ее природы – с одной стороны, ее легкой членимостью и дробностью, с другой, непрерывностью речевого потока. Цель их в том, чтобы создать иллюзию живости, естественности, непринужденности речи: «Убийственно мало мы читаем. Что Юрка! – в сам-то я? Сколько было прочитано, а потом оборвалось, забывается… Кажется ни одного стихотворения не помню. Даже Блок померк, прелесть моя, моя вторая жизнь. Мы считали его своим, народным…» [118]. Плавность течения фразы в этих случаях разрушается не только графически, но и логически, возникают логические сдвиги, сломы, скачки. В то же время в повести находят широкое применение повторы, синтаксические параллелизмы, на основе которых возникают изощренные книжные, почти риторические построения, лишь отдаленно напоминающие разговорную речь. Они привносят в речь оттенок искусственности, лишая ее непосредственности и разговорности: «Мы все как-то забываем, что городские твердыни, вознесенные высоко и на долгие десятилетия, - это уже природа. Как гудящие вершины тайги, как сверкающие ледники горных хребтов. Вон то угловое окошко, рядом с розовой кариатидой, подпирающей крышу, летними утрами распахивается навстречу свежему ветру и робкому солнцу и будет так же раскрываться, когда исчезну я и все товарищи и спутники мои» [50: 122]. В повести «Сердце» специфика повествования связана также и с тем, что яркая эмоциональность речи героя-повествователя входит в отношение контраста с элементами нехудожественных стилей: газетного, канцелярско-делового и др. В ряде повествовательных моментов прямое значение и его эквивалент противопоставляются, и это открывает в эквиваленте нейтрального слова такие оттенки, которые могут быть ему и не свойственны вне данного контекста, но 133 превращают его в оценку: «Юрка, кажется, читать не очень любит, и как-то не читает, а … прорабатывает» [50: 109]. Повесть «Сердце» показательна, кроме того, и тем, что в ее структуре присутствуют официальные документы целиком и отдельные газетные штампы, при этом возможно и ироническое использование канцелярского стиля, и вполне серьезное применение документально-делового стиля. Пример иронического использования документа, стилизованного под полукультурную речь: «За последнее время, в особенности июнь, июль, август месяцы, со стороны гр-ки Угрюмовой из квартиры 26 наблюдается целый ряд антисанитарных условий по отношению проживающих в нижнем этаже членов жилтоварищества», «Неоднократно получающие эксцессы с собакой владельца, гр-ки Угрюмовой, которая приносит большие неудобства и алчно щелкает не только на детей, которых может сделать совершенно уродами, а также нарушает вход в квартиру и взрослым» [50: 112-113]. Статус «чужого» слова придан не только ложно-деловой речи, но и характерной орнаментально-сказовой реплике персонажа: «Вашему высокородию нижайший почет, через пень-колоду, за мореокиян, в белокаменный град. Позавчера родился, нынче женился, помирать не хочу, честь имею представиться. Вашей тетеньке двоюродный плетень и народный комиссар монополии» [50: 117]. Еще одной особенностью орнаментальной прозы является ее двуплановая структура. В композиционной структуре повествования это находит выражение глубинного в совмещенном параллелизме символического, и поверхностного планов. Планы повествования могут и перекрещиваться, соединяя настоящее с прошлым, что создает метафорический эффект, усиливающий эстетическое воздействие текста. Сюжетное развитие, проходящее как бы в двух планах, дополняющих или контрастно оттеняющих друг друга. Второй план связан с проникновением в мир мыслей и чувств героев, образуя «интеллектуальное пространство» рассказчика. Так, в повести «Сердце» существует второй мысленный план 134 города, существующий параллельно с реальным планом в воображении героя. В литературе 1920-1930-х гг. трудно назвать писателя, который бы так или иначе не обращался к теме крестьянства. Преобладающей стилевой манерой при освещении темы современной деревни был сказ. Сказ обусловил появление целого ряда интересных произведений в творчестве А. Неверова, Вс. Иванова, И. Бабеля, М. Зощенко. Более того, во многих «несказовых» произведениях можно обнаружить присутствие сказовых элементов, проникающих в монологическое повествование от лица героя. Авторы монографии о поэтике сказа констатируют устойчивый интерес к сказу в прозе 1920-х гг., выразившегося в том, что даже «несказовая» литература 1920-х гг. испытала на себе (в большей или меньшей степени) влияние сказа как тенденции речевого стиля [131: 184]. Сказ как ведущая речевая тенденция представлена в рассказе «Молоко», характеризующимся непроясненностью авторской позиции, которую усиливает так называемый «открытый» финал. Тип рассказчика имеет выраженные черты сказа с установкой на устную речь (это разговор инструктора в вагоне с неведомым попутчиком). Именно это свойство вызвало отрицательную критику, так как в литературе к началу 1930-х гг., когда был написан рассказ, теряет актуальность чужая речь и чужая точка зрения как основная форма организации повествования, вытесняющая из произведения прямое авторское слово. Писатель вводит характерное сказовое слово, при этом его интересует то преломление действительности, которое свойственно рассказчику – представителю определенной социальной группы (советский служащий, крестьянского происхождения). Повествование развивается на основе нелитературной речи, с вкраплениями форм смешанной речи – разнообразная фразеология советской эпохи отражается на фоне контрастных речевых средств – городского просторечия, народной речи: «В центре участка – Дулепово, село волостное, огромное, три фабрики, сильная кредитка, его, волком 135 авторитетный и прочее, что полагается. По шоссе взад-вперед автомобили шныряют, вдоль него фабрики гудят, мельница паровая пофыркивает, а два шага по-за гумнами – и лежат снежные целины, сияют под солнцем...» [235]. Полукультурная речь в повести представляет собой гибридные формы, сочетающие в себе и первоначальный речевой опыт – диалектный, просторечный, жаргонный, и факты литературного языка. Так как тяготенье к книжной речи у рассказчика сознательное, то просторечие прорывается как бы непроизвольно, независимо от желания говорящего, и речь строится на колебаниях от одной стилистической сферы к другой. Книжные обороты имеют обычный вид или разнообразно деформируются, вступая в противоречие с типом речи: «Ведь стоило ему только клич кликнуть – вся округа за ним пошла бы по столбовой дороге коллективизма» [50: 241]; «Вообще ни в обстановке, если не считать библии, но по внешнему обличью хозяина не заметил я никаких признаков религиозного угара» [50: 246]. Для сказа этого времени характерно «лесковское» начало – подчеркивание, гиперболизация комических элементов речи, но нарочито комическая речь – часто лишь внешняя оболочка серьезного и даже трагического содержания, которое оказывается за пределами понимания рассказчика и приобретает особую остроту благодаря несоответствию форме выражения. В рассказе И.И. Катаева сказовое повествование как самостоятельный тип повествования тяготеет к бытовой тональности. Фрагменты сказового повествования, включенные в произведение с установкой на литературность изложения, привносят с собой эпический, торжественный тон. Вместе с тем, уже в 1920-е гг. рядом с непрямыми сложно опосредованными формами выражения авторской позиции в прозе И.И. Катаева существует и иная форма, найденная в его публицистике – прямое выражение авторской позиции, ярким примером которого можно назвать рассказы «Автобус», «Зернистый снег», «Праздник» (1927). 136 Если очерковое начало двух последних ярко выражено и жанровая природа их определена исследователями как очерковый рассказ, то в рассказе «Автобус» публицистическое выступает как выражение авторской позиции. Как один из вариантов словесного выражения публицистичности является употребление собственно газетной фразелогии. Это, прежде всего, образные, перифрастические обороты, экспрессивные элементы нейтрального слова, при этом не наблюдается разрыва между употреблением газетной фразеологии в исконной среде и в повествовании, поэтому отсутствует характерный иронический план, возникающий при слиянии разностилевых элементов: «Большое спокойное солнце садилось в золотистую теплынь Подмосковья. Половина его мягкого упругого шара скрылась за мглистой полоской дальних лесов,- и неожиданно я увидел в нем умный карий глаз класса-победителя, чуть прищуренный и добродушный» [50: 198]. Обращение к этим средствам естественно, поскольку они так же, как и другие, стилистически окрашенные средства содержат в себе готовую экспрессивность. Авторское «я» выражается в лирических отступлениях, в отдельных вопросах и восклицаниях, в риторических обращениях, создающих общий эмоциональный тон повествования или отдельных его фрагментов: Лирические отступления могут быть единственным средством выражения открытого авторского «я». Они разрывают объективное или сказовое повествование, образуя относительно замкнутые фрагменты внутри его. Однако они могут входить и в целую систему средств, организующих субъективное авторское повествование. Авторское вмешательство накладывает отпечаток на всю структуру произведения и обусловливает принцип введения повествования. В отличие от объективного повествования, которое разворачивается как бы следуя самой жизни, здесь произведение строится как определенная художественная конструкция, развертывающаяся на глазах у читателя. Один из способов ведения повествования, обнажающий его структуру, - обращения к читателю, которые содержат указания на жанр произведения, на 137 последовательность изложения событий, на переход от одной темы к другой, на переход от одного плана повествования к другому, от одной манеры к другой. К концу 1920-х гг. картина литературы меняется. Прежде всего, становится иным общее представление о языке художественной литературы, его качестве и задачах. Основной задачей литературы становятся поиски слова, адекватного действительности, контуры которого часто были скрыты узорным орнаментальным словом. Если в 1920-е гг. была актуальна идея особого художественного языка, на который ориентировалась авторская речь, то в 1930-1940-е гг., внимание писателей вновь обращается к литературному языку, авторская речь вновь входит в рамки и повествовательной и языковой нормы. В самом общем виде развитие повествовательной речи можно определить как движение от усложненности к простоте. Этот путь прошли все писатели, в той или иной степени отдавшие дань орнаментальности, либо полностью отказавшись от манеры 1920-х гг. (К.А. Федин, Б.А. Лавренев, Вс. Иванов, М.А. Булгаков), либо преобразовав ее, как Л.М. Леонов и А.Г. Малышкин, оставшиеся верными многими принципами словоупотребления, выработанным орнаментальной прозой. (Для романов Л. Леонова 1930-1940-х гг. характерно стремление к символичности слова, к лейтмотивности построения). В 1930-е гг. проза И.И. Катаева проделала путь от активных повествовательных форм к формам авторского повествования, в связи с этим следует отметить, что в этот период преобладание объективного авторского повествования определяет отношение к чужой речи и способы ее использования. Речь персонажей четко противопоставлена авторской речи: - нарушения и отклонения – несобственно-прямой диалог или диалог с опущенными репликами – усложняют взаимоотношения этих двух планов, но не нарушают их противопоставленность; - соотношения авторского повествования и «чужой» речи характеризуются большей простотой, четкостью и традиционностью, чем в предшествующий 138 период, облекаясь в формы несобственно-прямой речи. Она соотносится с объективным повествованием, минуя посредничество разных переходных форм, тяготеет к замкнутости и, как правило, легко вычленяется из повествования. Благодаря дистанции между автором и персонажем становится значительно более четкой и ощутимой. Изображение с точки зрения персонажа захватывает лишь отдельные фрагменты повествования, не оказывая решающего влияния на строение произведения в целом. В так называемых формах несобственно-авторского повествования, сказ утрачивает свою конструктивную самостоятельность и входит как часть в авторское повествование. Благодаря этому обнажается двуплановость повествования, скрытая в собственно сказе [103-104]. Различие разновидностей сказа в характере оценок (близость к авторской или удаленность от нее) и речевых средствах, но не в самой форме повествования. Таким образом, если есть рассказчик и установка на устную речь, повествование всегда представляет единство чужого и устного слова, хотя литературность речи рассказчика поддерживает иллюзию того, что речь ориентирована только на устное рассказывание. Тип рассказчика двойственен – он либо социально и психологически близок автору, либо резко удален от него. Тип рассказчика определяет и характер оценок, и речевое поведение сказа. Если рассматривать сказ с точки зрения тех оценок, которые даются изображаемому, их соотношения с авторской позицией, которая хоть и не выражена в сказе непосредственно, но неизбежно и неизменно присутствует за ним, так что оценки, данные в сказе, на нее проектируются, можно выделить однонаправленное двухголосое слово и разнонаправленное двухголосое слово. В повести «Встреча» газетная фразеология, включенная в авторское повествование, соотнесена со словоупотреблением непосредственного источника – газеты и содержит определенную точку зрения на предмет. Поэтому в 139 повествовании создается возможность двойного освещения одних и тех же предметов, людей: непосредственное авторское и газетное. Цитатный, иронически отстраненный характер употребления газетной фразеологии обуславливает и взаимоотношения между повествовательной речью, в которой выражена точка зрения автора, и газетной формулой: сопоставление их, противопоставление или скрытую полемику. Газетная формула сопоставляется с реальностью и при переводе проясняется большее или меньшее экспрессивное и смысловое расхождение между предметом реального мира и его газетным обозначением: «Станция с первого взгляда обидела своей невзрачностью. То, что звучало загадочно веско: эм-те-эс, что называли в газетах крепостью индустрии и могучим рычагом,три длинных домика на пустыре за городским кладбищем, облупленные, вросшие в землю» [50: 296]. Смысловой контраст в этом примере усиливается оттого, что стершаяся метафора – «крепость индустрии» оживает от столкновения с конкретным словом – «три домика». В «Ленинградском шоссе» подобным же образом обрабатываются канцеляризмы (языковые синонимы нейтрального слова, слова, принятые в определенных условиях общения, термины, употребительные в деловой речи), основным признаком является их казенный, бюрократический характер. Одна из существенных черт канцеляризмов – их семантическая опустошенность, которая проявляется при сопоставлении с обычным словом, с реалией, с авторским пониманием действительности. Если документ не безличен, утрированные особенности стиля характеризуют не столько сам стиль, сколько пишущего: «В нем сообщалось, что, за смертью арендатора Пантелеева, дом переходит в ведение жилищного товарищества, для организации какового все жильцы благоволят явиться на собрание, имеющее быть в помещении данной кухни 3 140 мая сего года в 18 часов. Подписано было – Инициативная группа. Группа эта могла состоять только из одного Могучего» [205]. Таким образом, можно утвержать, что проза И.И. Катаева, представляя собой сложно структурированное повествование, включает в себя совмещенные по принципу контраста формы субъективного повествования, возникающие на пересечении устного сказового и книжного слова, а также образования, тяготеющие к прямому, публицистическому выражению авторской позиции. В целом очерковое начало, возникнув преимущественно в малых эпических формах 1920-х гг., испытывает влияние раннего очеркового творчества, и усиливается в 1930-е гг., когда возрастает доля собственно очерковой прозы, а в художественных текстах разнообразно присутствуют элементы очеркового повествования, газетные фразеологизмы, лексика и т.д. Лирическое начало в прозе И.И. Катаева. «Стертость», или по Ю.Н. Тынянову «автоматизация» того или иного элемента, означает изменение его функций и передача функциональной значимости другим элементам. В случае с прозой И.И. Катаева ослабление сюжетности ведет к усилению лирического начала. Прежде всего, это выражается в развитии ассоциативности слова и укреплении ассоциативных связей, ведущих к увеличению объема тропов, а также в особой лейтмотивности повествования. Поскольку появление ранней прозы И.И. Катаева происходит на фоне поэтической традиции, во многом она сохраняет специфические черты предыдущего, стихотворного этапа. Следствием чего становится своеобразное сочетание лиризма и установки на нарочито приземленные образы и мотивы, сюжетная аморфность, преобладание статических (описательных) элементов повествования над динамическими. В стилевом отношении следует отметить специфическое соединение по принципу контраста «обычной» нехудожественной речи и метафорической образности. 141 Прежде всего, следует определить характер лиризма прозы И.И. Катаева. Показательным в этом отношении является рассказ «Автобус» (1929). Этот рассказ, снабженный авторским жанровым обозначением «вариации», представляет собой лирическую миниатюру, состоящую из трех главок, пронумерованных римскими цифрами. Сюжетная событийная сторона крайне ослаблена, на первый взгляд, это описание поездки на пригородном автобусе в воскресный день. Авторское слово выражено прямо и не связано с определенным персонажем, как, скажем, в повести «Сердце», рассказе «Молоко». Малый объем рассказа обусловил плотное сцепление его частей, внешняя краткость сопровождается внутренней смысловой концентрацией. Каждая из трех главок имеет достаточно четко выраженные компоненты, сопоставимые с традиционным композиционным членением на вступлениезачин, развитие темы и заключение. Лейтмотивным, повторяющимся является образ водителя автобуса. В первой главке вариант темы «водитель и пассажиры» решен в злободневном социально-классовом аспекте. Водителю свойственна позиция «всепрощения», «добродушия», в то время как позиция пассажиров с их «неведением» ограничена, они не осознают остроты ситуации и полны эгоистичного «самодовольства». Примечательна метафора «солнце – умный глаз класса-победителя», которая в конечном итоге характеризует водителя, в то время как пассажиры рисуются несколько утрированными красками: «сытые мужчины», «ароматные дамы», «девица с личиком моськи». Начальная фраза второй главки: «Мгновенная, пронзающая жалость!» задает и эмоциональный, и тематический тон всему фрагменту, который условно можно обозначить как «отставший пассажир». Шофер, не заметивший человека на обочине, красноречиво «отсутствует» в этом фрагменте, поэтому большую активность получает рассказчик. Заметно меняется и структура фразы: возрастает количество экспрессивных 142 элементов в виде риторических восклицаний, в форме эллиптических конструкций: «Влетели в поля – мрак, безлюдье <…> Через минуту – темная, спящая деревушка огородников»; «Не заметили, не заметили бедного!.. Миленький, толстенький – остался...» [50: 198]. Меняется также и система тропов. В начале рассказа присутствуют развернутые сравнения: «автобусы работали, как землечерпалка, выхватывая полными ковшами и перенося к Москве нарядные группы дачных гостей»; «пышная, как сливочная пена, черемуха»; метафора – солнце на закате (большое, спокойное) как мягкий упругий шар, глаз класса-победителя, чуть прищуренный и добродушный, созерцающий … позволил дожить драгоценную жизнь курносой девице в шляпке, важной старухе с седыми буклями, розовому гражданину в инженерской фуражке. Во второй главке характер тропов меняется: метафорические образы (типа «телеграфные столбы вырастают черной голгофой», «Каинова тоска гнилых огородов») уже вводятся в состав антитезы «город – поля», «жилой свет – мрак, безлюдье». Изменилась и общая цветовая картина, и характер движения. В первой главке движению парадоксально приданы черты статики: «Зеленые гладкие полосы мчались назад под окном, волнистые земли жирных огородов не поспевали за ними, горизонт стоял». Во второй главке движение интенсифицируется, оно уже не такое гармоничное, плавное, ему придается резкий скачкообразный характер. Точка зрения повествователя подвижна: он то находится в автобусе, за креслом водителя, то видит автобус со стороны (от лица дачника, незамеченного водителем и оставшегося в темноте, не краю шоссе). Внутренняя речь переходит в реплику: «- Не заметили, не заметили бедного!.. Миленький, толстенький – остался… - Как он верил! – верил, не успев осознать еще и через секунду, когда автобус был уже далеко! Как он был обманут!..» [50: 199]. В композиционном отношении рассказ строится по принципу триады, в которой первые две части соотносятся как тезис и антитезис, а третья, 143 заключительная часть совмещает тенденции двух предыдущих. Мотив «односторонней дружбы» как бы замыкает и сплавляет в единое целое развитые в предыдущих главках противопоставленные мотивы «добродушия» водителя по отношению к пассажирам и «незамеченного» водителем пассажира: «В автобусе того маршрута, по которому я езжу каждое утро, мне особенно полюбился один шофер. У меня с ним завязалась тесная дружба – только, к сожалению, односторонняя <…> Шофер не подозревает о моем существовании, ни разу не взглянул на меня» [50: 199]. Односторонний характер этой «дружбы» подчеркнут характерной деталью: повествователь видит лишь профиль водителя. Этот момент акцентируется введением многочисленных повторов, которые ритмически организуют текст и вместе с тем мотивируют односторонность портрета водителя: «…треугольничек глаза устремлен только вперед, на дорогу. Всегда вперед»; «профиль у него превосходен – твердый профиль квалифицированного пролетария»; «Он творит сложную кривую движения смело и осторожно. Смело и осторожно! За его спиной столько жизней...» [50: 199-200]. Характерно, что в пределах текста возникают не только разнообразные словесные повторы, повторяются также и целые образные комплексы, причем возможно введение образа на уровне словесного тропа, а в дальнейшем уже на уровне конкретного момента повествования. Все это ведет к особой эмоциональности текста, связанной также с особенностями системы тропов, произвольностью характеризующихся ассоциативных неожиданностью, связей. Например, кажущейся метафора «треугольничек глаза» водителя, видимый повествователю, возвращает к первой главке, в которой проводится красноречивое сопоставление «солнце» – «прищуренный глаз класса - победителя», причем следует отметить появление в пределах фразы неточной рифмы глаз – класса. Возникающее далее сравнение шофера с поэтом указывает на неслучайность этой рифмы. 144 Многочисленность тропов на небольшом пространстве рассказа воспринимается как некая стилевая переизбыточность: «руки в больших рукавицах с раструбами до локтя, точно у рыцарей Брабанта»; «машина повинуется их (рук) движениям так же чутко, как чистая мысль повинуется велениям мозга»; шофер «в своей зеркальной комнате он совсем как поэт. Так же одинок, отъединен от людей и в то же время погружен взглядом в кипение мира». Даже сюжет приводится в движение усилением эмоциональности: «…Вечное счастье для жизни моей! – я видел своего шофера. Ровное лицо …исковеркалось в бешеной гримасе напряжения. <…> сбросил на руль всю силу молодости, мысли, страсти. Лицо вернулось в мир, но с губами случилось необычное: они разжались в улыбке доброты и счастья. Лицо замкнулось в прежнем равнодушии» [50: 200]. Автор намеренно сгущает образный строй, подчеркивая ассоциативность и многозначность текста, сопоставимую с многозначностью стихового ряда. Таким образом, анализ показывает, что в рассказе «Автобус» с особой наглядностью проявилось особое лирическое начало прозы И.И. Катаева, которое сохранится и в его последующих произведениях. Тем самым получают развитие такие принципы его прозы, которые можно свести к ряду аспектов его индивидуальной поэтики, касающейся, прежде всего индивидуализации повествовательной манеры писателя. Проявлением лирического начала, на наш взгляд, можно считать относительно небольшой объем произведений, характеризующихся к тому же жанровой аморфностью. Так, критика не всегда единодушна в определении жанра его лучших произведений. Повесть «Сердце», например, была названа «повестью», «маленьким то романом» «рассказом» [109, [122], 110]. «Поэт» именовался Безусловно, этот то факт свидетельствует о недостаточной терминологической определенности в разграничении жанровой природы современного рассказа и повести. Вместе с тем, следует признать, что жанровая нерасчлененность является 145 специфическим свойством катаевской прозы, принципиально ориентированной на синтез жанровых форм. Появление в прозе И.И. Катаева высокой степени смысловой концентрации, которая может быть сопоставима с «теснотой» (Ю.Н. Тынянов) смыслового ряда в поэзии, связано с установкой на расширение художественной семантики за счет формирования различных подтекстов, среди которых немаловажное значение принадлежит, прежде всего, символистскому («Поэт») и мифологическому подтекстам («Молоко»). Ослабление сюжетности в результате преобладания статических описательных мотивов приводит к тому, что статические мотивы становятся своего рода символами мотивов фабульных, или мотивируют развитие фабулы. По наблюдению Б.В. Томашевского, в этом случае в названии заключается намек на статический мотив [156: 246]. В отношении прозы И.И. Катаева это замечание действительно актуально. Очень часто именно заглавие является повествования. емким Причем, как символом, правило, организующим заглавие имеет все уровни конкретный материально-бытовой план выражения и отвлеченный, обобщающий смысл, что приводит к появлению двойных оппозиций. Например, заглавие повести «Сердце» мотивировано болезнью главного героя и вместе с тем является художественным обобщением представлений автора о неблагополучии современной жизни, выразившихся в противопоставлении сердца и разума. Молоко в одноименном рассказе получает двойную семантику, как молочный продукт и некая всеобщая влага жизни. Соответственно, в повести «Поэт» пары оппозиций представляют понятия творчество/ремесло, высокое/низкое, вечное/временное, бессмертное/ конечное, материальное/ идеальное и.т.д. Рассказ «Жена», в заглавии которого просматриваются отчетливые черты соотнесенности с блоковской концепцией Вечной Женственности, воплощенной в сложном образе «Мать – Сестра – Жена», активно вводит в 146 текст цитатный блоковский слой, причем уже заглавие косвенным образом сигнализирует об этой особенности произведения. В заглавие также может выноситься пространственный символ, организующий и сюжетный, и аксиологический уровни повествования («Ленинградское шоссе», «В одной комнате», «Встреча», «Хамовники»). Некоторые из этих понятий в творчестве И.И. Катаева получают статус устойчивых мотивов не только в художественной прозе, но и публицистике. В частности, таким лейтмотивом является мотив «встреча», разнообразно разработанный в ряде произведений - в рассказах «Великий Глетчер», «Зернистый снег», повести «Встреча», очерках «Новый директор», «Павлины» и в статьях о литературе. Таким образом, одной из существенных сторон лиризма прозы И.И. Катаева является ослабление сюжетности, отказ от активной событийности, подчеркнутая сосредоточенность на явлениях бытовой повседневности и возникающее на этом фоне усиление внесюжетных аспектов повествования. Результатом этого усиления становится тот факт, что сюжет приводится в движение введением стержневых мотивов (тем), обозначенных в заглавии. Преобладание лирического, субъективного начала в прозе И.И. Катаева также проявляется в стремлении показать реалии предметного мира через эмоциональные описания и вытекающее из этого внимание к предметной детали. Мастерство писателя в создании словесных «интерьеров и натюрмортов» отмечалось еще первыми критиками творчества И.И. Катаева [115, 122]. Истоки словесной живописи И.И. Катаева следует искать в импрессионистической традиции символизма, воспринятой к 1920-м гг. как определенный художественный принцип. Интересны, к примеру, описания, воспроизводящие особое преломление света и тени, ориентированные на соответствующие жанры живописи: «Но вот – по краю тротуара лотки с фруктами. Синие матовые сливы, тяжелые грозди винограда, в котором 147 утро сгустилось и стало влагой; если прокусить, оно потечет в самую кровь. Горка шафрана желтеет, будто освещена закатом» [50: 92]; «Вижу кусочек атласного нетемного неба. Крупные спокойные звезды. Золотой купол церкви слабо светится – не то от звезд, не то от месяца, но месяц за домами… Почему-то этот светящийся купол в вечернем небе всегда рождает во мне весеннее счастливое беспокойство» [50: 106] («Сердце»). Как видим, в данных описаниях чисто декоративные цветовые образы сочетаются с поэтическими метафорами, при этом следует акцентировать их ярко выраженный индивидуальный характер. В художественной прозе И.И. Катаева 1920-х гг. вполне отчетливо сложилась своеобразная стилевая манера, сформировавшаяся на пересечении разных составляющих, в том числе субъективно-выраженного, лирического начала в прозе, различных форм авторского повествования, доминирующей мифологической символики. В повествовательной поэтике И.И. Катаевапрозаика определяющей становится смена повествовательных форм, приобретающая в его творчестве эволюционный смысл. Не менее значимой оказывается смена повествовательных форм и связанные с этим особенности авторского повествования в прозе И.И. Катаева. Эволюция повествования движется в сторону отхода от сказовых форм и орнаментальности, характеризующих для прозы 1920-х гг., к усилению стилистической ясности, расхождению речи автора и речи персонажа с совмещением устных, сказовых и книжных форм, к отказу от стилистической изощренности, сочетанию субъективно выраженного авторского начала с несобственно-прямой речью. Указанные моменты определяют своеобразие авторского повествования и ее эволюцию в прозе И.И. Катаева от 1920-х к 1930-м гг. Тем самым эволюционный аспект рассмотрения авторского повествования в прозе И.И. Катаева позволяет выявить своеобразие индивидуальной поэтики писателя. 148 3.2. ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СИМВОЛИКА ПРОЗЫ И.И. КАТАЕВА Особенностью пространственно-временной парадигмы прозы 19201930-х гг. было принципиально иное по отношению к классической литературе осмысление взаимоотношений личности и истории. Именно с типом героя, личностным началом в тексте было связано своеобразие пространства и времени в произведении. В связи с этим специального рассмотрения требует пространственная организация произведений И.И. Катаева. О специфически новых чертах героя послереволюционной прозы писала в свое время Е.Б. Скороспелова. «Важнейшим критерием оценки личности, - замечает исследовательница, - стала ее способность к активному поступку в сфере революционно-практической и духовной деятельности. «Укрупнение» выразилось в стремлении писателей к сопряжению связей личности внутри микросреды… со связями, действующими в пределах макросреды…, и определило потребность использовать при изображении личности широкие пространственные и временные координаты» [150: 14]. Аналогичны в этой связи выводы В.П. Скобелева о том, что литература 1920х гг. жила убеждением, что «частная жизнь человека если не прекратилась, то уж во всяком случае, была перенесена на улицу или, наоборот (что не меняет сути дела), улица ворвалась в дом, перевернув частную жизнь человека… Улица стала для человека местом его постоянной прописки» [136: 20]. Н.В. Корниенко высказала мысль о том, что в литературе 1920-1930-х гг. символы дома и площади могут быть истолкованы как знаки двух противостоящих друг другу типов миропонимания. Трагический образ «стихии разрушенного» дома с большой силой запечатлен в произведениях Б.А. Пильняка, А.Н. Толстого, П.С. Романова, М.А. Булгакова, А. Веселого и др. [113: 337-338]. Вариации этих образов, по мнению исследовательницы, обозначают различные ценностные ориентации внутри русской культуры. В ее рамках «овеществленная идеальная шкала ценностей дома и семьи» в 149 «Лете Господнем» И.С. Шмелева [113: 338] и сиротство героев А. Платонова «не противостоят, а скорее дополняют друг друга» [113: 339], потому что обнаруживают общие устремленности их авторов к преодолению бездомности. Литература 1920-1930-х гг. с большой силой запечатлела расширение «пространственно-временного объема», связанное с новым мироощущением, изменившего отношения человека с миром. Новая модель мира в сфере традиционных пространственных ориентиров особую роль отводила символам дома и площади, которые были истолкованы как знаки двух противостоящих друг другу типов миропонимания. Поскольку «частная жизнь человека если и не прекратилась, то уж во всяком случае, была перенесена на улицу или, наоборот, улица ворвалась в дом, перевернув частную жизнь человека…» [131: 20]. Предметным выражением данной ситуации становятся полярные образы «идеальной шкалы ценностей дома и семьи» в «Лете Господнем» И.С. Шмелева и сиротство, «бездомье» героев А. Платонова [108: 337-338]. И.И. Катаев раскрывает свое восприятие новой противоречивой реальности с помощью сложно структурированных пространственновременных феноменов. Прижизненная литературная критика в качестве отличительной черты поэтики И.И. Катаева отметила его мастерство в изображении «натюрмортов и интерьеров», тем самым, соотнеся способ организации пространства с приемами изобразительного искусства. Многие аспекты индивидуально-авторского пространства действительно могут быть включены в контекст советской живописи, кинематографа 1920-1930-х гг. и рассмотрены как проявление «языка эпохи», глубинной мифологии ранней советской культуры. Вместе с тем, один из аспектов пространственной организации прозы И.И. Катаева связан с глубоко традиционной техникой изображения пространства – панорамной живописью, которая отличалась подчеркнутой 150 реалистичностью, использованием особых приемов создания перспективы и световых эффектов. Целью этих приемов было создание ощущения городского пейзажа, видимого как будто с высоты и полным обзором [136: 67]. Отличительными чертами панорамы были положение зрителя в центре, взгляд сверху и целостность «кругового» образа. Панорамные черты московских пейзажей И.И. Катаева можно обнаружить в «Сердце», «Хамовниках», «Встрече», «Ленинградском шоссе». Любопытный пример совмещения реалистического панорамного и мифологического планов обнаруживаем в повести «Сердце»: «…Какое-то странное палевое сияние в тупике коридора привлекает мое внимание. Я иду туда и через распахнутые стеклянные двери вступаю на балкончик, повисший над огромной пустотой. <…> Кажется, что я попал в центр колоссального звездного шара. <…> Верхняя половина – это небо, черное небо, кишащее яркими созвездиями. Нижняя половина – это город, опутанный нитями уличных огней <…> Любимый мой город, надежда мира, устало дышит внизу. Постепенно я различаю купола и башенки знакомых зданий, узнаю созвездия районов» [50: 144]. Панорама ночной Москвы вначале характеризуется нерасчлененностью верха и низа, их тождественностью, в результате чего город словно исчезает, растворяясь в беспредельном космическом пространстве. Затем картина постепенно все более детализируется, получает определенные очертания, сопровождаясь мотивом узнавания «своего» обжитого пространства. Целостность видения в панораме предполагает восприятие города как единого и непрерывного. У И.И. Катаева взгляд, устремляясь все дальше и дальше за мыслимые пределы, рассматривает Москву как центр единого организма – страны: «Этот город – мужественное сердце страны, необъятной равнины, залегающей меж четырех морей и двух океанов. Страна начинается там, за вокзалами, оттуда разбегаются во все стороны <…> рельсы. Вся страна в движении, все отдано на потребу этому городу» [50: 144]. 151 Так, в художественной прозе И.И. Катаева наряду с «пространствомкартинкой» [138: 198] возникает мифологизированное пространство, применительно к которому могут быть актуализирован следующий путь его описания: выделение противопоставленных пространственных ориентиров город и деревня, север и юг, сакральное/праздничное пространство и профаническое, снаружи и внутри, вверху и внизу и связанных с ними мифологических пространственно-временных феноменов - времена года и суток, небесные светила, прошлое, настоящее, будущее. Городское пространство в художественной прозе И.И. Катаева представлено повестями и рассказами «Великий Глетчер», «Жена», «Автобус» (1927), «Сердце» (1928), «Ленинградское шоссе», «В одной комнате» (1932), «Хамовники» (1932-1933). Мир деревни воплощен в рассказах «Зернистый снег» (1927), звездами» (1937). Повесть «Молоко» (1930), «Под чистыми «Встреча» совмещает (1934) оба типа пространства. Городской мир связан с образом Москвы первой трети ХХ в. и передает представление о стремительно меняющемся городе, вместилище разных человеческих судеб, захваченных динамикой перемен и меняющихся вместе с Москвой. Городская топика охватывает Замоскворечье, Хамовники, «юго-западный угол Москвы», отграниченный Крымским мостом, «захолустье» Нескучного, «радушный изгиб Воробьевки», Ленинградское шоссе и др. Картины окраинного мира Москвы, поэтически выписанные, возникают не в связи с развертыванием сюжета, а главным образом как часть внутреннего мира повествователя. Сакральный центр города – Красная площадь появляется лишь один раз в финале рассказа «Великий Глетчер». Окраинность, отдаленность от центра как главная примета катаевского городского пространства ведет к частичной утрате урбанизма. Часто обрисовке пространства города выделяется мысль о в совмещении «городского» и «природного»: «Мы все как-то забываем, что городские 152 твердыни, вознесенные высоко и на долгие десятилетия, - это уже природа. Как гудящие вершины тайги, как сверкающие ледники горных хребтов» («Сердце») [50: 122]; «Луговое, лесное лето свободно входит в Москву через заставы, неспешно бродит по бульварам, отдыхает в старых садах и ночует на Воробьевке» («Хамовники») [50: 364]. Иногда образы города имеют выраженные молодость города, антропоморфические заново рожденного, черты: «можно старающегося ощутить накопить и безоглядно растрачивающего соки»; «усталость в мертвом воздухе, пронзенном горячим закатным лучом в садах, опустивших ветви к воде, в реке, которая уже замерла и не дышит»; город «шагнет на воробьевское нагорье. Сюда уже тянет его, манит за собой загорелая, златокудрая молодость» [50: 167] («Жена»). Эти особенности прозы И.И. Катаева дают основание для рассмотрения их в русле «московского текста», по В.Н. Топорову, «московское пространство органично и самодостаточно: оно образует естественно растущий целостный мир, нечто почти природное и материнское» [157: 484]. Связь Москвы с Матерью, в истоке которой лежит утвердившаяся в народном сознании формульная максима «МоскваМатушка», актуальна в отношении московской темы И.И. Катаева, но порождает ее не фольклорный, а автобиографический аспект. Утрата матери и материнского мира предопределила появление образа города, существующего лишь в ментальном пространстве. Наиболее характерными в этом отношении становится образ утраченного, разрушенного дома: «я привычно взглянул на свой дом и сквозь него увидел небо: он был разгромлен или сгорел, - не знаю <…>. В двадцать третьем оба дома были снесены под выставку. Их нет. Я только в воздухе могу показать: вот тут на четвертом этаже была наша столовая. Еще могу закрыть глаза и вспомнить этот дом, как вспоминают лицо умершего человека» («Жена») [50: 180]. В повести «Сердце» дом вмещает в себя, представление о полноте семейного круга, гармонизирующим началом которого выступает семейный 153 обычай и особая домашняя ритуальность. Утрата этого дома, характеризует действительность как дисгармоническое, антигуманистическое пространство: «нельзя допустить, чтобы погиб этот дом, удивительный дом <…> Я был влюблен в дом. В каменные плиты, по которым нужно было идти от ворот до крыльца, в дряхлого чихающего дворового пса, в веселого доктора Николая Петровича, в Веру Ивановну с ее седыми волосами и нежнорозовым молодым лицом, во всех бесчисленных бабушек и кузин <…>. Особый запах комнат, особый семейный жаргон, привычные домашние остроты, все суждения, привычки, предания этой исконной столичной семьи были мною изучены и обоготворены» [50: 123]. Возврат к гармоничному мира дома в условиях исторического времени невозможен, поэтому идеальной геометрия пространства Москвы у И.И. Катаева тяготеет не к форме круга, а воспроизводит образ прямой, или перекрещивающихся линий, соотносимый с традицией мифопоэтического «московско-петербургского текста». Прямая, символизируя движение, изменчивость мира своеобразно воздействует на ценностные установки писателя. С одной стороны, направленное движение и заложенная в нем идея развития, должна была быть близка И.И. Катаеву, с другой – эта тенденция принижает значимость прошлого и настоящего. А именно с прошлым связано представление писателя о доме, семье, юности, первой любви, увлечении искусством и т.д Не заявленная прямо мысль об утраченном прекрасном мире, прочитывается с помощью пространственного кода. В прозе И.И. Катаева виртуальное пространство утраченного дома связано с мотивом «бездомья», который реализован в повести «Поэт» как особый «теплушечный» быт, специфическое «походное» пространство, совмещенное с промежуточным мотивом временного жилья. В отличие от универсальной бездомности героев А. Платонова, скитальчество катаевских героев имеет строго определенный вектор. Это не просто вечное странствие 154 человека по земле в поисках истины и сердечного тепла, любви, в поисках родного душевного начала, которое бы избавило человека от сиротства и отчуждения. Хотя, несомненно, мотив сиротства, одиночества присутствует в произведениях И.И. Катаева. «Бездомье», странствие героев мотивировано ситуацией гражданской войны: зафиксирован так называемый «теплушечный быт», сотоварищества», «уют эпохи». «землячество Приметы пространственной оппозиции, определившей движение героев от севера к югу, ассоциируется с противопоставлением севера и юга, зимы и лета существующее в литературной традиции и в фольклоре, например, у М.Ю. Лермонтова север – «милый», «сторона южная» - чужая; в поэтике А.А. Блока «север» - суровость, аскетизм, нравственность, «юг» - нега, любовь, страсть. Ср. у И.И. Катаева: «Сквозь эту мертвенно белую, вшивую, трупную зиму, сквозь заносы и тысячеверстные равнины – к весне, к морю, к белому хлебу – все вместе, с этой новой для меня и уже уютно-милой армейской семьей – в этом влекущем, захватывающем дух движении наступления – на Юг, на Юг, на Юг!» [50: 43]. При этом одним из важнейших аспектов организации сюжетного повествования является специфика предметной детализации. У И.И. Катаева пространственная оппозиция «север» - «юг» существует в соотнесенности с образами еды - «наивное куршакское благополучие» – «жирный тамбовский парадиз»: «варили и жарили всякую снедь огромными чугунами и противнями, горами пекли блины, пироги и оладьи,- отводили голодные северные души в этом жирном тамбовском парадизе» [50: 37]. Прозе И.И. Катаева также присуще выделение «своего» гармонического и «чужого» хаотического пространства и, связанное с этим, представление о пространственной границе. Категория «антидому», «дом» «лесному в мировом дому» (Ю.М. фольклоре Лотман), противопоставлена характерно, что в художественной прозе И.И. Катаева оппозиция «дом» / «антидом» трактуется 155 в весьма примечательном ключе, совпадая в самых общих своих чертах с архаической, мифологической и современной моделью дома. Образы своего, родного, отчего или идеального дома предстают или как воспоминания о прошлом, или как обреченные на уничтожение дома: «я привычно взглянул на свой дом и сквозь него увидел небо: он был разгромлен или сгорел, - не знаю, только все у него внутри обрушилось, и торчали голые балки. В двадцать третьем оба дома были снесены под выставку. Их нет. Я только в воздухе могу показать: вот тут, на четвертом этаже, была наша столовая. Еще я могу закрыть глаза и вспомнить это дом, как вспоминают лицо умершего человека» («Жена»); «несмотря на все любовные Саввины гвоздочки, подпорки и планочки, прогнившее деревянное строение год за годом крошилось, как черствый, заплесневевший ломоть» («Ленинградское шоссе»); «Нельзя же допустить, чтобы погиб этот дом, удивительный дом…<…>Я был влюблен в дом. <…> Особый запах комнат, особый семейный жаргон, привычные домашние остроты, все суждения, привычки, предания этой исконной столичной семьи были мною изучены и обоготворены» («Сердце»). Интересно, что во всех указанных случаях, ярко выражена соотнесенность образа дома с обликом человека. Тем самым подчеркнуто, что «дом» не столько вещественное, материальное понятие, сколько категория, имеющая прямое отношение к ценностной, аксиологической сфере. Квартира как пространственная категория может обладать как признаками «своего», так и «чужого» пространства. В повести И.И. Катаева «Сердце» коммунальная квартира сопоставлена с миром «чужим»: вопервых, налицо признаки антидома - запущенность, неухоженность, бездомность, нежилой вид: «Потолок грязно-серый, в углах – паутина» [50: 198]; во-вторых, пространство квартиры сложно структурировано – специфическим пограничным пространством между домом и вне-дома становятся лестницы, подъезд, другие квартиры, двор. 156 Характеризуя пограничное пространство, Ю.М. Лотман пишет, что «именно эти пространства становятся «своими» для «пограничных» (маргинальных) групп общества» [121: 266]. Поэтому такой тип пространства населен либо инфернальными силами, либо людьми, осуществляющими антиповедение. В фольклоре эти функции переданы колдуну, кузнецу, мельнику, разбойнику. Приметой «чужого» мира также является анти-язык и активизация «ночного» времени. Рассмотрим ряд моментов подтверждающих это наблюдение. В перевернутом мире антидома не отец заботится о ребенке, наставляет и поучает его, а не по годам самостоятельный и рассудительный сын делает внушение отцу. Дом не осуществляет главную свою функцию защиты от агрессивности внешнего мира, его границы проницаемы: Журавлеву мешает, действует раздражающе крик мальчишки за окном, подражающего громкоговорителю: «Алло, алло, алло! Слушайте, слушайте, слушайте! Говорит Большой Коминтерн …» [50: 106]. В комнате Журавлева собираются члены домкома на заседание, на котором обсуждается антиобщественное поведение гражданки Угрюмовой. Тема бытовой склоки передана в стилистике зощенковского комического сказа, пародийный аспект которого связан с воспроизведением письменной формы полуграмотной речи, которая воспринимается как непосредственное воплощение анти-языка: «Неоднократно получающие эксцессы с собакой владельца гр-ки Угрюмовой, которая приносит большие неудобства и алчно щелкает не только на детей, которых может сделать совершенно уродами, а также нарушает вход в квартиру и взрослым» [50: 112-113]. Предел антиповедения осуществляет бывший домовладелец Чистов, который гадит под дверью Журавлева в знак протеста. Комната Чистова воспринимается как некое антипространство, несущее в себе признаки разрушения и смерти: «кровать с продранным матрацем; рваное лоскутное одеяло на полу; осколок стакана с мутной жидкостью и лобзик с лопнувшей 157 пилкой. <…> Опрокинутый стул, повсюду обрывки тряпья, скомканная бумага, всякий хлам. Драные обои свисают клочьями <…>, под темным потолком, на крюке от люстры, болтается обрывок веревки…» [50: 158]. Причиной самоубийства бывшего домохозяина становится решение о его выселении, принятое на основании записки, написанной сыном Журавлева. В освободившуюся квартиру сейчас же въезжают новые жильцы, обитатели подвала. Согласно семиотическому описанию пространства, данный аспект символизирует процесс движения от периферии к центру, неметафорической реализацией которого после Октябрьской революции было массовое вселение бедноты в «буржуазные квартиры» [121: 266]. Любопытные мифологические соответствия имеет фрагмент повествования, связанный с полусумасшедшим бродягой Сморчком. Ночью Журавлева мучает приступ обострившейся болезни сердца, едва ему удается утихомирить сердце, похожее «на бойкую, скользкую мышь», как раздается грохот: «Гремят страшные удары, вспыхивает багровый свет. Что это? Смерть? Открываю глаза. Темнота. Сердце мчится бешено, вскачь, в карьер. Провожу рукой по лицу. Холодный пот. Это случилось в то же мгновение, как я заснул. Заснул – и грохот… и я проснулся» [50: 116]. Таким образом, появление Сморчка предваряется мотивом временной смерти, усиливая, тем самым, мифологический контекст юродивого, которому свойственен, по Б.А. Успенскому, дидактический тип антиповедения. Микропространство Сморчка передается характерными деталями: «двор зеленовато-белый, черные тени, и месяц купается в осиянном небе, как в голубом вине»; «серебряный свет льется на его всклокоченные волосы, яркая тень от носа пересекает усы и бороду. Он похож на утопленника. Рваный пиджачишко надет на голое тело, и дряблое сверкающее пузо вываливается через гашник» [50: 117]. Двусмысленность описания, мотивированное лунным светом, ведет к цветовому контрасту, многозначительному искажению черт лица, позволяющему соотнести этого 158 персонажа с потусторонним, «чужим» миром. Однако поведение юродивого насквозь проникнуто дидактическим содержанием и связано, прежде всего, с отрицанием грешного мира – мира, где нарушен порядок. Отсюда именно оправданным оказывается антиповедение – обратное, перевернутое поведение одновременно приобщает к потустороннему миру и обличает неправду этого мира. Характеризуясь индивидуальными связями с Господом, юродивый как бы окружен сакральным микропространством, отсюда становится возможным поведение, которое с внешней точки зрения представляется кощунственным, но по существу таковым не является. Об этом же сигнализирует анти-язык юродивого, внешне бессвязный и бессмысленный, на самом деле свидетельствующий о свойственном ему всеведении: «Ваше благородие, господин комиссар, добренькие глазки, прибавь гривенник на упокой души. Там тебе хозяин язык показывает, - ты его не бойся. Дунь, плюнь, разотри, его черти слопают. А твоей душеньке на салазочках кататься, все прямо, потом налево, в кривом переулочке, по белому снежку» [50: 157]. Его орнаментально - сказовая речь, пронизана пространственно- мифологической символикой. Выделяются оппозиции прямизны/кривизны, правого/левого. Обращает на себя внимание также слово «салазочки», синонимичное саням. Б.А. Успенский утверждает, что «положение на сани символизировало именно приобщение к потустороннему миру, то есть как бы временную смерть: действительно, сани выступали как необходимая принадлежность похоронного обряда, и пребывание в санях означало близость смерти» [150: 325]. В контексте сюжета повести этот момент предваряет и мотив бесчестия, оплевывания, наказания Журавлева в эпизоде с Толоконцевым и, в конечном итоге, концовку повести, завершающейся описанием похорон Журавлева. Неслучайность введения символики саней, как предвещания близкой смерти, подчеркнута лейтмотивностью этой, на первый взгляд, несущественной, детали в пределах прозы И.И. Катаева 1920-х гг. Аналогичным образом можно трактовать езду 159 на санях в рассказах «Молоко» и «Зернистый снег». В сюжетной структуре первого рассказа мотив саней возникает в связи с фольклорным мотивом увоза невесты Костей Ниловым и последующим за этим наказанием (ослеплением) его от рук отца невесты. Во втором рассказе, данный символ реализован как визуальная живописная ассоциация, связывающая «жертвенный пустынно-снежный путь» боярыни Морозовой и непростой путь женщины в современном мире. Примечательно, что в рассказе «Зернистый снег» писатель точно воспроизводит пространство картины В. Сурикова и в том числе фигуру юродивого на первом плане. Поэтому утверждение внутренней святости юродивого в рамках мифа, закономерно и в структуре рассказа И.И. Катаева и создает условия для антитетически противоположного внешнего восприятия: то обстоятельство, что юродивый находится в сакральном микропространстве, придает его поведению характер перевернутости для постороннего наблюдателя, находящегося в грешном мире. Иначе говоря, юродивый как бы вынужден вести себя «перевернутым» образом, его поведение оказывается дидактически противопоставлено свойствам этого мира. Характеристики антиповедения, как констатирует Б.А. Успенский, переносятся при этом с действующего лица на зрителей, с мира потустороннего на мир посюсторонний: поведение юродивого превращает игру в реальность, демонстрируя нереальный, показной характер внешнего окружения [150: 327]. Пространственно-временная организация имеет в литературном произведении существенное жанровое значение. По М.М. Бахтину, жанр и жанровые разновидности определяются именно хронотопом, причем указывается, что ведущим началом в литературе является время [61: 10]. В прозе И.И. Катаева актуализирован хронотоп «встреча», восходящий в европейской традиции к авантюрному роману испытания. Данный тип пространства и времени зафиксирован в малом эпическом жанре 160 (рассказ «Великий Глетчер») и, безусловно, развит и жанре повести («Сердце», «Поэт», «Встреча»). Пространственно-временная структура рассказа «Великий Глетчер», актуализирующая мотив встречи, который рассмотрен М.М. Бахтиным в русле античного романа испытания, в определенной степени воспроизводит компоненты сюжета именно этого романного типа. Прежде всего, следует отметить, что в рассказе современного писателя четко выделены следующие мотивы романа испытания, причем последовательность появления этих мотивов соблюдена и также соответствует классической: 1. Юноша и девушка неизвестного происхождения, наделенные исключительной красотой, неожиданно встречаются на празднике; 2. Вспыхивает внезапная и мгновенная страсть; 3. Однако воссоединение героев не может состояться сразу, в силу различных препятствий, ретардирующих, задерживающих его; 4. Влюбленные ищут друг друга, находят, снова теряют; 5. Преодолев всевозможные препятствия, влюбленные воссоединяются, воцаряется гармоничный брак. Подчеркнуто значение случайного в мотиве встречи. «Великий Глетчер» (1929). Небольшой рассказ о роли «личной сферы» в жизни молодежи 1920-х гг., важнейшие приоритеты которой лежали в сфере общественной. Лирический сюжет имеет автобиографическую основу: М. Терентьева, впоследствии супруга писателя, в 1920-е гг. будучи студенткой Литературного института им. В.Я. Брюсова после ликвидации вуза была переведена в Ленинградский университет. Описание героини, сохранившее сходство с прототипом, одновременно декларирует установку на идеальность и в то же время опровергает отвлеченность идеала подчеркнуто земными, реалистическими деталями: «она, начиная от неровного пробора в русых волосах и кончая кончиками стоптанных туфель, представляла собой как раз ту самую, искомую веками, наивысшую 161 женскую прелесть, которая могла возникнуть только к двадцатым годам двадцатого столетия в результате естественного отбора в тысячах поколений.. <…> Это было пленительное, идеальное – в самом точном смысле слова – существо…» [50: 193]. Смысловым инвариантом становится мотив встречи, определяющий движение сюжета. Студент-второкурсник университета имени Я.М. Свердлова понимает, что он встретил девушку, представляющую собой идеал женской прелести. Вслед за первой встречей следует ряд случайных и неслучайных встреч в читальном зале, в Доме печати, на набережной храма Христа-спасителя, на Страстной площади и др. Первая разлука мнимая – студенты разъехались на лето, он – на практику, она – на каникулы, но «в это лето пришлось потрудиться Наркомпочтелю». Поэтому следующая встреча лишь предшествует настоящей разлуке: девушка навсегда (до рождества) уехала в Ленинград. Вновь начинается переписка: он пишет письма каждый вечер «с эпиграфами из Есенина, цитатами из Деборина, честными мыслями и художественными настроениями. Она отвечала раз в неделю на двух страничках, без единой запятой и с двумя десятками восклицательных знаков» [50: 194]. Таким образом, удвоение тематических мотивов встречи, разлуки, переписки призвано создать ощущение движения сюжета к некому кульминационному моменту. Наряду с собственными событийными элементами в структуре рассказа большую роль играют повторяющиеся элементы, прежде всего, та часть повествования, которая связана с мыслями героя о наползающем с севера Великом Глетчере, который гипотетически угрожает европейскому материку: «От Скандинавии ползет этакая голубая сверкающая махина, подминает под себя Ленинград, потом Тверь, Ярославль, Москву, и в результате от Архангельска до Днепропетровска – корявое ледяное поле, из которого торчит макушка Четвертого дома, что на Гнездниковском, ходынские радиомачты да крестики сельских колоколен... Морозная тишина, тысячеверстная 162 пустыня…И огромные звезды пылают в черном небе…» [50: 192]. Великий Глетчер воспринимается как гипербола, предметно выражающая тоску, безнадежность, одиночество, овладевшие студентом. Усиливается эффект данного образа в результате его повторяемости и предметной конкретности деталей, призванных утвердить его реальность: «лектор-естествовед доказал неопровержимо, как говориться с цифрами и документами в руках, что не исключена возможность и пятого глетчера в самом ближайшем будущем» [50: 192]; «Глетчер… Вот глетчер – это пострашнее, от него не отмахнешься, не спрячешься… Подумать только! Безнадежность, тоска, холодная луна крадется в ночных облаках, зеленым огнем вспыхивают льды, и одинокий, не успевший скрыться колхозник, стоя на коленях, силится рассмотреть мелиоративные, сквозь прозрачную толщу минерально-удобренные свои угодья… восьмипольные, Тоска! Прямо расплакаться можно…» [50: 194-195]. Введение мотива ледника, грозящего уничтожить все живое, воспринимается как замещение мотива испытания, препятствия в виде морской бури, нападения пиратов, возникающего в пространстве античного романа испытания. Во всяком случае, семантика холода, символизирующая охлаждение чувств героини, может некоторым образом соотноситься с античным мотивом мнимой смерти, так как, в итоге, опасность, грозящая всему европейскому континенту в результате схождения ледника, мнимая. Вместе с тем, семантика холода обусловила появление в пределах рассказа параллелизма эмоционального состояния героя и природных описаний. Другим повторяющимся элементом является описание демонстрации, имеющее статус рамки произведения, на фоне которой развиваются события. При этом контрастное одиночество героя среди общего оживления, его невписанность в общую атмосферу праздника, призваны усилить эффект от заключительной кульминационной встречи героев, завершающей рассказ. При этом следует обратить внимание не тот факт, что моменту финальной 163 встречи предпосланы описания города, воспроизведение маршрута передвижений героя с указанием названий улиц, мгновенные зарисовки уличных сцен, праздничного оживления: танец кавказцев, пустые аллеи в саду и переполненные улицы и т.д. Детальность этих описаний связана, на наш взгляд, с географическими мотивами, античного романа испытания при описании скитаний героев. Финальная встреча также построена по классическим принципам сюжетосложения. Для нее характерны мотивы случайности, неузнавания, переодевания: «Студента звонко окликнули по имени. Путаясь в рядах Хамовнической колонны, кто-то пробирался к нему и кричал и махал рукой. Кто же это, кто, кто? – так застучало сердце. Не помня себя, спотыкаясь о чьи-то ноги, он выбежал из рядов. <…> он уже никого не видел, кроме нее. Он шел рядом с нею между двумя сомкнувшимися колоннами, рядом с нею, совершенно не той, какая помнилась, неузнаваемой в своей новой трикотажной шапочке и новом пальто от Ленинградодежды. Он глядел на нее и слушал, ничего не слыша, быстрые сбивчивые слова» [50: 196-197]. Своеобразным подтверждением законности и гармонии этого союза двух влюбленных являются заключительные фразы: «Все им радовались, все приветствовали их. Калинин, Буденный и Сталин крикнули им в рупор: «Да здравствует красное студенчество!» На той стороне бронзовый Минин махал им рукой. Красноармейцы отдавали честь. Дипломатический корпус вскинул в глазницы монокли и подивился невиданной красоте советской студентки» [50: 196]. В рассказе можно различить два плана повествования, первый из них связан с авторским словом, второй представляет собой внутренний монолог (иногда – реплику) героя. Центральный тематический мотив представляет собой сочетание противоречивых импульсов, лежащих в плоскости пересечения сферы индивидуального, личного – с одной стороны и общего, 164 коллективного – с другой. В целом следует отметить, что особенности поэтики рассказа (символика заглавия, самоирония, лирическое начало в повествовании, позволяющее говорить о близости авторского слова и речи персонажа) вписано в общую тенденцию прозы И.И. Катаева 1920-х гг. В дальнейшем мотив встречи, вместе с сопутствующим ему мотивом дороги становится одним из центральных мотивов творчества, разнообразно претворенных практически во всех произведениях И.И. Катаева, но с наибольшей полнотой он разработан в рассказе «Ленинградское шоссе», повести «Встреча». Идиллический хронотоп в прозе И.И. Катаева имеет существенное значение. М.М. Бахтиным установлено, что влияние идиллии на развитие романа нового времени проявляется в пяти направлениях: 1) влияние идиллии, идиллического времени и идиллических средств на областнический роман; 2) тема разрушения идиллии в романе воспитания у Гете, и в романах стернианского типа (Гиппель, Жан-Поль); 3) влияние идиллии на сентиментальный роман руссоистского типа; 4) влияние идиллии на семейный роман и роман поколений, наконец; 5) влияние идиллии на романы различных разновидностей («человек из народа» в романе) [61: 161-162]. Следует указать, что любовный тип идиллии не становится определяющим в творчестве И.И. Катаева, однако темы любви, брака, семьи в новом обществе объединяются в семантические комплексы «любовь-брак / семья», «мужчина-женщина», составляющие общее тематическое ядро в прозе И.И. Катаева, именно она проясняет мифопоэтический /метафизический код в прочтении эмпирической темы, последовательно воплощенной в целом ряде его произведений – «Поэт», «Жена», «Великий Глетчер», «В одной комнате», «Молоко», «Ленинградское шоссе», «Под чистыми звездами». В переработке идиллического времени и идиллических средств в литературе заметны два направления: во-первых, основные элементы 165 древнего комплекса – природа, любовь, семья и деторождение, смерть – обособляются и сублимируются в высоком философском плане как некие вечные, великие и мудрые силы мировой жизни; во-вторых, эти элементы даются для отъединившегося индивидуального сознания, как врачующие, очищающие и успокаивающие его силы, которым он должен отдаться, должен подчиниться, с которым он должен слиться [61: 162]. Проза новейшего времени подвергает этот тип хронотопа кардинальной трансформации. В пределах прозы И.И. Катаева явно выделены мотивы истинной и неистинной любви («Поэт»), гармонического и ложного брака («Жена») и связанные с ними тема гибели дома, распадения семьи. Сюжетная ситуация ущербной семьи и сиротства, стремление преодолеть комплекс утраты в создании новой семьи могут быть прочитаны как различные коллизии восстановления сакрального миропорядка. Образы идиллического хронотопа возникают в пространстве рассказа «Молоко», восходящие к земледельческой, семейно-трудовой идиллии, основным принципом которой, по М.М. Бахтину, является неразрывная вековая связь процесса жизни поколений с ограниченной локальностью, идиллическое отношение времени к пространству, идиллическое единство места всего жизненного процесса [61: 162]. При этом жизненный процесс расширяется, детализируется, в нем выдвигается идеологическая сторона – язык, верования, мораль, нравы. Смягчены все временные грани, и ритм человеческой жизни согласован с ритмом природы. Моменты быта становятся существенными событиями и приобретают сюжетное значение. На этой же основе возникают характерные фольклорные соседства. Существенное значение имеют возрасты и циклическая повторяемость жизненного процесса. Герои - крестьяне, ремесленники, сельские пасторы, сельские учителя [61: 162]. В рассказе И.И. Катаева «Молоко» (1930) возникают образы идеального крестьянина, «культурного» хозяина и идеально организованного 166 крестьянского быта, который отличается своей приуроченностью к современности (строится на новейших достижениях аграрной науки), но имеет чисто фольклорные коннотации, закономерные в рамках идиллического пространства и времени. В результате перемен, происшедших в советской деревне в 1920-1930-е гг., мир идеального хозяина Нилова и его семьи находится на грани уничтожения. Интересно, что тема утраты деревенского мира, как особого, древнего мира культурных и нравственных ценностей, с большой силой прозвучавшей в рассказе И.И. Катаева, закреплена в жанровых рамках классической идиллии. В рассказе «Ленинградское шоссе» (1932) получают развитие более поздние трансформации идиллического хронотопа. Они связаны с традицией семейного романа и, характерным, для этого типа мотива пространственной оторванности героев от питавшего ее в идиллии природного окружения: «Это была прочная русская семья из Западного края, семья, пережившая со своим народом и классом все великие перемены и потрясения двух последних десятилетий. Тысяча девятьсот пятый год вырвал ее от освоенной почвы и, надолго, окрестив беженцами, в телегах и теплушках погнал через всю грозово помрачневшую равнину, чтобы кинуть в мучной и бездорожный городишко» [50: 209]. Отрыв времени жизни от определенной и ограниченной пространственной локальности, скитание главных героев, прежде чем они обретут семью и материальное положение, - существенная разновидность семейного романа. Идиллическое единство места ограничиваются семейно-родовым городским домом. Главное сюжетное событие – смерть отца, хозяина маленького домика на оживленном Ленинградском шоссе. Начальная фраза рассказа: «Хоронили старика Савву Пантелеева»; продолжена в следующей: «Старик помер не вовремя…», вторая фраза подхватывает первую и, развивая тему, становится началом периода, в котором кратко задан центральный тематический мотив: слитное, нераздельное бытование старого и нового. Данный мотив развит в 167 противопоставлении старого и нового во временном (Первое мая и Пасха старый и новый праздник пришлись на один день) и пространственном аспектах (Ленинградским шоссе делит пространство на две части: на однойтрактир государственного треста, вывески, дом, на другой – кладбище и церковь). Младшее поколение семьи Пантелеевых, вписанное в контекст современности, ощущающее его как свое, близкое и родственное их стремлениям и духу, противопоставлено старшему поколению, и, прежде всего тому, кто пустил «в мир столько жизней, зачавший их в забитости, в алкоголе» - отцу. Смерть отца не ощущается детьми как непоправимая потеря: он, отец «кончился. А они, молодые, продолжались: похаживали, вздыхали, украдкой острили» [50: 209]. Фраза «Помер старик Савва от волнения» вновь возвращает к предыдущим, представляя собой, третий элемент анафорического повтора, и завершает смысловую градацию: старик умер, старик умер не вовремя, старик умер от волнения. В результате синтаксического выделения фразы задается особый ритм, изложение событийной стороны приобретает многоступенчатость и последовательность. Таким образом, пролог рассказа, выстроенный по типу градации, естественным образом вводит следующий мотив, раскрывающий причину необычного волнения Саввы и его смерти. Узнаваемый мотив бытовой склоки, вырастающей до размеров судебного разбирательства и имеющий печальные последствия для его участников, в рассказе И.И. Катаева не имеет характерного для прозы 19201930-х гг. сатирического осмысления. Хотя элементы иронические и сатирические мотивы, несомненно, присутствуют. Сама история конфликта Саввы с жильцом Адольфом Могучим изложена в беглом пересказе автора. Весьма характерно описание дома: «несмотря на все любовные Саввины гвоздочки, подпорки и планочки, прогнившее деревянное строение год за годом крошилось, как черствый заплесневевший ломоть» [50: 202]. 168 Савва «подобострастно ухаживал за домом, постоянно что-то пилил, приколачивал, уделывал…» [50: 219]. Хозяин и его дом представляют нечто единое, это единство подчеркнуто общей темой гниения, разложения, ветхости, возникающей при описании и Саввы и дома. Смерть хозяина, по сути, предопределена в силу его удаленности от кипения новой жизни, символом которого становится Ленинградское шоссе, словно бы выталкивающее домик Саввы на обочину жизни: «До чего же затенен, безвестен отеческий дом его, весь этот крохотный, дряхлеющий мирок, забытая хижина на краю большой дороги» [50: 219-210]. Маленький, безвестный мирок Пантелеева, расположившийся на самых подступах к большому миру Москвы, доживает последние дни: скоро покинет дом младшая дочь Зина, которая подобно старшим братьям и сестрам, устремлена в далекий большой мир. Сопоставление Москвы и дома Саввы Пантелеева: «На миг распахнулась Москва, в дымке, в кучевых облаках, высокая и нагроможденная, как горная страна. Туманная полоса опушки Петровского парка, фасады новых домов, фабрик, строек лезвием перспективы рассекали город до самого сердца. Москва распростерлась бескрайно, застилая половину горизонта; государство вокруг нее, поверхность земного шара были еще необъятней» [50: 212-213]. Мотив движения, имеющий главное организующее значение в рассказе, контрастно оттенен парным мотивом неподвижности, отнесенным к отцу. Все в первый день его смерти было таким же, как обычно, только небывалым, необычным было: «странное, дикое ощущение неподатливости, полной чуждости» его тела. Мотив неподвижности и пустоты захватывает близкое пространство: «небывалой пустотой и светом опахивала комната», подчеркивая ощущение пустоты и утраты. Вместе с тем, в момент похорон, возникает мотив полета, традиционно связанный с темой странствия души, отхода ее в мир иной: 169 «Гроб …, казалось, вылетал изголовьем вперед, в верхнее стекло окна», «улица летела мимо дома, мимо гроба, купаясь в просторах светлого воздуха», «Ленинградское шоссе уносилось вдаль, вдаль… на сотни километров вдаль… всей протяженностью оно свидетельствовало о бесконечности жизни, о слитности ее мгновений и частиц» [50: 204]. Символом идиллического пространства и времени становится предметная деталь: «В доме издавна существовал фарфоровый пастушок – большая, грубо раскрашенная статуэтка, убогое обольщение фабричного вкуса девятисотых годов. Как он уцелел во всех мытарствах и скитаниях семьи, - это было чудо. В пятнадцатом году, когда увязывали наспех самое нужное и ценное и уже сотрясали край неба германские орудия, одна из девочек, тайком от матери, сунула пастушка в корзину, - и так он покатил по России. Теперь у него был отбит кончик носа, отскочила верхушка высокого посоха, но пастушок по-прежнему браво стоял на зеленой муравке и, надув щеки, играл на дудке с золотыми ободками» [50: 217]. Данная предметная деталь приобретает значимость не в силу своей материальной ценности – фарфоровый пастушок «убог», на него также распространяется мотив «разрушения», «дряхлости», присущий всему дому Пантелеевых. Однако, в результате олицетворяющих метафор, он воспринимается как равноценный член семьи. Cхема классичеcкой разновидности семейного романа с движением героя из большого мира случайностей к маленькому мирку семьи, где восстанавливаются подлинно человеческие отношения и восстанавливаются вечные ценности: любовь, брак, деторождение, спокойная старость обретенных родителей, семейные трапезы. В этом суженном и обедненном мире обретается спокойствие и гармония, это финальная цель движения героя. Как видим, в рассказе И.И. Катаева этот заключительный аккорд не реализуется. 170 Таким образом, тип пространственно-временных связей, возникающий в художественной прозе И.И. Катаева, связан с традиционными типами романа испытания и идиллического романа и является важным сюжетообразующим и смыслообразующим компонентом его творчества. Трансформации традиционных мотивных схем формируют уровень авторской позиции, которая достаточно часто выражается не с помощью прямого авторского слова, а именно в сфере пространственно-временных символов, что во многом предопределило своеобразие индивидуальной поэтики И.И. Катаева-прозаика 1920-х гг. Для пространственной организации прозы И.И. Катаева оказалось справедливым наблюдение Ю.М. Лотмана об изоморфизме разного вида поселений с представлениями о структуре космоса. С этим связано тяготение центра застройки к наиболее важным, культовым и административным – зданиям. На периферии же располагаются наименее ценимые социальные группы. Те, кто находится ниже черты социальной ценности, располагаются на границе предместья [121: 266]. Однако в прозе И.И. Катаева практически отсутствуют описания центра Москвы. Исключением становится рассказ «Великий Глетчер», в котором признание сакральности союза двух влюбленных, подчиняясь идиллическому хронотопу, должно исходить от самых высоких инстанций. Пространство представлено Москвы «окраинным в повестях миром» и города: рассказах И.И. Катаева Ленинградским шоссе, «отринутыми городом» Хамовниками. Декларируется не замкнутость, безвестность этого мира, а его открытость всем сторонам света. Перенесение центра тяжести с центра на периферию как примета пространственно-временной картины прозы И.И. Катаева с наибольшей отчетливостью проявляется в рассказе «Ленинградское шоссе». Семья Пантелеевых, прибыв в Москву из Западного края, то есть из еще более дальней периферии, поселилась в домике на Ленинградском шоссе 171 – московском предместье. Внутренний мир дома воспроизводит космос, тогда как по ту сторону его границы располагается хаос, антимир, внеструктурное иконическое пространство: «Тысяча девятьсот пятнадцатый год вырвал ее (семью) из освоенной почвы, <…> прогнал через грозово помрачневшую равнину <…> Осенние бури семнадцатого и месяцы, промчавшиеся вслед за ними, разметали обоих сыновей <…>. Двадцать первый год, страшно дохнув из Заволжья азиатской бедой, сорвал семью с якорей и бросил сюда, к подножию Москвы, на слободскую окраину <…>. Настал счастливый всероссийский миг возвращений, свиданий, отдыха опамятованья; тут и Пантелеевы собрались все сразу под одним кровом» [50: 209-210]. Мир семейной гармонии нередко приурочен именно к периферийному пространству. Например, в рассказе «Молоко» характерна удаленность от центрального поселения семьи Ниловых, которые живут на отдаленном хуторе. В пространстве мифа в деревне за чертой поселения должен жить – колдун, мельник, кузнец. Однако в рассказе именно отдаленный хутор Ниловых воплощает черты гармонического, идеального мира. Деревне же придаются черты хаотические, во-первых, она дана она в метельном, снежном антураже. Во-вторых, деревенские жители несут в себе приметы «звериного», а не человеческого мира: «носастый» парень Гриша, «неимоверных размеров» с лицом, как бы «вытесанным из корневища»; хилый старик с нечесаной головой «лаял тонким голосом»; Степан Земсков, «мужчина кругологоловый, как кот» [50: 265]. В целом все это символизирует хаотическое пространство, обитаемое чудовищами, инфернальными силами, или людьми, которые с ними связаны. Наиболее важные черты современной действительности в публицистике И.И. Катаева нередко преломлялись в образах, имеющих характерную пространственно-временную приуроченность: «полдень века», «человек на горе». Показательно, что в пространственной картине художественной прозы И.И. Катаева наибольшей устойчивостью 172 характеризуются образы движения: дорога, шоссе, поезд, автобус, связанные с общим представлением о современности как периоде становления, «начала». Художественное время определяется как текучее, неуловимое, смутное, часто воплощаясь в образах водных струй, потока, тумана: «Все смутно, растерто и слитно вокруг! Нигде не найдешь резких границ и четких линий… Не поймаешь ни конца, ни начала, - все течет, переливается, плещет, и тонут в этом жадном потоке отдельные судьбы, заслуги и вины, и влачит их поток в незнаемую даль… Не в этом ли вечном течении победа жизни? Должно быть так. А все-таки страшновато и зябко на душе…» [50: 266]. Данный мотив в пространственной картине свидетельствует о том, что автор оценивает ее как хаотическую, враждебную миру человека. Как видим, пространственно-временная организация художественной прозы И.И. Катаева в определенных своих чертах входит в противоречие с образами пространства и времени очерковой прозы. Для художественного же хронотопа определяющей становится его соотнесенность с классической романной традицией идиллического хронотопа и мифологическим временем и пространством. Таким образом, типологически в прозе И.И. Катаева можно выделить особый тип пространственной организации, который не совпадает с особенностями пространства в очерковой прозе и вместе с тем тяготеет к «романному» типу пространственно-временного континуума, развертывающемуся как в жанре повести, так и рассказа. Жанровая нерасчлененность в этой связи жанра рассказа и повести имеет для писателя принципиальный смысл в том плане, что предполагает наличие только двух типов пространства: пространства художественного и нехудожественного текста. Художественное пространство прозы И.И. Катаева отличается особой символичностью, связанной с особенностями индивидуальной авторской манеры, в свою очередь восходящей к ярко выраженному субъективному, 173 лирическому началу в ней. С другой стороны, пространственно-временная символика писателя оказывается производной от мифологической составляющей его поэтики. Предпринятый в главе анализ текстов И.И. Катаева позволяет сделать вывод о том, что становление в 1920-е гг. индивидуальной повествовательной манеры писателя следует рассматривать как один из определяющих аспектов его поэтики, где исходным является: ориентация на синтез жанровых форм (рассказа – повести – очерка) и, как следствие этого, недостаточная расчлененность жанров; установка на лиризм прозы и, как результат этого, действие в пределах прозы «закона тесноты стихового ряда» (Ю.Н. Тынянов); использование, помимо сказа, форм несобственно-прямой речи и т.д. В то же время доминирующим качеством этой поэтики становится отчетливо выраженный мифологизм, не в последнюю очередь определяемый, - помимо мифологического подтекста, пространственной символикой прозы И.И. Катаева. Тем самым мифологизм в прозе И.И. Катаева становится не жанрообразующим началом, а элементом поэтики, своеобразным инструментом создания разнообразно структурированного мифологического подтекста, пронизывающего его произведения 1920-х гг. 174 ЗАКЛЮЧЕНИЕ Проза И.И. Катаева 1920-1930-х гг. представляет собой самобытное и многоаспектное явление, запечатлевшее наиболее значимые художественные тенденции литературного процесса первой трети ХХ в. В работе художественная проза И.И. Катаева 1920-1930-х гг. впервые рассматривается в контексте литературной традиции символизма, что позволило внести новые аспекты в исследование поэтики творчества писателя. Устанавливается, что взаимодействие И.И. Катаева с символистской традицией носило устойчивый и осознанный характер, менявшийся на разных этапах творчества. Особое влияние на становление и развитие поэтики писателя имело творчество А.А. Блока, свидетельством чего становится достаточно широкий «блоковский» контекст, разнообразно представленный как на раннем, стихотворном этапе, так и в зрелых произведениях писателя. В связи с этим детально проанализировано стихотворное творчество И.И. Катаева, при этом особое внимание уделялось моментам соотнесенности текстов с блоковской поэтикой. Выявление «блоковского» цитатного слоя в повести «Поэт» (1928) и рассказе «Жена» (1927) позволило сделать вывод о том, что в 1920-е гг. наиболее значимыми для И.И. Катаева становятся поздняя лирика А.А. Блока, драма «Роза и крест». В 1930-е гг. в фокусе внимания И.И. Катаева - эстетическая концепция А.А. Блока периода статей о народе и интеллигенции, определившая содержание и концептуальность статей И.И. Катаева «Искусство на пороге социализма» (1932) и «Искусство социалистического народа» (1934). Проведенный текстуальный анализ свидетельствует о своеобразной трансформации литературной традиции символизма в творчестве И.И. Катаева от «блоковского», раннего, этапа к более позднему, связанному с освоением бессюжетного лирического учитывающего особенности прозы А. Белого 1920-х гг. повествования, 175 Результатом освоения символистской традиции становится создание в пределах его прозы 1920-х гг. единого текста творчества, который может быть охарактеризован как неореалистический или неомифологический по своей структуре и стилистике, так как соотнесенность с символистским наследием остается приоритетной на протяжении всего творчества И.И. Катаева. При этом формы цитирования варьируются от прямой цитации до опосредованной – ситуационной или мифологической цитаты. Анализ повестей и рассказов И.И. Катаева 1920-1930-х гг., проведенный в работе, впервые выявляет своеобразие поэтики этого писателя как целостности, обусловленной особенностями жанрово-стилевой эволюции и мифологизма, отличного от мифологизма других писателей этого времени. Эти особенности прозы И.И. Катаева позволили ему в значительной мере преодолеть стихию «отображательства» и «бытовизма» (термины, введенные критиками литературной группы «Перевал»), которые были свойственны определенным явлениям прозы 1920-х гг.. Вместе с тем, являясь органичной частью литературного процесса своего времени, проза И.И. Катаева оказалась созвучна творческим исканиям Ю.К. Олеши, А. Платонова, М.А. Булгакова. Фактором, определившим эстетическую целостность видения, которая оформилась у И.И. Катаева к 1927-1928 гг., становится эстетическая концепция «Перевала», оказавшая, в свою очередь, влияние на формирование полемического способа мышления писателя. Внутренняя полемичность присуща многим его произведениям, оцененным как художественные декларации «Перевала». Преодоление оценок, сложившихся в процессе литературных дискуссий 1920-х гг., оказалось возможным в результате выделения мифологического способа концептирования как важнейшей особенности поэтики И.И. Катаева. Так, в работе исследован мифологический контекст рассказа «Молоко» (1930), этапного для творческой эволюции писателя. При этом на основе 176 текстуального анализа делается вывод о том, что мифологизм И.И. Катаева отличается полигенетичностью: сочетанием в пределах отдельного текста разнородных структур, восходящих к разным контекстам. Так, в рассказе И.И. Катаева «Молоко» выявлены: ведийский мотив «молоко/кровь»; славянский календарный миф; символистский мотив невесты и женского начала; сюжетные мотивы сказочного происхождения «увоз/отлучка», зооморфность «помощника». В работе показано, что основополагающим принципом поэтики И.И. Катаева является отчетливо выраженное лирическое начало. С одной стороны, лиризм в прозе писателя является проявлением общей тенденции развития прозы 1920-х гг., но, с другой стороны, в большей мере предопределен, как показывает анализ, индивидуальным ходом его эволюции от поэзии к прозе, влиянием начального поэтического этапа его творчества на всю последующую эволюцию его прозы. Черты лиризма в прозе писателя проявились в тенденции к ослаблению сюжетности в прозаическом повествовании, усилении субъективного, лирического начала, к появлению в 1930-е гг. элементов бессюжетной прозы очеркового происхождения («Хамовники»). Одним из структурирующих моментов поэтики И.И. Катаева становится художественное пространство, особенности которого связаны с тем, что пространство в формах рассказа и повести выходит за пределы жанровых границ и тяготеет к типологическим чертам «романного» пространственно-временного континуума, что приводит к тому, что в жанровой типологии прозы И.И. Катаева невозможно отчетливо разграничить рассказ и повесть, черта, отмеченная еще критикой 1920-х гг. Еще одной характерной особенностью художественного пространства является его мифологизация, отчетливо выраженная в мифологическом мотиве «еды», принципе зеркальности в изображении персонажей, ведущему 177 к устойчивой лейтмотивности повествования, мифологической символике имени персонажа. Немаловажной чертой прозы И.И. Катаева является влияние очеркового начала, проходящего через все творчество писателя. Очерковое начало проявилось в топографической конкретике названий произведений, субъективной форме повествования от первого лица, наличии штампов газетной фразеологии и др. В результате исследования авторского повествования выявлена определенная последовательность повествовательных форм в прозе И.И. Катаева. Это – смена от стилистической изощренности сказового и орнаментального слова в 1920-е гг. к внешней простоте и стилистической ясности прозы в 1930-е гг., что в целом свидетельствует об усилении очеркового начала. Тем самым лучшим и наиболее полным проявлением поэтики писателя остается проза 1920-х гг., отличающаяся сложностью и неоднозначностью стилевой и жанровой трактовки, устойчивостью мифологического подтекста, усложненностью повествовательных форм, наличием хронотопа романного типа. Художественная проза И.И. Катаева осмысливается как явление, возникшее, с одной стороны, в русле развития русской прозы 1920 гг., а с другой - отличающееся своеобразными чертами, обусловленными ходом индивидуальной эволюции от поэзии к прозе, достаточно мощными мифологическим контекстом и составляющей, пересечением традиций как прошлого (символизм), так и настоящего («Перевал»). разных 178 БИБЛИОГРАФИЯ I. Тексты и источники 1. Катаев, И.И. Два года («Прославим мы тех, кто не славлен…) [Текст] /И.И. Катаев // На фронте крови и труда. – Грозный, 1920. – С. 29. 2. Катаев, И.И. Ночной марш (Густые зябкие тучи…) [Текст] /И.И. Катаев // Кузница. – 1921. – № 8. 3. Катаев, И.И. Покинутое (Как медные чаши с горячим вином) [Текст] /И.И. Катаев // Кузница. – 1921. – №8. – С. 6-7. 4. Катаев, И.И. Улица. Город. Стихотворения [Текст] / И.И. Катаев // Тамбовская правда. Литературное приложение. – 1922. – 28 июля. 5. Катаев, И.И. Лебединое гнездо (В блеске военных зарниц…) [Текст] / Сб. стихов. – М., 1923. – С. 20. 6. Катаев, И.И. Песни (Тучи, пашни…) [Текст] // Под пятикрылою звездой. – М., 1923. – С. 87-91. 7. Катаев, И.И. Памятник (Я бы памятник из серого гранита…) [Текст] /И.И. Катаев // Октябрь. – 1924. – №1. – С. 43. 8. Катаев, И.И. Дом. (Было душно. Заря над домами…) [Текст] /И.И. Катаев // Город и деревня. – 1925. – №16-17. – С. 41. 9. Катаев, И.И. Лен пошел. (Из путевого блокнота) [Текст] /И.И. Катаев // Город и деревня. – 1925. – №20. – С. 15-20. 10.Катаев, И.И. Города (Нас жизнь влачит рукой спокойной…) [Текст] /И.И. Катаев // Город и деревня. – 1925. – №20 – С. 26. 11.Катаев, И.И. Башмарь – потребитель (Из путевого блокнота) [Текст] /И.И. Катаев // Город и деревня. – 1925. – №21. – С. 28-37. 12.Катаев, И.И. На истоках года [Текст] / И.И. Катаев // Город и деревня. – 1925. – №22-23. – С. 62-65. 13.Катаев, И.И. Война (Когда вонзится в речь вождя…) [Текст] /И.И. Катаев // Город и деревня. –1926. – №4. – С. 45. 179 14.Катаев, И.И. Сосновый хмель [Текст] / И.И. Катаев // Город и деревня. – 1926. – № 18. – С. 40-44. 15.Катаев, И.И. Сердце. Повести [Текст] / И.И. Катаев.- М.: Федерация, 1928. 16.Катаев, И.И. Письмо Е.В. Вихреву от 8 июля 1928 г. – РГАЛИ, ф. 94, оп. 4, ед.хр. 149. 17.Катаев, И.И. Молоко [Текст] /И.И. Катаев // Альманах «Ровесники», «Перевал». – 1930. – №7. 18.Катаев, И.И. Жена. Рассказы. [Текст] / И.И. Катаев // Огонек. – М.: Федерация, 1930. 19.Катаев, И.И. Сердце. Повести. 2-е изд. [Текст] /И.И. Катаев // – М.: Федерация, 1930. 20.Катаев, И.И. В редакцию «Литературной газеты» [Текст] / И.И. Катаев // Лит. газ. – 1931. – 30 мая. 21.Катаев, И.И. Победители [Текст] / И.И. Катаев // Красная новь. – 1931. – сент. 6. 22.Катаев, И.И. Письмо в президиум дискуссии о «Перевале» [Текст] /И.И. Катаев // Против буржуазного либерализма в художественной литературе. Дискуссия о «Перевале» (апрель 1930). – М.: Федерация, 1931. – С. 65-67. 23.Катаев, И.И. Сердце. Повести. 3-е изд. [Текст] / И.И. Катаев. – М.: Федерация, 1931. 24.Катаев, И.И. Турбобур [Текст] / И.И. Катаев // Правда. – 1932. – 24 янв. 25.Катаев, И.И. Я, мы, они. Письма зарубежным друзьям. // Лит. газ. – 1932. – №14. – 23 марта. 26.Катаев, И.И. Движение. Январь и февраль 1930 г. на Кубани [Текст] / И.И. Катаев. – М.: Федерация, 1932. 27.Катаев, И.И. Сердце. Повесть [Текст] / И.И. Катаев. – М.: Моск. товарищество писателей, 1932. 180 28.Катаев И.И. Великие будни [Текст] / И.И. Катаев // Правда. – 1933. – 22 янв. 21. 29.Катаев И.И. Деревня не одинока [Текст] /И.И. Катаев // Наши достижения. – 1933. – №1. – С. 63-71. 30.Катаев И.И. Письма в редакцию [Текст] / И.И. Катаев // Лит. газ. –1933. – №7. – 11 февр. 31.Катаев И.И. Машина и политика [Текст] / И.И. Катаев // Правда. – 1933. – №4. – С. 53-60. 32.Катаев И.И. Искусство на пороге социализма [Текст] / И.И. Катаев // Октябрь. – 1933. – №7. – С. 167-174. 33.Катаев И.И. Путь к правде (О жизни и творчестве И. Касаткина) [Текст] / И.И. Катаев // Лит. газ. – 1933. – №43. – 17 сент. 34. Катаев И.И. Ленинградское шоссе [Текст] / И.И. Катаев // Красная новь. – 1933. – №9. – С. 86-104. 35.Катаев И.И. Ясный день [Текст] / И.И. Катаев // Лит. газ. – 1933. – №58. – 17 дек. 36.Катаев И.И. Речь в Союзе писателей [Текст] / И.И. Катаев // Октябрь. – 1933. 37.Катаев И.И. Первое лето [Текст] / И.И. Катаев // Известия. – 1934. – №10 (3258). – 11 янв. 38.Катаев И.И. Радующие люди [Текст] / И.И. Катаев // Правда. – 1934. – №34 (5910). – 25 янв. 39.Катаев И.И. Рец. На кн. Н. Зарудина «Страна смысла» [Текст] / И.И. Катаев // Лит. газ. – 1934. – 20 мая. 40.Катаев И.И. Письмо в редакцию [Текст] / И.И. Катаев // Лит. газ. –1934. – 20 мая. 41.Катаев И.И. Хамовники [Текст] / И.И. Катаев // Красная новь. – 1934. – №1. – С. 83-90. 181 42.Катаев И.И. Корни народа [Текст] / И.И. Катаев // Правда. – 1934. – №230. – 21 авг. 43.Катаев И.И. В стране семи весен [Текст] / И.И. Катаев // Вечерняя Москва. – 1934. – №236. – 13 окт. 44.Катаев И.И. Рассказ очевидца [Текст] / И.И. Катаев // Правда. – 1934. – №313 (6199). – 14 нояб. 45.Катаев И.И. Встреча [Текст] / И.И. Катаев. – М.: Сов. лит., 1934. – 228 с. 46.Катаев И. Человек на горе [Текст] / И.И. Катаев. – М.: Моск. товарищество писателей, 1934. – 365 с. 47.Катаев И.И. Вечер в Геодаклю [Текст] / И.И. Катаев // Правда. – 1935. – 28 нояб. 48.Катаев И.И. Наш друг Оваким Петросян. Рассказы об Армении [Текст] / И.И. Катаев. – М.: Худож. лит., 1935. – 251 с. 49.Катаев И.И. Сердце. Повести и рассказы [Текст] / И.И. Катаев. – М.: Гослитиздат, 1935. – 397 с. 50.Катаев И.И. Под чистыми звездами. Повести, рассказы, очерки [Текст] / И.И. Катаев. – М.: Советская Россия, 1969. – 512 с. 51.Катаев И.И. Хлеб и мысль. Повести, рассказы, очерки [Текст] / И.И. Катаев / Л.: Лениздат, 1983. – 366 с. II. Критика и исследования 52.Агеносов, В.В. К вопросу о типологии советского романа 30-х годов [Текст] / В.В. Агенгосов// Идейно-стилевое многообразие советской литературы. – М.: МГПИ им. В.И. Ленина, 1989. – С. 22-38. 53.Акимов, В.М. В спорах о художественном методе (Из истории борьбы за социалистический реализм) [Текст] / В.М. Акимов // – Л.: Худож. лит., 1979. – 374 с. 182 54.Александрова, К. Замедленное движение [Текст] / К. Александрова // М.: Худож. лит., 1932. – №18. – С. 10-11. 55.Артюхин, А. Литературно-критическая платформа группы «Перевал» (1926-1931) // Вопросы эстетики [Текст] / Сб. ст., Вып.1. – Саратов: Саратовск. гос. ун-т, 1963. – С. 3-24. 56.Афанасьев, А.Н. Древо жизни: Избранные статьи / [Текст] / А.Н. Афанасьев. – М.: Современник, 1982. – 464 с. 57.Баевский, В.С. История русской литературы ХХ века: Компендиум [Текст] / В.С. Баевский.- 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Яз. слав. культуры, 2003. – 445 с. 58.Бальбуров, Э.А. Поэтика лирической прозы, 1960-1970-е гг. [Текст] / Э.А. Бальбуров. – Н.: Наука, Сиб. отделение, 1985. – 132 с. 59.Бахтин, М.М. Проблемы поэтики Достоевского [Текст]/ М.М. Бахтин. – М.: Советская Россия, 1979. – 320 с. 60.Бахтин, М.М. Эпос и роман [Текст] / М.М. Бахтин. – СПб.: Азбука, 2000. – 304 с. 61.Бахтин М.М. Собрание соч.: в 7 т. [Текст] / М.М. Бахтин / ИМЛИ РАН. – М.: Рус. словари, 1996. – т.6: Языки слав. культ., 2002. – 799 с. 62.Белая, Г.А. Закономерности стилевого развития советской прозы двадцатых годов [Текст] / Г.А. Белая; АН СССР, Ин-т мировой лит. им. М. Горького. – М.: Наука, 1977. – 258 с. 63.Белая, Г.А. Художественный мир современной прозы [Текст] / Г.А. Белая. – М.: Наука, 1983. – 191 с. 64.Белая, Г.А. Дон-Кихоты 20-х годов: «Перевал» и судьба его идей [Текст] / Г.А. Белая. – М.: Советский писатель, 1989. – 400 с. 65.Белецкий, А.И. В мастерской художника слова [Текст] /А.И. Белецкий. – М.: Высш. шк., 1989. – 158 с. 183 66.Белоус, В.Г. «Скифское», или трагедия «мировоззрительного отношения» к действительности [Текст] / В.Г. Белоус // Звезда. №10, 1991. – с. 160-163. 67.Белый, А. Символизм как миропонимание [Текст] / А. Белый – М.: Республика, 1994. – 528 с. 68.Белый, А. О Блоке [Текст] / А. Белый. Воспоминания. Статьи. Дневники. Речи. – М., 1997. – 500 с. 69.Блок, А.А. Краски и слова [Текст] /А.А.Блок/ Сочинения в двух томах. М.: Гослитиздат, 1955. – Т.2. – 847 с. 70. Блок, А.А. Конспект беседы с труппой художественного театра [Текст] /А.А. Блок/ Собр. соч. В 6-ти т. – Л.: Худож. лит., 1981. – т. 3 – 399 с. 71. Блок, А.А. Крушение гуманизма [Текст] /А.А. Блок / Собр. соч. В 8-ми т.– М.-Л.: Гослитиздат, 1962. – т.6. – 556 с. 72. Блок, А.А. Избранные произведения [Текст] /А.А. Блок.- Л.: Лениздат, 1980. – 640 с. 73. Бочачер, М. Гальванизированная воронщина (О «Ровесниках») [Текст] // Печать и революция, 1930. - №3. – С. 7-10. 74. Буренина, О.Д. Символистский абсурд и его традиции в русской литературе и культуре первой половины ХХ века [Текст] /О.Д. Буренина. – СПб.: Алетейя, 2005. – 327 с. 75. Ванюков, А.И. Русская советская повесть 20-х годов [Текст] /Поэтика жанра/ А.И. Ванюков. – Саратов.: Саратовск. гос. ун-т, 1987. – 200 с. 76. Воронский, А.К. На перевале [Текст] / А.К. Воронский Искусство и жизнь. – М.–Л., 1924. – С. 78-79. 77. Воронский, А.К. Избранные статьи о литературе [Текст] /А.К. Воронский. – М.: Художественная литература, 1982. – 527 с. 78. Воспоминания об Иване Катаеве [Текст] / Сост. М.К. ТерентьеваКатаева. – М.: Советский писатель, 1970. – 286 с. 184 79. Вьюгин, В.Ю. Андрей Платонов: поэтика загадки [Текст] /В.Ю. Вьюгин. – СПб.: Изд-во Рус. христиан. гуманитар. ин-та, 2004. – 436 с. 80. Гаспаров, Б.М. Литературные лейтмотивы. Очерки по русской литературе ХХ века [Текст] / Б.М. Гаспаров. – М.: Наука. Издательская фирма «Восточная литература», 1993. – 304 с. 81. Гачева, А.Г. Философский контекст русской литературы 1920-1930-х годов [Текст] /А.Г. Гачева. – М.: ИМЛИ РАН, 2003. – 399 с. 82. Глинка, Г. На перевале [Текст] / Г. Глинка. – Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1954. – 350 с. 83. Голозубов, А. «Потерянный рай»: Сатира и мечта в русской утопической литературе первой трети ХХ века [Текст] // Образ рая: от мифа к утопии. – СПб, 2003. – С. 159-163. 84. Голубков, М.М. Утраченные альтернативы: формирование монистической концепции советской литературы 20-30-е гг. [Текст] / М.М. Голубков. – М.: Наследие, 1992. – 202 с. 85. Голубков, М.М. Русская литература ХХ в.: После раскола: Учебное пособие для вузов [Текст] / М.М. Голубков. – М.: Аспект-Пресс, 2002. – 267 с. 86. Гончаров, С.А. Творчество Гоголя в религиозно-мистическом контексте [Текст] /С.А. Гончаров. – СПб: РГПУ им. А.И.Герцена, 1997. – 340 с. 87. Гоффеншефер, В.Ц. Сердце - Ив. Катаев [Текст]/ В.Ц. Гоффеншефер // Молодая гвардия. – 1929, №4. – С. 95-96. 88. Гоффеншеффер, В.Ц. Сердце писателя [Текст] /В.Ц. Гоффеншефер // Воспоминания об Иване Катаеве. – М.: Советский писатель, 1970. – С. 245285. 89. Гребенников, М. Непогребенные мертвецы (О «Перевале» и перевальцах) [Текст] / М. Гребенников // Комсомольская правда, 8 марта 1930 г. 185 90. Григорьева, Л.П. Возвращенная классика (Из истории советской прозы 20-30-х годов) [Текст] / Л.П. Григорьева. – Л.: Знание, 1990. – 32 с. 91. Грознова, Н.А.Ранняя советская проза (1917-1925) [Текст] /Н.А. Грознова. – Л.: Наука, 1976. – 203 с. 92. Гроссман-Рощин, И.С. Черное дерево [Текст] / И.С. Гроссман-Рощин // На литературном посту, 1930, №10. – С. 24-25. 93. Давыдова, Т.Т. Русский неореализм: Идеология, поэтика, творческая эволюция: (Е. Замятин, И. Шмелев, М. Булгаков, и др.) [Текст]/ Т.Т. Давыдова. – М.: Флинта: Наука, 2005. – 330 с. 94. Декларация «Перевала» [Текст] / Русская советская литературная критика (1917-1934)/ Хрестоматия / Сост. П.Ф. Юшин. – М.: Просвещение, 1981. – С. 58-61. 95. Драгомирецкая, Н.В. Стилевые искания в советской прозе [Текст] / Н.В. Драгомирецкая // Теория литературы: В 3-х т. – М.: Наука, 1965. – т. 3.- 1965. – С. 125-172. 96. Ермилова, Е.В. Теория и образный мир русского символизма [Текст]/ Е.В. Ермилова. М.: Наука, 1989. – 176 с. 97. Ершов, Л.Ф. История русской советской литературы [Текст] / Л.Ф. Ершов. – М., Высш. шк., 1988. – 656 с. 98. Жирмунский, В.М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика [Текст]/ В.М. Жирмунский. – Л.: Наука, 1977. – 407 с. 99. Жолковский, А.К., Щеглов Ю.К. Работы по поэтике выразительности: Инварианты – Тема – Приемы – Текст [Текст] / А.К. Жолковский, Ю.К. Щеглов. – М.: Прогресс, 1996. – 344 с. 100. Замошкин, Н. Сердце кооператора. Об Иване Катаеве [Текст]/ Н. Замошкин // Новый мир, 1928, № 12. – С. 36-38. 101. Зверев, А. XX век как литературная эпоха [Текст] / А.Зверев // Вопросы литературы, 1992. – Вып. 21. – С. 3-56. 186 102. Замятин, Е.И. О литературе, революции, энтропии и о прочем [Текст]// Писатели об искусстве и о себе: сб. ст. – М.-Л., 1924. – С. 73-74. 103. Замятин, Е.И. Избранные произведения [Текст]/ Е.И. Замятин. – М.: Советский писатель, 1989. – 766 с. 104. Зарудин, Н. Весною тридцать пятого года [Текст] / Н. Зарудин // Наши достижения, 1936, №3. – С. 3-29. 105.Золотарева, Н.А. Очерковая проза Ивана Катаева. К характеристике развития жанров в литературном процессе 30-х годов: автореф. дисс… канд. филол. наук [Текст] / Н.А. Золотарева. – Иркутск: Изд-во Ирк. гос. ун-та, 1972. – 15 с. 106. Иванов, В. Родное и вселенское [Текст] / В. Иванов. – М.: Республика, 1994. – 428 с. 107. Иванов-Разумник, Р.И. Писательские судьбы. Тюрьмы и ссылки [Текст] / Р.И. Иванов-Разумник. – М., 2000. – 543 с. 108. Из истории советской литературы 1920-1930-х годов. Новые материалы исследования [Текст]. – М.: Наука, 1983. – 759 с. 109. История русской советской литературы [Текст]/ Под ред. П.С. Выходцева. – М.: Наука, 1986. – 254 с. 110. Клинг, О. Эволюция и «латентное» существование символизма после Октября [Текст] / О.Клинг // Вопросы литературы. – М., 1999, №4. – С. 3239. 111. Кожевникова, Н.А. О типах повествования в советской прозе [Текст] / Н.А. Кожевникова //Вопросы языка современной русской литературы. – М.: Наука, 1971. – С. 97-163. 112. Кормилов, С.И. Современный словарь-справочник по литературе. [Текст] / С.И. Кормилов. – М.: Олимп: ООО «Изд-во АСТ», 2000. – 704 с. 113. Корниенко, Н.В. «Сказано русским языком»: А. Платонов и М. Шолохов [Текст] / Н.В. Корниенко. – М.: ИМЛИ, 2003. – 533 с. 187 114. Крамов, И. В зеркале рассказа: Наблюдения, разборы, портреты [Текст] / И. Крамов. – М., 1986. – 271 с. 115. Краснощекова, Е.А. Под чистыми звездами добра и человечности [Текст] / Е.А. Краснощекова // Новый мир, 1969, №12. – С. 46-54. 116. Курелла, А. Против психологизма [Текст] / А. Курелла // На литературном посту, 1928, № 5. – С. 32. 117. Леви-Строс, К. Структура и форма [Текст] // Семиотика. М., 1983. – С. 400-428. 118. Левинтон, Г.А. Заметки о фольклоризме Блока [Текст] / Г.А. Левинтон // Миф. Фольклор. Литература. – Л., Наука, 1978. – С. 171-185. 119.Лежнев, А.З. Мастерство или творчество [Текст]/ А. Лежнев О литературе. – М.: Сов. писатель, 1987. – 429 с. 120. Лежнев, А.З. Современная литература (Некоторые итоги и выводы) [Текст] / А. Лежнев Литературные будни. – М., 1929. – 35 с. 121. Литературный энциклопедический словарь [Текст]. – М.: Сов. Энциклопедия, 1987. – 752 с. 122. Лотман, Ю.М. Структура художественного текста [Текст]/ Ю.М. Лотман. – М.: Искусство, 1970. – 384 с. 123. Лотман, Ю.М. О мифологическом коде сюжетных текстов [Текст]/ Ю.М. Лотман Семиосфера. – СПб: Искусство – СПБ, 2001. – С. 670-673. 124. Лотман, Ю.М. Текст в тексте [Текст] //Лотман Ю.М. Семиосфера. – СПб., 2001. – С. 62-73. 125. Лотман, Ю.М. Внутри мыслящих миров [Текст]// Лотман Ю.М. Семиосфера. – СПб, 2001. – С. 150-328. 126. Макаров, А. Разговор по поводу…: Лит-критич. статьи. [Текст] / А. Макаров. – М.: Советский писатель, 1959. – С. 219-234. 127. Мандельштам, О.Э. Слово и культура [Текст] / О.Э. Мандельштам. – М.: Советский писатель, 1987. – 319 с. 188 128. Мелетинский, Е.М. Поэтика мифа [Текст] / Е.М. Мелетинский; ИМЛИ РАН. – 4-е изд., репр. – М.: Вост. лит., 2006. – 407 с. 129. Мелетинский, Е.М. Избранные статьи. Воспоминания [Текст]/ Е.М. Мелетинский. – М.: РГГУ, 1998. – 576 с. 130. Минералова, И.Г. Русская литература Серебряного века. Поэтика символизма [Текст] / И.Г. Минералова. – М.: Флинта: Наука, 2006. – 272 с. 131. Минц, З.Г. Блок и русский символизм [Текст] // Литературное наследство: А.А. Блок: Новые материалы и исследования. М.: Наука, 1980. Т. 92. Кн.1. – 776 с. 132. Минц, З.Г. Поэтика Александра Блока [Текст]/ З.Г. Минц. – СПб.: Искусство-СПБ, 1999. – 727 с. 133. Минц, З.Г. Александр Блок и русские писатели [Текст]/ З.Г. Минц. – СПб.: Искусство-СПБ, 2000. – 784 с. 134. Минц, З.Г. Поэтика русского символизма [Текст]/ З.Г. Минц. – СПб.: Искусство-СПБ, 2004. – 480 с. 135. Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2-х т. [Текст] / Гл. ред. С.А. Токарев. – М.: НИ «Большая Российская энциклопедия», 2000. – Т.1. А-К. – 672 с. – Т. 2. К – Я. – 720 с. 136. Москва и «Москва» Андрея Белого: Сборник статей [Текст]/ Отв. ред. М.:Л: Гаспаров; Сост. М.Л. Спивак, Т.В. Цивьян. – М.: РГГУ, 1999. – 512 с. 137. Мущенко, Е.Г., Скобелев В.П., Кройчик Л.Е. Поэтика сказа [Текст] /Е.Г. Мущенко, В.П. Скобелев, Л.Е. Кройчик. – Воронеж: Воронежск. гос. ун-т, 1978. – 286 с. 138. Новиков, Л.А. Стилистика орнаментальной прозы Андрея Белого [Текст]/ Л.А. Новиков. – М.: Наука, 1990. – 181 с. 139. Панова, Л.Г. «Мир», «пространство», «время» в поэзии Осипа Мандельштама [Текст] / Л.Г. Панова. – М.: Языки слав. культ., 2003. – 808 с. 189 140. Платонов, А. Чутье правды [Текст] /Сост. В.А. Верина. – М.: Советская Россия, 1990. – 464 с. 141. Пропп, В.Я. Исторические корни волшебной сказки [Текст]/ В.Я. Пропп. – М.: Лабиринт, 2000. – 333 с. 142. Пропп, В.Я. Русская сказка [Текст]/ В.Я. Пропп. – М.: Лабиринт, 2000. – 416 с. 143. Пустыгина, Н. Цитатность в романе Андрея Белого «Петербург» [Текст]/ Н. Пустыгина // Уч. зап. ТГИ, Вып. 513. – Тарту: Изд-во Тартусск. гос. ун-та, 1981. – С.91. 144. Против буржуазного либерализма в художественной литературе. Дискуссия о «Перевале» (апрель 1930 г.) [Текст]. – М.: Изд-во Комакадемии, 1931. 145. Русская советская литературная критика (1917-1934): Хрестоматия [Текст]/ Сост. П.Ф. Юшин. – М.: Просвещение, 1981. – 447 с. 146. Русская советская классика. Историко-литературные и функциональные аспекты изучения [Текст] / Отв. ред. Н.А. Грознова. – Л.: Наука, 1989. – 230 с. 147. Русская советская повесть 20-30-х годов [Текст]. – Л.: Наука, 1976. – 352 с. 148. Русский советский рассказ [Текст] / Очерки истории жанра. – Л.: Наука, 1970. – 458 с. 149. Селивановский, А. Октябрь и дореволюционные поэтические школы [Текст] / А. Селивановский. В литературных боях. – М., 1959. – 266 с. 150. Семенова, С. Русская поэзия и проза 1920-1930-х годов [Текст] / С. Семенова. – М.: ИМЛИ, 2001. – 589 с. 151. Скороспелова, Е.Б. Русская советская проза 20-30-х годов: судьбы романа [Текст] / Е.Б. Скороспелова. – М.: МГУ, 1985. – 263 с. 190 152. Скороспелова, Е.Б. Русская проза XX века: от А. Белого («Петербург») до Б. Пастернака («Доктор Живаго») [Текст] / Е.Б. Скороспелова. – М.: ТЭИС, 2003. 153. Смирнов, И.П. Место мифопоэтического подхода к литературному произведению среди других толкований текста (О стихотворении Маяковского «Вот так я сделался собакой») [Текст] / И.П. Смирнов // Миф – Фольклор – Литература. – Л.: Наука, 1978. – С. 186-203. 154. Смирнов, И. П. Мегаистория [Текст]/ И.П. Смирнов. – СПб., 2000. 155. «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества [Текст ] / Ред.-составитель Н.В. Корниенко. – М., ИМЛИ, Наследие. 1999. – 512 с. 156. Томашевский, Б.В. Теория литературы. Поэтика [Текст] / Б.В. Томашевский. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 334 с. 157. Топоров, В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: Избранное [Текст]/ В.Н. Топоров. – М.: ПрогрессКультура, 1995. – 624 с. 158. Тюпа В.И Художественность литературного произведения: Вопросы типологии [Текст] / В.П. Тюпа. – Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1987. – 217 с. 159. Тынянов, Ю. Н. Поэтика. Теория литературы. Кино [Текст] / Ю.Н. Тынянов. – М: Наука, 1977. – 544 с. 160. Тынянов, Ю.Н. Литературная эволюция: Избранные труды [Текст]/ Ю.Н. Тынянов. – М.: Аграф, 2002. – 469 с. 161. Успенский, Б.А. Поэтика композиции. Структура художественного текста и типология композиционной формы [Текст]/ Б.А. Успенский. – М., 1970. 162. Успенский Б.А. Антиповедение в культуре древней Руси [Текст] / Б.А. Успенский. Избранные труды, т.1. Семиотика истории. Семиотика культуры. – М.: Гнозис, 1994. – 432 с. 191 163. Утопия и утопическое мышление [Текст] / Антология зарубежной литературы. – М.: Прогресс, 1991. – 405 с. 164. Фарино, Е. Введение в литературоведение: Учебное пособие [Текст] /Е. Фарино.- СПб.: РГПУ, 2004.- 639 с. 165. Фрейденберг, О.М. Поэтика сюжета и жанра [Текст] / О.М. Фрейденберг. – Л., 1997. – 528 с. 166. Хализев, В.Е. Модернизм и традиция реализма в русской литературе ХХ века [Текст] // Филологические науки. – М., 2002, № 6. – С. 106-120. 167. Чернега, Т.А. Иван Катаев. Творческая индивидуальность писателя в литературном процессе 20-30-х годов: автореф. дисс… канд. филол. наук [Текст] / Т.А. Чернега. – СПб: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 1992. – 16 с. 168. Чудакова, М.О. Избранные работы [Текст] / М.О. Чудакова. – М.: Языки русской культуры, 2001. – т.1. Литература советского прошлого.472 с. 169. Шкловский, В. Гамбургский счет: Статьи – воспоминания – эссе (1914-1933) [Текст] / В. Шкловский. – М.: Советский писатель, 1990. – 544 с. 170. Шкляев, А. Перекаты подтекста [Текст] / А. Шкляев // Октябрь, 1970, № 2.– С. 28-30. 171. Шмелев, И. Лето Господне [Текст] / И. Шмелев. – М.: Мол. Гвардия, 1991. – 653 с. 172. Шмид, В. Нарратология [Текст] /В. Шмид. – М.: Языки слав. культ., 2003. – 312 с. 173. Эйхенбаум, Б.М. О прозе [Текст]/ Б.М. Эйхенбаум. – М., 1970. 174. Эйхенбаум, Б.М. О литературе. Работы разных лет [Текст] / Б.М. Эйхенбаум. - М.: Наука, 1987. – 445 с. 175. Як. Эй-н Дневник чистки (Выступление И. Катаева на партийной чистке писателей) [Текст] // Литературная газета, 1933. – 23 сентября. – с. 3. 192 176. Ямпольский, М.Б. Беспамятство как исток [Текст]/ М.Б. Ямпольский. – М.: Новое лит. обозрение, 1998. – 379 с. 177. Ярхо, Б.И. Методология точного литературоведения [Текст] / Б.И. Ярхо// Гаспаров М.Л. О русской поэзии: Анализы, интерпретации, характеристики. – СПб.: Азбука, 2001. – С. 456-477.