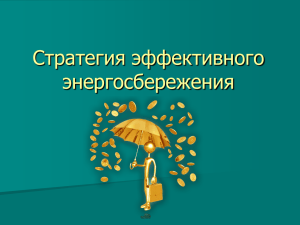1 - Лампа и дымоход
advertisement

1/2011 Екатерина ДЬЯЧКОВА ДВА ПУШКИНА БОРИСА ШЕРГИНА Вера ПАВЛОВА ПОЭЗИЯ — ПРЕКРАСНЫЙ СПОСОБ ИЗМЕНИТЬ ПРОШЛОЕ… Евгений ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ ЕЕ ОСЕННИЙ ЗВЕРЬ Рассказ лампа и дымоход Юрий ЛУГИН О НАБОКОВЕ — С ЛЮБОВЬЮ _Lampa_Cover_V3.indd 1 Ирина НАУМОВА МЫШИНЫЙ ЭЛИКСИР Пьеса 04.02.2011 10:42:33 ISSN 2221-2248 1 № 1 (1) 2011 1/2011 № 1 (1) 2011 Главный редактор: Герман Арзуманов Редакторы: Алексей Залесский Кирилл Фомин Художник: Сергей Журавлев Дизайн: Сергей Журавлев Елизавета Станиславская Верстка: Издательская группа журнала «Лампа и дымоход» Корректор: Ирина Алферова Формат издания 70х100/16 Электронная версия журнала: http://litandsmoke.ru/ E.mail: mail@litandsmoke.ru, postmaster@litandsmoke.ru Свидетельство о регистрации средства массовой информации: Серия ПИ № ФС77.43003 от 15 декабря 2010 г. Периодичность 6 раз в год. Содержание СЛОВО РЕДАКТОРА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 МЕТАМОРФОЗЫ ВЕТРА Екатерина ДЬЯЧКОВА ДВА ПУШКИНА БОРИСА ШЕРГИНА. Статья - слово о Борисе Шергине . . . . . . Александр КОВЫЛИН Миниатюры - ритмизованная проза . . . . . Алексей ЗАЛЕССКИЙ ЭКСКУРСИЯ В РОСТОВ ВЕЛИКИЙ. Очерк Ирина БЕССАРАБОВА Стихотворения . . . . . . . . . . . . . . Алексей ЗАЛЕССКИЙ ПЕШКОМ ЧЕРЕЗ ВЕСЬ ГОРОД. Рассказ . . . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . . 13 . . . . . . . . . . 18 . . . . . . . . . . 24 . . . . . . . . . . 28 СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР Павел БАСИНСКИЙ О ПУТЯХ К ЧИТАТЕЛЮ. Интервью . . . . . . . . . Сергей ШУЛАКОВ ТО, ЧТО УДИВЛЯЕТ И ПУГАЕТ. Критическая статья. Евгений ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ ЕЕ ОСЕННИЙ ЗВЕРЬ. Рассказ . . . . . . . . . . . . ПРИТЧИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Наталья ВАСИЛЬЕВА, Юлия НАУМОВА СВЕТЛАНА. Рассказ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 . . . . . 35 . . . . . 46 . . . . . 54 . . . . . 56 РАССКАЗЫ, СТИХИ Вера ПАВЛОВА ПОЭЗИЯ — ПРЕКРАСНЫЙ СПОСОБ ИЗМЕНИТЬ ПРОШЛОЕ… Интервью, cтихи . . . . . . . . Сергей ЖУРАВЛЕВ ПАРОВОЗ. Стихотворения . . . . . . . . . . . . . . . . . Григорий ГАВРИЛОВ ФОТОКАРТОЧКИ. Стихотворения . . . . . . . . . . . . . Евгения КОРОБКОВА МИФОТВОРЧЕСТВО В ПОЭЗИИ НЕКРАСОВОЙ. Статья . . . 69 . . 74 . . 78 . . 82 Алексей ЗАЛЕССКИЙ Стихотворения . . . . . . . . . . . . . . . . Ирина АНТОНОВА АКВАРЕЛЬ. Стихотворения . . . . . . . . . . Герман АРЗУМАНОВ ДВА УТРА. Рассказ . . . . . . . . . . . . . . Роман РАБИЧЕВ ФЕДЕРИКО. Миниатюра в прозе . . . . . . . . Кирилл ФОМИН ДОМОЙ. Рассказ . . . . . . . . . . . . . . . Александр БЕЛОРУССОВ ПЯТЬ ПЯТНАДЦАТИЭТАЖЕК. Стихотворения СОДЕРЖАНИЕ . . . . . . . . 90 . . . . . . . . 94 . . . . . . . . 96 . . . . . . . 109 . . . . . . . 111 . . . . . . . 114 МЫ ПОМНИМ Василий АФАНАСЬЕВ-СУМЛЯНИН ДОМ У МОРЯ. Рассказ . . . . . . . . . . . . . . . Евгений ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ КРОВАВЫЕ СНЕГА СУОМИ. Публицистический очерк. Константин ЯЦКОВ НЕМЦЫ ПРИШЛИ. Мемуары . . . . . . . . . . . . Виталий МАТВЕЕВ В ГРОБУ МЫ ЕЕ ВИДАЛИ… Стихотворения . . . . . Валерий РЕМЕНЮК БЛОКАДНЫЕ КНИГИ. Стихотворение . . . . . . . . Александр ПЕТРОВ ШЕСТНАДЦАТЫЙ ЗАКАТ. Рассказ . . . . . . . . . . . . . 120 . . . . 124 . . . . 134 . . . . 140 . . . . 142 . . . . 144 ВОПРОСЫ ЛИТЕРАТУРЫ Юрий ЛУГИН О НАБОКОВЕ — С ЛЮБОВЬЮ. Статья . . . . . . . . . . . 146 Алексей ЗАЛЕССКИЙ РЕАЛИЗМ И ПОСТРЕАЛИЗМ. Аналитическая статья о положении реализма в искусстве в наше время . . . . . . . . . 157 РОМАН, ПОВЕСТЬ Алексей ЗАЛЕССКИЙ ДАЧА. Роман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Дарья СЕРЕНКО Стихотворения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 ФИЛОСОФИЯ, ЭСТЕТИКА Светлана БЕРДАУС ПРОБЛЕМА САМОИДЕНТИФИКАЦИИ. Философское эссе . . 201 ДРАМАТУРГИЯ Ирина НАУМОВА МЫШИНЫЙ ЭЛИКСИР. Пьеса. . . . . . . . . . . . . . . 209 4 ЛАМПА И ДЫМОХОД СЛОВО РЕДАКТОРА У важаемые читатели! Перед вами первый печатный номер литературно-публицистического журнала «Лампа и дымоход». Это — классический толстый литературный журнал для читателя со взыскательным вкусом. Высококачественная художественная литература, публицистика, интервью с известными современными писателями, критические обзоры, творческие портреты писателей, как всемирно знаменитых, так и незаслуженно забытых, важные архивные материалы, яркие статьи по философии, психологии творчества, эстетике — такие жанры и темы мы освещаем, в этом специализация журнала. Имена авторов, с которыми вы встретитесь, — это и имена знаменитые, из первых рядов современной литературы, и имена, только набирающие литературный вес. Но «Лампа…» — не только классический толстый… В большинстве разделов — «Метаморфозы ветра», «Рассказы. Стихи», «Вопросы литературы», «Философия. Эстетика» и др. — наряду со статьями классического стиля мы публикуем произве- № 1 (1) 2011 5 СЛОВО РЕДАКТОРА дения авангардные по форме, содержанию, иногда авангардные — в целом — по культурной метаидее. Статьи, произведения в журнале объединены не только тематикой, но также степенью поэтичности. Это дает вам возможность выбирать по вкусу, наиболее адекватно настраиваться к публикациям каждого отдельно взятого раздела. В апреле 2011 года журналу исполнится год. До настоящего выпуска журнал активно развивался в Интернете. Наш адрес в Интернете www.litandsmoke.ru. Сегодня месячную аудиторию журнала составляет около 4 тыс. человек, а читатели и авторы «Лампы и дымохода» живут более чем в 50 странах мира (по данным статистических систем Яндекс-метрика и Ливинтернет). Деятельность журнала не ограничивается публикациями в бумажной и электронной версиях, обсуждениями, дебатами. Литературные конкурсы, денежные и иные премии за лучшие произведения стали традицией и необходимостью для нас, наших читателей и авторов. С этого года открылся второй наш интернет-портал — литературное приложение «Ноктюрн. Лампа и дымоход», предназначенный для работы с одаренными детьми и талантливыми начинающими авторами. Несколько слов о редакции. Над журналом работает профессиональный коллектив: писатели, литературные редакторы, журналисты, художник, дизайнеры, корректор, верстальщики — все с соответствующим высшим образованием и опытом. «Лампа и дымоход» и внутренняя цензура. Да, мы руководствуемся… как обыкновенно пишут в журналах и возвещают с трибун. Журнал проповедует не только эстетические ценности, но ставит перед собой цели более высокого порядка — духовный уровень читателя, патриотический дух, интеллектуальный уровень. Так что, настройтесь, перелистните страницу, и приятного вам чтения! Герман Арзуманов, главный редактор журнала «Лампа и дымоход» Ждем ваших писем и откликов по адресу электронной почты: mail@litandsmoke.ru. 6 ЛАМПА И ДЫМОХОД МЕТАМОРФОЗЫ ВЕТРА Автор этой статьи о творчестве Бориса Шергина, любимого многими архангельского писателя, Екатерина Васильевна Дьячкова — доцент кафедры новейшей русской литературы Литературного института им. Горького, кандидат педагогических наук. ДВА ПУШКИНА БОРИСА ШЕРГИНА Б орис Шергин — признанный мастер сказа — в 30-е годы ХХ века обращается к пушкинской теме. Из-под его пера выходят «Пинежский Пушкин» (1937) и «Пушкин архангелогородский» (1936). Топонимика в связи с именем Пушкина, на первый взгляд, весьма странная. Добро бы Пушкин был болдинский или михайловский, ан нет — пинежский, архангелогородский! В обоих опытах Шергин использует одну и ту же форму сказа: повествование идет от первого лица. Известно, что другая форма (без введения реального рассказчика), очень похожая на обычное авторское письмо, дает, по словам Достоевского, наиболее богатые возможности для игры с чужим словом. Но Шергин выбирает первую, казалось бы, наиболее легкую форму сказа, и… выигрывает в сохранении живой речи, живой интонации. Сказы его, несмотря на однотипное построение, дают в каждом случае яркое и своеобразное звучание. Вот начало «Пинежского Пушкина»: «Он певец был, песенной наблюдатель, книгам сказатель, грамоты списатель. Землю, как цветами, стихами украсил. Он порато в братии велик, острота ума нелюдска была. № 1 (1) 2011 7 Екатерина ДЬЯЧКОВА Статья - слово о Борисе Шергине МЕТАМОРФОЗЫ ВЕТРА Книги писал, слово к слову приплетал круто и гораздо. Книги работал и радовался над има. Ленин Пушкина книги целовал и к сердцу прижимал. Он пусты книги наполнил, неустроену речь устроил, несвершоно совершил. Теперешны писатели от Пушкина взялись да пошли». А вот как открывается «Пушкин архангелогородский»: «Не скрою от вас: различных поэтов читаю, но Пушкин — мой фаворит. И папенька всегда повторял: пущай сойдутся в сонм все поэты, но Пушкина тут первое место будет…» Неторопливого спокойного повествования, как в «пинежском» сказе, здесь нет. Мы слышим напыщенную речь горожанки, что изо всех сил пытается показать свою книжность. В «Пинежском Пушкине» образ рассказчицы собирательный. Автор создал этот маленький шедевр на основе компоновки пересказов, реплик, впечатлений даровитых северянок С. И. Чёрной, А. В. Щёголевой и других неграмотных сказительниц, живущих в глуши, далеко от больших городов. Вот почему петербургская квартира Пушкина представляется им вроде крестьянской северной избы, где под одной крышей живут и люди, и скот: «Свадьба отошла, зажили молоды… Натальюшка выспится, вылежится, вытешится, тогда будет косу плести, у ей зажигалка така была пучок завивать. Где бы пошить или чашку вымыть, у Наташи шляпка наложена, ножка сряжена погулять… Придет — рукавицы, катанцы мокры бросит кучей. Пушкин высушит, в руки ей подаст. Он чего спросит, она как не чует… Ложки по тарелкам забросат порато, хлебать сядет без хлеба. И сказать нельзя… Как скажешь?.. Пушкина матка ли, сестра ли обиходила коров-та. Наталья-то не радела по хозяйству». В отличие от «Пинежского» «Пушкин архангелогородский» более литературный. У него совсем другая история. «Пинежский» возник как отклики неграмотных слушательниц на чтение и рассказывание Шергина о Пушкине зимой 1934–1935 года, когда начиналась подготовка к пушкинскому юбилею. Чтения происходили на квартире пинежанки С. И. Чёрной. Отсюда и название сказа. Рассказчица «архангелогородской» истории — не собирательное, а вполне конкретное лицо. Это Марья Эдуардовна Генрихсен, грамотная жительница Архангельска, папенька которой в давние времена лично знавал Александра Сергеевича. Об этом читатель узнает из послесловия, где Шергин так увлекается, что оно едва не перерастает в новый сказ — теперь уж о барышнях Генрихсен и их папеньке: «…В дни моей юности барышни Генрихсен были уже достаточно ветхи годами, но беспредельно молоды душой. Обе обладали даром слова, даром неутомимого общения с людьми. При этом Анна Эдуардовна была домоседка: любила встретить, принять, угостить 8 ЛАМПА И ДЫМОХОД кофейком. Марья Эдуардовна, массажистка по профессии, целыми днями “славила” по домам Немецкой слободы Архангельска. Никто лучше нее, подробнее и достовернее не знал городских новостей. Между собой сестры жили дружно. Вот о полдень пушка на Соломбальском острове возвестит адмиральский час. Ударят часы на городОвой башне. Анечка, в шелковой наколке на седых кудрях, угощает Манечку обедом, тащит на стол обливной чугунок со щами. — Пожалуйста, не подумай, дорогая сестрица, что мне лень вылить щи в миску. Я затем подаю в цыгуне, что тебе кушать будет горячее». Марью Эдуардовну будущий писатель встречал у своей тетки. Там она и рассказывала… о своём «папеньке», который, бывало, «каждое слово Пушкиным закроет». В 1915 или 1916 году, сообщает Шергин, была в Архангельске проездом на Пинегу артистка О. Э. Озаровская. Ее заинтересовали пушкинские материалы семьи Генрихсен. Впоследствии Борис Викторович посылал Озаровской образцы речи Марьи Эдуардовны. Черновики этих писем и стали основой для «Пушкина архангелогородского». Шергин прекрасно понимал, какую огромную роль играет в сказе образ рассказчика, и придавал ему большое значение. Писателю необходимо было хорошо знать того человека, который рассказывает. Он интересовался его личностью, старался встретиться с ним не один раз. Борис Викторович вспоминал, что иногда «малое знакомство с рассказчиком» не давало исполнить задуманное. Видимо, поэтому сначала сложился «Пушкин архангелогородский», рассказчицу которого он знал с детства, и только потом «Пинежский». В процессе рождения сказа речевая стихия разрушает архитектуру стиля литературного (если в его основе лежит литературный источник или источники). Рушит затем, чтобы вновь построить, но уже совсем по другим законам. Устная речь освобождает повествование от всего второстепенного, оставляя самое главное, самое яркое. При этом кардинальным образом меняется и язык. Б. В. Шергин в предисловии к «Архангельским новеллам» (М., 1936) приводит живой пример этому. «Один малограмотный заводской сказочник в Архангельске показал мне том переводного романа ХVIII в. “Родольф или пещера смерти”: — Вот, сын читал мне три вечера, а я обскажу в час, в полтора. — Как же ты запоминаешь? — ХорОшо да худО помнится, а серЕдне забывается. То есть, слушая, он запоминает остов, схватывает контрасты». № 1 (1) 2011 9 Екатерина ДЬЯЧКОВА Два Пушкина Бориса Шергина МЕТАМОРФОЗЫ ВЕТРА Его «пушкинистки» тоже выбрали самое важное, но каждая сделала это по-своему. Вот эпизод появления Дантеса. У пинежанок всё попросту: «А к Наташе приезжой кавалер Дантест заподскакивал, долгой, как ящерица…» Барышня Генрихсен пытается олитературить рассказ, придать ему благородство: «Некто Дантес, красавец высокого роста, но подлой души, открыто начал волочиться за Натали на балах». Согласитесь, в обоих сказах есть свое неповторимое очарование! В первом случае благодаря удивительно яркому глаголу «заподскакивал» живо воображаешь самого Дантеса — иностранца, чуждого всему русскому; а во втором в первую голову представляешь саму рассказчицу, ее франтоватую манеру. Сказительница с Пинеги не отделяет себя от слушателей: она вместе с ними, наравне с ними. Создавая образ поэта, пинежанка рассуждает на глазах аудитории, не забывает о себе и своих земляках: «Я его карточку ночи две продержала: высокой, тоненькой… Ему только песни петь да у грамоты сидеть, а такО-то робить он не сильной. Ужо кто у нас на Пинеге экой есть… Якуня Туголуков. Только Пушкин-то порусее». В ее пересказе Пушкин из дворянина превращается в веселого поморского парня, о котором она не просто говорит, но и оценивает: «…Люди-то дивятся: “Что уж этот Саня! Год бы с ним шёл да слушал”… …У его молодость широка была, и к женскому полу подпадывал, и это умел не худо. Долго молодцевал-то, долго летал по подругам. Ну, он не на семнадцатом году девушка. Неладно делал, дак себе… Пушкин курил ли, не курил?.. Не курил. Выпивать выпивал, а не курил. Нету на портретах-то ни с трубкой, ни с папиросой. Не помню, что ише проказил он мальчишечкой…» Марья Эдуардовна — не чета внимающим ей, гордо выполняя возложенную на нее миссию, она будто бы всё время помнит о своей грамотности: расцвечивает свой рассказ книжными словечками (не всегда понимая их смысл) и заезженными литературными оборотами. По тексту «Пушкина архангелогородского» щедрой рукой барышни Генрихсен рассыпаны выражения, захватанные не одним поколением: «развращенный свет», «узы брака», «тиранство модного света» и им подобные. Этими оборотами, как камнями, она заваливает родники своего поморского диалекта, но ключи не сдаются, и живое слово просачивается. Такое соединение неживого с живым, застывшего книжного с искрометным народным придает неповторимое очарование сказу: «Вся история женитьбы доказывает, что узы брака были для поэта священны. Взял за себя великую модницу и был влюблен 10 ЛАМПА И ДЫМОХОД до ужасти. Страсти своей не умел уму покорить. Какими письмами ее осыпал, сколько блестящих стихотворений ей посвящено! “Божество, кумир, вы родились для доставления моего щастия…» И тому подобное в духе легкомыслия”. К почитанию рассказчицей папеньки добавляется ее преклонение пред ученостью О. Э. Озаровской, известной собирательницы северного фольклора: «Я Ольге Эрастовне эти папенькины воспоминания передавала, она утверждает, что Натали с Дантесом Николай Первый в своих целях сводил: “Пущай, — говорит, — дураки друг друга ухлопают, мне красотка достанется”. Я прежде в это не вникала, но Ольга Эрастовна представила неопровержимы доказательства». Увлекаясь, барышня Генрихсен забывает о своей начитанности — в сказе начинается кипение эмоций, архангелогородский Пушкин говорит во дворце Натали: « — Нещастная, уйдем! Сей дом — вертеп разврата! Не медли долее в сих ужасных стенах!» Сказительница при этом с уверенностью добавляет: «Вот его подлинные слова». «Пинежский Пушкин» не уступает «архангелогородскому» в яркости. Вот чины и вельможи говорят поэту: «— Ты велик ли зверь-то, Пушкин! Шириссе больно. На твое место охочих много будет стихи писать. Кому нужны эки-ти комары летучи! Пушкин их зачнет пинать, хвостать… Царь тоже забоялся. Он давно Пушкина ненавидел, для того что Пушкин смала письмами да стихом властям задосадил. Этот Перьвой Николай терпеть не может людей, которы звыше его учены. Выговску пустыню, эко место знаменито, он сожгал». У рассказчицы с Пинеги строгий старообрядческий взгляд на происходящее. В этом фрагменте она вспоминает Выговскую пустынь (Выговский Данилов монастырь) — знаменитое поселение раскольников на реке Выг, просуществовавшее более полутора веков, с 1695 по 1857 год. Рисуя семейную жизнь поэта, сказительница-староверка осуждает курение и неуважительное отношение к хлебу: «Живут задью наперед. С утра гости, по хлебам ходят, куски топчут, курят, о кака скверна!..» Особого внимания заслуживает эпизод дуэли. О нем Марья Эдуардовна говорит сжато: «…Стрелялся смело и небоязненно и поражен был смертоносною пулею. До исхода прекрасной своей души был в памяти». Пинежская же рассказчица дает развернутую картину боя: «Учинился дым с огнем на обе стороны. Где Пушкин — тут огнем одено, где Дантест — тут как дым… № 1 (1) 2011 11 Екатерина ДЬЯЧКОВА Два Пушкина Бориса Шергина МЕТАМОРФОЗЫ ВЕТРА Кавалер-от был стрелять горазд, пустил пулю не в очередь, отшиб звезду от месяца, убил соловья в саду». Повествование начинает приобретать былинный размах: «Упал наш Олександрушко, за ёлочку захватился: — Рости, рости, елочка, без верха; живи, живи, Россиюшка, без меня!» В этот момент сказительнице не важны исторические детали, ее задача — передать огромность утраты: «Ударила Пушкину пуля под сердце, прошла меж крыл…» Гипербола здесь совершенно естественна: «Кровь-то рекой протекла кругом града. Не могли семь ден из реки воду пить». О сказах и сказках Шергина можно говорить бесконечно. Они привлекают особым светом, мудростью, ярким слогом. «Слово о Ломоносове», «Для увеселения», «Старые старухи», «Ванька доброй», «Судное дело ерша с лещом» и другие плоды его замечательного таланта хочется и, уверена, нужно перечитывать и обдумывать. После чтения Шергина остается сильное и долгое впечатление (как чистый и ясный звук). Прочитайте «Егор увеселялся морем», попробуйте подняться над собой, как герой этого сказа, и вы почувствуете, что стали лучше, чище. Не случайно Федор Абрамов после встречи с Шергиным писал о свете, что исходил от него: «Слепой старик. А весь светился». Я люблю Шергина и хочу, чтобы его полюбили другие, те, кто с ним пока не знаком. Очень верно сказал Василий Белов, что «один Шергин… сумел так удачно, так непринужденно породнить устное слово с книгой». А вот какой из его пушкинских сказов мне больше нравится — затрудняюсь ответить. Открою «Пинежского» — мне он кажется ярче. Перечитаю «Архангелогородского» — попадаю под его обаяние. Так и живут во мне, соревнуясь, два Пушкина Бориса Шергина — два удивительных образца своеобычной поморской пушкинистики. 12 ЛАМПА И ДЫМОХОД МЕТАМОРФОЗЫ ВЕТРА Голуби, ангелы… Выйдя из душного дома во двор, я, словно пьяница, сходу опохмелился большущим глотком терпкого воздуха. После чего осмотрелся. Осень, неряха, опять разбросала пестрые листья повсюду и в беспорядке… Бедные липоньки, холодно вам, полуодетым!.. Ишь ты, какая красивая женщина! И как красиво сидит на скамейке — ножка на ножке, коленка оголена. И симпатично так курит!.. Голуби стаей — спугнули их, что ли — вдруг пролетели так близко, воздух нагнав. Два или три — от лица в полуметре. Так что невольно пришлось уклоняться… Через дворы, через линии вышел к Собору. Прямо над входом в Собор примостились два ангела. Взгляд мой настолько внезапно наткнулся на них, что показалось, что те как живые и склонны взлететь. Живо представил, что это случилось, и на лице ощутил ветерок. № 1 (1) 2011 13 Александр КОВЫЛИН Миниатюры - ритмизованная проза МЕТАМОРФОЗЫ ВЕТРА Было б забавно, конечно, если бы в жизни действительно происходить вещи такие могли… Метаморфозы ветра Вечером поздно по Невскому проспекту я иду домой. Рядом со мной Любовница. Хмельная, льнет она ко мне. Неугомонная, то забежит вдруг справа, то вдруг слева. Вдруг разметает волосы на голове, что-то прошепчет в ухо. То вдруг обнимет крепко и целует в губы. Так с ней идем до Герцена (до улицы), сворачиваем вправо и через арку на Дворцовую выходим площадь. Тут исчезает вдруг Любовница. Но появляется Поэт. Этот поет кантату мне о Легендарном Прошлом… Площадь кончается, вот я на мост ступаю, а подо мной, внизу, резвятся, плещутся, шумят, как молодые, но седые и лохматые, Гребни-Пловцы… Время Поэта до моста. А на мосту на сцену выбегает Забияка. Этот дает мне оплеухи, дергает за волосы, в спину толкает, норовя сбить с ног… Кончился мост, и я схожу с него, сворачиваю влево и вдоль реки иду. А Забияка продолжает по мосту носиться, весь в ожидании очередной случайной жертвы. Гребни-Пловцы по-прежнему в Неве резвятся, то вылетая на гранитные ступени, то снова с них бросаясь в воду, фыркая громко и вокруг себя всё обдавая брызгами… Я постепенно прихожу в себя от тумаков, что надавал мне на мосту неугомонный Забияка… Тихо теперь. Вот смотрят друг на друга молчаливо Сфинксы. Где-то внизу от них и слева от себя я слышу чью-то еле различимую беседу. Кто же там шепчется? А — понял! Это Нева и собеседник ее — Ветер. Словно два друга, что давно не виделись, а тут случайно встретились, сели они на берегу и вспоминают не спеша о давнем своем прошлом. Кажется мне, что я их тоже знаю. Тоже давно. И начинаю вспоминать события, к которым все когда-то мы, оказывается, причастны были… Так я иду и вспоминаю. И прихожу в себя, лишь на 6-ю линию свернув. Здесь наблюдаю я еще одну картину. 14 ЛАМПА И ДЫМОХОД Будто бы Странник после долгих лет скитаний вдруг, наконец, домой вернулся. Вот он вошел в родную комнату и видит: всё на своих местах, все вещи, как оставил. Он не нарадуется. Он по ним скучал. Вот подошел, взъерошил лужицу, вот поскрипел аншлагом остановочным, вот погремел стеклом в оконной раме, вот потрепал полотнище над улицей… Я на Большом проспекте. Странника здесь нет. Но есть Мальчишка, что гоняет мусор… Вот на 15-ю линию свернул. Рядом со мной теперь идет — и мы беседуем — Друг-Собеседник. Скоро дом. С Другом соседи мы. Сейчас мы с ним расстанемся — каждый уйдет к себе. Но отделять нас будет лишь стена. И если вдруг мне станет грустно, то я окно открою… 6 мая 1979, 2009 Уныние …И выяснилось: женщина (она хотя и пьяница была, но всё-таки человек!), что неделю назад попала под трамвай возле дома, в котором я живу, умерла в больнице (я видел ее в луже крови)… И в газетах читаешь каждый день: … убито… погибло… наращивают… угрожают… И сердце человеческое — такой хрупкий орган! Я об этом как-то не задумывался раньше. Даже не слышал, как мое во мне бьется. А вчера прочитал брошюру. Прислушался — и услышал… И хотя в брошюре говорится о том, что есть некоторые средства, позволяющие сохранять его здоровым долгие годы, но… всё равно… так зыбко всё, так ненадежно в жизни! Вот и родные люди умирают вокруг… Всё это и прочие мелкие неприятности — и вот: настроение скверное, и в голову лезут мрачные мысли… А тут и погода! Снег грязный и лужи. И сверху — снег сыплет с дождем. И небо тусклое уныние наводит. И чувство вдруг приходит: как неуютно жить на земле!.. Март 1982 № 1 (1) 2011 15 Александр КОВЫЛИН МЕТАМОРФОЗЫ ВЕТРА Смотрю, как мечутся верхушки тополей… Смотрю, как мечутся верхушки тополей, трепещут листья. Места не находит себе Дух Ветра! Он был бы нем, когда бы не деревья, тянущиеся к небу, которого не видно: громады облаков проходят над землей… Как я люблю наедине с Природой быть! Смотреть и слушать, и вдыхать порывы ветра. Тогда я слышу голоса Эпох. Со мною разговаривает Время. Мне кажется: я — мудр. Как Бог. Причастен к Вечности. И как же мелки все тогда земные эти страстишки: обиды всякие, амбиции, и зависти, и жажды мести!.. Май 1982 Возвращение Плыли мы, плыли. И пахло рекой. И внизу раздавались шлепки — то вода ударялась в обшивку. И по левому борту, и по правому тоже — дома и сады, дома и сады, дома и сады. То какой-то огромный и длинный ангар — очень медленно, долго сначала скользил к нам навстречу, потом отставал, отставал, отставал… Плыли, плыли весь день. Солнце медленно плыло по небу. А потом утонуло. И стало темнеть — всё темней и темней, темней и темней, темней и темней. И по левому борту, и по правому тоже — зажигаться пошли огоньки. Сквозь рассвеченный мрак мы скользили теперь. Мягко, тихо. Внизу раздавались шлепки. Воздух теплый и нежный людей овевал… День и ночь, день и ночь, день и ночь так мы плыли. И вот, наконец, я на землю ступил. А она подо мною качалась слегка. Это было немного забавно, но и неприятно чуть-чуть… Вообще же я очень был рад — ведь я возвратился домой. Вон то — милое, пятиэтажное, то, что сотни и сотни раз снилось во сне, — здание — дом мой. 16 ЛАМПА И ДЫМОХОД Всё ближе и ближе оно — и на сердце всё веселей, веселей… КОВЫЛИН Апрель 1984 Холод, мрак, мороз, туман… Холод, мрак, мороз, туман, и всё враждебно вокруг. И везде, и во всём близость небытия. Тёплым, добрым огнем горят окна в домах. Но иллюзорна доброта их сияния, потому что царит там за ними везде отчужденность. И я один на свете. Маленький, беззащитный, затравленный. Я всех боюсь: и врагов, и друзей своих. Я никому не верю, я разучился любить. И жизнь моя пуста, суха, холодна. Февраль 1986 Дом Старый, желтый, закоптелый дом в тупике. Здесь, упираясь в деревянные покосившиеся ворота, заканчивает свое существование грязная, разбитая дорога. Кривые фонарные столбы, словно пьяные, тщетно пытаются удержать равновесие в шеренге вдоль этого облупленного здания. Всюду — куда ни посмотришь — мусор, грубые заплаты на неровном асфальте, грязь… По вечерам этот дом оживает. В окнах вспыхивают теплые, уютные огоньки, и дом начинает гудеть, словно улей. Сотни людских голосов, звуки музыки — всё сливается в общий нестройный шум, раскачивающий волнами воздух. Днем у дома унылый вид. Почти все обитатели покидают его. Правда, они здесь же, неподалеку, трудятся — за заборами, хорошо видными из всех окон этого дома. Люди стучат, гремят, лязгают — производят какие-то материальные ценности… Январь 1988 г. № 1 (1) 2011 Александр 17 МЕТАМОРФОЗЫ ВЕТРА Алексей Михайлович Залесский (р. 1937) — писатель, редактор журнала «Лампа и дымоход», работал как журналист и критик в отечественной прессе и за рубежом. ЭКСКУРСИЯ В РОСТОВ ВЕЛИКИЙ Алексей ЗАЛЕССКИЙ Очерк В споминаются мне далекие шестидесятые годы. Я вышел из дома в шесть часов утра. Начинало светать. Но, несмотря на слабую зарю, в небе, как блестящие шарики на елке, висели низкие крупные звезды. Когда я проходил мимо церкви, расположенной недалеко от моего дома, то заметил, что окна ее были освещены. Какой-то праздник. Старушки с разных сторон торопились к церковным воротам. У ворот толстый служитель грубым охрипшим голосом отгонял нищих: «Я же вам говорил, что нельзя. Давайте, давайте отсюда!» И потом смягчившись: «Поезжайте в Богородскую церковь, пока не поздно». Я понял, в чем дело. Милиция предупредила церковников, чтобы нищих у ворот храма не было. Она должна была вот-вот наведаться сюда, а в Богородске можно было еще постоять и пособирать милостыню. Вид церкви и нищих настроил меня на старину, которую мне предстояло увидеть. Я не представляю себе церкви без нищих: калек, слепых в темных очках, длинноволосых стариков, опирающихся на палку. Они обычно говорят, протягивая руки: «Подайте Христа ради» или «Подайте для праздничка». Но не настойчиво. Если им подашь, крестятся и повторяют несколько раз: «Спаси 18 ЛАМПА И ДЫМОХОД тебя Христос» или «Дай тебе Бог доброго здоровья». Над нищими теперь смеются, рассказывают про них разные анекдоты, например, что они набирают за месяц рублей по сто — неплохая прибавка к пенсии. Ну, как же: в Советском государстве не должно быть нищих. Но это не имеет значения, Бог с ними, если даже такое и случается. Подавание нищим и хождение в церковь облагораживают простых людей. И когда у них это отнимают, они часто становятся почти зверьми — вспоминаю кухонные склоки в общих квартирах. Метро и центр. Безлюдная и безмолвная Манежная площадь. Уже совсем рассвело. Из-за угла выползают пустые, но наполненные внутри электрическим светом троллейбусы. Сажусь в один из них. Никитские ворота. Пустынный московский переулок. Окна, черные глаза домов глядят на меня с разной высоты, но с одинаковым выражением. Застывшие многоглазые чудовища. За этими окнами спят и еще не думают просыпаться люди — ведь сегодня воскресенье. Подушки, одеяла и спертый воздух в комнатах. Изредка храп. Пожилые супруги спят, отвернувшись друг от друга. Наверное, без снов. Те, кто сейчас спит, никогда не думают, что есть люди, которые в выходной день встают в шесть часов утра, чтобы куда-то уехать на целый день. И никому из этих спящих крепким утренним сном не придет в голову проснуться и посмотреть в окно, есть ли кто-нибудь, кто в столь ранний час ходит по улицам. Вот и переулок, где стоит экскурсионный автобус. В нем уже сидят мои сослуживцы. Подхожу: «Здрассьте, здрассьте!» Есть еще время покурить. Самое неприятное: сидеть в автобусе и дожидаться, пока придут все.. Наконец, трогаемся. Садовое кольцо, проспект Мира… Затем знакомые пригороды. Замелькали дачки со стеклянными террасами, окруженные садами. Мытищи, Пушкино. Пока удалялись от Москвы, погода испортилась. Серые тучи по всему небу. И мелкий дождь. Может быть, это и лучше. Маленькие грязные городки с покосившимися старинными домами смотрятся лучше в такую погоду. Когда проезжаешь их, хочется выскочить из автобуса и какое-то время пожить их жизнью… Загорск (раньше он назывался Сегиев Посад). Среди каменных домов еще много сохранилось ветхих деревянных с крупными замысловатыми наличниками вокруг окон. Деревянное кружево. В каждом городе свое. Совсем как в деревне. Неужели никто не додумался собрать коллекцию рисунков или фотографий этих наличников из разных деревень, городков, областей? Удержать в памяти Русь уходящую. Троице-Сергиева лавра. Над мокрой булыжной мостовой поднимаются, как будто вышедшие из сказки, стены и башни монастыря. Высокая голубая колокольня и темные, словно раздутые, купола храмов. А напротив дань современности — стеклянное кафе. Немного дальше клуб имени Гагарина и новые пятиэтажные № 1 (1) 2011 19 Алексей ЗАЛЕССКИЙ Экскурсия в Ростов Великий МЕТАМОРФОЗЫ ВЕТРА дома-хрущевки. Теперь, наверное, в каждом захолустном городишке есть автобусная остановка под названием «Новые дома»… После Загорска потянулись холмы с гривами леса или кустарника. Кое-где тускло поблескивают озерца. Деревеньки по обеим сторонам шоссе. Около одной избы сани. Автобусная публика обрадовалась саням. Удивленные возгласы: «Смотрите, смотрите!» У многих городских жителей есть тяга к природе, к сельской жизни. Может быть, это отголоски древних, подсознательных воспоминаний души, оставшиеся от тех времен, когда не было огромных городов-мегаполисов. Возьмите современный город. Центральные, покрытые асфальтом улицы без деревьев. Все, что видишь вокруг, вышло из маленькой коробки человеческой головы: каменные здания, машины и троллейбусы, бетонные фонарные столбы, витрины, костюмы прохожих, шляпы, пальто, зонтики, витрины магазинов, рекламные щиты, газетные киоски, книги, разложенные на лотках. Всё это, прежде чем обрести свою материальную плоть, зародилось в мозгу человека. С одной стороны, это позволяет человеку гордиться собой, а с другой — вызывает в конце концов тошноту. Человека окружает множество вещей, самых разнообразных по форме, размеру и назначению, он воспринимает их своими органами чувств, и порой ему представляется, что в него впихивают его собственные выделения. Отвратительная ассоциация. Раньше я никогда не ездил в северном направлении и теперь думал, что увижу высокие, дремучие леса, а они здесь самые обыкновенные и не так уж их много, а больше стриженых полей. Переславль-Залесский. Ветхие облезлые церкви с черными, словно обгоревшими куполами. Грязь на улицах. По грязи шлепают бабы и мужики. К базару. В телеге на соломе везут овец. Ярмарка в воскресенье. У ворот базара много телег. И «москвичи» новенькие, но забрызганные грязью. Съехались из окрестных деревень. Остатки земляного вала, когда-то окружавшего город. За Переславлем те же невеселые и неяркие русские пейзажи. Вспоминается Гоголь: «Эх, тройка! птица тройка, кто тебя выдумал? ...только дрогнула дорога да вскрикнул в испуге остановившийся пешеход — и вон она понеслась, понеслась, понеслась!.. ...Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка, несешься? Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа». И вот неслась, неслась она и вдруг влетела с разбегу в грязное ленинское болото. Долго вытягивали ее потом оттуда разные возницы. И наконец вытянули. Но не несется она теперь, как бывало, а больше топчется на месте, и топчут ее другие народы и государства… Но вот конец пути — Ростов Великий. Белый кремль. И над его стенами причудливое нагромождение островерхих башен, палат, колоколен, огромных, как воздушные шары куполов.. Напротив кремля низкие двухэтажные дома, грязные, темные магазинчики. 20 ЛАМПА И ДЫМОХОД Не хватает здесь трактира. Старинное белое здание торговых рядов с аркадой, неуклюже опирающейся на тротуар. Под аркадой снуют потрепанные обывательские пальтишки и мужицкие полушубки, бабьи платки. Под стеной Кремля затянутая кумачом витрина с портретом Ленина: один из магазинов уже украсился к октябрьскому празднику. Прохожу мимо торговых рядов и сворачиваю в короткую улочку. Кажется, называется она улица Белинского. И другая — Карла Маркса. Из нее открывается вид на Борисоглебский монастырь. На углу магазин, когда-то окрашенный белой краской, а теперь пестрый от обвалившейся штукатурки и темных пятен на стене. На нем вывеска с надписью: «Посудо-хозяйственные товары». А сверху надписи нарисованы павлины, цветы, всадники. С какого века уцелели? Немного дальше жалкие земляные валы, рядом с ними приютились полуразрушенные церквушки. Позади одной из них несколько мужиков распивают водку. Я радуюсь, что сегодня нет солнца. На солнце кремль был бы красив своими свежепобеленными стенами, золотыми куполами и крестами церквей. А ведь его так потрепали за последние пятьдесят лет! Кусали, царапали, пинали ногами. Кое-где виднеются, точно зубами вырванные, куски кирпичной стены. Трещины. В солнечный день все это выступило бы во всей своей неприглядности, и кремль стыдился бы своего изодранного платья и искалеченного тела. А пасмурная погода его прикрывает. Входим за стены. Экскурсовод мучается, припоминая даты и имена. Подхожу к тяжелой заржавленной двери ХII века (так сказал экскурсовод), сделанной в виде головы какого-то хищника с мертвыми выпученными глазами, держащего в зубах дверное кольцо. Неужели это действительно та самая ручка, за которую несколько веков назад брались князья и бояре в долгополых собольих шубах, митрополиты в ризах, расшитых золотом и жемчугом? Не верится. Если с площади, где остановился наш автобус, кремль казался убогим и побитым, то теперь, внутри его, среди соборов и палат начинаешь ощущать его красоту и мощь. Княжеский дворик. В подвалах овощехранилище. Идем осматривать княжьи палаты. Просторные комнаты со сводчатыми потолками и крошечными окошками. Вдоль стен резные стулья и окованные железом сундуки. Железный торшер для лучины. Представляю себе допрос преступника в этой полутемной палате. Открывается низкая дверь, и входит, гремя кандалами, бледный исхудавший человек в лохмотьях, а за ним два стражника. Зычный голос дьяка: «Отвечай, ты, вор, как твое имя и прозвище?» Скрипят гусиные перья. Потрескивает лучина… Выходим из Кремля посмотреть на озеро Неро. Широкое, серое, с едва заметными вдали берегами. Спускаемся к воде. У са- № 1 (1) 2011 21 Алексей ЗАЛЕССКИЙ Экскурсия в Ростов Великий МЕТАМОРФОЗЫ ВЕТРА мого берега расхлябанные деревенские дома и пустые сады — поздняя осень. На песке лежат лодки, перевернутые вверх днищами. А по озеру, тарахтя, носится одинокая моторная лодка. На обратном пути в кремль замечаю прислонившийся к одному из заборов плохо сколоченный из серых досок пивной ларек. На его пороге сидит красноносый сморщенный дед в полушубке и завязанной у подбородка шапке-ушанке, а около него стоит, облокотившись о распахнутую дверь, длинный худощавый мужик средних лет в старой солдатской шинели и в такой же шапке-ушанке, у которой одно ухо опущено, а другое торчит, как у какого-нибудь местного барбоса. Оба подвыпили. Солдат курит и поплевывает. Дед рукавом обтирает мокрые усы. Эта картинка дополняет пейзаж Ростова. Мы опять в кремле. Теперь он уже не кажется беспорядочным нагромождением разнообразных построек, а единым, слаженным целым, увенчанным куполами, крестами и островерхими крышами палат. Всё это, как будто по знаку волшебника, вдруг поднялось за нашей спиной, пока мы ходили смотреть на унылое серое озеро. Купола разного размера — это как бы хор певчих. Тут и густой бас дьякона, и тонкие голоски старушек. Если бы зазвонили колокола! Сейчас они молчат, огромные, черные, неподвижные. Каждый имеет свое название: Сысой, Лебедь… Но я все же услышал их звон. В кремле теперь музей, и в одной из церквей установлен магнитофон с записями ростовских звонов. Среди стен, от пола до потолка расписанных тусклыми фресками, на когда-то голубом фоне — бесчисленные фигуры святых в красных, золотых и зеленых одеждах, тоже когда-то ярких. И среди этих стен грубо торчит репродуктор. Сначала я не доверял этому искусственному звону, но потом не пожалел, что его услышал. С первых же ударов я забыл про репродуктор и представил себе, что это ожили и заговорили те самые почерневшие колокола, которые мы видели снаружи. Сначала объявили набат. Частые, но не отрывистые звуки, как бы накладывающиеся один на другой. Торопливая сбивчивая поступь звуков. Отсветы пожара на стенах. Вспыхивают и гаснут при каждом ударе. Черные фигурки людей, бегущих все в одну сторону. Из ночной темноты выступают углы, двери, окна домов. Вдалеке тихо, но тревожно, не переставая ни на секунду, гудит колокол. Люди всё бегут и бегут. Тащат ведра, багры, лестницы. Страшные вспышки пожара, искры, летящие в ночной темноте, и никаких звуков, кроме колокола… Потом благовест. Ослепительное солнце в голубом небе. Расплавленное его лучами золото куполов. Крестный ход. Толпы народа, бредущие по весенней грязи. Мужики снимают шапки и крестятся, сложив темные заскорузлые пальцы. Нищие с котомками и с клюками. Серебряные монетки, как блестящие капельки, 22 ЛАМПА И ДЫМОХОД падают в сморщенные старческие руки. Толстый купец расстегнул шубу и, тяжело дыша, лезет в карман за кошельком. И среди этой черной и серой толпы движется золотой крестный ход с хоругвями, фонариками, длинными красными свечами, иконами в серебряных окладах. Мальчики-послушники в рясах, похожие на ангелов. Певчие. Священники с кадилами и крестами. Митрополит в богатом праздничном облачении благословляет народ. Люди валятся в грязь на колени. А над кремлем несется многоголосая радостная фуга колоколов, и кажется, что это поют сами купола церквей и соборов. И чем больше вслушиваешься в эти голоса, тем больше забываешь, что это происходит на земле, и переносишься духом в святой, далекий небесный мир, и уже не толпы народа, не купцы, не нищие, не митрополит со священниками, а святые и ангелы окружают тебя… Потом — ростовский звон. Когда благовест кончился, и ты снова мыслями возвращаешься в церковь. Но теперь для тебя существует только она, только эти росписи на ее стенах, и ни одного человека кругом, все как будто исчезли, провалились сквозь землю. Фрески на стенах приобрели свой первоначальный радостный цвет, и с каждым звуком колокола перед тобой возникает новая картина на стене: лики святых, их разноцветные одежды, персты, сложенные для крестного знамения. И, наконец, егорьевский звон. Теперь ты переносишься из этой церкви и из Ростова на юг, и даже не в Егорьевск, а куда-то в окрестности Коломны, где сливаются Ока и Москва-река, где над туманной водной гладью возвышается белая колокольня Голутвинского монастыря, и голос ее слышен в далеких зеленых лугах, в маленьких, чуть видных над землей темных деревеньках. Низкий густой звук и два светлых коротких. Точно шаги чьих-то ног, обутых в золотые сапожки. Шаги поднимаются все выше, выше по невидимым ступеням в прозрачном воздухе над изумрудными полями, над блестящей широкой дорогой реки, медленно уходящей на север, к скрытой далеко за горизонтом Москве. Заречные густые леса сделались совсем маленькими, как высокая трава. Потом все на земле смешалось, превратилось в одну темно-зеленую массу, и только дорожка реки, уже ставшая узенькой, всё еще блестит, извиваясь и убегая вдаль. А шаги золотых сапожек поднимаются все выше, к самому небу… № 1 (1) 2011 23 Алексей ЗАЛЕССКИЙ Экскурсия в Ростов Великий МЕТАМОРФОЗЫ ВЕТРА Ирина Бессарабова — кинорежиссер, член Союза кинематографистов России и Союза писателей Москвы. Автор сценариев и режиссер многих документальных и игрового фильмов. Автор поэтических книг «Первый живописный слой» и «Неузнанная жизнь». Ирина БЕССАРАБОВА Стихотворения Исаак и Ревекка Неподвижно лишь солнце любви. Вл. Соловьев И видит Исаак: идут верблюды, И между их мерцающих горбов, Как бы в горах, чьи дальние гряды Ночами кормят небо острой грудью, А утром молоко являет свет, Который разливается повсюду. И небо отпадает, как дитя, Насытившееся до новой ночи, Сидит Ревекка в покрывале мглы. Идет к нему, сама же — неподвижна. Идет к нему — сама среди горбов. Кувшин и влага — движутся навстречу 24 ЛАМПА И ДЫМОХОД Великой жажде, тоже неподвижной, Пославшей за невестою раба. Любовь пребудет посреди горбов Движенья. Все вращалось и текло, Ирина БЕССАРАБОВА Чтоб эти двое были неподвижны. Шел раб; верблюды шли; росла трава Колючая; пески сдвигали брови На солнцем испекаемом лице Пустыни; направляясь к Исааку, Пустыня шла, безмерный караван; Шло небо, поторапливая звезды. (Ревекка дремлет, за горбы держась.) Шло солнце, указуя всем дорогу, Где золотистой дланью, где перстом; А Исаак их ждет, не шевелясь, Как вкопанный, среди святого поля, Что тоже шло к нахлынувшим пескам. Ревекка неподвижна меж горбов. (Вокруг все шло — от радости и страха.) Поскольку только так свою любовь И можно донести до Исаака. Как дети Умница Каин, построивший город, Тихо подходит к нам, Дышит землею. Авель восставший С Лазарем рядом стоит, Несколько женщин. Нежные дети, Вставшие впереди. Даже Иуда с чахлой осинкой, Посохом ломким в руках, Словно чернец из скита. Как же Ты, Господи, будешь делить, Или, как дети, мы Позабудем, где право, где лево… № 1 (1) 2011 25 Сумерки МЕТАМОРФОЗЫ ВЕТРА Странные сумерки. Все говорит за себя. Не понятно, Чем же прилеплено дерево это к другому. Свет уже спрятан. Остались кленовые пятна. Боже мой: каждый и каждая знает дорогу. Странные сумерки. Все говорит за себя. Не Знаю, зачем это дерево дарит другому Золото бедное. Ветер их за руки тянет. Боже мой: каждый и каждая знает дорогу. Те, кто невидимы, трогают лица идущих. Здесь мы, — лепечут, — идите. Осталось немного. В наших дворах осыпаются райские кущи. Боже мой: каждый и каждая знает дорогу. * * * Прилетели голоса деревьев. Закачались жилища птиц. Искажение. Детство Смыкая кроны, шествуют деревья На площадь, где кичатся истуканы — Три профиля: один другого держит Вблизи себя, за левою щекой Или за правой — девочка не знает, Но щелки глаз, и бороды, и скулы Так связаны — не отломить кого-то, Кого-то не оставить одного! На сковородку вылитое тесто, Бывает, образует чей-то профиль Из этих трех, но бабушка скорее Трясет сковородою, словно бубном, И наважденье плавится, дымясь. Повествованье листьев бесконечно, Внутри прожилок — девочкины вены, В глазах ее ветвится небосвод, Ведь небо с вод ее реки восходит, А воды с неба падают дождем. Она не знает: выбрать ли аллею И запах листьев, тени на стене И след другого мела над домами Иль истуканов, что щека к щеке 26 ЛАМПА И ДЫМОХОД Ирина Рисунок Екатерины КАРПОВОЙ БЕССАРАБОВА Друг другу шепчут тайные пароли И девочкино имя говорят, Она не знает. До сих пор не знает. * * * В стеблях, листьях, Бутонах тюльпанов Спряталось столько художников, Что страшно засыпать Возле этих цветов. № 1 (1) 2011 27 МЕТАМОРФОЗЫ ВЕТРА Алексей Залесский — писатель, редактор журнала «Лампа и дымоход», работал как журналист и критик в отечественной прессе и за рубежом ПЕШКОМ ЧЕРЕЗ ВЕСЬ ГОРОД Алексей ЗАЛЕССКИЙ Рассказ П риехала к нему в маленький городишко, где он на несколько дней остановился в гостинице. Приехала, потому что любила. Красивая. Яркая блондинка, но не крашеная, высокая, стройная, но не худая, а, как говорят, средней упитанности. И ноги красивые. А он не то чтобы любил, но увлекся ею. Поэтому и прислал ей телеграмму, что будет в этом городе. И она тотчас прилетела к нему, как на крыльях, хотя жила за четыреста километров отсюда. Но на другой день должна была уезжать, потому что не могла бросить работу и учебу. Он был доволен. Жаль только, что всего на один день. Днем сидели в гостиничном ресторанчике, ели и пили вино. Чистые белые скатерти на столах. А вечером она пошла к нему в номер. Хотел оставить ее у себя на всю ночь. Но в двенадцать часов в дверь постучали и сказали, что оставлять в номере на ночь посторонних людей не разрешается. Не догадался заказать для нее отдельный номер. А может быть, денег не хватило. И у нее тоже… Он собирался проводить ее на такси до вокзала. Да в таком городишке разве найдешь такси? Пытался поймать какую-нибудь случайную машину, но все проезжали мимо. А пешком идти 28 ЛАМПА И ДЫМОХОД с ней до вокзала, который был от гостиницы километрах в двух или в трех, ему не хотелось. И она это поняла. Сказала ему: «Я пойду одна. До вокзала прямой проспект. А по дороге поймаю машину. Деньги у меня есть». Она соврала: денег у нее было в обрез, только на обратный билет. Закурили. Он вяло предлагал еще подождать: может быть, все-таки найдется машина. Ему явно хотелось спать. Он даже зевнул украдкой. Подвыпивший мужик, выходивший из ресторана, бесцеремонно оглядел ее и сказал: «Аппетитная баба!» Нужно было бы дать мужику по морде, но он не решился. Не хотел связываться. Или боялся. Она это тоже поняла. И заторопилась. Сказала: «Мой поезд отходит через три часа. Я могу опоздать». Это тоже была ложь: ее поезд отходил только утром. И она пошла одна. А он еще некоторое время постоял у подъезда. Она оглянулась и помахала ему рукой. И он тотчас скрылся за стеклянной дверью. Опять одна. И идти далеко — устану. Начал накрапывать мелкий дождь. Мокрый тротуар светился желтыми отражениями уличных фонарей и редких еще не заснувших окон. Зонтик забыла взять. Зато на ней поверх летнего платья теплая кофточка. Ничего, не промокну. И дождь небольшой. И вскоре перестал. По дороге несколько раз закуривала. Вспоминала уютное гостиничное тепло и тепло любимого человека. Когда-то теперь увидимся? А может, и не увидимся больше. Его первые поцелуи. Раньше ей казалось, что он любил ее. А теперь уже больше не кажется. Но все равно милый. Спит ли уже или думает о ней?.. Собиралась перейти улицу, но впереди вспыхнул красный сигнал светофора (желтого не заметила): нельзя. К нему нельзя! В какой-то момент ей захотелось заплакать. Но сдержалась: к чему эти слезы? Вдруг навстречу компания молодых людей. Идут молча. Бандиты? Сейчас отнимут сумочку, а в ней деньги. Как тогда она доедет домой? Придется завтра вернуться в гостиницу и просить денег у него. Такой позорный будет конец у этой встречи. Ни за что! Компания поравнялась с ней. Но прошла мимо. С ними была баба. Страх прошел. Но до вокзала еще далеко. Глаза слипаются. Впереди маленький скверик со скамейками. Можно отдохнуть хоть немного. Села и опять закурила. В который раз? Красный огонек сигареты чуть освещает пальцы. Над ней темная листва дерева. Дунул ветер. и капля с листьев попала ей на нос. Не промочить бы сигарету. Накрыла ее другой рукой. Незаметно заснула. Без снов. Проснулась оттого, что кто-то тронул ее за плечо. Милиционер. «Девушка, здесь спать нельзя. Ваши документы, пожалуйста». Вынула из сумочки паспорт и протянула ему. В темноте он никак не мог разобрать, что там написано. Она зажгла спичку и посветила ему. Потом другую, третью. А он всё вникал. Потом спросил: «А почему вы в нашем городе? Ведь вы не здешняя». Ответила: «Приехала в гости, а хозяина не было дома — уехал в командировку. Сейчас иду на вокзал и поеду до- № 1 (1) 2011 29 Алексей ЗАЛЕССКИЙ Пешком через весь город МЕТАМОРФОЗЫ ВЕТРА мой». Подозрительно посмотрел на нее — не поверил. Только бы не забрали в милицию — просидеть остаток ночи в тускло освещенном прокуренном помещении, пока не выяснят ее анкетные данные. Опоздает на поезд. И потом целый день будет маяться на вокзале. К нему еще раз не пойдет — попрощались. На счастье, в сумочке сохранился железнодорожный билет. Показала его. Тогда милиционер вернул ей паспорт. «Идите!» И она пошла дальше. Небольшой сон снял усталость. Но ей стало холодно, и она ускорила шаг. Теперь уже недалеко до вокзала. Думала только о поезде, но еще до утра долго ждать. Наконец вокзал. Освещенный. Темнота города и мучительный путь остались позади. С билетом трудностей не было. Взяла место в плацкартном вагоне: на купейный денег не хватало, да еще, если в купе окажутся мужики, будут приставать. Вспомнила: «аппетитная баба». На что ей эта красота, когда его нет рядом. Горький вкус во рту после выкуренных сигарет. Выпила в ночном буфете кофе с молоком, и горький вкус исчез. К тому же согрелась. Села на длинную скамейку в зале ожидания, вытянула усталые ноги. В зале почти никого. На соседней скамейке баба, окруженная багажом, в дальнем углу потрепанный мужик спит, надвинув на лицо кепку. И она заснула. На этот раз он ей приснился. Улыбающийся, среди цветов сирени. Проснулась, и слезы все-таки появились. Но немного. Она мужественная. Потом еще несколько раз просыпалась, боясь пропустить свой поезд. Но за окном было еще темно. А на рассвете ее поезд подошел. В душном и грязном вагоне забралась на верхнюю полку, закутала ноги поверх простыни жестким колючим одеялом. Не от холода, а чтобы похотливо не смотрели на ее красивые голые ноги. И легко заснула. Потому что все ожидания кончились. 30 ЛАМПА И ДЫМОХОД СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР Беседа Сергея Шулакова с Павлом Басинским — лауреатом премии «Большая книга» 2010 года. О ПУТЯХ К ЧИТАТЕЛЮ «Б ольшую книгу» 2010 года Павел Басинский получил за книгу «Лев Толстой. Бегство из рая». Он родился в 1961 году в городе Фролово Волгоградской области, окончил Литературный институт им. А. М. Горького по специальности «Литературная критика» и аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию «Горький и Ницше». Преподавал в Литинституте, публиковал критические статьи в «Литературной газете», журналах «Дружба народов», «Знамя», «Новый мир», «Октябрь». Возглавляет отдел культуры «Российской газеты». Павел Басинский — составитель сборников М. Горького, Л. Андреева, О. Мандельштама, М. Кузьмина. А также антологий «Деревенская проза», «Русская проза 1950–1980 гг.», «Проза второй половины XX века», «Русская лирика XIX века». Лауреат премии «Антибукер». В 2008 году книга «Русский роман, или Жизнь и приключения Джона Половинкина» вошла в список финалистов «Большой книги». 1. Василий Аксенов еще в прошлом веке читал в Америке лекции на тему, изжил ли себя современный роман. Павел Валерьевич, у кого, как не у Вас, написавшего роман о русском романе и теперь — о главном русском романисте — Толстом, спросить — изжил ли? № 1 (1) 2011 31 Павел БАСИНСКИЙ Интервыю СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР Роман не может себя изжить, потому что, по верному определению Михаила Бахтина, это вечно меняющийся и обновляющийся жанр. Роман — это выдуманная жизнь, которую проживает читатель как бы параллельно с собственной жизнью, соотнося себя и своих близких с героями романа, свою судьбу — с главным романным героем или героиней и т. д. Потребность в таком проживании «еще одной жизни» будет в людях всегда. Другое дело, что сейчас возникают своего рода эрзацы, заменители романов. Например, телесериалы. Но, во-первых, для любого хорошего сериала нужна хорошая литературная основа. Во-вторых, все равно остается большое количество людей, которые нуждаются в чтении букв. Кстати, самый высокий рейтинг продаж до сих пор у романов. В основном — женских романов. 2. О последних днях Льва Толстого написано много, иные усматривают в бегстве писателя возвращение к Богу и Церкви, другие — попытку спасения от бытовых неурядиц, ставших невыносимыми. В общем, какие-то попытки осмысления этого поступка уже имеются. Что привлекло в личности Толстого Вас? В личности Толстого меня привлекает всё. Но эта книга написана об уходе Толстого из Ясной Поляны и его смерти в Астапове. Параллельно я показываю всю биографию Толстого в ее главных моментах (Кавказ, женитьба, духовный переворот и т. д.), которую рассматриваю опять-таки через призму его ухода. Если сказать коротко, то в моей книге уход Толстого — это все-таки семейная история. 3. Получается, что интересы своих читателей, вернее, или шире — всего народа русского, для Льва Толстого были ближе, то есть роднее, интересов семьи. В своей книге Вы пишете: «Отказ от собственности стал для Л. Н., пожалуй, самым мучительным событием в его жизни. То, что по его мысли должно было принести ему радость, духовное облегчение, на деле ввергло его в настоящую тюрьму бесконечных вопросов и сомнений». Пишете, что он словно отрекался от головной боли, связанной с расходами на содержание большой семьи. То есть мы, конечно, знали, что в семье было не все гладко, но это значительно проясняет ситуацию… Мне трудно сказать, что было Толстому душевно ближе: интересы народа или интересы семьи. Это тонкий и деликатный вопрос. Я знаю точно, что он страдал от расхождения этих интересов. Ну а то, что он свалил заботы о хозяйстве на жену… Это был ее выбор тоже. Мы не имеем права судить о таких интимных семейных вещах. 32 ЛАМПА И ДЫМОХОД 4. Как Вы считаете, почему сейчас за дело написания романов взялись профессионалы: критики, филологи, вот, например, Алексей Варламов? Наступил какой-то особый момент? Надо спасать жанр? Ну, Алексей Варламов как раз начинал как писатель, а потом уже обратился к жанру биографии. Я начинал как критик, потом написал биографию Горького, потом роман в чистом виде («Русский роман, или Жизнь и приключения Джона Половинкина»), а теперь вот — художественное исследование об уходе Толстого. Я думаю, что любой жанр надо спасать от бездарностей, и делать это должны талантливые люди. В принципе все могут работать во всех жанрах. Другой вопрос — как это у них получается. Я не люблю, когда мне говорят: «Ты критик, зачем пишешь романы?» Я был бы счастлив, если бы писатели обращались к критике, как это было в Серебряном веке, когда лучшую критику писали Блок, Гумилев, Цветаева, Гиппиус, Ходасевич… 5. Какими качествами должна обладать современная проза, чтобы совершить прорыв? На что обращать внимание молодому автору, который хочет успеха: на публицистичность, стиль, что-то еще, что гарантировало бы успех? Успех невозможно спрогнозировать. Я, например, думал, что успех мне принесет «Русский роман», а книга о Толстом будет интересна узкому кругу любителей отечественной словесности. А получилось всё совсем не так. Успех складывается из каких-то ингредиентов, которые не зависят от автора, они носятся в воздухе времени, как электромагнитные волны. И ты либо попадаешь с ними в одно колебание, либо нет. Просто писать надо с внутренней страстью, любить то, о чем ты пишешь. А дальше — уж как получится. 6. В своем онлайн-интервью Вы сказали, что «прототип дает толчок фантазии (писателя), а дальше возникает уже совсем другой человек». Обязателен ли для современного романа прототип? Нет, конечно! Ничего обязательного в литературе нет. Но, объективно говоря, многие литературные герои вырастали из прототипов. Недавно я был в Ясной Поляне и поехал в Кочаки, где находится фамильное захоронение Толстых (всех, кроме Льва Николаевича, который похоронен в самой Ясной Поляне). Но там же, в Кочаках, похоронена и… Анна Каренина. Прототипом ее была экономка соседа Толстого помещика Бибикова Анна Степановна Пирогова, которая действительно бросилась под поезд на станции Козлова Засека. Толстой знал об этом. Так родился величайший из романов мира. № 1 (1) 2011 33 Павел БАСИНСКИЙ О путях к читателю СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР 7. У Вас, как у критика, есть какая-то точка зрения на процессы в современной литературе? Есть ли какие-то доминанты, которые будут помнить в будущем? «Новые реалисты» Романа Сенчина? Актуальны памфлетные романы Андрея Слаповского? Может быть, что-то еще? Это неподъемный вопрос. Коротко: мне нравятся новые реалисты — Захар Прилепин и Роман Сенчин. Мне интересна проза Слаповского. Если же говорить о доминантах… Я думаю, что сейчас проза ищет путей к читателю. Ей стало скучно в андеграунде, ей хочется широкого читательского интереса. Это правильно. 34 ЛАМПА И ДЫМОХОД СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР Сергей Шулаков — журналист ТО, ЧТО УДИВЛЯЕТ И ПУГАЕТ Т еоретически на литературную премию первого ряда должны номинироваться тексты, своим разнообразием дополняющие общую картину современной литературы. В 2010 году на «Большую книгу» представлены произведения, друг с другом кое в чем схожие, и картина от этого теряет комфортабельную плюралистическую множественность. А те книги, которые в шортлист «Большой книги» не попали — например, книжка Владимира Сотникова, — закономерность эту подтверждают. Роман Олега Павлова «Асистолия», опубликованный в журнале «Знамя» в 2009 году, способен вызвать если не эмоциональный шок, то некоторое содрогание — точно. В соревновании на максимально прямую передачу ощущения безысходности жизни Олег Павлов пока что первый. Повествование ведется от лица «Он», время — будущее в прошедшем, вот разлука: «Пройдет всего неделя — и проступит пустота…»1 Герой находится в пространстве абсолютных понятий: любовь, жизнь, истина чувств, смерть, — но не находит им реального оправдания. Наверное, писать на злобу 1 Павлов О. Асистолия. — М.: Время, 2010. С. 155 № 1 (1) 2011 35 Сергей ШУЛАКОВ Критическая статья СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР дня сейчас очень опасно. Тема безысходного одиночества в быстро меняющемся, деформирующемся мире слишком очевидна, слишком узнаваемы каждый психологический поворот, каждая ситуация, чуть ли не каждое возможное слово. В первых же строках книги с мудреным названием «Асистолия» (факт остановки сердца) ощущения умирающего в больничной палате, жизнь сорокалетнего художника, рефлексивно и последовательно вспоминаемая с детства. Отец, океанограф, почти не бывал дома. «В подарок сыну он привозил почти прозрачные хрупкие мумии океанских рыб, застывших в своем таинственном уродстве… Можно подумать, старался искупить свою вину, поэтому делал экзотические подношения… Но почему-то хотел передать сыну это очень осмысленно, как послание… То, что мальчика удивляло и пугало… Даже пучеглазых уродин, с ядовитыми, по его же рассказам, иглами плавников… Все, что ждало своего часа, чтобы однажды будто бы ожить, поведав что-то важное, о чем молчал тогда сам отец» [с. 31] (здесь, как и в большинстве цитат, отточия авторские). Интеллигент, презирал деньги, «Хлебников — любимый поэт» [с. 325]. Но быстро умер, оставив сына вдвоем с замкнувшейся, много курящей матерью. Предсказуемое кокетство — конечно, у юного героя запросы: «Все, в чем ходил, было куплено матерью. А в Пушкинском — Шагал, выставка рисунков Дали… На Крымском Валу часами стояли, чтобы увидеть Филонова, Лентулова, Малевича…» [с. 60]. Конечно, аутогенный герой из хорошей семьи, привел девушку — приезжая, порядочно старше — на кладбище, показывает: « — Тут лежит мой дед… Мавзолей академика, оплаченный государством» [с. 79]. Дед по матери: «Генеральская квартира, покои в коврах и бархате, где не слышно звуков». [с. 176]. С первых проданных работ сняли свою квартирку, потом деньги кончились, перевез жену к матери. В 1992-м прятал в мастерской какого-то беглеца, за которым, вломившись, охотился человек в штатском, а за его спиной спецназ, потом отобрали и мастерскую. Жена склонна к суицидальным порывам по причине «Больше никогда не оставляй меня одну» [с. 8]. Ехал в метро, подросток воткнул в спину спрятанные в грязном рукаве ножницы — «Пырнуть и убежать… Это игра такая… Того, кто стоит у дверей… Если должен успеть выскочить, сбежать…» [с. 327]. И вся жизнь, вся рефлексия — классификация несчастий, череда психологических обострений отношений с матерью и женой, осознание крайней степени одиночества. Герой, как в ловушку, попал в мир, который ничего не может ему предложить. Но формула: «НУЖНО ПРОСТО ЖИТЬ, НУЖНО ПРИВЫКАТЬ ЖИТЬ» [с. 165] (выделено О. Павловым) — не работает. Существуя в собственной психологической тюрьме, герой 36 ЛАМПА И ДЫМОХОД мечется от одной черной дыры непонимания к другой, всегда один, постоянно в состоянии маниакального отчаяния. Картина полной безысходности выполнена вполне мастерски. Парадокс: метафоры, которые, при умелом использовании, как правило, облегчают повествование — и восприятие, — здесь меняют эту свою функцию — чем затейливее, тем мрачнее. Автор часто не ограничивается одним сравнением. Герой вспоминает фотографию, которую обычно делали по окончании учебного года, портреты в овалах: «Их класс, год за годом: кладбищенский пейзаж детских, встревоженных будто бы собственной смертью лиц… Кажется, выглядывают кукушатами каждый из своего сиротливого дупла, становясь все взрослее и недоверчивей» [с. 25]. Рядом с героем «Асистолии» малейший позитив невозможен. Повествование, если исключить никак не оформленный пролог, танцует от детства, как и «В безбожных переулках». Ни обожествляемый учитель живописного кружка, ни первый успех и гонорары, ни любовь не приносят герою удовлетворения, которого он домогается. Если первый сексуальный опыт, то при воспоминании вызывает омерзение. «Двое уродцев беспризорных — сука и кобель, подловили друг дружку… Похожее на мутанта существо родилось прямо на людной московской улице, пугая прохожих, потому, что, наверное, с первых же минут ужасно страдало. Так они были беспомощны и напуганы, почуяв какую-то смертельную свою связь, пойманные собою же… в испуге шарахаясь от людей, изворачиваясь, начиная визжать, раздирая себя по живому… И когда обрели вдруг свободу, отцепились, сил хватило даже не разбежаться — отбежать» [с. 36]. Герой с партнершей «Пугливо, молчаливо оделись — и отбежали, делая вид, что не помнят друг о друге» [с. 39]. Если провинция, то разлагающаяся. «Тот безбожный, вполовину деревянный городишко, отсырев, пропах гнилью, провалился в промозглое небо, как в яму… Попадались испитые мертвецы; подошел, попросил дать ему копеек, пришла чума, а пьяница давно сожрал свой пир, ходит, никак не уйдет, ищет, что сожрать… В какой-то очереди что-то стерегли с тоскливой злобой в глазах бедные одутловатые бабы. Те несколько одичавших подростков… чудилось, искали, кого бы ограбить и убить; они… не сближаясь, но и не отставая, то орали издевательским смехом, то страшно выли матом… Сидя, будто на привязи, у ворот монастыря, лаяла, наверное, настоящая сумасшедшая старуха: “Мяса хочу! Дайте мяса!”» [с. 90–91]. «Пьянь, рвань, дрянь» [с. 93] — на три страницы, речь идет о Сергиевом Посаде, в описываемые времена, видимо, Загорске. Если первая своя, пусть снятая квартира, то полная дурных предзнаменований. «В этой квартирке и должно было происходить что-то такое: запой, с животной дракой, воплями, безумством… № 1 (1) 2011 37 Сергей ШУЛАКОВ То, что удивляе и пугает СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР Готовенькое, теперь уж точно гаденькое местечко для сведения счетов с жизнью. Комната тоскливых ужасов…» [с. 157]. Вместе с героем мы отчетливо ощущаем воздействие краха СССР, времен, последовавших вслед за крахом, и новейших. Артдиректор журнала кричит: «А кто эта шелупонь, вылезшая отовсюду, кто эти ноющие паразиты, понять не могу! Пишите, делайте рейтинговые программы, рисуйте, сочиняйте симфонии и пьесы — пожалуйста, творите! Тогда посмотрим. Посмотрим, кому вы нужны, сколько стоите. Одно могу сказать: все, кто вне этого мира, — покойники» [с. 204]. И кольцо с прологом — больничная палата, видимо, асистолия, момент прекращения работы сердечной мышцы, когда человек еще не окончательно мертв, но уже и не жив. Как будто отошел от жизни на порядочное расстояние, оглянулся и увидел: ужас-то какой! Язык Олега Павлова временами обнаруживает попытки блеснуть находками: «…думал дождаться, а тогда пересилить Сашу, переселить ее как раз под новый год…» [с. 103], «Пласталась и плакала…» [с. 132]. Но временами по-настоящему своеобразен: «И гордиться не собой, а каким-то своим учеником, считая его своим, но чем же, если не оправданием…» [с. 150] «…ведь если причащают в семьях пищей — только любимой. Кажется, какая-то домашняя котлета все и знала сто лет о любви» [с. 206]. Обороты, элегантные, несмотря на то что рождены в разговорной речи, придают языку ощущение писательской опытности, зрелости текста. Но мастерский стиль служит одному: описанию мира, который вместо чаемого гармоничного и яркого удовлетворения морально попрал человека и предлагает без выбора лишь одну роль — духовного и социального аутсайдера. «Но во мне пустота. Пустой человек. Когда у человека нет идеи, — он чувствует свою бесполезность, ненужность, хоть это странно, как будто мало получить жизнь, чувствовать, мыслить, а нужно еще все это использовать с какой-то целью… Бесцельная жизнь… И я живу обидой! Как же может оказаться глуп и жалок человек…» [с. 329] и т. д. почти без конца. И Олег Павлов в этих ощущениях не одинок. Владимир Сотников доселе был известен, как автор «детской литературы» — книжек для среднего школьного возраста, написанных привлекательным для подростка языком, о приключениях и с моралью. Несмотря на то что и во «взрослой» прозе Сотникова речь идет о взрослеющем человеке, от написанного прежде она отличается разительно. «Покров» — это три едва ли не самостоятельных произведения, объединенных надтекстовыми связями и философской интродукцией «Конец света. Сон», наполненной ощущением угасания, за которым последует окончательное угасание. «Не нуждаясь в событиях и избегая их, время понеслось к тому дню, который в первом смутном воспоминании оказался 38 ЛАМПА И ДЫМОХОД началом» — завершением предисловия автор возвращает нас к началу цивилизации — или отрефлексированной жизни. «День рождения», первая часть «Покрова», — повествование об ощущениях начавшего осознавать себя ребенка, обладающего душевной организацией тонкой на грани девиантности, где «он» всегда читается как «я». Во второй части — «Забытые дела» — появляются тетради, которые смертельно больной дед, глава семьи, заполняет своими воспоминаниями, здесь «он» — как «я» этого старого человека, и ощущения героя, ставшего подростком, соотносятся с ощущениями старшего в роду. Третья часть, «Заглавия» — цепь новелл, бросающая героя то в детство, то во взрослую жизнь. В статье, предваряющей книгу Сотникова, Андрей Битов среди прочего пишет о том, что прежняя контрадикция между писателями-«деревенщиками» и прочими в прозе Владимира Сотникова отменена, что он «пишет уже отчуждение человека в деревне не только по вине города, то есть пишет о современном человеке в гораздо более общем и широком значении» (выделено А. Битовым) [с. 6]. В «Покрове» сильны «деревенские мотивы» — и оттаявшая прошлогодняя трава у стены соседского сарая, и сам мудрый старик-сосед, возы с сеном, пастьба коров, лес, запахи. Однако представляется, что важнее для писателя физическое ощущение времени. Андрей Битов в своей статье пишет и о том, что «Сотников, как художник, занят больше всего самой трудной для изображения… категорией времени». «Покров»: «Однажды, читая книгу, где одно лишь упоминание об окне заставило его подслушивать с улицы разговор героев с неразличимыми в мерцании свечи лицами, — он почувствовал, что еще кто-то смотрит на этот свет из противоположного окну угла, и как только подумал об этом странном, вдруг возникшем свидетеле — вспомнил мгновенно, как читал эту книгу прежде и смотрел тогда на пламя свечи оттуда, где и почудилось ему сейчас чье-то присутствие» [с. 118]. Писателю здесь удается словно сгустить время, сделать его подвластным прямому ощущению. Во всяком случае, его можно если не пощупать, то ощутить протекающим сквозь читателя по воле автора — в одну сторону, в противоположную, и в настоящем оно течет не застывая. «И он с жалостью вспоминал траву, росшую у забора, шелестящие на березке листья. Казалось, что все это было только однажды и, если не вспоминать, лето уже никогда не повторится. Он смотрел на картинки, редко встречавшиеся в книгах, — там были нарисованы зеленые деревья, голубые речки, пестрые цветы, — и картинки эти вызывали жалость, как ненужные истертые кубики, с трудом удерживающие в себе память о радости первых игрушечных домиков» [с. 87]. У Владимира Сотникова есть распространенные в новой литературе моменты полного и безысходного отчаяния, чувства своего рода беспомощности. В новелле «Горе» из третьей части книги № 1 (1) 2011 39 Сергей ШУЛАКОВ То, что удивляе и пугает СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР к бабушке — именно это слово употребляет автор — Пёкле приехала дочь Манька, к вечеру напилась и стала бить мать, сломала ей руку. Бабушка сидит на лавке, рука замотана какими-то тряпками, плачет: «— А мои деточки, а родненькие, а отдайте мне руку, а что ж мне делать?..» Через абзац: «— А на что ж вы ее забрали, а что ж мне делать…» И снова: «“А что ж мне делать… А отдайте мне руку, а деточки…” Я слушал-слушал и пошел в дом… Мне обидно было, что я на все смотрю и не могу себя увидеть провинившимся. Как будто со стороны все вижу» [с. 224–226]. Здесь виден еще и надрыв «деревенщиков». Видна и православная символика, почти по Алексею Варламову: «Вся церковь, несмотря на эти щели, на высохшую краску, местами оголившую дерево стен, выглядела на чистом посреди деревьев месте крепко и надежно… И даже замок, глядящий под ноги черным одиноким глазом, подтверждал сразу возникшее чувство: казалось, кто-то есть внутри церкви, слился с молчанием, хранимым под куполом…» [с. 108]. Конечно, привлекательность прозы Владимира Сотникова не в старых и новых направлениях и формах, а в том, чтобы осмелиться писать потому, что льется из души. Писатель не изображает жизнь такой, как есть, ни какой хочется, чтоб была, он исследует иллюзию времени, не случайно Андрей Битов нашел в этой прозе «наличие Пруста» [с. 6]. То, что повествование ведется от третьего лица, придает тексту не отстраненность, но трагическую раздвоенность. Сквозь нее читатель вместе с автором воспринимает острейшие психологические наблюдения-переживания, порой так точно соответствующие собственным, как будто некто прокрался в тщательно оберегаемые закоулки личного душевного пространства, — неподготовленный читатель может захлопнуть книжку, словно обжегшись. Здесь нет исторического и политического времени, только частная жизнь ребенка, его родителей, изредка наиболее мощно врезавшихся в память соседей. И феномен, выразимся так, «острой памяти», в медицинском смысле понятия острой боли, раскрывается: для некоторых память — ровно та же жизнь, ничем не отличающаяся от повседневной реальной. В отличие от Владимира Сотникова, Александр Иличевский, похоже, ставит перед собой более обширные задачи. Заявка, как обычно в случаях с этим автором, поражает воображение. Поначалу все в объемном романе «Перс» подводит к мысли о том, что Иличевский вознамерился ответить на все вопросы современной русской литературы. Решить проблему отсутствия / новизны героя, ответить на вопрос о связи письма с социальной реальностью и, в этом контексте, автобиографичности в прозе, о старых и новых формах, о взгляде художника, о правых и неправых, о жизни как инерции болезненного угасания — или поиске 40 ЛАМПА И ДЫМОХОД бессмертия. Будучи физиком-теоретиком (в 1993 году окончил Московский физико-технический институт), Александр Иличевский продолжает экспериментировать. Герой «Перса» не то чтобы один и раздвоен и не то чтобы их двое. «Я» — молодой геофизик, выросший в поселке нефтяников близ Баку, вынужденно и по склонностям не имеющий Родины скиталец, проживающий в основном в США, работающий на нефтяных платформах по всему миру. Нефти и нефтяному трейдерству посвящены обширные куски более чем 600-страничного романа. Вообще Иличевский не экономит места, каждую частность разрабатывает подробно, например, обстоятельства службы отставного американского морпеха в качестве начальника склада военной базы в Азербайджане. Друг детства героя Хашем — перс, он горбат. Отец Хашема служил в САВАК — «“Сазаман-е амният-е ва эттелаат-е кешвар” — Государственная организация безопасности и информации» [с. 110], службе безопасности шаха Ирана. Отец был убит во время исламской революции, после которой в Иране воцарились муллы, мать с родней бежали в СССР — ближе всего было. Мать от горя повредилась рассудком, сын-горбун Хашем учился в нормальной советской азербайджанской школе, где сошелся с другим подростком, сыном русского нефтяника. Они увлечены случайно найденной книжкой без обложки, в которую «мы с Хашемом, маленьким горбуном Хашемкой — играли шестой и седьмой классы напролет: это история адмирала тюльпанов Кееса и его друга — эксцентричного мнимого горбуна Караколя» [с. 45]. Здесь автор имеет в виду книгу Константина Сергиенко «Кеес Адмирал Тюльпанов. Опасные и забавные приключения юного лейденца, а также его друзей, рассказанные без хвастовства и утайки», впервые вышедшую в 1975 году, один из ее героев — притворяющийся горбуном Караколь — и герою Иличевского не обидно. Надо заметить, что, как и в случае с другими литературными произведениями, «участвующими» в сюжете, автор их не называет, предоставляя читателю догадываться обо всем самому, например, упоминая «Розенкранц и Гильдерстерн мертвы» Тома Стопарда, куда ж без него. Но указывает «Доски судьбы» Велимира Хлебникова, ставшего еще одним увлечением подростков благодаря руководителю школьного самодеятельного театра. Вернувшись в места, где провел детство, герой обнаруживает самую душераздирающую картину провинции недавно обретшего независимость Азербайджана. Он занят не то чтобы тайными, но неофициальными поисками Универсального общего предка. «Все живые организмы, существующие на планете, происходят от некоторого небольшого сообщества микроорганизмов, которые когда-то активно обменивались генами… Данного предполагаемого общего предка всего живого назвали — Last Universal Common № 1 (1) 2011 41 Сергей ШУЛАКОВ То, что удивляе и пугает СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР Ansesnjr… LUCA. Лука… жил более четырех миллиардов лет назад» [с. 64]. Это уводит повествование к обширным рассуждениям о том, что Бог имеет эволюцию своим инструментом, что любовь — реакция, заставляющая организм стремиться к обмену генами… Хашем сделался предводителем секты, формально — главным егерем заповедника. Секта именуется Апшеронским полком имени Велимира Хлебникова — его недолгому путешествию по Персии в романе уделено много места, включены крупные цитаты. А также большой верлибр, к нему сноска: свободное переложение повести Ниджата Мамедова, поэта, переводчика и прозаика, «… Покойная сила мертвых душ волновала мои мысли…» [с. 296], в таком роде. Тюремная фотография Мандельштама и пафос: «Посмотрите на его губы. На его глаза. Он просит жить. Страна, убившая и сожравшая свой собственный язык, заслуживает вечного проклятия» [с. 315]. Подробная история Бакинских комиссаров. Известные похождения Якова Блюмкина. Соображения о Степане Разине в Персии… В глазах и мозгах начинает рябить, от вычленения признаков постмодерна скатываешься к нервным мыслям о методе «вали все в кучу, выйдет интеллектуальное чтение». Апшеронский полк — базирующаяся в первобытной степи заповедника религиозно-философская группа в разной степени ушедших из мира местных егерей, в ней Хашем соединяет традиции действительно существовавшей до революции воинской части и наследие Хлебникова. На старом языческом камне зубилом выбивает Хашем — атлет с почти исправленным горбом и в растаманских дрэдах — свой календарь, «ибо составление календаря для данной конкретной точки земли и есть единственный способ дать Имя ландшафту… Особенным праздником календаря Хашем определил осенний день, в который завершался одному ему известный цикл. Он назначил этот день Судным… День требовал полного раскаяния в совершенных грехах». Радение предполагало изгнание козла отпущения — самого что ни на есть натурального козла — в «приозерную тростниковую тьму» [с. 370] и принесение в жертву козленка, а затем верчение в тройных дервишских юбках. Все это — вполне серьезно, предполагаемое восприятие — интеллектуальная проза. Иногда егеря упрашивали одного своего товарища повыть, он выл по-волчьи, оказывается, время от времени уходил в стаю, жил и охотился с волками. «Вот отчего от Ильхана осенью пахнет мускусом и мочой» [с. 240]. Воззрения Хашема расписаны на десятке страниц, и здесь ощущается не только сюжетная близкая дружба героев, не только их единомыслие, но словно бы слитость воедино. Точка зрения автора и его персонажей мешаются в одно. И, надо отметить, запах серы становится все ощутимее. «Религии ложного сознания — вот чему он объявил войну: орудию подавления сознания, тела, тому, 42 ЛАМПА И ДЫМОХОД чем питается идеальная для возведения империи центробежная мощность власти… Религия меньше всего заботится как о человеке, так и о Боге, ибо через человека воздается служение Богу. Суть религии в диктате, в подчинении, и сам народ — порабощенный рабством планктон — как раз и есть религия, никакого Бога. В нынешних религиях нет диалога с Богом, эпоха пророков давно завершилась» [с. 244]. «Отчего же они считают необязательным отмыться от крови, вернувшись с войны, прежде чем зайти в Храм и праздновать победу? Отчего кровь на руках растерзанных и самих бойцов считается святой? Ведь душой ближнего — или растерзанного дальнего — умываются прихожане! Почему в захваченных этими религиями странах ни карнавала, ни других празднеств-перевертышей — нет освобождения от морока серьезности?.. Отчего от них так воняет смертью, выжженным глазом еретика, только что вспоротой или ободранной парной плотью?» [с. 425]. И оговорочка, перекладывающая ответственность на героя: «Хашем изобличал имперскую сущность религий…» И снова: «Апокалипсис уже наступил…» [с. 447]. Чтобы быть услышанным Богом, «необходимо выйти и отмыться от морока догматики, послушания, посредничества, от власти авторитета… Свободный от всего этого атеист милей всевышнему, чем задавленный жаром веры сектант» [с. 443]. Здесь автор трусит, ничего не называя прямо, но подает это как смелость радикального интеллектуала. «Я хочу найти рай, — говорит Хашем. — Я хочу определить его составляющие… Земная жизнь и есть тот рай и тот ад, который грезится. Следовательно, планета — по такой простой мысли — будет разделена территориально. Рай станет чем-то вроде Америки, куда грешники будут стремиться всеми силами, правдами и неправдами из ада, как стремятся туда бедные люди из стран третьего мира» [с. 441]. «Воскрешение из мертвых — вот конечная задача цивилизации. В эту задачу входит все — и развитие человека, и развитие природы» [с. 442]. Голоса автора различить невозможно, он сплетен из нескольких рассказов, плавно льющихся из разных отправных точек. На 450-й странице появляется великий и ужасный Осама Бен Ладен с подробной, уже в зубах навязшей биографией и неимоверно дорогой ловчей птицей — только в заповеднике Хашема еще обитает куропатка, мясо которой, по восточным поверьям, придает силу и чуть ли не вечную молодость, Хашем разводит и старается сохранить редкий вид… Финал вполне трагический, здесь герою пригодится пробирка с генетическим материалом простейшего биологического организма, всеобщего первого предка, пробирка символизирует бессмертие и неразрывность героев. Кончается же всё это очень, очень плохо, настолько трагично и страшно, что финал можно отнести к самым сильным позициям повествования. № 1 (1) 2011 43 Сергей ШУЛАКОВ То, что удивляе и пугает СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР Однако в попытках поиска нового взгляда автор упирается в уже разработанные формы, и от аллюзий на латиноамериканскую литературу никуда не денешься. Строение сюжета, предполагающее цикличность одновременно с линейностью, с мнимыми развязками. Камлание и шаманизм. Манихейская дихотомия добра и зла. Буквоедский документализм, переплетающийся с самым смелым вымыслом, ориентированным за пределы общепринятой логики. Самореализация героя, возможная только в пограничной — между этим и другим миром — позиции. Его адамическое простодушие и адская упертость. Анималистические образы: «Вы видели когда-нибудь пса, страдающего шизофренией, задумывались ли так, как задумывался до страха и ужаса я, — о том, какие голоса слышит бедный пес…» [с. 31]. Тексты-парадоксы: «Хочу обучиться не вспоминать то, чего не видел», — говорит Хашем [с. 304]. «Это все только сейчас мне ясно, — тогда я в самом деле ничего не понимал или понимал» — это герой о своей юности [с. 332]. «Иногда в Ширване, — делится хмуро Хашем, — видишь то, чего никогда не обнаружишь въяве. То, что никогда не подпустит к себе. Никогда» [с. 437]. Все это воскрешают в памяти ну хоть бы и Маркеса. А тема этники и шире — природы, воздействия на нее человека и ответного воздействия, решенная в несколько шаманизированном ракурсе, уводит в сторону Чингиза Айтматова, его «Пегого пса…». Получается, что о решении актуальных задач говорить рано. Тем не менее «Перс» — чтение некоторым образом увлекательное, оно затягивает не только строением текста, но и языком, длиной и грамматическим несовершенством периодов, обещающих вот уже в следующем подчиненном предложении, на худой конец, в следующем абзаце, яркое и небывалое откровение… О том, что это русская проза, говорят модные языковые игры: «…тектоническое напряжение зрительных слоев, складок не унимаемой, не уминаемой перспективы…» [с. 101] да колониальный аромат: такие словечки как «сейгях» — струнный инструмент, распространенный в Персии, а также вид музыкально-поэтического произведения, — надо бы пояснять. Герои, их признаки, кочуют из одного произведения Иличевского в другое, ваш обозреватель готов привести прямые совпадения. Персонажи всегда девиантны, например в «Матиссе», темы часто бродят из текста в текст («Мистер нефть»). Однако «Перс» и при этих спотыканиях-узнаваниях выделяется мощью сплетения надрывных, всепоглощающих голосов, выдавливающих героев и читателей с территории, где возможно противопоставление жизни и смерти в отдельное пространство, в котором есть лишь какая-то невысказанная и неизбывная печаль. Это становится признаком современной литературы: например, в «Елтышёвых» Романа Сенчина картина столь же безвы- 44 ЛАМПА И ДЫМОХОД ходна, но демонстрируется с социальной позиции — человек угнетен обстоятельствами, принципиально лишен воли к действию. Если кто-то бережет свидетельства, что его жизнь была, если кому-то прошлое дает право и надежду на хоть какое-то существование, то героя Олега Павлова эти квартиры, эта жена и могилы просто топят. Однако ответов на общий вопрос, в чем же дело, нет. Мир против тебя. Такую борьбу не выиграть. Эта общность мироощущения порождает текстовые идентичности. Темы, которые неподвластны автору, врываются в повествование и живут там своей жизнью — развал СССР. Совпадающие образы — сумасшествие у собак. Даже один и тот же лексический прием — « не унимаемый / не уминаемый» у Иличевского и «пересилить / переселить» у Павлова. Поколение сорокалетних выплескивает на книжные страницы свою рефлексию, и от массовости явления становится не по себе. О с ног до головы и с детства интеллектуальных, ни в чем не повинных аутсайдерах — «Насущные нужды умерших» Игоря Сахновского, «Тщеславие» Александра Снегирева… В какой-то мере утешить может лишь то, что каждое поколение в определенный момент кричит, что оно потерянное. № 1 (1) 2011 45 Сергей ШУЛАКОВ То, что удивляе и пугает СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР Евгений Евгеньевич Петропавловский (р. 1962 г.) — писатель, автор пяти художественных книг (два поэтических сборника и три романа). Член Союза российских писателей. В прошлом редактор нескольких кубанских газет. Публиковался в России, США, Германии, Израиле, Украине. ЕЕ ОСЕННИЙ ЗВЕРЬ Евгений ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ Рассказ З вук падающей воды раздражал. Вода лилась на кухне, выбивая из металлической раковины неприятную звенящую ноту. Это продолжалось непрерывно. Уже второй день. Сегодня обещали прислать слесаря из домоуправления, но времени не назначили, поэтому было неизвестно, когда его ждать. А часы показывали четверть третьего, и Анна Федоровна подумала о том, что надо собираться в поликлинику: быстро ведь она не дойдет. Она вздохнула и поднялась со стула. Прошла на кухню и — уже в который раз — попыталась закрутить кран. В результате горячая вода хлынула в раковину под сильным напором, испуская клубы пара и разбрызгиваясь на пол и стену. Анна Федоровна испугалась. Она торопливо прижала кран и, осторожно закручивая его, добилась того, что вода потекла, как прежде, непрекращающейся, но всё же достаточно тонкой струйкой. Она вышла в прихожую. Сняла с вешалки ветхозаветное демисезонное пальто… В груди шевелилась боль. Словно неугомонный зловредный зверёк вгрызался в сердце. «Осенняя депрессия у вас, 46 ЛАМПА И ДЫМОХОД бабушка, — быстро подыскала имя этому зверьку задерганная молодая врачиха в поликлинике, даже толком не выслушав жалобы пациентки. — Ничего страшного. Попейте “Персен форте”. Лекарство хорошее, недорогое. И никакой химии — из травок: валерьянка там, мята и все такое…» Может, для них, молодых, двести рублей — это и недорого. А для скромной пенсии одинокой старухи довольно ощутимая прореха. Всё же Анна Федоровна купила упаковку рекомендованных таблеток и послушно пила их до вчерашнего вечера. Лекарство закончилось, а облегчения никакого. Без нового похода в поликлинику никак не обойтись. Стараясь как можно меньше действовать левой рукой, чтобы не растревожить боль еще сильнее, Анна Федоровна оделась. И, открыв дверь, остановилась на пороге. Ей почудилось, будто она что-то забыла, и теперь надо непременно вспомнить это, забытое, наверняка важное, чтобы потом не возвращаться с полдороги. В последние годы ее стала подводить память. Это началось вскоре после смерти мужа. Она забывала имена и даты, попеременно теряла события, которые лежали на сравнительно близком временном отстоянии; и только давнее, связанное с молодостью, странным образом, словно в насмешку, приобретало в ее сознании все более отчетливые черты… Теперь она зачастую подолгу искала какой-нибудь пустяковый сиюминутный предмет: тщетно силилась вспомнить, куда положила кошелек, нитки или хозяйственную сумку, порой никак не могла найти книгу, которую — она знала точно — еще минуту назад держала в руках. И ничего нельзя было с этим поделать. Анна Федоровна, приложив ладонь к левой стороне груди, стояла на пороге своей квартиры и напрягала память в поисках забытого. И чувствовала свою совершенную беспомощность, поскольку в ее сознании не было ничего, кроме одиночества. А тонкий и неприятный звук падающей воды монотонно доносился из кухни. Или это в ушах у нее звенело, не разобрать. Она протяжно, с усилием, вздохнула. Все в доме разладилось после смерти мужа. Уж он-то не стал бы дожидаться сантехника: что ему стоило справиться с этим проклятым краном — только скажи… Боль не утихала. И Анна Федоровна поняла, что ничего она тут не дождется, только опоздает в поликлинику, поэтому надо идти не мешкая. И, выйдя на лестничную клетку, захлопнула дверь. На улице подмораживало. Лужи затянуло тонкой ледяной коркой, а на поникшей траве газонов и ветвях обступавших тротуар кленов лежал иней. Резкие порывы ветра вздымали с асфальта стайки пожухлой листвы — и с шуршанием кружили их, унося в стынь и неприкаянность. № 1 (1) 2011 47 Евгений ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ Ее осенний зверь СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР Она шла мелкими шажками, внимательно глядя себе под ноги и поминутно останавливаясь, чтобы отдышаться. Слава Богу, до поликлиники было недалеко: половину трамвайной остановки. Но силы быстро покидали ее. Порой Анне Федоровне казалось, что она не дойдет. И тогда хотелось лечь прямо здесь, на холодном щербатом тротуаре, и умереть, чтобы не умножать своих страданий в бесплодной, заведомо обреченной на проигрыш, а потому не имевшей смысла борьбе с этим грузным, одряхлевшим, никуда не годным телом, которое чудилось совершенно чужим и почти не вызывало у нее жалости. У перекрестка она остановилась: горел зеленый свет, но горел он давно, и она не решилась идти, опасаясь быть застигнутой потоком машин посреди дороги. А мимо пробегали ребятишки, захваченные какими-то своими, оторванными от этой улицы и от этого текученеостановимого людского потока, мыслями, шагали отчужденноторопливые женщины с бесформенными сумками в руках и привычным выражением упрямой и злой озабоченности на лицах. Как некрасивы были люди, как далеки от нее сейчас! Анна Федоровна поймала себя на этой мысли и огорчилась. Разве можно винить людей в том, что жизнь замотала, закрутила, обложила их со всех сторон заботами, и надо непрерывно спешить куда-то, и некогда оглянуться по сторонам, подумать о тех, кто находится рядом, — о тех, кому в эту минуту плохо… Где уж им заметить, что — вот она, одинокая, старая, стоит, тяжело опираясь рукой о решетку ограждения тротуара… Зеленый сигнал светофора сменился красным. Скопившиеся у перекрестка автомобили ринулись вперед ревущими волнами, волоча за собой призрачно расплывавшиеся во все стороны облака едкой гари. Просто она никуда не торопится — так, наверное, казалось окружающим. Да и чего она хотела? Чтобы кто-нибудь из прохожих заговорил с ней? Но что бы она сказала? Попросила бы помочь ей добраться до поликлиники? У людей и своих забот хватает. Жаль, конечно, что у нее нет детей. Хотя сейчас она была бы для них обузой. Кому приятно возиться с больной старухой. Очередной порыв ветра рванул полы ее пальто. Она поправила пуховый платок, сделав это машинально, поскольку холода не ощущала: сейчас ею владел только этот растущий, жестокий, без спроса угнездившийся в груди зверь, от которого не было спасения. Ох, соврала молодая терапевтичка! Не пожелала возиться с безденежной бабкой — вот и отмахнулась, списав ее недосказанные жалобы на сезонную хандру… Впрочем, осенью одиночество действительно ощущается острее, как же тут не барахлить изношенному сердцу. Вот и получается, что с возрастом одиночество и боль всё реже разлучаются друг с другом… 48 ЛАМПА И ДЫМОХОД Наконец, на светофоре снова зажегся зеленый огонек. Трудно было предположить, что заставить себя продолжить путь будет стоить таких усилий. Всё же она успела добраться до противоположной стороны улицы, прежде чем новый автомобильный поток хлынул через перекресток. Теперь до поликлиники было рукой подать. Всего квартал — разве это расстояние. Так думала она, подбадривая себя. Но силы таяли с каждой минутой. Она шагала автоматически, словно заведенная, стараясь, чтобы движения перетекали из одного в другое размеренно и экономно. Казалось, стоит сделать остановку еще хотя бы раз — и ноги откажутся повиноваться, сдадутся переполнявшей их чугунной тяжести, прирастут к асфальту. Ветер то ослабевал, то возобновлялся с порывистой яростью. Он швырял Анне Федоровне в лицо сбитую с ветвей деревьев ледяную пыльцу, раскачивал провода и струил мимо стен девятиэтажек вперемешку с рыжей листвой невесть из каких щелей выметенные фантики от конфет и жевательной резинки, смятые трамвайные и троллейбусные билеты, обрывки газет и похожие на медуз прозрачные тела целлофановых пакетов… И — казалось бы, стихнув, заплутав в скрещениях узких боковых улочек, — внезапно с удвоенным остервенением бил в спину, метался из стороны в сторону, гудел злобно и ненавистливо. Так, будто у него имелся к Анне Федоровне свой давний, затаенный, непоправимый счет. А она шла, согнувшись, стараясь сжаться в комок, и ее нисколько не заботило то, что вся ее грузная фигура в результате этих стараний приобрела нелепый, гротескный вид. Ее мысли переполняло иное, горькое и жгучее. Это была обида. Непонятным образом возникнув, она ширилась, хотя вроде бы и не существовало для нее особых причин. Да и не в характере Анны Федоровны это было — обижаться. Окружающие всегда считали ее безропотным человеком. И нельзя сказать, что к тому не имелось оснований. Судьба не баловала ее с самого начала. Отец погиб на фронте. Мать подолгу болела, и жили они вдвоем скудно даже по тем нелегким временам. Поэтому после окончания восьмилетки не видела она иной дороги, кроме как на завод. Работала сборщицей электроприборов на конвейере. Не сказать чтобы очень нравилось, зато спокойно, и зарплата для женщины вполне приличная. А это, она понимала, самое главное, поскольку мать вскоре слегла, и за ней, парализованной, требовался уход, и продукты были нужны, и лекарства, о которых только говорилось, что они при социализме дешевые, а на самом деле попробуй-ка достань, да еще по врачам помыкайся, и каждому — дай. И за уколы медсестре — то коробку конфет, то цветы, то шоколадку в знак благодарности… это, между прочим, не считая денег — не то обидится и ходить на дом перестанет: где ее, новую, найдешь? № 1 (1) 2011 49 Евгений ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ Ее осенний зверь СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР Впрочем, были у нее и радости. Но все по мелочам как-то. Были и подруги. Правда, развела их, молодых, жизнь в разные стороны: девчонки повыскакивали замуж, разъехались по стране. Одна только и осталась Вера Кузьмина, но той сейчас не до нее: мыкается, бедняга, с дочерью-наркоманкой — своих бед хватает, куда ей еще под чужое одиночество плечо подставлять. Была и любовь. Вспыхнула, внезапная, опалила девичье сердце, да и улетела в далекий северный край, сгинула, оставив пепел в душе… Да и что это было: любовь ли, молодая ли глупость, — кто теперь разберет: прогуляла, прокружилась сумасшедший летний месяц с парнем, который казался ей тогда дороже всех на свете, а потом… Потом его арестовали. И на суде она услышала страшные вещи. О том, что он грабитель, и что была у них целая преступная группа, и что занимались они своим нечистым промыслом много лет. Сердце не хотело верить. Но вспомнились ей тогда вечера в ресторанах, и щедрость ее возлюбленного, и его пренебрежительное отношение к людям, денег не имеющим, казавшееся ей до поры лишь бравадой, беззаботной удалью молодого, не битого судьбой человека, а теперь представшее в новом, беспощадном свете. И оборвалось что-то у нее внутри. Вот когда начала она понимать, что такое настоящее одиночество. А потом потекли годы. Серые и монотонные. В ежедневных тягуче-однообразных хлопотах. Без радости, без надежды. Даже одеваться она стала бесцветно. И ходила с постоянно опущенным взглядом. Казалось: все знают о ее несчастье, осуждают, отгораживаются от нее, неудачливой… Лишь много позже она поняла, что это было не осуждение, а, скорее, жалость — да как тут подойдешь к девушке, чем ей поможешь; ведь того, что случилось, никому не дано исправить. А потом умерла мама. И существование вообще потеряло для нее смысл. …Но все-таки счастье улыбнулось. Неяркое, неторопливое, когда жизнь уже добралась до середины четвертого десятка — оно пришло после встречи с Михаилом. Его назначили мастером к ней на участок. Три года они работали вместе, а их чувства, робко и нерешительно разгоравшиеся, торили двум сердцам дорожку друг к другу. Казалось, никогда не посмеет она ответить согласием на его предложение. Однако судьба привела их к тому, что было предначертано, и Анна Федоровна всегда будет благодарна ей за те полтора десятка дет, которые были озарены тихим светом ее счастья… Единственное вот: детей у них не получилось. Но здесь винить некого. При таком позднем замужестве откуда им взяться, детям? 50 ЛАМПА И ДЫМОХОД Одиночество… Со страшной силой навалилось оно на Анну Федоровну после того, как умер Михаил. С тех пор вся ее жизнь — сплошная осенняя депрессия… И никакими лекарствами здесь не поможешь. Мысли путались, ускользали верткими холодными змейками. А тут и белокирпичная коробка поликлиники надвинулась на нее сразу из-за поворота. И тотчас всё ее внимание поглотило старание пройти короткую аллею, пролегавшую между двух усеянных бумажным мусором цветочных клумб, не упав, добраться до знакомой стеклянной двери с массивными железными ручками. Прошлое, настоящее и будущее для нее как бы сжались, сконцентрировались в том пятиминутном отрезке времени, который заняла завершающая часть пути… И Анна Федоровна даже удивилась, когда, очнувшись от этого состояния болезненной целеустремленности, будто со стороны увидела себя посреди лестничного пролета, ведущего на второй этаж. И потом еще больше удивилась, очутившись перед дверью своего участкового терапевта. Однако сознание работало вяло, отчего даже удивление вышло бледным — каким-то отстраненным и чужим. Перед кабинетом терапевта, как обычно, собралась длинная очередь, путаная, без начала и конца. Большой враждебно-молчаливый узел утомленных человеческих ожиданий. Она взялась за ручку двери. Женщины задиристо завозмущались. Бодрый сухощавый старичок с орденскими планками на груди даже попытался схватить ее за рукав пальто. Но Анна Федоровна, чувствуя, что ее покидают последние силы, не стала вступать в пререкания, не стала ничего объяснять и оправдываться: она просто открыла дверь и вошла. В кабинете за столом сидела все та же молодая женщина-врач с равнодушным, точно взятым напрокат лицом. Перед ней, на стуле — мужчина средних лет. Он удивленно взглянул на вошедшую. — Подождите минутку, пока я освобожусь, — сказала терапевтесса, недовольно забарабанив по крышке стола ногтями с яркоалым маникюром. — Видите, у меня пациент! — Мне плохо, — сказала Анна Федоровна. Женщина оторвала взгляд от разложенных на столе бумаг и несколько секунд молчала, словно в ней боролись противоречивые побуждения. Потом спросила: — Фамилия? — Савченко, — ответила Анна Федоровна. Врач быстро просмотрела стопку амбулаторных карт: — Здесь нет вашей карточки. Анна Федоровна прислонилась к стене и тихо сказала: — Я брала утром талон… Терапевт поморщилась, потом вымученно улыбнулась: № 1 (1) 2011 51 Евгений ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ Ее осенний зверь СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР — Но — вы же понимаете — без амбулаторной карты я не могу… Вероятно, из регистратуры забыли принести. Сходите, возьмите ее — я вас приму. Сидевший на стуле мужчина отвернулся. Врач снова озабоченно склонилась над своими бумагами. Анна Федоровна, немного помедлив, заставила себя оторваться от стены. И вышла из кабинета. — Вот и выгнали, вот и правильно, — злорадно бросила из очереди широконосая старушонка с пышным париком на голове. — А то ходют без очереди кобылицы, понимаешь, хворыми прикидуются. А как из магазину — так полны сумки тащщут! — Поразвелось хитрожопых, — хмуро добавил молодой парень в синей спецовке. — Тут не знаешь, как с работы на два часа отпроситься, а они все лезут и лезут. Как будто другого времени нет. Коридор казался бесконечным. Анна Федоровна уже почти дошла до лестницы, когда ее вдруг затошнило. «Где-то на этаже должен быть туалет, — вспомнилось ей. — Только бы до него добраться. Только бы не упасть». И снова — долгий путь, теперь в другой конец коридора. А в туалете — бьющий в нос резкий запах хлорки. И очередь в единственную незаколоченную кабинку. Она склонилась над раковиной, и ее вырвало. Вода из крана не лилась, и смыть рвоту было нечем. Боль, на короткое время слегка поутихшая, вдруг снова впилась в сердце, отдавая в плечо и в руку. Анна Федоровна охнула и, покачнувшись, оперлась о стену. К ней подалась было стоявшая в очереди перед туалетной кабинкой девушка, но другая — вероятно, ее подруга — схватила девушку за плечи и торопливо зашептала той что-то на ухо. Мысль о том, что она может упасть здесь, в этом хлорированном смраде, на грязный заплеванный пол, казалась омерзительной. И Анна Федоровна, совершив над собой усилие, опять заставила себя тронуться с места. Она двигалась как в тумане. Ноги подгибались. Люди и окружающие предметы расплывались перед глазами. …У окошка регистратуры — новая очередь. Однако то ли вид Анны Федоровны достаточно красноречиво выдавал ее состояние, то ли очередь здесь оказалась терпимее, чем та, первая, перед кабинетом терапевта, — на сей раз ее пропустили без скандала. — Амбулаторная карта? — переспросила хрупкая белокурая девушка. — Савченко? Сейчас посмотрю. И упорхнула. Через минуту ее миловидное личико вновь появилось в проеме регистраторского окошка: — Вы вчера были у окулиста? — Да, — с заминкой ответила Анна Федоровна. — Была. 52 ЛАМПА И ДЫМОХОД — Правильно, — удовлетворенно кивнула девушка. — Значит, ваша карта там. Сходите, заберите ее. И сюда можете не заносить, сразу отправляйтесь к терапевту. — Но я… — сказала Анна Федоровна, — мне… А ее уже оттеснили от окошка, и взгляды стоявших в очереди опять устремились на белокурую регистраторшу. — Мне плохо… — непослушными губами прошептала Анна Федоровна. Никто ее не услышал. Она стояла посреди просторного светлого холла. А люди торопливо сновали мимо. Каждый сам по себе. Каждого занимала своя боль. И никто не обращал внимания на нее, грузную старуху, пытавшуюся удержать руками рвущееся из груди сердце. Внезапно что-то изменилось. И она поняла, что именно: ей стало всё равно. Необычайное безразличие овладело ее сознанием. Кабинет окулиста находился на третьем этаже. Она направилась к лестнице. Покорно, слепо, почти ничего не различая перед собой. Сделала несколько шагов — и тут невидимый зверь, которому надоело сдерживаться, сомкнул, наконец, свои челюсти. Невыносимая боль пронзила ей сердце. Она охнула. И, вытянув вперед руки, тяжело упала на пол. Где-то вдалеке послышался женский крик — протяжный, постепенно переходящий в нескончаемо затихающий контрапункт всех неозвученных событий и возможностей, в гулкий кровеносный прибой, в топот ног, в невообразимую мешанину звуков, сквозь которую едва прорывались голоса: — Женщине плохо! — Позовите врача! — Скорее, кто-нибудь! — Онапотеряласознаниеврачаврачаскорееженщинеплохо… Потом ее поднимали, перекладывали на носилки, куда-то несли. А безжалостные клыки зверя продолжали разрывать левую половину ее груди на части. Она ничего не видела; ее о чем-то спрашивали, сердито и настойчиво, но она не понимала, о чем; над ней склонялись люди в белых халатах; а ей хотелось покоя; она желала абсолютного, беспросветного, холодного мрака, в котором можно было бы спрятаться от боли, и она звала его: звала, не открывая глаз, не распечатывая губ; а мрак всё не приходил, и люди в белых халатах не отпускали ее тело, непрерывно производя над ним какие-то суетливые, бессмысленные, муторные манипуляции, которые не дарили облегчения, не приносили ничего, кроме дополнительных мучений. Белые фигуры расплывчато отдалялись, она не видела, но чувствовала их; они отдалялись, однако всё никак не хотели отпускать ее. Они переговаривались между собой короткими отрывистыми фразами, которые были непонятны. И только № 1 (1) 2011 53 Евгений ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ Ее осенний зверь СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР одно, привнесенное извне, легло на слух, и хотя не дошло до сознания, но было в нем нечто знакомое: «инфаркт»… оно тотчас оказалось отброшенным, поскольку не давало ничего усталому телу, а сознание ни в чем более не нуждалось, потому что в сердце всё глубже и глубже проникали клыки этого ненасытного, неотвязного, безжалостного зверя… А потом вдруг словно что-то вспыхнуло у нее мозгу, и она поняла, что надо сделать лишь небольшое усилие — и боль пройдет; и станет явью то, что медленно надвигается и светит впереди… Едва уловимое усилие — сквозь голоса, сквозь руки, глаза и иглы этих равнодушно-деловитых людей, сквозь боль, сквозь непонимание и одиночество — навстречу зверю, который на самом деле вовсе не враг ей, не враг, не враг, поскольку нет у нее никого ближе, поскольку он — единственный, кто может забрать ее отсюда. И она сделала это усилие. И тогда всё прошло. Настали тишина и мрак. Мрак и пустота. Они были освобождением — легким, очищающим. И прекрасным. Ибо если человек не находит в жизни милосердия, то в смерти, слава Богу, оно есть всегда. ПРИТЧИ Прошлое, уходящее в сказку. И немного музыки… Было так: маленький сверчок играл на скрипке, и дом полнился ее волшебными звуками… Старый домовой прозрачно сидел в углу и, подперев ладонью щеку, мечтательно глядел сквозь стену в ему одному понятную даль. Мимо струилось незаметное время; а под потолком плыли пронзительные облака… Но недавно дом снесли. А в новой квартире тихо. Лишь изредка из прохудившегося крана капает вода. И по ночам ревет, надсаживаясь, какое-то существо в трубах, не зная, как оттуда выбраться… Так всегда в жизни: если в одном месте прибавляется, то в другом убывает, обретения не обходятся без потерь, и только одно неизменно — грусть по прошедшему, которое рано или поздно обязательно превращается в сказку… 54 ЛАМПА И ДЫМОХОД Парус над волнами Евгений Большой, похожий на гордую птицу корабль плывет сквозь шторм. Он отчаянно борется со стихией, то вздымаясь на гребнях волн, то соскальзывая вниз и едва не погружаясь в гибельную пучину. Когда корабль достигнет берега, всё изменится. Станет ясно, что его океан — это всего лишь наполненная водой ванна; а бурю делает мальчишка, с беззаботной улыбкой взбалтывая воду рукой. Но сейчас команда этого не знает. И парусник из последних сил плывет сквозь шторм. Потому что настоящее и ненастоящее — это две стороны одной медали; одно переходит в другое; а наше понимание истины зависит от того, какой стороной она поворачивается в тот момент, когда мы находимся на гребне волны… Крысиная осень Когда пожелтели страницы никем не прочитанной книги, наступила последняя осень в ее жизни. Книга хотела принести хоть немного пользы миру, породившему ее, поэтому она умерла, рассыпав бесплотные тени печатных знаков, и вскормила больших жирных крыс. Крысы были очень довольны. Они шевелили усами, приговаривая: — Какая хорошая книга! — Какая вкусная книга! — Да-а-а… Осень — время сбора урожая! Однако не стоит винить их в чем-либо, ведь крысы позволили книге исполнить свое предназначение — пусть оно и оказалось столь неожиданным. Всякая сущность воплощается именно так, как ей надлежит, и нет под небесами ничего бесполезного. Тень Фонари — близорукие тени ушедшего солнца — провожают взглядами грязную лохматую бездомную собаку, понуро бредущую по пустыне ночной улицы. Собака не замечает их, как не замечает и меня, наблюдающего за ней из окна. Ей не нужен хозяин. Она давно разучилась мечтать о том, чтобы стать чьей-то тенью. А я представляю себе одинокого человека, который сейчас мается своей неприкаянностью, потому что у него нет тени; и думаю о том, что если сложить все одиночества мира, то их число наверняка будет кратно двум. № 1 (1) 2011 55 ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ Притчи СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР СВЕТЛАНА Наталья ВАСИЛЬЕВА, Юлия НАУМОВА Рассказ –В станьте, дети, встаньте в круг, — весело напевало расстроенное фортепиано. Детсадовцы с сосредоточенными личиками перестраивались в кружки, поглядывая на воспитательницу. Света закончила играть, бережно закрыла крышку инструмента и с улыбкой оглянулась на стайку малышей. В груди привычно заныла старая рана. Взять бы сейчас за ручку этакую кроху и отвести домой. Мягко покачиваясь, поплыли бессонными ночами выдуманные до мельчайших деталей картинки: Света идет по улице с маленькой девочкой в огромных белых бантах, они заходят в «Детский мир», покупают куклу. Девочка, сияя глазенками, смотрит восторженно: «Это мне, мама?» Мама… Как нестерпимо хочется, чтобы ее так назвали… Доктора не видят никаких препятствий, так почему же, почему?.. Света достала из кармана чистый носовой платок и вытерла нос стоящему рядом с инструментом Никитке. Легко поднялась со стула, направилась к выходу, по пути взъерошила челку Танюше. Попрощалась с воспитателем. В раздевалке критически оглядела заклеенные вчера «Супер-Моментом» сапоги. Махнула рукой: «Потянут!» И вышла в февральское утро. 56 ЛАМПА И ДЫМОХОД На улице, как всегда, непривычно тихо после шума многочисленных голосов и топота маленьких ножек. Когда-то она сама ходила в этот детсад. Улыбалась доверчиво, никогда не опуская огромных глаз. Теперь она другая. Настолько другая, что не верится самой. Неужели это она, Света, Светлячок, как называл ее папа, совсем недавно сидела в зале суда и, низко опустив голову, слушала, как зачитывают приговор? В серой зэковской одежде корпела за швейной машинкой, строчила грубую ткань спецовок. Она. Папа души не чаял в дочке, каждую свободную минутку уделял ей. Свете так нравилось, когда зимой папа привозил ее в садик на санках. Полусонную, укутанную в огромный синий шарф, на руках нес в раздевалку. Тормошил, целуя в румяную с мороза щечку: «Света, Светочка!» Светочка… Папуля, как же далеко ты теперь. Я не видела тебя неживым, и все жду твоих шагов у порога. Так хочется почувствовать себя крошечной девочкой, слушать сладкую музыку слов: «Доча, Светочка…» Лучшая ученица в классе, гордость музыкальной школы. Ее стихи печатали в местной газете, а незатейливые мелодии, которые она сочиняла лет с восьми, напевала вся улица. Мир был веселым хороводом, в котором всегда находилось место и для нее. Уютный, каждым гвоздиком в стене любимый дом, мама с перепачканными мукой руками, отец, вечно что-то строгающий на самодельном станке, смешной карапуз братишка Санька — самый любимый на свете человечек. А потом… — Не думать, не думать, — приказала себе Света, ускорив шаг. Прошлое часто приходило к ней в самый неподходящий момент. Вот и теперь — по дороге домой. Она заставила реальность вернуться, вспомнила о намеченных делах и зашла в продмаг. Тут же об этом пожалела. За прилавком Женькина жена, видимо, ее смена. Уйти бы, но теперь поздно. Высокая шатенка уже нацелила на Светлану недобрый прищур. Ей рассказали о том, что муженек вовсе не на рыбалке проводит долгие вечера и ночки. Взглянуть на разлучницу обманутой жене хотелось не первую неделю, и вот он, нужный случай. Света направилась к соседнему прилавку, но Женькина жена, как занавеску отодвинув напарницу, подошла и с вызовом посмотрела прямо в глаза. — Покупать что-то будем? Или так возьмем? Без денег, даром? Тебе же не привыкать чужое брать. Что мужиков женатых, что товар в магазине! Она говорила громко. Люди оборачивались, с любопытством глядели в их сторону. — Ира, не нужно скандала, прошу вас, — тихо проговорила Света. № 1 (1) 2011 57 Наталья ВАСИЛЬЕВА, Юлия НАУМОВА Светлана СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР — Не нужно скандала? Ах ты, стерва! Шлюха! Вон пошла! А то еще пропадет что с прилавка! Уголовница! Света шла по снежной каше и уже не видела дороги. Уголовница! Конечно, для всех она просто уголовница. Что вы знаете обо мне? Что вы знаете? Тяжело ступая, вошла в дом, скинула пальто, сапоги, направилась к умывальнику. Потянулась за мылом. Стеклянная ручка на дверце шкафчика вдруг, как елочная игрушка, хрупнула в руке. Боль обожгла ладонь, красным облачком выступила кровь. В висках застучало… Бух, бух… Как тогда… Света снова сидит на мягком диванчике, от обилия зеркал и музыки голова идет кругом. Впервые выпитое шампанское кружит, смешит, тянет танцевать… Так непривычно. Зачем она пошла с девчонками? Можно было и не отмечать окончание учебного года, подумаешь, первый курс музыкального училища. Света глупо смеется, когда за стол подсаживаются взрослые мужчины, никак не может запомнить их имена. Замечает, как один подливает водки в бокалы с шампанским, но отчего-то не одергивает его. Потом какая-то машина, и Света все силится сказать адрес общежития, но ее никто не слушает. Темнота. Тяжелый молот бьет в голове: бух, бух… Света открывает глаза. Размазанные по темному блеклые пятна пляшут и кружатся перед ней. Какие-то звуки, слова, она ничего не понимает… Грубые руки. Несвежее дыхание. Запах чужого пота. Удивленное: «О, да ты еще девочка!»… Отвратительный смех… «Э, Кирюха, ты следующий!»… Боль… «Черт возьми, мужики, да так она у нас кровью изойдет! Антон, вези ее поближе к больнице, сгрузим где-нибудь на скамейке…» Много крови, ноги, одежда, даже ладони, все в красных разводах… Лица, лица, белые халаты… «Эк они тебя, девонька, надо бы заявление в милицию…» «Позже, Владислав Михалыч, вот придет в себя…» Темнота… А потом — вот он, лучик света, нестерпимо режет глаза, и не скроешься от него, не заслонишься непослушной ладонью. Немилосердная память воскрешает все… Свете хочется бежать что есть сил. Она шевелится. Тело немедленно отзывается тягучей болью. Незаметно оглядывается: в палате на шесть коек занято три места. На одном — она сама. Рядом спит женщина, старушка напротив что-то ест. Скосила взгляд на тумбочку — в граненом стакане поблескивает градусник. Света протягивает руку, тяжелую, как бетонная плита. Берет градусник, кладет в рот, старательно пережевывает тонкое стекло. В уши врезается истошный крик бабки: «Доктор! Доктор!»… С той поры Светлана видеть не может кровь. Почему это сейчас вспомнилось? Ведь столько раз говорила сама себе: забудь! Сожгла старый дневник, даже фотографии 58 ЛАМПА И ДЫМОХОД себя, тогдашней, выбросила, но вот прорастает затоптанное, казалось бы, прошлое. И нет от него спасения. Света тряхнула головой, отгоняя наваждение, и принялась искать в аптечке пластырь — заклеить ранку. Приготовила ужин. О, вот и знакомый скрип калитки: Санька пришел. Стоит на пороге, улыбаясь сестре. Света, как всегда, поцеловала небритую щеку. Господи, ему уже 23 года, а ей все кажется, что он совсем малыш. Встречается с девушкой, похоже, не на шутку влюблен, а Светка в магазине все еще выбирает халву — любимое его детское лакомство. Уже несколько раз заводил Саня разговор о своей женитьбе. Светка все переводит в шутку, а ночами не спится — все думает, как же так, уйдет он в новую семью, оставив ее совсем-совсем одну. Женька не в счет. Как бы долго ни засиживался он, каких бы сладких слов ни говорил, а возвращается-таки домой. Света провожает его, зябко кутаясь в старый мамин халат, а потом до утра не спит, наполняя пепельницу окурками и изводя кучу бумаги на черновики стихов. Сама себе удивляется: столько бед перенесла она по вине мужчин, но так и не смогла разувериться — всякий раз влюбляется без памяти, забывая про все даваемые себе обеты. И всякий раз разбивается вдребезги, а потом долго и мучительно собирает себя из осколков. Вот собрала, встала на ноги, и вроде бы все, хватит. Так нет же, бросается очертя голову в очередную любовь. А любит Светка всегда до полного самозабвения. И не помогает опомниться холодный душ прошлых ошибок. Так в свое время и полюбила мужа своего единственного. Сейчас остался от него лишь блокнот, исписанный стихами в его честь, да фамилия в паспорте. После той страшной ночи восемнадцатилетняя Света долго ощущала себя непоправимо грязной. Мылась, мылась постоянно, стараясь насовсем стереть с кожи те прикосновения. Не помогало. Идет, бывало, по улице и о каждом встречном думает: «Знает. Знает и осуждает. И пусть смеется, поделом! Сама ведь виновата…» А он, Валерка, говорил, что не виновата она ни в чем. И ее, такую «грязную», не брезговал целовать, ласковыми словами называл. И понеслась Светланка в загс, наплевав и на материны советы, и на разницу в возрасте в 20 лет, и на то, что жених сидел когда-то за мошенничество. Как на крыльях летала. Где бы ни была: в автобусе ли, в магазине, в училище, — так и норовила руку с обручальным кольцом напоказ выставить: смотрите все, меня любят! Валерку Света обожала. Слушалась беспрекословно. Нельзя юбки короткие? Наденет макси. Не нужно косметикой пользоваться? Косметичка летит на шкаф, с глаз долой. В его дела не лезла. Даже когда в доме стали появляться пухлые сумки с импортными шмотками, вопросов не задавала. Валера сам ей рассказал однажды, что фарцует помаленьку — а как же, денежка нужна, на море № 1 (1) 2011 59 Наталья ВАСИЛЬЕВА, Юлия НАУМОВА Светлана СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР скоро поедем, свадебное путешествие устроим, пусть с запозданием, но зато какое шикарное! А если и вдвоем возьмемся, то через пару месяцев будем как белые люди жить в гостинице «Жемчужина», кататься на катере… Конечно, она поможет. И помогала. В училище заграничные тряпки шли на ура. Сначала одногруппницы, а потом и преподавательницы стали пользоваться услугами Светкиного магазина с доставкой. За фарцовку поймали Валеру. Он успел доходчиво Светке объяснить, что если попадет в тюрьму второй раз, то надолго. Поэтому лучше ей вину взять на себя. Света согласилась, не раздумывая ни мгновения. А вот следователи засомневались в том, чтобы восемнадцатилетняя девчонка смогла организовать целый бизнес, загребли и Валеру. То ли женщина-судья в тот день была в плохом настроении, то ли такая уж Светкина планида, только получила она тогда три года, и без всякой спасительной присказки «условно». Эх, Света, Света… Когда лапали хмурые надзиратели да ночами приходилось дикой кошкой отбиваться от мужеподобной двухметровой сокамерницы, когда в баланде для прикола смешливая повариха полоскала посудную тряпку, когда, стыдливо оглядываясь, вытаскивала вшей и гнид из потускневших волос, не любовь ли к Валерке помогала тебе выживать, не теряя себя? …В тюрьме писем ждут с особым трепетом. Жадно подносят к лицу листок бумаги, вдыхая воздух свободы. На свой день рождения Светлана получила два одинаковых конверта, подписанных аккуратной материной рукой. Прочитала поздравительную открытку, с нетерпением вскрыла второй. Папина фотография. На обратной стороне две даты через скорбное тире. Всего одна фраза: «Папа умер, убило током на работе, помни, Светочка». Света любовно протирает влажной тряпочкой застекленный папин портрет. Он здесь — ровесник ее сегодняшней. Тридцатилетний, веселый, очень на Саньку похожий. Рядом на стене — мамочка. Вьются волосы, родинка на правом виске. Немного виноватая улыбка. Она никогда не была сильной. Голос тихий, смех как перезвон малюсенького колокольчика, который висел когда-то в коляске крошечного Саньки. Тот конверт с папиным фото был последним материным посланием. Дальше стали приходить письма от Сани, от которых хотелось выть белугой. Не верить брату Света не могла, верить было страшно. Мама, милая мамочка, что с тобой? Санек писал, что впервые ты напилась до бесчувствия на папины сороковины, а дальше понеслось по проторенной многими дорожке. Вереница собутыльников, нечесаные подружки будто навечно поселились в уютном стареньком доме. Санька воевал, как только может воевать отчаянный четырнадцатилетний пацан: бил бутылки, выгонял 60 ЛАМПА И ДЫМОХОД из дому орду непрошеных приятелей, запирал мамку на большой амбарный замок. Однажды ударил даже, а потом долго с недоумением смотрел на ладонь, посмевшую прикоснуться к зареванной опухшей щеке. На работе маме сначала сочувствовали, потом начали делать замечания, затем — выговоры. Сане показалось, что она с облегчением вздохнула, когда выгнали-таки. А через полгода после увольнения Саша нашел маму лежащей у печки. Голова запрокинута, глаза широко открыты, губы будто силятся сказать что-то. Начальник зоны долго барабанил по столу костяшками пальцев, прежде чем сообщить Светлане о материной смерти. Велел скорее ехать, чтобы успеть на похороны. …Дом обветшал. Как будто не полтора года прошло, а целое столетие. Прислоненная к расшатанному крыльцу стоит крышка гроба. Краснеет на фоне грязного снега дешевая ткань обивки. Рядом деревянный крест. У порога никто не встретил. Старое трюмо завешено белой простыней. Света не может заставить себя войти в ту комнату, откуда доносятся еле различимые звуки. Там умрет еще одна часть ее души. Умрет и ляжет рядом со скрещенными на груди руками той, что сейчас покоится в гробу. Их вместе опустят в яму и забросают землей. И живым останется крошечный ее кусочек, которому нужно будет держаться изо всех сил, чтобы послужить еще брату… Вечером Санька уснул, положив голову на колени сестры. Света несколько часов сидела, не смея пошевелиться, чтобы он подольше не возвращался из спасительного сна в скорбную реальность. Санечка, родненький, сколько тебе досталось! Осунулся, взгляд потерянный. Ничего, я что-нибудь придумаю… На следующий день Света пришла к тете Тамаре. Соседка всегда хорошо относилась к их семье, помогла организовать похороны. — Тетя Тома, пожалуйста! Мне не к кому больше обратиться, теперь мы с Санькой одни. Ведь заберут его в детдом, что там с ним будет, тетя Тома! А так он останется дома. Вам обузой не будет, умеет и приготовить себе, и постирать, и вам по хозяйству поможет. Сами знаете, он у нас спокойный. Опекунские получать станете, все ж помощь. А я полсрока уже отбыла. Еще полтора года осталось. Вернусь и заберу Саньку. Прошу вас! Тетя Тома вытерла фартуком руки, притянула к себе Светкину голову. Та облегченно зарыдала. …Объявили амнистию. Светлане дважды повторили, прежде чем она поняла, что скоро поедет домой. Последние часы в тюрьме тянулись веком… И снова дом. Впервые за долгие месяцы она была счастлива. Саня встретил ее на крыльце, и они, крепко обнявшись, плакали и смеялись одновременно, не обращая внимания на прохожих. № 1 (1) 2011 61 Наталья ВАСИЛЬЕВА, Юлия НАУМОВА Светлана СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР За скромным ужином строили планы, мечтали. На следующий день мыли в доме, вычищая все углы, выметали пыль и вместе с нею все свои печали. Белили, красили, укрепляли перила на крылечке. Когда Света повесила последнюю цветастую занавеску, они с Санькой сели на краешек софы. И Света сказала, обращаясь к портретам, висящим напротив: — Ну вот, теперь все будет хорошо, вы не волнуйтесь о нас… За всем этим как-то забылось, что Валерка не отвечает на третье подряд письмо. — Мужчины не любят письма писать, — решила Светка. Сожгла в печке свитер и брюки, в которых ехала с зоны. Подумав немного, бросила в огонь и старую зеленую тетрадь, бывшую единственной ее подружкой на зоне. Пусть сгорят вместе с дневником все беды! «Мы будем жить теперь по-новому!» — пел новенький магнитофон. Не удержалась-таки, на последние деньги купила. Не может Светка без музыки. Напевает целый день, в радости и в печали. В свободный миг присаживается к фортепиано, нежно гладит его длинными пальцами, играет долго, забывая обо всем. Сестра у тети Томы — заведующая детсадом. Тетя Тома упросила: «Возьми соседку, деток музыке учить». Валентина Сергеевна долго отнекивалась, но музыкального работника на копеечную зарплату трудно найти. Скрепя сердце взяла. Долго трясла пальцем перед Светкиным носом: «Смотри у меня, знаю, откуда явилась. Испытательный срок тебе даю!» Взяла и не пожалела. У Светки был огромный талант любить. Крепко и безусловно любила она брата, а еще — музыку и детей. Поэтому летала на работу как на крыльях. Валентина Сергеевна знала: если Светка вбегает, не стучась, к ней в кабинет, значит, опять что-нибудь новое придумала. Родители стали охотнее на утренники ходить. Заболевшую воспитательницу Света с удовольствием замещала. Детки в эти дни всегда были какие-то особенно радостные: новички не плакали, носы у всех сухие, ножки на прогулке никто не промочит. Вечерами Света готовилась к занятиям, долго наигрывала мелодии, сочиняла веселые присказки и припевки, писала сценарии. Скрупулезно вела на листочках подсчеты, чтобы растянуть на месяц крошечную зарплату да Сашкину пенсию по потере кормильцев. Радовалась, когда «баланс» сходился. Бежала на рынок за шерстью, вязала толстые носки и таскала на почту посылочные ящики для Валерки. Брат учился. Светка ходила на родительские собрания вместо тети Томы, которая так и числилась официальным Санькиным опекуном. Ругала за двойки, разбитое окно, расквашенный нос. Санька опускал голову и лишь изредка вскидывал глаза из-под длинной челки. Ага, выпустила Светка пар, перестала молнии метать — можно смело бросаться ей на шею. Сестрой он 62 ЛАМПА И ДЫМОХОД гордился. Забывалось, что не из долгой командировки она вернулась. Зато вон сколько вырезок газетных с ее стихами в шкафу. Недавно конкурс был на лучшую песню ко Дню города, так учительница литературы на уроке сказала, что его сестра лучшая, и прочитала ребятам проникновенную оду тенистому бульвару, тихой речке, мудрым тополям. На стене появилась новая грамота, за сервантным стеклом — приз: синий с золотой каемкой сервиз. Сервиз Светка велела не трогать: «Вот вернется Валерка, попьем чайку…» По ее подсчетам, муж должен был освободиться в апреле. Готовилась весь месяц. В холодильнике не переводились вкусности — в любой момент Валера приедет. Прошел апрель, миновали майские праздники. Света плохо спала по ночам, вскакивала с кровати от любого шума за окном — вдруг это он калитку открывает. В середине мая навела, где нужно, справки. Валера вышел 10 апреля и уехал к себе на родину, в соседнюю область. Там у него первая жена и дочь живут. Так вот он у них. Взвалив на себя эту новость, Света пришла домой с твердым намерением достать из холодильника припасенную к Валеркиному приезду бутылку водки и выпить залпом стакан. Открыла, налила. Не садясь на стул, поднесла к губам холодное стекло. Взгляд наткнулся на родительские портреты. Опустила стакан. Постояла с закрытыми глазами и потом выплеснула все содержимое бутылки в раковину и долго лила воду, чтобы смыть резкий спиртовой запах. Достала из серванта любовно протертые вчера синие чашки и с силой пошвыряла одну за другой на крашеный пол. Когда Санька вопросительно взглянул на груду синих с золотым осколков, потерянно прошептала: — К счастью… Началось лето. Вечерами Света возилась на огороде. Если потрудиться как следует, он их с Санькой и зимой прокормит. Однажды, когда она, согнувшись в три погибели, тащила к грядкам ведра с водой, ее окликнули. — Светлана! Здравствуйте. Ваша соседка Тамара Сергеевна сказала, что вы, возможно, примете постояльца. Я командировочный. Мне комната на два месяца нужна. Возле калитки стоял высокий светловолосый мужчина. Темные глаза, ямочка на подбородке. — Ну так как? Сдадите мне угол? О цене договоримся, я не обижу, — незнакомец улыбнулся. И Светка, непонятно почему, кивнула ему, хотя уже несколько месяцев отметала все разговоры тети Томы о том, что сдавать жилье при их с Санькой бедноте — разумнейший выход. Через полчаса Андрей принес свой чемодан, через час уже помогал Свете поливать рассаду. № 1 (1) 2011 63 Наталья ВАСИЛЬЕВА, Юлия НАУМОВА Светлана СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР Светка всегда считала себя однолюбом. Или однолюбкой — как там правильно? Думала, что век будет помнить мужа. Но и сердце, и тело, исстрадавшиеся от одиночества и тягот, легко откликнулись на ласковые слова и многозначительные взгляды. Счастье… Счастье просыпаться на любимой руке. Гладить жесткие волосы на макушке. Кожей впитывать поцелуи и дыхание. Она была уверена, что через два месяца Андрей никуда не уедет, — разве можно куда-то деться от любви? Показались дурной шуткой собранный чемодан и деньги за постой на столе. Она робко заглянула в любимые глаза, а там — предвкушение встречи с женой и сыном. Уже у порога на просьбу писать вскинул бровь: — Зачем? Прощай, Светик! Вот и всё. Дома страшно оставаться, стены стали недобрыми, давят, дышать не дают. Вышла к речке, отрешенно смотрела на водную рябь. Подошла знакомая, Оксанка. — Ты чего грустишь? — Да так… — А у меня — антигрустин! Держи! У Оксанки в потертом целлофановом пакете початая бутылка водки, пластиковый стаканчик и несколько мятых карамелек. — Спасибо, Оксан, я не буду! — Э, бросай ломаться! Вижу, плохо тебе. Мне тоже несладко. Чтобы отвязаться, Света потянула руку за стаканчиком. Горькая жидкость непривычно обожгла горло. Оксана заботливо протянула конфету: — Заешь… Ну вот. Теперь рассказывай. Выслушав, презрительно протянула: — И это все? Мне б твои заморочки! Я вон без работы пятый месяц, на девчонку прав лишили. И ничего, как видишь. Света не поняла: — Девчонка? Как это — прав лишили? — Да не бери ты в голову. Дочка у меня! Ну, загуляла я маленько. Понаехали комиссии, бумажки писали, орали. Потом суд. Увезли Полинку в приют. Да не смотри ты так! На работу устроюсь, закодируюсь, заберу ее. А пока… Ну-ка, еще по одной! Домой Светка добралась поздним вечером, когда стемнело, чтобы соседи не видели. Утром страшно было смотреть на себя в зеркало, еще страшнее — видеть глаза брата. Как-то удалось доработать до вечера. Дома, приняв аспирин, твердо решила: больше никогда! Вымыла полы, принялась споро чистить картошку. Как только на сковороде зашипело раскаленное масло, раздался стук в дверь. На пороге — развеселая Оксанка с каким-то пареньком. — Знакомьтесь! Оксанка скоро заснула за столом, положив голову на руки. Светка не пила совсем — тошно было вспоминать о вчерашнем. 64 ЛАМПА И ДЫМОХОД Мыла посуду, чувствуя спиной взгляд гостя. Когда он обнял, не оттолкнула. «Пусть! — отрешенно промелькнуло в голове, маячком блеснуло: — Может, ребеночек…» И закрутилось каруселью… Появлялись новые мужчины, сменяя тех, кто был близок и дорог вчера. Оксанка смеялась: — Да не бери ты их в голову! Боже ж ты мой: неделю хороводились всего, а ты уж давай страдать, стихи писать. Дура! «Дура» виновато улыбалась. Однажды, взглянув на настольный календарь, затрепетала. Неужели, неужели получилось? Назавтра побежала в женскую консультацию. — Нет, деточка, вы не беременны, — покачала головой пожилая врач. — Ну что вы, не расстраивайтесь. Не плачьте! Вы такая молодая, у вас обязательно будет ребенок. Вы здоровы, нет причин для беспокойства. Ждите. И Света ждала. Мечтала, видела сны. Представляла, как в животе толкается крошечной ножкой ее малыш. Ее и только ее. Каждого нового кавалера Светка рассматривала как будущего папу: какими будут цвет глаз, волос, рост у ее малыша. И в каждом видела множество достоинств, и влюблялась отчаянно, как впервые — он же отец ее ребенка. Вымечтанного до каждой складочки на пухлой ножке малыша. Но раз за разом оказывалось, что малыша опять не будет. И казавшаяся поначалу такой отвратительной водка становилась привычным лекарством и утешением. Санька злился. — Воспитатель нашелся! — однажды в сердцах бросила она. — Кто ты такой, чтобы меня воспитывать? Брат молча хлопнул дверью. Она в тот вечер рано улеглась спать, а ночью проснулась от звенящей тишины — нет Саньки. Сначала подумалось — ничего, утром явится. Утром стало страшно. Побежала к нему на работу, отпросившись в саду. Брат там не появлялся. Три дня, пока Саши не было, показались вечностью. Обегала весь город, расспрашивая знакомых. Что-то удерживало от обращения в милицию. Нашла Сашку его девушка. За руку увела из заколоченного здания, где он со случайными знакомыми три дня пробыл в каком-то небытие, глуша обиду стаканами. Он мрачно цедил остывший чай, а Света мучительно подбирала слова… Саня вскинул глаза: — На работе простили, завтра выхожу… Они не сказали друг другу: «прости», и так всё было ясно. Проходили месяц за месяцем, годы неслись, бесполезные, как казалось Свете, пустые, как она сама. Мелькали рядом люди, лица, разбивались надежды, рождались новые, а счастье почему-то все никак не приходило. Наверное, просто еще не появился тот самый мужчина, с которым ей будет покойно и светло? Может, на этот раз получится с Женькой? Он чудесный, Женька. Ласко- № 1 (1) 2011 65 Наталья ВАСИЛЬЕВА, Юлия НАУМОВА Светлана СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР вый, добрый, внимательный. Если бы только он не уходил домой, а остался с нею. Если бы не был женатым. Но нельзя, у Женьки две дочери… …За ужином Санька, улыбаясь, сказал: — Свет, мы с Мариной хотим пожениться весной. Я серьезно. Она уже родителям сказала. Они, конечно, считают, что рано. Но не запрещают. А ты, Свет, рада? — Ну, конечно, Санечка, конечно! — Света обняла брата, сдерживая набегающие слезы. — Ты только меня не забывай, ладно? Верила, не забудет. Столько предавали ее за эти годы, а братишка всегда был рядом, самый близкий, самый родной для Светки человек. Пусть будут счастливы они с Маринкой! А родится племянник — она, Светка, будет самой заботливой на свете нянькой! Света перебирала пальцами клавиши, подбирая мелодию к новому стихотворению. Сане нравились все без исключения ее стихи, а вот возлюбленные относились к увлечению прохладно, с некоторым даже недоумением. Пожимая плечами, возвращали назад тетрадь. И уходили… …Санька и Марина подали заявление в загс. Свадьба будет в конце марта. Они решили снимать квартиру, значит, Санька скоро переедет. Как пережить? Света крепилась и настраивалась, запрещала себе плакать, представляя свое будущее одиночество. Женька не в счет. И никто не в счет. При Саньке бодрилась. Вместе они планировали свадебный вечер, кроили-перекраивали скромный бюджет на торжество. А по ночам приходила бессонница, сдобренная слезами и сигаретами… Наступил март. Санька собирался в областной центр за покупками. Его согласился отвезти друг Игорь. Света не могла ехать с ними — подготовка к мартовским утренникам шла полным ходом. Не отпроситься. Утром брат проснулся ни свет ни заря — надо выехать пораньше, дорога длинная предстоит. Наскоро позавтракал, на ходу надевая куртку, направился к выходу. Тут же вернулся, обнял сестру. — Светик, как я люблю тебя! Свети-и-и-и-к! Ты у меня такаа-а-я… родится дочка — обязательно Светкой назовем! — Санька приподнял ее над полом и закружил. — Все, Санька, Марину будешь на руках носить! Отпусти, безумец влюбленный! Беги, вон Игорек уже сигналит, — Света поцеловала братишку, и он скрылся за дверью. Хлопнула калитка. Света стала собираться на работу. Расстроенное фортепиано разливалось весенними трелями. Детсадовские подготовишки выводили песенку про маму. Света, обычно 66 ЛАМПА И ДЫМОХОД полностью погруженная в работу, не могла собраться. Раньше умело подстраивалась под темп, который брали маленькие певцы, сегодня сбивалась, никак не могла уловить ритм, задаваемый хором. Дома тихо и отчего-то тревожно. Света варила борщ, время от времени поглядывая в окно. Подмела и без того чистый пол. Бесшумно открылась дверь. В проеме — побелевшее лицо Марины. Света поняла все еще до того, как осознала слова «разбился насмерть», и, ограждаясь от жгучей боли, упала в обморок… …Бесконечно можно гладить мягкие русые волосы, целовать холодные щеки, касаться покойно сложенных рук, шептать на ухо: «Проснись». Частичка души, выжившая после похорон матери, умирала. Ей больше некому служить… …Карапуз в коляске заливисто хохочет. Трехлетний малыш протягивает радостный желтый одуванчик. Первоклассник за огромным букетом гладиолусов недовольно щурится от солнца. «Свет, я окно разбил… Не говори мамке с папкой, ладно?» Собачий вальс в четыре руки. «Возвращайся. Жду!» — стремительные буквы с резким наклоном под маминым аккуратным «до свидания, доченька». Брюки все коротки, растет. «Вот повестка, завтра на призывной пункт». Фотография на стене — форма так к лицу! «Мы с Мариной хотим пожениться. Я серьезно… Рада?» За что, Господи? Поминки. Неизвестно кем выдуманная пытка. Скорей бы разошлись все. Придет Женька, и, наконец-то, можно будет разрыдаться на его плече. Уходят… Света проводила серую от горя Маринку до поворота и медленно, покачиваясь, зашагала к дому. У самой калитки услышала за спиной ехидный голос: «Вот нализалась, ноги не держат!» Нехотя обернулась: Женькина жена. Под руку с мужем, с новой прической, накрашенная парадно. Победоносно ухмылялась. Тот прятал глаза. Скрыть выпирающий живот Ирина не могла и не хотела. Света молча прикрыла калитку. Маятником походила по комнатам, машинально убирая вещи, складывая в раковину тарелки. Старалась не смотреть на фотографию в черной рамке. Неожиданной волной накрыла слабость, задрожали ноги. Света обессиленно опустилась на Санькин диван, уткнулась головой в подушку. Запах. Нестерпимо родной запах его волос. Дрожащей рукой нащупала на столе бутылку. Поспешно, захлебываясь, выпила стакан. Второй. Быстро — откуда силы взялись — переоделась во все новое, чуть ли не бегом выскочила на крыльцо. Закрыла дверь и привычно сунула ключ под коврик. Всегда так делала, чтобы Санька мог попасть в дом, когда ее нет. Вспомнила и, горько улыбаясь, с силой зашвырнула ключ в кусты. № 1 (1) 2011 67 Наталья ВАСИЛЬЕВА, Юлия НАУМОВА Светлана СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР Света быстро шагала по ночному городу, не оглядываясь по сторонам. Подошла к реке. Отчего-то в голову полезли стихи. Сколько она написала их про эту речку! От берега до берега — по-мартовски тонкий, поблескивающий в лунном свете ледок. Подумалось, что толстая куртка, как парашют, будет удерживать ее, смешно барахтающуюся, на поверхности. Куртку — на берег. Успела удивиться тому, что совсем не холодно, и стремительно пошла вперед по хрустящему, словно живому льду. Туда, где белели родные лица и какой-то розовощекий младенец протягивал к ней пухлые, в «перевязочках», ручки… …Весна еще не набрала силу. Рано темнеет. Отодвигая сумерки, мягко светит торшер. На диване, укрывшись клетчатым пледом, сидят молодая женщина и трехлетняя девочка с белыми бантами на светлых волосах. Они смотрят фотоальбом. — А это кто, мама? — Это папа и твоя тетя, Светочка… — А они придут? — Нет, доченька, они далеко. 68 ЛАМПА И ДЫМОХОД РАССКАЗЫ, СТИХИ Вера Павлова (p. 1963 г.) — российская поэтесса. Лауреат премий имени А. Григорьева, «Антология» и специальной премии «Московский счёт». Переведена на иностранные языки. Евгения Коробкова — журналист, литературный критик, редактор журнала «Лампа и дымоход», корреспондент журнала «Русский репортер», газеты «Вечерняя Москва». ПОЭЗИЯ — ПРЕКРАСНЫЙ СПОСОБ ИЗМЕНИТЬ ПРОШЛОЕ… И звестнейшая российская поэтесса Вера Павлова дает интервью только членам своей семьи. Простых работников СМИ она не то чтобы не любит, но считает разговоры с ними «ниже своего до». Однако узнать всё самое любопытное нам всё равно удалось! В начале декабря в Москве и в Перми состоялись презентации новой книги Веры Павловой «Однофамилица/Детские альбомы». Вместе с поклонниками на этих мероприятиях побывал и наш корреспондент. Текст, который находится перед вами, составлен из наиболее интересных вопросов, заданных Павловой аудиторией, и ответов поэтессы на них. — Вера, скажите, как у Вас это началось? — Первые симптомы? — Да! — На этот вопрос я уже отвечала столько раз, что от повторения мне стало казаться враньем, хотя все так и было. Я начала писать № 1 (1) 2011 69 Вера ПАВЛОВА Интервью РАССКАЗЫ, СТИХИ стихи в возрасте двадцати лет, в роддоме, после рождения первой дочери, Натальи, а печататься — после рождения второй дочери. — Помню Ваше двустишие: «дочки ее — точки над ё». Наверное, поэту нелегко заниматься насущными проблемами… Добычей денег, например… — Я никогда этим не занималась. В своей жизни я работала только шесть месяцев. Экскурсоводом в музее Шаляпина. С каждым месяцем я была все больше и больше беременной и мечтала только об одном: чтобы мой ребенок не родился 13 февраля, в день рождения Шаляпина. И что вы думаете? Так и случилось. Это была потеха всему музею. — Простите за нескромный вопрос, а на что же Вы живете? — Не на писательские гонорары. Это уж точно. Меня муж обеспечивает. — Повезло. А говорят, что поэты пишут тогда, когда у них что-нибудь не слава Богу. Денег нет, мужа нет, есть нечего… — Знаете, такой подход: «Сначала состояние, потом стихи» — справедлив только для графомана. Для поэта всё переворачивается. Если поэт пишет, он счастлив. А о чем он пишет, о грустном или о веселом, — неважно. Для меня счастье или несчастье зависит не от жизненных обстоятельств, а оттого, могу я писать или не могу. — В Вашей поэзии женщина присутствует в различных ипостасях: женщина-мать, женщина-любовница, женщина-поэтесса. Но женщины-домохозяйки нет, хотя почва благодатная… — Действительно нет? Вы меня удивили. А я, между прочим, люблю готовить. Я грибной суп варю как никто. Украинский борщ — как бабушка, то есть, тоже как никто. Ну и так далее, 20–30 очень вкусных блюд делаю. Нужно написать стихотворение про это… — Вот Вы пишете по стихотворению в день, каждый год издаете по книге. Не боитесь, что иссякнете? — Бывают такие неприятные моменты, когда мне начинает казаться, что я исписалась. Постоянно такое бывает. Один день просыпаешься и думаешь: нет, новые стихи лучше старых — и живешь веселенькая, а в другой день думаешь: нет, старые лучше новых — и живешь грустненькая. Это маниакально-депрессивный синдром. Однажды 70 ЛАМПА И ДЫМОХОД я пыталась расправиться со старыми и плохими стихами. Я сложила из листов кораблики, вставила в них свечки и пошла на реку. Думала, что подожгу всё это и красиво расстанусь с прошлым. Пришла. Зажгла. Пустила на воду. А на реке ни течения, ни ветра. Свечки догорели, прожгли дырки, пошли на дно, а кораблики остались стоять. Я их отловила, развернула и поняла, что рукописи не горят. Черное пятно прогрызло дырку в середине, а по бокам остались тексты нетронутые. Так у меня и хранится книга с черными дырками. — Что бы Вы поменяли в жизни, если бы прожили жизнь по-новому? — Я могу это очень легко сделать. Поэзия — прекрасный способ менять прошлое. Я его переписываю. Оно становится таким, каким я его переписала. Хочу написать цикл. Может быть, это будет проза, может быть, белые стихи. Я перепишу самые обидные моменты в жизни, когда я не нашлась, что сказать. — Вам прекрасно удаются верлибры и свободные стихи. Из последней книжки очень понравилось стихотворение: продается родина / пианино / черное потертое / две педали / только что настроено / строй не держит / сто рублей Измайлово / самовывоз. —Между прочим, я это стихотворение сама полностью придумала, ни с какого объявления не списывала… — Я, собственно, хочу спросить, не планируете ли Вы вовсе отказаться от рифмы в стихах? — Ой, нет. До этого я еще не созрела и, думаю, не созрею никогда. Только рифмованная поэзия дает иллюзию нерукотворности. — Иллюзию? А ваши стихи рукотворны? — Две строчки, от которых я отталкиваюсь, — точно нет. Они приходят откуда-то сверху. А остальные шесть — уже рукотворные. Они вытекают из этих двух, объясняют их. — Однажды Вы обмолвились, что сочиняете стихи, лежа в горячей ванне. Вы продолжаете это делать? — Продолжаю ли я мыться? Конечно! — Считаете ли Вы, что поэзия «унисекс»? — Нет, поэзия не «унисекс» и не может быть таковой. Настоящая поэзия имеет свой пол. Другое дело, что внутри поэта пол № 1 (1) 2011 71 Вера ПАВЛОВА Поэзия — прекрасный способ изменить прошлое… РАССКАЗЫ, СТИХИ может проявлять себя по-разному. Женщина-поэт может быть, в сущности, мужчиной и писать мужские стихи. А мужчина-поэт может быть очень женственен, как Пастернак. — Не могли бы назвать несколько современных поэтов, которые Вам нравятся? — Могу, но не хочу! — Очень хочется Вас поблагодарить за интересный разговор, поздравить с выходом новой книги! — Вот уж спасибо за поздравление… Никогда не забуду, как однажды подруга решила меня поздравить. Она взяла своего мальчика трехлетнего, ангельской внешности. Поставила его перед камерой. Мальчик спел «хеппибездей диа Вера». Потом она ему говорит: ну а теперь, Андрюша, скажи тете Вере какое-нибудь еще доброе слово. И мальчик вдруг в камеру говорит так: — Какашка! Записала Евгения КОРОБКОВА В церкви1 Ясные лики. Унылые лица. Первых мало, последних много. Пап, ты что, не умеешь молиться? Нужно просто просить у Бога всё, что хочешь. Но зная меру — не щенка, не ключи от машины, а что-нибудь легкое. Ну, к примеру, чтобы все были живы. * * * Искусственная елка. Хоровод открыток, фотокарточек, иконок. Канал «Планета». Старый Новый год. Старик. Старуха. Старый пес. Котенок. Старик хохочет. Он немного пьян. 1 Подборка стихотворений Веры Павловой из книги «Однофамилица / Детские альбомы». М.: АСТ, 2011. 72 ЛАМПА И ДЫМОХОД В усах у пса остатки заливного. Старуха тычет пальчиком в экран и говорит котенку: «Пугачёва!» Вера ПАВЛОВА Поэзия — прекрасный способ * * * изменить прошлое… Может быть, больше нет звездного маяка, молниеносный свет опоздал на века, зря заколочен дом и закрома пусты, — может быть, ты ведом светом мёртвой звезды? * * * Молочная луна в дымке катается, как сыр в масле. Помолимся без запинки, положим малыша в ясли. Поклонятся ему козы и примутся за свой силос. Но знают кое-что звезды, что астрономам не снилось. * * * Боги, для того ли, в темноте дрожа, от бессонной боли корчилась душа, чтобы вечерами с горем пополам подпевать рекламе, отвечать на спам?! * * * Люби меня так, будто тебя — двое: один вчера вернулся из смертного боя, до самых плеч в чужой крови рукава, другому завтра в бой, гурьбой, под конвоем… Люби меня так, будто меня — двое: одна — твоя невеста, другая — вдова. № 1 (1) 2011 73 РАССКАЗЫ, СТИХИ Сергей Эдуардович Журавлев — художник-минималист. ПАРОВОЗ Сергей ЖУРАВЛЕВ Стихотворения Страсти художника, или Беседа с президентом Вот через площадь мы идем, И входим, наконец, В большой красивый красный дом, Похожий на дворец. Из зала в зал переходя, Здесь движется народ. Вся жизнь великого вождя Передо мной встает. С. Михалков «Вы завтра не курите ничего, пожалуйста, И будьте ухожены, как манекен. А то ведь мы знаем про все ваши шалости… Вас хочет увидеть наш президент». «Я с президентами никогда не виделся, Хотя больших, и очень, встречал. Как бы он вдруг чему не обиделся, Как бы я вдруг не подкачал». 74 ЛАМПА И ДЫМОХОД «Не беспокойтесь — ему же известны И ваши сюжеты, и ваши творения. Вы человек более-менее честный И можете понять, где ставить ударения». Сергей ЖУРАВЛЕВ Паровоз «Конечно, раз уж он сам так хочет… Встречусь, и даже галстук накину, Туфли почищу и всякое прочее… И грибы не стану жевать никакие. Президента нашего уважаю очень. Он мне как доктор, когда в телевизоре. Вижу его — Хорошо так! — нет мочи… Словно ни инфляции нет, ни кризисов, Словно Мессинг помахал руками. И сразу спокойствие в душе и теле — Спортивная прочность. Судите сами: Расширяются возможности физических пределов». * * * Назавтра я площадь пересек Красную, Побритый, помытый, в белых ботинках. Пропустили чинно по списку, по паспорту. Попросили расписаться в толстой книге. «Здравствуйте», — говорит он мне так запросто. А я, как ходок, боюсь оступиться. Спортивный, подтянутый, весь в запонках, Протягивает руку и предлагает садиться. Посидели. Взглянул на меня, пронизывая: «Что нового есть сейчас из идей? Надеюсь, ничего дурного, низменного? И маленьких нет в сюжетах зверей?» «Бывают», — признался ему, бледнея. Сейчас прогонит, а то и засветит. Подумает, нанюхался в подвале клея. А он ничего… Взгляд по-прежнему светел. «А я пейзажи люблю, — признался, — И ваши в Форосе однажды видел, Когда на катере по морю катался. Вы ни на кого, надеюсь, не в обиде, № 1 (1) 2011 75 Что вам слегка там недоплатили? Крым нынче не наш, — он вздохнул. — Я бы за это кому-то намылил… Впрочем, и здесь хватает акул. РАССКАЗЫ, СТИХИ Но вот что хотел спросить: портреты Вы тоже когда-то писали? Я слышал. А что, если, скажем, портрет конкретно С меня написать на Пашковской крыше? Верхом на коне, или просто смотрящим В туманную даль за изгибом реки…» «Да что вы, у нас мастеров блестящих!.. Портрет создадут без посредства руки. У меня получится легкомысленно слишком. На бэкграунде возникнут Маленькие звери, Проявятся другие смелые излишества, И никто, что это вы, не поверит». А он настойчив: «Не хотите ли паюсной Икры откушать? Хлеб свежий кремлевский…» Меня схватили оторопь и паника, В глазах замерцали радужные блестки: «От икры сейчас не смогу отказаться! Давно я не ел такой-то, черной». «Представьте, — он мне, — это будет сенсация — Мой портрет в технике не бесспорной! Большая работа — вы такие любите. Профит1 непременно какой-то прибудет. А то пустяками себя только губите… А так нас иначе воспримут люди. В поля потянутся: поднимать деревню, Копать, молотить, возводить, строить… Многое у нас всё-таки еще неверно. Не умеем мы правильно двигаться строем. А многие смакуют потаенные грезы, Другие миры… Но кто что нашел?» 1 Профит — прибыль. 76 ЛАМПА И ДЫМОХОД Я чуть было не согласился. Серьезно. Проснулся. Умылся. Оделся. И пошел… Сергей 11. 2007 Паровоз ЖУРАВЛЕВ Про паровоз Что-то я как-то не в форме… Что-то моя воля слишком сильна. Я стою на краю платформы, А паровоза струя никак не видна. И застыл, как придурок, как Анна. Но не стану я прыгать, держит воля. Мне нравится теплая ванна. И как одетая женщина становится голой? Нравится смотреть паровозы. Большие, малые… Пару-то сколько!.. Нравится нюхать розы… И отношения безо всякой боли. Мечтатель, — скажете вы надменно. Но это только банальный поиск — Взирать каждый раз непременно, Как женщина бросается под поезд. 5.6.2007 * * * Сквозь журчанье весенних птиц, Сквозь разводы солнечного льда Блуждающе радуюсь обыденному чуду, Забыв о мысли и знании, Пропитавших всё навсегда, И о тех, кто их ловит, И о тех, кто их произносит, И о тех, кто их тиражирует, Изгоняя пугливую мысль, Превращая знание в вещь. 7. 4. 2009 № 1 (1) 2011 77 РАССКАЗЫ, СТИХИ Гаврилов Григорий (р. 1986 г.) — аспирант Орловского государственного университета. ФОТОКАРТОЧКИ Григорий ГАВРИЛОВ Стихотворения Как я стал деревом Сегодня я приехал в деревню, здесь я вырос. Или я вырос не здесь? Здесь все изменилось, куда-то делась липовая аллея, куда-то делись дети, которыми были мы. Здесь всё изменилось. Вот дядя Коля, от которого мы бегали, которым нас пугала Ленка, он превратился в смешного старика, оказывается, у него синие глаза. Дядя Коля тоже изменился. Зачем ему синие глаза осенью? Оказывается, деревня такая маленькая, что мне тесно ходить, поэтому я стою. 78 ЛАМПА И ДЫМОХОД Здесь люди живут в таком узком мире, что есть всего лишь четыре шага. И все они — на месте. Григорий ГАВРИЛОВ Фотокарточки Только полдень, а мои ноги уже пьют воду земли. Здесь люди пьют, чтобы ничего не хотеть, здесь очень долго идет время. До вечера еще очень далеко. Здесь все люди знают друг друга так долго, что никогда не говорят правды. И я молчу. Здесь деревья помнят дольше, чем людей. Птица. На меня села птица. Здесь нельзя думать о жизни, потому что из-за этого можно умереть, потому что тогда нужно будет идти. Но мне нельзя идти, потому что на мне спит птица. Здесь можно жить только одному, и не больше одного дня, и только если уйти в лес. Наверное, я останусь здесь. Анимационный стих Он удит рыбу в канализационном колодце, вылавливает луну, вешает ее на потолок города, и наступает вечер. Бессонница. Мне сегодня снилось: Птицы с якоря снялись, Сырость, Стылость, № 1 (1) 2011 79 Усталость Листьев — Осень. Может, бросить спать? РАССКАЗЫ, СТИХИ Пропащий Безбородая юность заблудилась в кривых улицах, шаталась, шаталась… Устала и превратилась в старость. В полночь Стоял. Смотрел: змея ест свой хвост. За мной подсматривали звезды. И было не поздно, И было не рано — Полночь. И я понял: Конец — это начало. То или не то Уснула ночь. И снова день. И снова нужно что-то мочь. И снова «что-то» делать лень. А делать хочется не «что-то», а что-то «нечто», чтоб «ничто» исчезло, как пустое слово. И снова засыпает день. И снова в окна лезет ночь. Зачем мы делаем не то? 80 ЛАМПА И ДЫМОХОД Без Григорий ГАВРИЛОВ Календарь состарился, отощал, как лагерный. Опустилась опустелость: бестуманье, безголосье, безлистовье да бестравье — осень помирает. В небе — птичий дефицит, в лицах — серая тоска. По зиме, по снегу. И по новогодью. Время вроде бы стоит, курит в стороне. Видно, тоже выходной, как по всей стране. № 1 (1) 2011 Фотокарточки 81 РАССКАЗЫ, СТИХИ Евгения Коробкова — журналист, литературный критик, редактор журнала «Лампа и дымоход», корреспондент журнала «Русский репортер», газеты «Вечерняя Москва». МИФОТВОРЧЕСТВО В ПОЭЗИИ НЕКРАСОВОЙ Евгения КОРОБКОВА Статья В 2011 году исполняется 99 лет со дня рождения одной из самых загадочных поэтесс ХХ века. Обстоятельства жизни и смерти поэтессы Ксении Некрасовой и Акакия Акакиевича Башмачкина — на удивление схожи. На протяжении всей своей жизни поэтесса терпела унижение. Стихотворения Некрасовой пишущая братия считала графоманскими, называла «кискиным бредом». Саму Ксению в ее же присутствии поэты и писатели именовали идиоткой. Впрочем, Некрасова не обращала внимание на насмешки. Ее волновало другое. Подобно тому как Башмачкин мечтал о новой шинели, Ксения мечтала попасть в Союз писателей. Сегодня такое желание выглядит, по меньшей мере, странным, однако для юродивой поэтессы оно было настолько важным, что, получив от Союза писателей отказ, она умерла от разрыва сердца. Так история, описанная Гоголем, повторилась снова в середине ХХ века. Известность пришла к ней — как это часто бывает — вскоре после смерти. Ксения не дожила всего месяц до того дня, когда вышла ее долгожданная книга «А земля наша прекрасна». Спустя несколько лет ее стихи, написанные на клочках бумаги, разбро- 82 ЛАМПА И ДЫМОХОД Ксения Некрасова, поэт Родилась в 1912 году в деревне Ирбитские Вершины Пермской губернии (ныне деревня Алтынай Сухоложского района Свердловской области). Училась в Литературном институте имени Горького Умерла в 1958 году в Москве. Портрет Ксении Некрасовой работы художника Р. Фалька санные по квартирам множества знакомых, — Некрасова не заботилась о сохранении своих стихов, — бережно соберет и передаст в Литературный архив Лев Рубинштейн (не путать с поэтом-концептуалистом), филолог, издавший один за другим четыре сборника поэтессы, ставшие сегодня библиографической редкостью. Вообще, творчество поэтессы привлекало внимание не совсем обычных людей. Долгое время изучением биографии и наследия Некрасовой занимался челябинец Вячеслав Тимофеев. Будучи уже серьезным ученым, значительную часть своей жизни посвятил составлению и изданию словаря слов, которые употребляла его мама (!). Наверняка, и исследованием творчества Некрасовой этот человек занялся не случайно. Что-то близкое нашел он в странных Ксениных стихах. Не признанное в свое время, сегодня наследие Некрасовой, соединившее в себе, по выражению Татьяны Бек, «элементы русского лубка с поэтикой модерна», необыкновенно востребовано. Наши современники именуют Ксению «великой юродивой», считают основоположницей русского верлибра, ее имя часто звучит в стихотворениях молодых поэтов: Я долго держал свой талант в черном теле, и носил его, как безумная Ксения Некрасова мертвого ребенка под военным московским небом. (Виктор Полищук) Пожалуй, упреки советской критике в слепоте по отношению к творчеству Некрасовой можно назвать справедливыми, однако нельзя не сказать о том, что поэзия Ксении сильно отличалась № 1 (1) 2011 83 Евгения КОРОБКОВА Мифотворчество в поэзии Некрасовой РАССКАЗЫ, СТИХИ от основной массы стихов, которые создавались в 30–50-е гг. прошлого столетия. Наиболее заметное, бьющее в глаза отличие заключалось в том, что лирические миниатюры Некрасовой не имели формальных признаков стиха. Поэтесса писала верлибры и нерифмованные, белые, стихи. Например, такие: Встретила я куст сирени в саду. Как угодно он рос из земли и как голых детей поднимал он цветы в честь здоровья людей и дождей и любви Строчки эти выглядят достаточно оригинально и сегодня, что уж говорить о первой половине ХХ века, когда авангардная поэзия была, мягко говоря, не в чести. Чтобы проиллюстрировать список претензий, выдвигаемых к поэзии Некрасовой, приведу одно любопытное письмо, найденное мною в архиве поэтессы. Это письмо было прислано студенткой педагогического института в редакцию журнала «Огонек» в ответ на публикацию в журнале двух стихотворений Некрасовой. «…быть может, это стыдно, но я не знала, кто такая К. Некрасова, очень возможно, что она большой поэт, но помещенные в журнале стихотворения никак не свидетельствуют об этом. Я прочла один раз про себя — удивилась, прочла во второй раз вслух, потом еще и еще. Нет, они мне решительно не нравятся! Нет в них ни содержания, ни формы. Рифма отсутствует. Правда, пишут белыми стихами, и автор, кажется, преследует эту цель. Но в ряде мест есть претензия на рифму. Например: виски — стихи, лап — холстах, метелей — мгновений, снегов — сучков. Как можно назвать поэзией такой куплет: …И восхищенный взор мой ликовал, И удивлений дивных трепет Чуть-чуть покалывал виски — И плакать можно, И писать стихи (“Русский день”) Мало того, что был взор, а не взгляд, мало того, что он восхищенный, он еще и ликовал! А что это за трепет дивных (?) удив- 84 ЛАМПА И ДЫМОХОД лений и каким образом он покалывал виски? Я не помню, чтобы приходилось ощущать что-нибудь подобное. Совершенно непонятны мне следующие строчки: КОРОБКОВА Мифотворчество в поэзии …И предо мной возник народ, рожденный в ярости метелей И от младенческих мгновений И до белеющих седин живущий чуткой красотою (“Русский день”) Некрасовой Разве младенчество — соединение нескольких мгновений, а не месяцев? А что это за “белеющая седина”? До сих пор говорили “голова стала белою” или “голова поседела”. Зачем же два этих слова вместе? А что такое “чуткая красота?” Я знаю вызывающую красоту, знаю скромную. А чуткий бывает характер, человек. Я очень прошу, объясните мне, за какие достоинства в журнале «Огонек», нашем крупнейшем журнале, поместили стихотворение К. Некрасовой. Ведь, конечно, не потому, что она однофамилец великого поэта. … С искренним уважением, Зинаида Булычева, студентка педагогического института, литературного факультета». Примерно такие же претензии к поэзии Ксении выдвигали не только дилетанты, но и маститые поэты и писатели того времени. Часть критики, безусловно, была оправдана. Некрасова не владела версификационной техникой: не могла выдержать ритм стихотворения, имела весьма своеобразные представления о том, что такое рифма. Значительная часть стихотворений, которые сегодня мы рассматриваем как белые или верлибры, на самом деле являются неудавшейся попыткой создания силлабо-тонических рифмованных стихов. Если вчитаться в уже приведенное нами стихотворение «Сирень», воспринимаемое современным читателем как верлибр, то можно заметить в нем и ритм, который не смогла удержать поэтесса, и даже рифму. Правда, рифма «земли — цветы — любви» в лучшем случае может восприниматься нами как ассонанс. Но тем не менее она присутствует. Что касается способов рифмовки, то поэтесса особенно не озадачивалась ими, поэтому рифмы в ее стихах расположены стихийно, местами гуще, местами реже. Скорее всего, отказ Ксении от формы был не сознательным отказом в пользу верлибра и белого стиха (как это модно трактовать се- № 1 (1) 2011 Евгения 85 РАССКАЗЫ, СТИХИ годня), а следствием неумения обращаться с формой. Однако по прошествии полувека с момента написания стихов очевидно, что эти их недостатки стали отличительным знаком поэзии Ксении. Что касается всего остального арсенала поэтических средств и методов — то здесь нападки критики происходили уже от непонимания и недооценки качества стиха поэтессы. Вопреки устоявшемуся мнению, Некрасова вовсе не была наивной дурочкой, пишущей по наитию, как бог на душу положит. Анализ рукописей показывает, что она работала над стихом долго и кропотливо, исписывая синим карандашом (почему-то Некрасова очень любила записывать стихи именно синим карандашом) целые тетради ради пары строк. (Можно лишь догадываться, как тяжело давался Некрасовой сам процесс письма, учитывая, что у нее после перенесенного энцефалита плохо работали руки). Полностью осознавая свою принадлежность к поэзии, Ксения очень строго относилась к своему творчеству и выработала свои правила письма, которым свято следовала. Прежде всего, поэтесса активно работала над сокращением стиха. Собственно, процесс этой работы и отразился в одной из некрасовских миниатюр: Я завершила мысль, вместив ее в три слова. Слова, как лепестки ощипанных ромашек, трепещут на столе. Стремление к краткости порой приводило к совершенно неожиданным решениям. К примеру, первый вариант стихотворения «Сирень» выглядел как «встретила я куст сирени в саду// он упруго и густо рос из земли». В ходе совершенно потрясающей, на мой взгляд, правки поэтесса заменила «упруго и густо» на «как угодно»: встретила я куст сирени в саду// как угодно он рос из земли». Ксения очень различала то, о чем можно писать в стихотворении, и то, о чем писать категорически нельзя. Среди ее рукописей не найдешь ни одного минорного стихотворения, что, в целом, удивительно, учитывая непростую судьбу поэтессы: ее бомжевания, смерть маленького сына, полуголодную жизнь. Близкие друзья вспоминают, что время от времени на поэтессу находили мрачные настроения, но все стихи, написанные в такие периоды, она уничтожала, называя их «синими мыслями». Ксения считала, что поэзия должна быть жизнеутверждающей. И, наконец, главная особенность стихов Некрасовой заключается в их «сверхидее». Как известно, именно наличие или отсутствие таковой является маркером качества поэзии и принадлежности текста к поэзии в принципе. Советская критика относила поэзию Некрасовой в разряд графомании во многом потому, что не могла уловить идею в стихах. 86 ЛАМПА И ДЫМОХОД Меж тем идея присутствовала, правда, увидеть ее было непросто. Дело в том, что Ксения Некрасова обладала уникальным мифологическим сознанием, особенности которого были непонятны людям ее времени. Не все специалисты могли оценить высоту, на которую Некрасовой удавалось поднять свое стихотворение. И хотя Николай Асеев еще в 1937 году в рецензии на поэтическую подборку Ксении написал, что идея стихотворений Ксении Некрасовой — это «значительность всего живого», до сих пор распространено мнение о том, что поэзия Некрасовой — это всего лишь наивные картинки. Если посмотреть на миниатюры Некрасовой, можно убедиться, что ведущим приемом ее поэзии является сравнение. Вообще, Ксения была большим мастером сравнений. В свое время она привела в восторг Николая Асеева своей строчкой «И хаты утками сидят // Среди оранжевых садов». «Это просто замечательно, — писал Асеев, — здесь… столько описательной силы, такая непосредственность наблюдения… даны сразу и приземистось и неподвижность этих хат и их домовитость и теплота». Необычные, зачастую неожиданные, эти выразительные средства запоминаются, «цепляют», придают стихам Некрасовой ту самую пресловутую «картиночность». Однако «картиночностью» их роль не исчерпывается. Если в традиционной поэзии сравнения используются как средства дополнительной выразительности, то у Некрасовой они становятся основной частью сюжета и носителем идеи стихотворного произведения!!! Излюбленный прием поэтессы — заканчивать свои миниатюры сравнением. Причем почти всегда сравнение иллюстрирует процесс перехода или превращения. В стихотворениях можно выделить несколько типов превращений, но наиболее интересным явлется процесс перехода человека в растение. Некрасова сравнивает с растениями людей, которые наиболее дороги ей. Среди них — Анна Ахматова: «Голова седая, // а лицо как стебель», маленький сын Ксении: «Дорогая деточка, // золотая веточка»… когда Ксения хочет похвалить кого-то, она говорит о человеке, что он «прекраснее ветвей». Любовь между двумя людьми в воображении Некрасовой тоже становится растением: Твоей руки коснулась я, и зацвела сирень… Боярышник в сквере Большого театра цветами покрыл шипы. Судя по всему, для автора сравнение с растением является той самой сверхидеей, чем-то очень значимым. И в этой связи нельзя № 1 (1) 2011 87 Евгения КОРОБКОВА Мифотворчество в поэзии Некрасовой РАССКАЗЫ, СТИХИ не вспомнить о «Метаморфозах» Овидия, произведении, в основе которого лежат древние мифы о превращениях. Любящие друг друга Филемон и Бавкида обращаются в дуб и липу. Спасаясь от преследований Аполлона, становится лавром Дафна, а Нарцисс и Аякс превращаются в цветки… Однако если у Овидия инициатором превращений являлись боги, то у Некрасовой превращения осуществляет поэт, образ которого возведен к божественной сути. Без сомнения, древним людям был бы понятен пафос стихотворений Некрасовой. Сравнивая человека, к примеру, с деревом, Ксения не просто рисовала «наивную картинку», а возвышала стих до самой высшей, по ее понятиям, точки. Обладая мифологическим типом мышления, Некрасова своей поэзией являла нам образцы мифотворчества. Рассуждая о мифе, Лев Лосев пишет: «миф есть… наивысшая по своей конкретности, максимально интенсивная и в величайшей мере напряженная реальность». Именно такую мифическую реальность рисовала в своей поэзии Ксения Некрасова, когда, уподобясь Творцу, творила метаморфозу, являя ей высший акт поэтического откровения. Ксения НЕКРАСОВА Солнце, утверждающее жизнь Ксения НЕКРАСОВА УРАЛ Лежало озеро с отбитыми краями… Вокруг него березы трепетали, и ели, как железные, стояли, и хмель сучки переплетал. Шел человек по берегу — из леса, в больших болотных сапогах, в дубленом буром кожухе, и за плечами, на спине, как лоскут осени — лиса висит на кожаном ремне… Я друга из окошка увидала, простоволосая, с крыльца к нему сбежала, он целовал мне шею, плечи, руки, 88 ЛАМПА И ДЫМОХОД и мне казалося, что клен могучий касается меня листами. Мы долго на крыльце стояли. Колебля хвойными крылами, лежал Урал на лапах золотых. Электростанции, как гнезда хрусталей, сияли гранями в долинах. И птицами избы на склонах сидят и желтыми окнами в воду глядят. Ксения НЕКРАСОВА Солнце, утверждающее жизнь ИЗ ДЕТСТВА Я полоскала небо в речке и на новой лыковой веревке развесила небо сушиться. А потом мы овечьи шубы с отцовской спины надели и сели в телегу и с плугом поехали в поле сеять. Один ноги свесил с телеги и взбалтывал воздух, как сливки, а глаза другого глазели в тележьи щели, а колеса на оси, как петушьи очи, вертелись. Ну, а я посреди телеги, как в деревянной сказке сидела. РАЗДУМЬЕ На столе открытый лист бумаги, чистый, как нетронутая совесть. Что-то запишу я в памяти моей?… Почему-то первыми на ум идут печали, но проходят и уходят беды, а в конечном счете остается солнце, утверждающее жизнь. № 1 (1) 2011 89 РАССКАЗЫ, СТИХИ Алексей Михайлович Залесский (р. 1937) — писатель, редактор журнала «Лампа и дымоход», работал как журналист и критик в отечественной прессе и за рубежом. Алексей ЗАЛЕССКИЙ Стихотворения Осеннее Красные листья в вагоне: Девочка ветки с красными листьями держит в руках. Красные листья в вагоне Среди лиц пассажиров, Сонных, зевающих, усталых и пьяных, Среди сумок, авосек, букетов садовых цветов, Астр, гладиолусов, флоксов, Всем знакомых и всем надоевших. Красный, горящий букет Из леса, сырого осеннего леса. Красные листья, редкие даже в лесу, А тем более в электричке, С куста, который в кровь обмакнули Или в малиновый сок, Предварительно выкопав с корнем. А потом посадили на место, 90 ЛАМПА И ДЫМОХОД Алексей Рисунок Екатерины КАРПОВОЙ ЗАЛЕССКИЙ С куста, который красным флагом бьется под ветром, Октябрьский праздник встречая, Среди равнодушных соседей, зеленых и желтых. Они его осуждали: Ишь, выскочка какой объявился, Покраснел раньше времени — Месяц до праздника ждать. Подмосковный пейзаж За поселком у станции тотчас увидел Целое войско берез, Их вершины с полуопавшей листвой Качались так сильно, № 1 (1) 2011 91 Что я испугался: Не обломились бы тонкие шеи. А дорожка к оврагу меня привела И стремительно бросилась вниз, По пути огибая Боязливо стоящие на крутизне Старые липы. Они ветками, словно руками, Искали, за что ухватиться. Я спустился к ручью, Который блестел, как осколки стекла, Сквозь кусты, покрывавшие склоны оврага. Над ручьем серый бревенчатый мостик, Перила его давно поломались. Перейдя ручей, я поднялся наверх. Впереди бледно-желтое поле, И на нем, Похожие на курганы, Огромные сена стога. А вдоль дороги столбы Суковатые и кривые. Их как будто только сейчас Срубили в лесу. Стрекочет вдали где-то трактор, Как гигантский кузнечик. Я пошел по дороге. Позади остались березы, Они мне светили Приветливо издалека. А за полем, В густую закутавшись зелень И протянув к синему небу Тонкий шпиль колокольни, Притаилась белая церковь. Помнит она старую Русь, Косарей, возвращавшихся с поля, Барские дрожки, Толстых купцов и странников бедных. Тихими, ласковыми огоньками Горели ее лампады. В воскресенье Вся деревня к ней приходила: Мужики, бабы и дети Целовать ее чудотворные иконы В Троицын день РАССКАЗЫ, СТИХИ 92 ЛАМПА И ДЫМОХОД В душистые ветки берез Ее убирали. А на Пасху К ней несли куличи, Украшенные бумажными розами И горки красных яичек… Около церкви столпилась деревня С избами, серыми, как мужики. У околицы черно-белые козы Провожали меня удивленными долгими взглядами. За деревней открывается лес, Как тяжелые черные двери. В лесу, над землей, засыпанной хвоей, Среди детского сада маленьких елочек, Одетых в зеленые теплые шубки, Качались веера пожелтевших папоротников, Точно вырезанные из кости. Кто согнул здесь орешник? Нет, никто не согнул: Он просто так вырос, Дугу очертив над тропинкой, Запрокинув вершину И касаясь листвой Ржаво-зеленого мха. Истерически вдруг надо мной Закричала сорока. Я ее обругал: Не мешай любоваться природой И снова вокруг посмотрев, Заметил На зеленом, еще не тронутом осенью низком кусте Несколько красных листочков, Похожих на роз лепестки. Вот сюрприз! Никогда б не подумал, Что встречу розу в лесу. А вдали Сквозь полупрозрачную веток решетку Еще долго белела Знакомая церковь, Она как будто рада была, Что ее я заметил, И теперь благословляла меня на дорогу. № 1 (1) 2011 Алексей ЗАЛЕССКИЙ 93 РАССКАЗЫ, СТИХИ Ирина Анатольевна Антонова — Поэтесса. Член российского союза писателей. Сотрудница журнала «Истоки». АКВАРЕЛЬ Стихотворения Ирина АНТОНОВА Под мокрой кочкой в крошеве трухи Проклюнулся апрель и вертит головою. Он жаждет осязать и блики, и штрихи И выпростать крыло над прелою листвою. Пушится верба, катится река, Лежит земля без всякого покрова, И светом выдыхают облака, — И только он всему — первооснова… * * * Где вы, серые питомцы? Трудно прятаться в лесу, Постелила б вам соломки, Да от пули не спасу. Где вы рыщете полночи, Выходя на лунный свет — Видно, леший вас морочит, Наводя на ложный след. Екнет сердце ненароком, Станет зябко у огня — 94 ЛАМПА И ДЫМОХОД Не спеши с утра, сорока, С новостями для меня. Ирина АНТОНОВА АКВАРЕЛЬ * * * Прошлого счастливые крупицы На ветру развеялись, как прах — Жизнь моя — нахохленная птица, Притулилась к дереву впотьмах. Цепенеет дух в замерзшем теле. Неужели кончена игра? Под контральто снежное метели, Под навесом белого шатра? * * * Усталые веки прикрою, Пусть вьюга хлопочет во мгле, А что еще делать зимою, Как только мечтать о тепле. Пусть снег наметает к порогу — Все выше и выше покров — Залягу медведем в берлогу До первых весенних стихов! * * * Длинная строка — строка короткая На воде качались зыбкой лодкою Чувствую богов благоволение, Легкое морское дуновение. Золотой песок. Весло в движении, По волнам плыву воображения. И сюжеты выплывают парами, Попрекают замыслами старыми… Уцепившись длинными ветвями, Обрастают образы словами. И, как парус, свежестью наполнена Новая строфа встает над волнами. № 1 (1) 2011 95 РАССКАЗЫ, СТИХИ Герман Робертович Арзуманов — прозаик, главный редактор журнала «Лампа и дымоход». ДВА УТРА Герман АРЗУМАНОВ Рассказ О ткуда она бежит, сама не знает; но точно — тот салон оптики на юго-востоке что-то ей напомнил из прошлой, единственно настоящей жизни. Она стояла у стеклянной витрины и заглядывала в пустой зал, когда эти твари на нее напали, свалили на тротуар и… порвали бы, изуродовали и убили прямо здесь. Только со страху вцепилась зубами, вырвала чьего-то мяса из тела, — и как получилось..? Теперь она бежит, туда, на северозапад, в Сиреневый сад, где, конечно, бывала; иногда по целому дню ждала там своего Рубена Ильича. «Не могу бежать», хэ, хэ… — «пить!» — «где…». «Где все?», «…не закоулок же какой-то, площадь целая…» — «не могу…». «Го-о-о» — фагот стального тягача. Его капот, голова и рама — это чистое рыло — крошить берцовую кость. «Твари бегут…» «Тягач…» «Го-о-о» — гарпунный язык. «Убрался! Уполз, — Фуу-у; пыхтят только из ушей да перятся вспученными глазами». — «Их не трусь — сами они испуганные, — тьфу». 96 ЛАМПА И ДЫМОХОД «Если задавит — враз, страх не ёкнет…» «Куда?» — лужа — на разделительную — стоп! шины — жжах, жжах за спиной лужу. «Туда…» — наискось через дорогу. Другая сторона — по тротуару; впереди, в пальто, руки в карманах — идут. «Ничего не чувствую, нет… — бок болит». «Я к вам. Я бегу… Ну! есть же Бог! Ко мне, ко мне! — эти твари еще на той стороне…». «Нет, а-а-а! гонят, как быстро гонят… — зашлепали, чвакают уже по луже. Конец…» «Умоляю…» «Женщина-женщина, муж…» — замахнулся! — «А! не бей! Как не видите? Я их боюсь… Родные!!! …вы меня спасите только…» Неля Григорьевна Неля Григорьевна родилась, когда была война, в тыловом городе. Ее мама часто готовила своим пятерым детям обеды из гречки и субпродуктов, потому что стране было очень трудно, и им, наверное, особенно: отец погиб в сорок третьем. Неля с дворовыми играла в медсестер, в казаки-разбойники; на привалах в костерке пекла картошины и лук. После войны была разруха, и оттого хлеб всё равно еще давали по карточкам; тогда обожали селедку и омлет из американского яичного порошка; сахар-монолит держали в ладони как упавший малый метеорит, кололи на бисерный крох, и сладкое счастье — под язык. Старшие сестры и брат женились, а Неля Григорьевна осталась жить с мамой и хромым братом. Она любила кино: с братом покупали билеты по десять копеек, перед концовкой прятались в туалете, потом появлялись и бесплатно смотрели еще сеанс. Возвращались затемно, перекрикивая друг друга, рассказывали, что бы они делали, если бы жили там — в той жизни внутри экрана. А дома мама готовила им оладушки — это вкусно с абрикосовым джемом. Брат стал работать с четырнадцати; одевал и обувал свою красавицу сестричку Нелю. Однажды купил ситцевое белое платье в черный горошек, лакированные босоножки, глянцевые черно-белые бусы на три обхвата и «Полено» — маленький торт — ее самый любимый, потому что такой же принес он и с первой получкой. А Неля готовила с ним домашние задания, чтобы он закончил вечернюю школу. Ее брат стал хорошим портным, женился, а Неле твердо сказал: «Иди в институт! И маму, и тебя прокормлю». В то время, она помнит, летом по выходным готовили шашлык из севрюги и нередко № 1 (1) 2011 97 Герман АРЗУМАНОВ Два утра РАССКАЗЫ, СТИХИ бывало — кушали черную икру; место у них такое — приморское. Но всё равно каждую корочку хлеба — если попадалась на пути — подбирали с уважением, обдували, очищали и клали на подоконник, в укромный уголок или на ветку. Потом Неля Григорьевна выучилась на инженера. Когда появилась семья — муж, двое детей, они с трудом сводили концы с концами. Растили детей, много переезжали. В год, когда умер Брежнев, Неле Григорьевне с семьей, наконец, дали отдельную квартиру. Целая комнатка кладовой тогда служила да плюс балкон: и варенье, и копченость, и маринад. Хоть запаса иного не скопишь — они с мужем инженеры — но и жаловаться грех, не в обиде детей поднимали. Хлебушек недоеденный Неля Григорьевна всё равно нарезала в кубики и в духовом шкафу в сухарики высушивала. В перестройку в кладовке размещался разнообразный хозяйственный материал. Хлеб начали было продавать по карточкам, потом — в огромных очередях «по буханке в руки», но «выкидывали» его в одной из двух булочных района, секретно, чтобы не все знали. Дальше — продавали тесто для приготовления хлеба в домашних условиях, а хлеба не стало вовсе. Кстати, и работы не стало. Любит Неля Григорьевна готовку. Она пенсионерка, и есть время. В ее доме не может быть меньше, чем две-три кастрюли с готовыми обедами. Каждый день у нее кто-нибудь переедает, каждый день у нее — «удачный для случайных гостей», каждый день ее уставший кот отворачивается от вчерашнего мяса в пользу сегодняшнего, и каждый день она начинает, радостно гремя посудой, половниками и резаком. Размораживает, нарезает, шинкует, обдает кипятком, обжигается и крутит через мясорубку. Сипит масло, шкворчат крылышки, биточки, котлеты, рульки и парной кролик. Забурлил высокий казанок — суп, скорее всего, мясной, с горохом и несчетным лавровым листом; пенится, пенится и убегает на плиту молоко — «Ах, блинчики! — вскрикивает Неля Григорьевна. — Рома, ну что ты! Вот сиди теперь без блинчиков». Вытяжка у нее в кухне работает хорошо, но она предпочитает окно, поскольку «все равно толку нет». Очень давно поселились и живут здесь, в маленьких, даже дальних шкафчиках ее квартиры зовущие ароматы, но каждый день Неля Григорьевна изобретает новые — вкуснее, похожие, да не похожие — букеты! Неля Григорьевна проснулась. Умылась, поставила чайник, разбудила внука, покормила его, собрала и проводила в школу. Заторопилась в кухню — сегодня ей идти в поликлинику. Она достала из холодильника кастрюльку с отваренным рисом, ровным слоем выложила его на подоконник с внешней стороны. Потом сварила себе овсяную кашу с бананом, позавтракала, взглянула на веселые настенные часики. Пора. 98 ЛАМПА И ДЫМОХОД Неля Григорьевна выходит; да, теперь она только одним глазком сейчас еще раз заглянет туда, в холодильник, и выйдет. Она и так помнит, чего докупить, но — чтобы, вдруг он хочет поиграть с ней. Вы же знаете, то — спрячет что-нибудь, то — выкинет, то — съест или выпьет лишнего. — А, вот, так я и знала! — первое, что в теперешний подход ей повстречалось в холодильнике, это вчерашние мясные обрезки, они остались от борща, и несколько крупных, сочных, немного заветренных кусков телятины — от них вчера и позавчера отказался кот. Она с улыбкой перебросила все это в пустой пакет из-под хлеба, уложила в сумку и пошла. За ночь успели замерзнуть неглубокие лужи, но сейчас под утренним слабым солнцем вода в них наступала на ледяные корки, подтапливала и губила застывшую было гладь. Неля Григорьевна перешла улицу, как всегда, в неположенном месте; не придавая значения гудкам, машинам, новой башне, что выстроилась справа как-то сама собой, она шла и улыбалась хорошему дню. Вдруг рядом с ней у обочины остановилась легковая машина. Из открывшегося окна высунулось лицо женщины, водитель в глубине тоже наклонился и вытянулся, чтобы видеть Нелю Григорьевну: — Скажите, пожалуйста, как попасть на Щелковское шоссе? — спросила женщина. Нелю Григорьеву часто о чем-нибудь спрашивали незнакомые люди, и каждый раз она охотно пускалась в разъяснения. Бывало, она сомневалась — как проехать туда, куда спрашивают, и знала, что если увидит, то вспомнит. Ей в таких случаях неимоверно хотелось проводить человека куда надо, но чтобы не подумали, что она хитрит или навязывается, Неля Григорьевна этого не предлагала. Но не бросать же человека неутешным? Поэтому она на месте придумывала ему «эскизный» путь. — Вы едете как раз с той стороны, — ответила Неля Григорьевна. — Вам бы назад. Вот сейчас проедут машины, и вы поворачивайтесь назад. Только постойте, а вам налево на Щелковское шоссе или направо? — Ничего, спасибо, — выкрикнули из окна, и машина поехала. Неля Григорьевна задумчиво отошла от края и уже медленно начала идти по своей дорожке, когда увидела мчащуюся на нее большую собаку с поджатым хвостом. Собака была светло-бежевого цвета, с крупными, развевающимися от бега ушами, коричневыми глазами и с подмоченным грязным пятном на шерсти сбоку. Ее с надрывным лаем, ругаясь и захлебываясь холодным воздухом, гнали по улице пять оскаленных псов. Неля Григорьевна остановилась. Большая собака в ошейнике, не сомневаясь ни секунды, влетела в нее и залегла на землю, скрывшись под полой длинного драпового пальто. № 1 (1) 2011 99 Герман АРЗУМАНОВ Два утра РАССКАЗЫ, СТИХИ Тяжело дыша, почти задыхаясь, собака лежала на асфальте между ботинками Нели Григорьевны; потом шевельнулась, заползла глубже под полу и осторожно высунулась наружу. Псы, окружившие Нелю Григорьевну, дерзко лаяли и наступали. Она схватила зонт из своей никогда не закрывавшейся сумки, резко вытянула его во всю длину и точно ударила одного по голове. Ей даже не пришлось ни крикнуть, ни топнуть — оттого ли, что приближались рабочие Мосводоканала, а может, оттого, что на Щелковском шоссе грохотнула лопнувшая шина, но вернее всего — потому что на псов она очень рассердилась. — Хорошая моя, — приговаривала Неля Григорьевна, гладила и кормила собаку мясом из хлебного кулька. — Худющая… Ты у меня еще о-го-го как!.. Я — Неля, а ты — собака, хорошая… Галошино На краю Москвы, в деревне Галошино, что до середины шестидесятых считалась восточной слободой, часто случались пожары, особенно зимой. Жители топили свои скучные хибары обыкновенными буржуйками, согревались пальтишками, телогрейками и попавшими сюда от каких-нибудь днепропетровских родственников кацавейками. Вечером много курили — была в ходу байка, что от этого теплее, а перед сном утюгом пронимали свои ватные матрасы и постельное белье. Из города в Галошино ходил только один рейсовый пазик номер 16, и то, бывало, ждешь — и не дождешься. Мама Рубена Ильича в то время работала в авиакассах напротив памятника Дзержинскому, а отец лежал в больнице уже третий месяц с неизлечимой болезнью. Семилетний Рубен проводил дни с бабушкой и прабабушкой в одной из комнат на втором этаже, комната эта делилась ширмами и шкафом на углы и кухню. Все помещения того щитового, хоть и утепленного, дома-малосемейки — это шесть отдельных комнат на пять семей, туалет и переделанная из второй уборной душевая с прогнившим полом. Снаружи их общежитие напоминало простой спичечный коробок на боку. Рубен считался вполне самостоятельным и воспитанным мальчиком — мама учила не шуметь, играть тихо и не мешать бабушкам, и он не мешал; когда ему надоедали кубики, деревянные танки и солдатики, он ни к кому не приставал, а тихонько выбирался в коридор и заворачивал к соседской двери, но не то чтобы стучал в нее… Их сосед был как скала — «чурбан», говорила мама Рубена, — ненавидел старух и всегда нетерпеливо колотил в дверь общего туалета, если та была закрыта. Когда был здоров, сосед прокладывал тоннели к станциям метро. Но это было давно. Мальчика он 100 ЛАМПА И ДЫМОХОД терпел, молча, много кашляя, побраниваясь; когда уставал, обычно сильно затягивался папиросой и направлял струю дыма Рубену в глаза. У соседа, в сущности, было еще хуже, чем дома, но зато у него жила настоящая, как у разведчиков, собака. Всегда, когда Рубен только замахивался, чтобы постучать к соседу, собака гавкала один раз, и тогда нужно было ждать. Через некоторое время сосед отщелкивал совершенно разболтанный замок, резко, до удара об шифоньер открывал дверь и останавливался посреди проема — одна рука упиралась в косяк, другая держала дверь. Сосед смотрел на Рубена, тот — на него и на собаку, стоящую за ним. Рубен молча проходил под упертой в косяк рукой, сосед захлопывал дверь. Одиннадцатилетняя немецкая овчарка Анна умела считать, подносить соседу практически всё по его требованию и включать радио, только громко. Сосед как-то сказал, что она умеет спасать людей, но как именно — рассказывать ему было лень; он просто взял столовый нож и притянул к себе Рубена. Анна в этот момент спокойно лежала под столом. Мгновенье — рык, в один бросок вспрыгнула она на диван и навалилась на хозяина. Нож он сразу бросил, ошалело кашлял и смеялся, матерился. Потом сосед тоже заболел, и Рубен с Анной ходили за хлебом и папиросами для него. Рубен быстро шел до конца улицы и на веревке волок за собой санки, за поворотом сажал на них Анну, тянул, пока не устанет; бывало, падал на снег — тогда она лаяла, спрыгивала; он поднимался, отряхивался, а собака радостно заскакивала обратно и ждала… Был поздний морозный вечер. Рубен надел ушанку, черное пальто и хотел выйти, чтобы забрать Анну и подышать с ней у подъезда. Но бабушка — та, что младше, — отчего-то запретила. «Ничего, у окна подышишь, неблагодарный…» — запомнил Рубен Ильич ее обидные слова. Он стоял на коленях на стуле у приоткрытого окна, поджигал бумажки, выбрасывал на ветер и смотрел, как они горят в полете. Бабушка уже легла в постель, что-то издалека крикнула ему, а он быстро поджег последнюю, закрыл окно и спрыгнул. В тот вечер автобус номер 16, в котором возвращалась мама Рубена, намного медленнее, чем обычно, катился от хлебозавода до стадиона «Сталинец» (теперь «Локомотив»), наконец, начал взбираться вверх, на мост над Окружной железной дорогой, и там встал. Дальше на мосту и на Щелковском шоссе одна за одной стояли легковые и грузовики; слышно было, как где-то в Галошино гудят пожарные или «скорые» машины. От моста мама Рубена шла быстро, пока не встретила знакомую. «Люба, ты беги…» — сказала женщина. Вдруг маме Рубена показалось, что свет на шоссе угасает, и закружилось уже в голове, но как в рупор бахнуло снова: «Беги!» Она побежала… № 1 (1) 2011 101 Герман АРЗУМАНОВ Два утра РАССКАЗЫ, Рисунок Наталии ПОПОВОЙ СТИХИ «Скорая» собиралась отправляться; мама Рубена их догнала, с воем схватилась за ручку, распахнула дверь. Фары пожарной и догоравшие доски давали небольшой свет — на носилках в темном холодном кузове лежал Рубен, на полу на пахнущей гарью тряпке — собака, и на лавке сбоку, как ни в чем ни бывало, сидел, кашлял и курил сосед. Когда Рубен, закрыв окно, спрыгнул со стула, единственное, что ему оставалось, — это быстро почистить зубы и лечь в кровать. Он сунул палец в банку с порошком, прошелся им наскоро во рту вдоль щек, сполоснул, вытерся и завалился в кровать с тяжелым сердцем, не пожелав бабушкам даже спокойной ночи. Анна ткнулась мордой в плечо спящего хозяина и следом громко залаяла ему в лицо. Сосед Рубена пришел в себя. В комнате было дымно. Он высунулся в окно: помещение под ним, в кото- 102 ЛАМПА И ДЫМОХОД ром уже с месяц никто не жил и за которое хлопотал в сельсовете метростроевец с нижнего этажа, горело: фанера, что вместо стекла на окне, — трещала, дымилась по краям, а из не забитой ничем форточки фыркало рывками пламя. Сосед как попало натянул и набросил на себя вещи со стула; из шифоньера, из ящика свалил всё в простыню, прибавил туда подушку, завязал узел и вышел. Вместе с Анной, которую тянул на поводке с силой, сосед отошел от дома. Дом разгорался. Анна лаяла, особенно заходилась, как только кто-то выскакивал из окна или двери. Рубен не появлялся. Вдруг она вырвалась и унеслась в черный дымный подъезд. Сосед харкнул, вырвал из ограды, рядом с которой стоял, кол, набросал на себя снега и побежал. Собака бешено лаяла под дверью Рубена. Почувствовав хозяина, Анна мгновенно бросилась, вцепилась зубами в руку, в которой был кол; но от беспрерывного лая в дыму она слишком ослабла и просто повисла. Сосед высвободил руку. Ногой выбил дверь, пригнувшись и прикрывая лицо рукавом, вошел в сильно задымленную комнату; с утробным гулом и треском разгоралась ее дальняя сторона. Рубен лежал под одеялом. В секунду метростроевец хапнул ребенка с одеялом под мышку, выбежал, на ощупь захватил Анну за холку, ударяясь о стены и поскальзываясь, сошел по лестнице вниз. Рубена с мамой поселили в прекрасном современном пятиэтажном доме — таких по решению Хрущева выстроилось повсюду множество, в том же доме дали однокомнатную и их бывшему соседу; а Галошино быстро сносили, освобождая место под новый микрорайон. Сосед вскоре опять слег — он называл это пыльной болезнью метростроевца. Он принимал ингаляции, мама Рубена ставила ему уколы, но сосед все равно захлебывался от кашля и очень редко теперь вставал. Как-то врачи хотели силой забрать соседа в больницу, но тот порвал доктору резиновый шланг на стетоскопе и собирался ударить кого-нибудь из бригады скорой помощи; «Я без собаки не буду», — отрезал он, тем всё и кончилось. Рубен ежедневно гулял с Анной и приносил поесть; но однажды метростроевец перестал принимать пищу. На другой день миска Анны тоже оказалась нетронутой: собака лежала рядом с кроватью хозяина, изредка переводила взгляд или перекладывала поудобнее голову на лапы. Еще через день сосед вколол Анне стрихнина и отравился сам. Как у прокуратора Рубен Ильич завел свою собаку, когда ему перевалило за сорок пять. Но сделал он это не по своей воле; сам не хотел никогда. № 1 (1) 2011 103 Герман АРЗУМАНОВ Два утра РАССКАЗЫ, СТИХИ Как подумает, что, может, больше собаки своей проживет, а значит, и смерть ее пережить придется, так сосед из детства — в аду на кольях — всё ему представлялся… Бывало, сам себе снился: то он закалывает клинком пса, то, наоборот, собака взбешенная его задерет и руку откушенную, еще от живого, в сторону тащит. Жениться Рубену Ильичу тоже никогда не хотелось, а когда скончалась мама — галопирующая инфляция была тогда, — от испуга за общую жизнь и по бедноте своей никто к нему не приехал, кроме двоюродной сестры из Фатежа, что в Курской области. Так они и сошлись, пять лет жили без детей, а потом решились и родили. Сын Рубена Ильича Матвей родился вследствие выкидыша, весом около полутора килограммов, но выжил, и, к удивлению, многие болезни, которых боялись родители, прошли легко или не трогали ребенка совсем. Однако страхи, которые образовывались в Матвее — случайно, вдруг, из какого-нибудь изменившегося обстоятельства или нового предмета, — в несколько минут делали нормального ребенка сумасшедшим. К пяти годам справились и с этим; приступов паники практически не стало, а рудиментом болезни закрепилась в нем, как говорили тогда, лишь редкостная впечатлительность. В одну субботу у входа на ближайший овощной рынок женщина продавала щенят. Они были живчики — тявкали, карабкались по стенке плетеного лукошка; время от времени кто-нибудь оттуда выпадал. Рубен Ильич навис над лукошком и разглядывал щенят. — Какая порода? — спросил он. — Точно как у Понтия Пилата, — ответила хозяйка и, подняв щенка вверх, повертела им возле носа Рубена Ильича. Он распрямился, сложил очки в очечник и собирался уже поднимать присевшего на корточки сына, чтобы идти, как вдруг прямо перед Матвеем вывалилась бежевая, пухленькая, с висящими ушами и розовым языком собачонка. Ребенок, как оказалось, обожал именно эту собачонку уже очень давно — еще со страницы в книжке, где собачонка утаскивала сосиску из холодильника и делилась с каким-то другим мальчиком, таким же, как он. Матвей не мог двинуться с места — он то верещал от радости, то плакал, упрашивал, обещал никогда-никогда больше не баловаться, если ему купят этого щенка. Рубен Ильич ходил между овощными рядами, еще и еще, у какого-нибудь прилавка брал овощ в руку, зло говорил: «Дорого!» и тянул сына дальше. Обидными ему казались теперь зазывные прибаутки, цены, фальшивые напевные комплименты, что выкрикивали торговки. Вспомнились теперь и пожар, дыхатель- 104 ЛАМПА И ДЫМОХОД ная маска, крик бабушки, тихая смерть мамы и овчарка соседа, Анна. Он остановился, закрыл глаза, и вдруг — зазеленело поле, побежал он — маленький мальчик, упал на пахучую траву, всматривается в голубой цветок — на нем пять колокольчиков, склонивших головку, они с нетерпеньем просят: «тронь меня, тронь», — чтобы залиться-зазвенеть белыми пестиками о лепесток. Очень высоко над ним чистое-чистое небо… Рубен Ильич открыл глаза, присел. Отряхнул сыну брюки на коленях и сказал: «Давай, это так и нужно. Возьмем ее». Собаку назвали Анной. Матвей с ней спал, ел, играл и, бывало, ссорился из-за сушеных фиников или конфет, которые Анна нередко умыкала у него, пока он спал. Летом Матвей с мамой и с собакой, как правило, обитали на даче, а Рубен Ильич приезжал на выходные. Трудно сказать наверняка, но, кажется, из-за собаки Рубена Ильича в тот период никто не припомнит строгим: вечерами он катал семью на машине, ходил с Матвеем на «мульты» и в жаркий день легко плюхался прямо в одежде в Сокольнический фонтан; с Анной он любил гулять в Сиреневом саду, особенно когда там порхал свежий ветерок, когда пахло молодостью и дурманила сирень. Матвей Кровать Матвея стоит у окна в родительской спальной. Взбирается он на нее, обычно, чуть подпрыгивая. Со стороны головы, немного вправо — из красного дерева мамино трюмо с двумя тумбами. Под зеркалами ароматные флаконы, розовое масло, кремы, пудра, красная кожаная шкатулка, расписанная сине-золотым самаркандским узором, и черный глянцевый сундучок. Ворочать такими богатствами, как те, что лежат в сундучке и в шкатулке, Матвей любил необыкновенно. Он приседал перед трюмо, открывал все, поочередно выкладывал мамины украшения, маленькие бронзовые фигурки, монеты перед зеркалами и на пол. После этого придумывал им назначения — то он пират и захватил сундуки, а в них горят-переливаются рубины, бриллианты и золотые фунты; то он король всей Индии, а то — маленький Маугли в руинах старого города, среди заброшенных богатств. Он точно знал — чего и сколько должно содержаться в шкатулке и сундучке; после игры и переучета сокровищ он раскладывал их по местам и был абсолютно уверен, что в следующий раз драгоценностей не убудет, а, может быть, даже — вовсе наоборот. № 1 (1) 2011 105 Герман АРЗУМАНОВ Два утра РАССКАЗЫ, Рисунок Наталии ПОПОВОЙ СТИХИ Однажды Матвею приснился красно-черный сон. Там был жаркий день. В раскаленном докрасна воздухе плыла человеческая тень с красным, как у разбойников, платком на голове. Платок был натянут ниже лба — на глаза. Тень хотела быть незаметной: шла медленно, чтобы не зацепить ни одного камушка или ветки. Рука тени заканчивалась черным ножом. Матвею было очень страшно. Тень поднялась по деревянной лестнице на второй этаж, где находилась «сонная» квартира Матвея и его роди- 106 ЛАМПА И ДЫМОХОД телей. Папа и мама смотрели телевизор, а тень скрипнула дверью и, не церемонясь, вошла; но родители ее всё равно не услышали. Для приличия тень всё же наклонилась, прошла по залу прямо перед носом родителей и проникла в спальную. Матвей от страха открыл глаза. Тень стояла спиной к нему и, открыв дверцу лакированного шифоньера, бесшумно копошилась в вещах. Дальше она, не замечая Матвея, перешла к трюмо и занялась их с мамой сокровищами. Матвей не мог сдержаться — очень давило в груди и горле, он широко открыл рот, чтобы закричать, но ужас совершенно отнял у него голос, он хотел сдвинуться, убежать, но и пошевелиться не мог; только следил глазами за тенью и прислушивался к движениям. Тень встала на колени перед Матвеем — он, чтобы притвориться спящим, опять закрыл глаза, — склонилась ниже уровня кровати, вытянула из-под нее чемодан. Тихо отщелкнула замки и начала перебирать и разбрасывать на пол ненужные ей тряпки. Матвей во второй раз открыл глаза; весь в поту, следил он за покачиванием тени, когда она вдруг подняла голову и оказалась лицом к лицу с ним. Физиономия тени была именно такой, какой и ожидал Матвей, — с тремя грубыми пересекающимися шрамами. В глубине ее черного ухмыляющегося рта виднелись несколько зубов и комок вместо языка, а чуб свисал из-под красной головной повязки на влажные глаза. Матвей толкнул высунувшуюся голову ладонью в лоб, захрипел, закричал с сумасшедшей силой. В это время Анна, тихо стоявшая рядом с Матвеем, от дикого крика взметнулась, кинулась из спальни, пересекла залу и скрылась в туалете. Матвея снова много возили к докторам, но ничего не помогало — ребенок и днем и ночью не отпускал руки мамы. Вернулись приступы паники и безудержного страха. Через год Рубен Ильич поневоле согласился на народный метод. Бабка, похожая на Бабу Ягу, раскачиваясь, по слогам пробормотала заговор, нанесла на лоб ребенка крест из жирного желтого вещества, велела его не смывать три дня. И Матвей, как и прежде, мало-помалу окреп, но… Каучуковый ерш В сырое октябрьское утро Рубен Ильич встал пораньше, пожарил себе яичницу глазунью из трех яиц, уселся, проткнул ножом поблескивавшие глазки — они медленно потекли; неожиданно он вздрогнул, волна пробежала по телу, и больно дернуло в шее. Он поднялся, быстро сбросил из тарелки яичницу в мусорное ведро. Вдруг показалось, что в квартире холодно, или — сквозняк, но открытых окон и дверей не нашлось, и он подставил руки под горячую струю в кране. № 1 (1) 2011 107 Герман АРЗУМАНОВ Два утра РАССКАЗЫ, СТИХИ Спустя несколько минут Рубен Ильич уже одевался: надел ботинки, черное пальто, теплые шарф и кепку. Анна отчего-то ленилась выходить, но Рубен Ильич притянул ее, пристегнул ошейник, к нему — поводок, взял свой рабочий портфель, и они пошли. Собачников во дворе видно не было. Рубен Ильич завел машину, подстелил Анне покрывало на заднем сиденье, она запрыгнула, сам сел за руль, перекрестился и тронулся. На площади перед мясокомбинатом, куда они подъехали, бродил одичалый грязный пес с обрубком вместо хвоста; встревожились и боком запрыгали друг за дружкой две вороны с приоткрытыми клювами. Анна выходить из машины не хотела, зарычала в открытую дверь, но Рубен Ильич протянул ей каучукового ерша — любимую игрушку, потом взялся за поводок и пошел с ней на островок леса через дорогу. Теперь они привычно ступали по трескучему валежнику, мху, едва пошаркивали листьями. Рубен Ильич вытянул из пасти собаки игрушку и остановился. Он держал каучукового ерша — очень пухлого, с закругленными мягкими шипами, так, будто не признавал его, будто тот внезапно стал колким или тяжелым, — перекладывал из руки в руку и приподнимал удивленные брови над ослепшими от слез глазами. Анна от нетерпения виляла хвостом, смотрела то вверх на ерша, то вглядывалась вперед, скулила, терлась об хозяина, но ничего не помогало; наконец — гавкнула. Рубен Ильич размахнулся, зашвырнул игрушку подальше и отстегнул собаку от поводка; Анна мчалась с раскрытой пастью, перепрыгивала рытвины, корчаги; на миг листья с комками взметались за ней — успокаивались и терялись среди остывавшей земли. Рубен Ильич запустил руку в портфель. Туда, где сейчас топталась Анна, сбросил куль с костями и мясом, и кинулся к дороге. 108 ЛАМПА И ДЫМОХОД РАССКАЗЫ, СТИХИ Роман Викторович Рабичев — студент института филологии и журналистики Саратовского государственного Университета. ФЕДЕРИКО К обеду вышло солнце, и Федерико, решив погреть свои старые кости, забрался на холм. Оттуда он увидел дорогу, лежащие по ее бокам поля подсолнечника и далеко за ними деревню, куда приехал бродячий цирк. Было тихо и пусто. Федерико зевнул — довольно буркнуло в его сытом желудке — и лег на траву. Он еще долго глядел вокруг, вниз, пока, наконец, не задремал. Проснувшись, Федерико увидел, что по дороге идет девушка и дудит в дудку. « Хм», — подумал Федерико и пригляделся к девушке: на ее щеке что-то темнело. Что именно, Федерико не мог разглядеть: глаза совсем ослабели и постоянно гноились. Скорее всего, темнел синяк. Девушка шла и дудела, подпевая голосом. Когда она скрылась из вида, Федерико посмотрел на серое скучное небо и засобирался домой. По дороге проехала машина с открытым верхом, увозя шумных людей. «Хм», — подумал Федерико. Он представил, что это он сидит в машине, а люди смотрят на него сверху. № 1 (1) 2011 109 Роман РАБИЧЕВ Миниатюра РАССКАЗЫ, СТИХИ Федерико побрел домой, чувствуя нарастающий в низу живота голод. Цветы подсолнечника, перепутанные у корней с сорняком, напомнили Федерико надписи в мясной лавке. Когда Федерико добрался до своего дома, начал капать дождь. На улице никого не было. Изредка стучали ставни да пробегал пес с добытой украдкой костью. Федерико услышал детский смех и остановился. В доме открылось окно, и наружу высунулся мальчик, держа ложку перед лицом. — Мам, я перевернутый и смешной! — Ох, павлин, не налюбуешься на себя никак! — отозвалась женщина. — Мам, Федерико пришел! — Открывай ему скорей калитку. «Хм», — подумал Федерико и вспомнил, как однажды зимой увидел павлина на снегу. Вечером Федерико лежал в теплой будке и, глядя на свое отражение в луже, думал о павлине. 110 ЛАМПА И ДЫМОХОД РАССКАЗЫ, СТИХИ Кирилл Андреевич Фомин — студент литературного института им. Горького, редактор журнала «Лампа и лымоход». ДОМОЙ …К тому времени я уже забыл, сколько лет я бежал, но очнулся я в малознакомом мне месте, среди отвердевшего запаха болотной гнили, близорукого тумана, по колено в ползущей грязи. Кутаясь в воротник пальто, я стоял у обочины заброшенной дороги, поросшей мхом и покрытой обломками талого снега. Мучила жесткая щетина на лице, промокшие ноги и отсутствие каких-либо воспоминаний. Казалось, я все забыл: забыл, кто и когда выбросил меня у этой дороги, кого или что я жду, забыл, куда и от чего я бежал и сколько дней или десятилетий это заняло. В карманах пальто я не нашел ничего, что помогло бы мне с ответами, лишь коробок спичек, записную книжку, в которой не было ни одной записи, и горсть желтого песка. Не помня, куда я шел ранее, я боялся ступить в ту или иную сторону, и оставался стоять на том же месте, время от времени сжигая по одной спичке и совершенно не ощущая неба над своей головой. Не знаю, сколько часов или, быть может, лет прошло с тех пор, прежде чем я услышал отдаленный скрип за спиной. Тонкий и рит- № 1 (1) 2011 111 Кирилл ФОМИН Рассказ РАССКАЗЫ, СТИХИ Рисунок Наталии ПОПОВОЙ мичный, он напоминал мне звук старого заржавевшего маятника, никак не прекращавшего своего движения. Он вроде бы приближался, когда я внимательно к нему прислушивался, и отдалялся, когда я на время о нем забывал, на самом же деле он всегда был на том же расстоянии. Когда любопытство и отчаяние взяли надо мной верх, я медленно и аккуратно развернулся, приподняв полы 112 ЛАМПА И ДЫМОХОД своего пальто над топкой грязью и пошел в ту сторону, откуда доносился этот выцветший звук. Через некоторое время я увидел странную маленькую фигуру, медленно движущуюся по этой зыбкой земле. Издалека фигура напоминала старинную заводную игрушку, которую кто-то в шутку бросил в этом зловонном и безнадежном месте, чтобы посмотреть, как далеко она сможет уйти. Подойдя ближе, я смог различить старика, он ехал в кресле на четырех ржавых колесах. Почти с ним поравнявшись, я долго наблюдал за ним: у него не было ног сразу ниже бедра, в застывшей улыбке почти не было видно зубов, его белесый взгляд если и видел что-либо вообще, то определенно лишь нечто за пределами здешнего бесконечного пепельного тумана. Старик упрямо крутил колеса своего кресла большими серыми руками, скрипя и все глубже утопая в болоте. Постояв немного поодаль, я решился подойти. Я шел, утопая в смеси земель и воды, из которой торчала пара уродливых мертвых деревьев. — Старик, куда ты едешь? — подойдя совсем близко, не выдержав, спросил я. — Домой, — не переводя на меня взора, уверенно и сумасшедше ответил старик. Я осмотрелся. Ничто нигде не менялось: то же болото из грязи и старого снега, тот же седоватый туман, все тот же меланхоличный пустой пейзаж. — Извините, а где дом? — тихо спросил я, наклонившись, как будто чего-то боясь, совсем близко к нему. — Дом здесь, — ответил он, посмотрев мне в глаза своими мертвыми. Я остановился, отпустив полы пальто в жидкую грязь, скоро поплелся назад к дороге, все глубже утопая в этой бездушной земле. Старик продолжал скрипеть где-то сзади, пока не уехал так далеко, что я не мог его больше расслышать. № 1 (1) 2011 113 Кирилл ФОМИН Домой РАССКАЗЫ, СТИХИ Александр Белоруссов — Переводчик художественных текстов с английского (в его переводе издано 13 романов), студент литературного института им. Горького. ПЯТЬ ПЯТНАДЦАТИЭТАЖЕК Александр БЕЛОРУССОВ Стихотворения пять пятнадцатиэтажек образовали альпийскую связку с помощью перекинутого от крыши к крыше толстого силового кабеля вздрогнув и покачнувшись они вырвали из глины удерживающие их канализационные и водопроводные трубы железобетонные опоры фундамента оборвали телефонные и электрические коммуникации вздохнули и пошли оставив старух на лавочках родителей с маленькими детьми на площадках для игр взрослых, достающих из кармана магнитный ключ от подъезда 114 ЛАМПА И ДЫМОХОД не спешащих домой школьников автомобили, припаркованные носом наружу Александр БЕЛОРУССОВ Пять забрав всех людей, оставшихся внутри пятнадцатиэтажек и в том числе бездомного, греющегося в подвале электрика, спящего у себя в каптерке двух девочек на роликах в лифте и кроме того все плевки, окурки, мусор в мусоропроводе, персональные компьютеры, ковры линолеум на полу в кухне, богемский хрусталь, пустые коньячные бутылки стеллажи с книгами, пропахшие пылью диваны горные двадцатиодноскоростные велосипеды пошли медленно, тяжко, натягивая кабель-связку, прошли мимо Северной ТЭЦ распугав грузовики, пересекли шоссе не изменив ни скорости, ни направления движения, углубились в лес напрямик вышли к Пироговскому водохранилищу ломая тонкий осенний лед, начали входить в воду первый, второй, третий, четвертый, пятый стекла лопаются от давления воды она заливает комнаты, течет по коридорам ошпаривает холодом людей будит электрика доходит до 5-го этажа подобно костяшкам домино, здания ложатся набок, полностью уходят под воду отпустив живых, они уносят своих мертвецов на дно водохранилища пьют чистую холодную осеннюю воду рассыпаясь на отдельные кирпичи, газовые плиты, тумбочки куски одноцветных обоев они смотрят вверх, на то, что находится над поверхностью и в частности на желто-зеленое солнце № 1 (1) 2011 115 РАССКАЗЫ, СТИХИ Просто я пес Выкусывание блох я считаю таким же делом, как и все остальные. Могу подолгу грызть кость. Не от голода — мне просто так нравится. Когда холодно и нечего есть — сплю. Терпеть не могу мокнуть под дождем и болеть. Не знаю, что значит одеваться по моде. Собственная шкура устраивает меня как нельзя лучше. Не исключено, что меня можно пнуть безнаказанно. Надо только найти способ это сделать. Очень редко бываю счастлив. И уж совсем никогда мне не хочется умереть. Хотел бы, чтобы мои подруги хоть на время перестали быть суками. Если плаваю, то по-собачьи. Допускаю существование Бога. Полагаю, что клыки у Него поострее моих. Когда тоскливо — брожу по дорогам. Живу как умею, а получается — год за пять. Бывает, сижу на цепи, но всегда об этом забываю и вспоминаю только тогда, когда в горло врезается ошейник. Автомобиль не вожу, но люблю за ними гоняться. Хотел бы умереть так, чтобы даже я сам не узнал, что я умер. Зимой, когда хочется пить, ем снег. Я знаю, что это тоже вода, хотя он совсем не похож. Просто я пес. Ждем нам совсем недолго до захода солнца нам совсем недолго осталось ждать и солнце зайдет сегодня оно красного цвета и заходит в облаках сегодня оно как железо и заходит в облаках значит, завтра будет ветер если завтра будет день по шоссе идут гуси колодец-журавль — застывшая лямбда на горизонте недалеко от старого купеческого дома 116 ЛАМПА И ДЫМОХОД где первый этаж из камня второй из бревен Александр БЕЛОРУССОВ Пять где в каждой комнате толстая колонна печи-голландки от пола до потолка пятнадцатиэтажек где кое-где на окнах ставни и кое-где еще есть стекла в частом переплете рам где лохмотья обоев и под отвалившейся штукатуркой видно плетеные рейки стены где на полу большие зеленые бутылки из-под самогона с жженым сахаром и димедролом где давно никто не живет а у нас старые-старые куры в курятнике дряхлые уже не несутся сидят черные тряпки и только квохчут испуганно, когда потревожишь серые, съеденные временем доски забора просто пыль, каким-то чудом еще сохраняющая форму доски в сенях большая зеленая бочка — стиральная машина активаторного типа ну кто сейчас помнит, что это такое — активаторный тип раньше на чердаке сушили рыбу теперь не сушим потому что не ловим потому что нет сил залезть на чердак постепенно исчезли овцы, поросята, корова молоко и собака остались только кошки и куры, из диких — крысы № 1 (1) 2011 117 РАССКАЗЫ, СТИХИ сидим мы и кошки ветшаем вместе с домом дом вместе с нами диалектическое единство сидим на скамейке у палисадника и ждем ночи нам совсем недолго до захода солнца нам совсем недолго осталось ждать и солнце зайдет * * * да что это, в конце концов, за место? не компьютерная графика, нет простое наложение кадров, как в старых фильмах кадр первый: цветущая, зеленая вьетнамская долина снятая на низкокачественную черно-белую пленку мутный, словно присыпанный пеплом мир кадр второй, четкий, цветной: я, ты и карликовый кролик на поводке кролик косится, показывая белки глаз, и непрерывно шевелит носом ему тоже не нравится запах гари вверху, нарисовано вручную: маленький, бледно-красный, четко очерченный круг мы трое потихоньку идем сквозь смог никто не говорил нам — ни попы ни пасторы ни муллы ни ламы никто не говорил нам, но мы и так знаем: 118 ЛАМПА И ДЫМОХОД надо идти по ходу солнца, с востока на запад и тогда мы поднимемся вверх по склону и выберемся из этого затопленного дымом котлована и снимем марлевые повязки и ляжем на землю и как следует выспимся Александр БЕЛОРУССОВ Пять пятнадцатиэтажек потому что наверху не так жарко не такая высокая концентрация монооксида углерода и вообще не так сильно болит голова № 1 (1) 2011 119 МЫ ПОМНИМ Василий Николаевич Афанасьев-Сумлянин — прозаик, публиковался на страницах журнала «Наша улица». ДОМ У МОРЯ Василий АФАНАСЬЕВ-СУМЛЯНИН Рассказ Д авно, очень давно, совсем маленьким был, прижимался под свет керосиновой лампы на ночлеге в рыбацкой избушке к деду и просил рассказать сказку. Но какие сказки мог знать старый, просоленный, жизнь проживший в нескончаемых заботах старик? Всё больше истории рассказывал о жизни поморской, о шхунах да парусах, рукой показывал, кто где утонул вместе со своим судном или наоборот — кого куда вынесло во время шторма и тем самым жизнь спасло. Вот и снова речь завел, предвидя просьбу внукову: — Ты вот всё о войне просишь рассказать, но что о ней рассказывать-то. Горе одно, и только. Ты амбар с бочками на мысу помнишь? А ведь не амбар это раньше был — дом, люди в нем хорошие жили. Построил его Прокопий Калинин для семьи своей. Жена у него была, Марья, и доченька Настюшка. Прокопий матросом ходил на коммерческой шхуне в Норвегию, на Грумант, на Новую Землю и дальше. Завидится, бывало, парус на горизонте — жены, дети, сестры бежали к пристани встречать судно. И Марья с доченькой на руках тоже бежит. Любила она очень своего Прокопия. А перед первой войной с германцами, за год или два, точно 120 ЛАМПА И ДЫМОХОД и не помню, не вернулась шхуна в срок. Знали, что из Архангельска вышла, на Соловки заходила и исчезла после. Искали по берегам да на островах, какие-то обломки нашли, и всё. Шторм сильный был в том месяце, видно, в шторм и погибли они все. Марья — та сильно убивалась по мужу, а Настёнке года три было, не понимала еще горя своего. По соседству Зубовы жили, парнишка у них был лет на пять старше Настюшки. Федором звали. Лет с десяти он стал на промысел ходить. Настюшку куколкой называл и играл с ней, несмышленой. Как Прокопий утонул, перестала Марья на берег ходить, встречать шхуны, а Настюшка, когда подросла, завидит баркасы с моря и родных, на берег спешащих, — тоже к пристани бежит. Чисто кукла — в платочке, сарафанчике да в лапоточках. Спросят ее люди, дескать, ты-то кого бежишь встречать, остановится, задумается чуток и тоненьким голоском: — Так Феденьку моего. Так и бегала каждый раз. Было ей лет семнадцать, когда поженились они. Детишек у них долго не было. Потом сынишка родился. Марья, правда, внука не дождалась, Бог прибрал к себе. Ладно у них, у Федора с Настей, в доме было, пока снова война не началась, а как началась, Федора на фронт забрали. Письма от него часто приходили. Настя всё по домам ходила, соседям показывала. На третий год войны в селе совсем плохо стало. Мужиков нет, парнишки одни. На них и промысел, и по хозяйству: дрова, скотина… И сыночек Настенькин, Ванечка, — тот тоже по хозяйству всё помогал. Лет десять ему тогда было. На дикий берег парнишки ходили, бревна от плотов разбитых пилили, в село таскали на дрова. Простыл Ванюшка, жар был — лечить некому, промаялся дня три и умер. Настя сильно тосковала, слегла — думали, и не встанет больше, но оклемалась, только ни с кем не говорила, как слова все забыла, словно онемела. Я для фронта уже староват был, меня председателем колхоза оставили. Определил ее в бригаду водоросли собирать да яйца птичьи на островах. Ну а потом и на Федора похоронка поспела. Не вынесла она горя этого, слегла и не встала больше. Похоронили. Вот такая она, война-то. Не стало хороших людей. Всей семьи не стало, и дом опустел. Так и стоял заколоченный. Потом уже, через два года как война закончилась, с города мне позвонило начальство, чтобы с поезда ссыльного встретил, и чтобы с транспортом, потому как жена у него неходячая. Взял на конюшне подводу и сам к поезду на станцию поспешил. Поезд остановился — никто не сходит, только матрос какойто спрыгнул. Когда он женщину с вагона на руки принял, понял я, что он и есть ссыльный-то. Сам по-матросски одет, без погон, № 1 (1) 2011 121 Василий АФАНАСЬЕВ-СУМЛЯНИН Дом у моря МЫ ПОМНИМ правда, и фуражка-мичманка, а она — в бушлатике морском да берете черном. Помахал я рукой: неси сюда, мол. Он с ней на руках подошёл, женщину на подводу положил, шинель снял и ее укрыл. А она-то — белее бумаги. Укрыл, значит, ее, и мне докладывает: — Матрос Филатов прибыл в ваше распоряжение. — Пошли, — говорю, — матрос Филатов, нашел тоже мне командира… Как супругу-то, — спрашиваю, — зовут? — А он мне: — Анастасия. Эх… Рука у меня перекреститься потянулась — я же их в дом Калининых намерился поселить. Он всю дорогу к ней с вопросом: — Настенька, Настенька, как ты? А она так слабенько улыбалась в ответ и руку его только сжимала. Поинтересовался я, откуда, дескать, в наши земли пришли, а он мне: — Флотские мы, — и слова из песни добавляет: — Растаял в далёком тумане Рыбачий… Привел я их в дом, бабуся твоя в нем уже к тому времени прибрала, печь протопила, самовар вскипятила. От прежних хозяев все в доме нетронутым осталось. Матрос Анастасию свою в горенке на кровать положил, нас поблагодарил, и мы до дома с бабкой подались. Не стал я человека в тот день расспрашивать, что да как. На другой день он сам меня нашел. Помощь свою предложил в колхозных делах, но меня больше интересовало, зачем же он Анастасию-то такую больную привез? А он отвечает, что умирает она, нет у нее, кроме его самого, никого и оставить было не с кем, в госпитале на плач изошла, — не хотела одна без него оставаться. Так вот и забрал ее из госпиталя темной ночкой. Сказал, что прострелянная она пулями и дышать ей нечем. Тихо они жили. Ухаживал он за ней, фельдшерицу из района несколько раз привозил, Клавдию. Клавку я хорошо знал, спрашивал ее про жену Филатова. Развела руками, сказала, что недолго осталось, что вся Анастасия хирургами изрезана и лечить там просто нечего. Да и на самом-то на нем живого места не было. По зиме грузовик у самого берега во льду провалился, народ собрался — решали, как быть. Трактор пригнали, а как машину к нему прицепить? В воду ледяную никому лезть не хочется. Филатов пришел, снял шинельку, тельняшку, трос взял и молча в воду пошел. Поднырнул, трос зацепил и так же молча вылез из воды. Страх на него смотреть было — весь в шрамах. Анастасия до весны дотянула. Весной ушла. А матрос-то, Степан Иванович его звали, похоже, от горя немного того… головой тронулся. Водкой горе заливал — днем пил, а ночью как волк выл. Настеньку свою всё звал. Как-то по лету день не видно было его, 122 ЛАМПА И ДЫМОХОД а накануне в сторону кладбища шел. Пошеел и я туда, беду почуял. Там и нашел его. Сидел он у могилки под рябинкой, в небо смотрел, только неживой уже. А еще через какое-то время военный приехал. Офицер морской. Попросил к могиле Филатова проводить. Пришли мы, он полотенце на траве расстелил, погоны золотые офицерские на него выложил, ордена, медали и бумагу. В бумаге той было написано, что матрос Степан Иванович в звании восстанавливается офицерском и ссылка его заканчивается. Степан тот Иванович всю войну в морской пехоте под Мурманском провоевал, героем был, Анастасия его от смерти раз спасла, себя под пули подставила. Ну а после войны набедокурил что-то он там при штабе — звания лишили, в наш районный гарнизон отправили. В гарнизоне решили человека не тиранить и подальше от глаз начальства спрятать, к нам в село отправили. С Каспийского моря он был родом. Вот такая история… с домом-то. — Деда, это же не сказка… — Не сказка, внучек, лучше бы худой, но сказкой была. Рано тебе еще такие истории про войну слушать, да старый я уже, помру, с собой унесу правду, а так ты потом кому-то расскажешь. Так в памяти людской и сохранится. Другие-то приврут, а мне и приврать нечего, всё на моих глазах было. Такая вот она, война, горе только одно и ничего больше. Дом Калининых мы на правлении колхоза решили под амбар пустить, чтобы не было в нем больше таких историй. Только вот всю страну-то… под амбар не пустишь. № 1 (1) 2011 123 Василий АФАНАСЬЕВ-СУМЛЯНИН Дом у моря МЫ ПОМНИМ Евгений Евгеньевич Петропавловский (р. 1962 г.) — писатель, автор пяти художественных книг (два поэтических сборника и три романа). Член Союза российских писателей. В прошлом редактор нескольких кубанских газет. Публиковался в России, США, Германии, Израиле, Украине. КРОВАВЫЕ СНЕГА СУОМИ Евгений ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ Публицистический очерк Наступит день, и история этой войны будет написана. Карл Густав Маннергейм –Е жели будешь об этом писать, фамилию мою не указывай, — предупреждал он. — Понимаешь, почти вся дивизия легла там, в карельских лесах, тысячи хлопцев без имен и фамилий. Чем я лучше? Может, тем, что тулуп и валенки с мертвого финна снять посчастливилось? Ведь если б этого фарта не подвернулось — остался бы среди прочих неизвестным солдатом… Да и подвига там никакого не было. Одна голая смерть незнамо за что. И, конечно, позор нашего руководства. Потому всё советское время и старались не вспоминать о той войне. …Я действительно собирался — хотя бы вкратце — записать воспоминания моего соседа. Но всё откладывал: находились иные темы, которые казались более насущными или, если угодно, более «горячими». Вот уже несколько лет, как похоронили моего «незнаменитого» ветерана. А я лишь теперь берусь за перо. 124 ЛАМПА И ДЫМОХОД * * * Евгений …Как многие старики, он любил выпить рюмочку. Всего одну — маленькую такую рюмочку водки, больше супруга не позволяла: возраст, давление и всё такое… А еще он любил Николая Гумилева. По советским временам стихи этого поэта мало кто знал, одно только имя еще и оставалось на слуху… А он (вот именно после рюмочки-то) порой извлекал из памяти какой-нибудь кусок — наподобие: …Не всё ль равно, пусть время катится, Мы поняли тебя, земля: Ты только хмурая привратница У входа в Божии Поля. Затем обычно наставал черед воспоминаний: — Земля… Это, брат, ба-а-альшая роскошь была, в земле упокоиться. О рядовых красноармейцах речи нет: не каждый командир даже удостаивался! Так наши хлопцы и застывали в снегах лапландскими статуями: стукнешь — а звук словно от трухлявой корчаги. Как дрова, в штабеля и складывали их на боевой позиции. А тех, кто по ходу отступления помирал, просто оставляли на дороге… Ведь мороз до пятидесяти градусов доходил, а уж ниже тридцати вообще не опускался. Оттого земля по крепости не хуже камня делалась, много не накопаешь… Да, хлебнули мы боевой романтики, гренады этой самой подержали в зубах… А какое шапкозакидательство было в тридцать девятом, какие лозунги! Красная армия сокрушит врага на его территории! Мощным ворошиловским наступлением ответим на провокации белофиннов! Малой кровью, могучим ударом! Стараясь привести воспоминания в порядок, он возвращался к началу войны: — Вообще говоря, я верил всему. Думал: неделя, от силы две — и победа у нас в кармане. Потому не очень беспокоился, когда нашу сорок четвертую стрелковую дивизию сняли из-под Житомира и бросили в Северную Карелию… Правда, неполадки пошли с самого начала: теплое обмундирование обещали выдать на месте — обманули. Так и вышли на марш в летних обмотках, буденовках и тоненьких шинельках. У финских егерей одежка была не чета нашей: теплые свитера, сапоги на меху или валенки, ушанки из овчины, ватные штаны, а под ними — белье шерстяное. То же касаемо оружия: у нас — трехлинейки образца 1891 года, а у них — девятимиллиметровые автоматы «Суоми». В артиллерии и танках, врать не буду, мы превосходили неизмеримо. Однако в лесах, на бездорожье, почти при нулевой видимости вся наша техника № 1 (1) 2011 125 ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ Кровавые снега Суоми МЫ ПОМНИМ становилась бесполезным металлоломом. Артиллерийская смазка на сорокаградусном морозе застывала начисто. Не только ЗиСы застревали в полутораметровом снегу, но и танки: они ведь тогда были узкогусеничные, это потом траки пошире стали делать у танков-то… В общем — из-за техники и по причине отсутствия лыж — двигаться мы могли исключительно по дорогам-зимникам. А чуть в сторону — и наставал полный швах. Еще добавь сюда перебои с продовольствием: если раз за двое суток полевая кухня приходила, то это счастье… Между прочим, на морозе хлеб превращался в кирпич, которым убить можно: попробуешь от такого кусок откусить — зубы сломаешь… Потом питания вообще не стало. Но это уже в окружении… * * * Он подробно останавливался на многих деталях, придававших его рассказу несомненную живую наглядность; однако по этим частностям было трудно представить весь ход военной кампании; поэтому, заинтересовавшись, я стал по мере возможности собирать материалы о столкновении между СССР и Финляндией… Началась «Зимняя война» с провокации: 26 ноября 1939 года артиллерия РККА обстреляла советскую приграничную деревню Майнила. Правительство СССР обвинило в обстреле финскую сторону. Следующие три дня на советско-финской границе продолжались инциденты подобного рода. А 30 ноября войска Ленинградского военного округа, перейдя границу, развернули боевые действия против армии Суоми. Но запланированного молниеносного броска не получилось. Стальной кулак Советов разбился о железобетонные ДОСы линии Маннергейма, увяз в снегах и лесном бездорожье. Хорошо подготовленные и экипированные летучие отряды финских лыжников-диверсантов атаковали красноармейские колонны с флангов и тыла. Всё чаще деморализованная советская пехота отказывалась подниматься в атаку… Кремль спешно перебрасывал на фронт подкрепления из внутренних округов, но переломить ситуацию не удавалось. Наступление буксовало. Советские войска испытывали перебои со снабжением. В Москве и Ленинграде выстроились многокилометровые очереди за хлебом… * * * — Мы тогда не знали, что творилось на юге, на Карельском перешейке, — продолжал старик свой рассказ. — Нас бросили на помощь 163-й стрелковой дивизии, окруженной в районе местечка Суомуссалми. Это немного к югу от Лапландии… Ни лыж не было, ни санок: топали по снегу, делая всего по несколько километров в день. От мороза не чуяли рук и ног. А по лесу вдоль наших флангов скользили в темноте полярной ночи финские лыжники. Бегали 126 ЛАМПА И ДЫМОХОД они на лыжах без помощи палок, так что руки оставались свободными для стрельбы. Вообще, у белофиннов всё было поставлено на лыжи: пулеметы, обозные повозки, пушечки легкие… Без звука, невидимые в своих маскхалатах, вдруг выскакивали они из-за деревьев — поливали нас автоматным огнем и мигом исчезали, точно привидения. Мы палили потом по лесу, да чаще без толку… А своих раненых они не оставляли: если забрать не могли, то сами достреливали. Только это редко случалось. Зато для наших красноармейцев ранение означало верную смерть: если не погибнешь от потери крови, то замерзнешь. Ведь вывезти человека в тыл, чтобы медицинскую помощь ему оказать, — такой возможности тогда не имелось. Мы, хоть и оболваненные были политзанятиями, и то возмущались головотяпством командования: до чего же это надо не думать о людях, чтобы не позаботиться о теплом обмундировании для личного состава! По сей день в уме не укладывается, что в боях с врагом у нас погибло намного меньше народа, чем от мороза!.. Я, например, так мерз — просто никаких сил не было терпеть… Но повезло: случился бой, когда половина моей роты полегла, и убили мы сразу пятерых белофиннов — я поспел у одного из них позаимствовать тулуп и валенки. Тулупчик, на груди пробитый пулей, подштопал, кровь просушил. И валенки как раз впору оказались… Мысль моего собеседника часто перескакивала с одного на другое. К тому же прошли годы, и сегодня передать его воспоминания в той последовательности, в какой мне довелось их слышать, — задача невыполнимая… Но здесь я стараюсь уложить повествование старика в хронологические рамки, более или менее соответствующие происходившим событиям: — А до Суомуссалми мы не дошли километров десять, когда стало известно: 163-я дивизия больше не нуждается в нашей помощи, поскольку она разгромлена, а комдиву Зеленцову с остатками личного состава удалось прорваться назад, на советскую территорию… Зато в начале января финны принялись за нас: взорвав мост на границе, они отрезали дивизию от тылов и стали громить ее с флангов. Это было нетрудно, поскольку мы растянулись вдоль дороги на десятки километров. Тогда комдив Виноградов приказал подорвать всю технику и пробиваться назад, к своим. Легко сказать… Нас били, как куропаток. Из лесу налетали егеря и выкашивали подразделение за подразделением. А то подкрадывались к спящим — и без единого звука вырезали всех своими ножами с кривыми лезвиями: такие тесаки финны называют «пуукко», это их национальное оружие. Но страшнее всего были снайперы. У нас их окрестили «кукушками» за то, что они устраивали на деревьях гамаки, в которых могли сидеть сутками, поджидая удобного момента для стрельбы. Затаится такой стрелок и кладет наших № 1 (1) 2011 127 Евгений ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ Кровавые снега Суоми МЫ ПОМНИМ бойцов одного за другим. Потом слезет с дерева, станет на свои короткие лыжи из карельской березы — и поминай как звали… Одну «кукушку» при мне подстрелили — оказалась молодая девчонка. В плен, правда, не далась: пока мы добежали, она успела перерезать себе сонную артерию. К слову говоря, женщины в финской армии были не редкость… Временами мой сосед надолго прикрывал глаза, точно желал отгородить зыбкие картинки прошлого от всех видимых помех внешнего мира, — однако рассказа своего не прерывал: — Бесконечная полярная ночь, постоянная угроза нападения из заснеженной чащобы да еще боязнь «кукушек» — это действовало на нервы; некоторые из наших в прямом смысле сходили с ума… Скоро мы вконец оголодали. Нам пытались сбрасывать припасы с самолетов, но парашюты уносило ветром очень далеко — где-то там уже были финны; однажды комбат отрядил целый взвод в сторону, куда улетели сброшенные тюки, — никто не вернулся… Еще оставалась у нас лошадь, мы берегли ее в качестве НЗ. Наконец не выдержали и перед очередной ночевкой зарезали. Сварили, на весь батальон разделили: разумеется, там каждому достались сущие крохи. А наутро, кто пораньше успел, на месте забоя лошади подгребли всё: и кишки, и копыта, и обрывки шкуры… Мне досталось лишь немного крови, замерзшей в снегу: я ее аккуратно, вместе со снегом, собрал в котелок, потом туда же натолок немного древесной коры и, прокипятив над костром, похлебал это варево. Всё не пустой желудок… А на следующий день пошли мы на прорыв с боем — тут уж о еде и думать забыл: почти двое суток то бегом, то ползком, да под пулями… Как видишь, выжил. Опять повезло. * * * …По прошествии некоторого времени мне удалось отыскать в литературе некоторые цифры по 44-й дивизии. Ее численность перед вступлением в боевые действия составляла 17 500 солдат и офицеров. Вырвалось из окружения 700 человек; сдалось в плен — 1200; остальные погибли. Что касается техники, то замнаркома обороны Л. З. Мехлис телеграфировал Сталину: «…дивизия оставила противнику 79 орудий, 37 танков, 130 станковых пулеметов, 150 ручных пулеметов, 6 миномётов, 150 автомобилей, все радиостанции, весь обоз…» Потери финнов в боях с 44-й и 163-й дивизиями составили 809 человек убитыми. * * * — И еще одно везение получилось у меня, — неизменно добавлял он, печально покачивая седой головой. — В том, что винтаря 128 ЛАМПА И ДЫМОХОД своего я не бросил, хоть и патронов у меня уже не осталось: из всех боеприпасов только РГД последнюю в кармане тулупа и держал. Для себя… А тех бойцов, что безоружными из окружения вернулись, очень скоро отправили в лагеря… Но еще прежде того построили нас на льду озера Васо-Ярви. Прибыли командующий 9-й армией Чуйков и замнаркома Мехлис. И устроили суд над комдивом Виноградовым, начполитотдела Пархоменко и начальником штаба Волковым. Недолго судили, минут тридцать или сорок… А после всех троих расстреляли перед нашим строем… В заключение своих воспоминаний он несколько раз показывал мне пожелтевшую вырезку, в которой приводился текст приказа № 01227 Главного военного совета Красной армии: «В боях 6–7 января на фронте 9-й армии в районе восточнее Суомуссалми 44-я стр. дивизия, несмотря на свое техническое и численное превосходство, не оказала должного сопротивления противнику, позорно оставила на поле боя большую часть ручного оружия, ручных и станковых пулеметов, артиллерию, танки и в беспорядке отошла к госгранице. Основными причинами столь постыдного для 44-й стр. дивизии поражения были: трусость и позорно-предательское поведение командования дивизии в лице командира дивизии комбрига А. И. Виноградова, начальника политотдела дивизии полкового комиссара И. Т. Пархоменко, начальника штаба дивизии полковника А. И. Волкова, которые вместо проявления командирской воли и энергии в руководстве частями и упорства в обороне, вместо того, чтобы принять меры к выводу частей, оружия и материальной части, подло бросили свою дивизию в самый ответственный период боя и первыми ушли в тыл, спасая свою шкуру. Основные виновники этого позора понесли заслуженную кару Советского закона. Позорный отход 44-й стр. дивизии показывает, что не во всех частях Красной армии у командного состава развито чувство ответственности перед Родиной, что в тяжелом, но далеко не безнадежном положении командиры иногда забывают свой долг командира, и у них иногда берут верх шкурнические интересы. Позорный отход 44-й стр. дивизии показывает, далее, что в бойцах также не развито чувство ответственности за вверенное им Родиной оружие и они иногда при первом серьезном нажиме со стороны противника бросают оружие и из бойцов Красной армии, которые обязаны бороться за Родину с оружием в руках до последнего вздоха, превращаются в безоружную толпу паникеров, позорящих честь Красной армии…» — Вот так-то, — усмехался старик. — Герой войны в Испании комдив Виноградов — трус и предатель. Мы, обмороженные, голодные, с боями вышедшие из окружения, — все поголовно па- № 1 (1) 2011 129 Евгений ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ Кровавые снега Суоми МЫ ПОМНИМ никеры… А как же быть с теми, чьи кости гниют в земле Суоми? Тоже трусы и шкурники? Нет уж, мертвые срама не имут… И, подняв взгляд в потолок, сосед снова цитировал Гумилева: Пусть приходит смертное томленье, Мне оно не помешает ждать, Что в моем грядущем воплощенье Сделаюсь я воином опять… — Эх, если б, в самом деле, можно было не раз воплощаться на этой земле… Тогда воины и оставались бы воинами. А на тех, кто посылал нас на эту бойню, хотел бы я посмотреть — в новых воплощениях-то… 130 ЛАМПА И ДЫМОХОД МЫ ПОМНИМ Константин Борисович Яцков — радиоинженер. Лауреат премии Совмина СССР (1990 год) за разработку и внедрение специальных систем. Константин ЯЦКОВ НЕМЦЫ ПРИШЛИ Мемуары 1 Часть 1. Детские воспоминания о годах войны моего брата Кости1 В Симферополь, куда мы с матерью и сестрой переехали незадолго до начала войны, немцы вошли в ноябре 1941 года. Выбили их из города в апреле 1944 года, как раз перед православной Пасхой. Так что почти два с половиной года нам пришлось каждый день жить при «новой власти». Я родился 3 марта 1 От редакции: мемуары К. Б. Яцкова — это воспоминания о годах войны, но не простые. Герой всех рассказов — маленький мальчик, запечатлевший в своей памяти интереснейшие моменты, сюжеты, ситуации во времена немецкой оккупации Симферополя. То, какими предстают перед мальчиком немцы, те необыкновенные, смешные и ужасные казусы, которые случились с ребенком, удивляют, заставляют по-новому вглядеться в, казалось бы, хорошо известные нам события, людей, времена. Мы представляем первую часть цикла рассказов — «Детские воспоминания о годах войны моего брата Кости». Продолжение этого цикла будет опубликовано в журнале «Лампа и дымоход» в следующих номерах № 1 (1) 2011 131 МЫ ПОМНИМ 1937 года, стало быть, почти все мое «счастливое детство», с 4 с половиной до 7 лет, приходится на этот период. Возможно ли в таком возрасте что-то понять об окружающем тебя мире и происходящих вокруг тебя событиях и сохранить все в своей в памяти? Пожалуй, можно. Но, видимо, таковы свойства детской памяти, что запоминаются отдельные эпизоды, события, может быть, совсем незначительные, но оставившие свой яркий эмоциональный след. НЕМЦЫ ПРИШЛИ Немцы вошли в город поздним ноябрьским вечером. В это время мы жили на улице Проездная, в доме 8. Все городские улицы в районе железнодорожного вокзала расположены параллельно железной дороге. Наша небольшая улица, вторая от вокзала, своим торцом упирается в бульвар Ленина, являющийся основной магистралью от железнодорожного вокзала к центру города. Поздно вечером по бульвару Ленина непрерывным потоком движутся колонны немецких войск, особенно запомнились необычные машины в виде лодок с колесами, с сидящими в них солдатами в касках. Рано утром следующего дня жильцы нашего двора начали потихоньку с опаской выглядывать из своих ворот. В том числе и мы с матерью. «Новая власть» скора на расправу. Уже к утру недалеко от нас на акациях, растущих около дома 2, повешены какие-то люди. Кажется, по разговорам взрослых, их было трое. Кто они? За какие грехи повешены? Никто так и не узнал. Хочу посмотреть на них, но мать закрывает меня своим телом и не дает этого сделать. Да, с такой властью шутки плохи! Мать заводит меня во двор, вытаскивает из моей шапки-ушанки пятиконечную красноармейскую звездочку и забрасывает ее через забор в чужой сад. Начинается новая жизнь. МИНОМЕТЧИКИ За время моей жизни в Симферополе в годы войны по разным причинам нам приходилось несколько раз перебираться с одной квартиры на другую. Вскоре после прихода немцев мы перебрались жить в трехэтажный, по тем временам вполне комфортабельный, дом на улице Хацко. Почти рядом с нашим домом, в конце улицы, находилась большая армейская казарма, занимающая целый квартал. Когда это событие произошло, точно не помню, но, скорее всего, это был или конец 1941, или начало 1942 года. Это когда «старая власть» всё бросила, а «новая власть» по каким-то причинам не успела всё подобрать. Мальчишки из нашего дома, которые, как все порядочные мальчишки, шныряли везде, где только можно, но особенно, где 132 ЛАМПА И ДЫМОХОД Константин ЯЦКОВ Немцы пришли Рисунок Екатерины КАРПОВОЙ нельзя, обнаружили, что можно залезть в казарму через образовавшийся пролом в каменной стене. И сразу все «мужское» население нашего большого двора возраста от 4 до 10 лет ринулось на «дело». Что там было при советской власти, я не знаю, может быть, армейская артиллерийская мастерская, но весь огромный плац казармы был буквально засыпан разобранными деталями от минометов. На земле валялись сотни минометных труб, станин от минометов, сами мины. Почему такое огромное количество вооружения было брошено отходящими советскими войсками? И это в 1941 году, когда, согласно официальной истории, была большая нехватка оружия? Но эти вопросы я задавал себе уже будучи взрослым человеком. Как известно, в любом дворе мальчишки всегда самоорганизуются в устойчивые группы, обычно — это «взрослые» и презренная «малышня», с которыми первые считали ниже своего достоинства водиться. Так вот наши «взрослые» 7–9 лет от роду заняли самое лучшее место на одном краю плаца, где валялось больше «трофеев», а нас, «малышню», прогнали от себя, и мы занялись «делом» в другом конце плаца. Когда тебе только 5 лет, то, естественно, трудно понять, что это за «штуки» валяются на земле. Что это ротные минометы, я уз- № 1 (1) 2011 133 МЫ ПОМНИМ нал значительно позже. А так — трубы с дыркой с одной стороны, какая-то подставка. Почему в трубе одна дырка? Внимательно их изучаю. Что с ними делать? А можно ли их соединить? Другое дело — мины. Они похожи на винтовочные патроны, с которыми ты хорошо знаком. У них в торце такие же капсюли, как у патронов. Некоторые капсюли на минах уже пробиты. Значит, произошла осечка, и в дело они не годятся. А вот валяются настоящие мины с целыми капсюлями. Надо целые собрать в одну кучу, должны на что-нибудь пригодиться. Пока я и мои сверстники из отряда «малышня» продолжали созерцать и «творчески» изучать образцы неизвестной военной техники, у «взрослых» дела шли намного лучше. Видимо, у них «соображалка» лучше работала, а главное, быстрее. Слышу какой-то странный звук, похожий на хлопок, поворачиваю на звук голову и вижу, что наши «взрослые» со всех ног бегут в сторону проема в стене, а прямо от них в нашу сторону на небольшой высоте летит мина. Сразу стало ясно, почему бегут «взрослые», и мы, «более мелкие», улепетываем следом. Ясно одно: нашкодили и надо срочно «рвать когти». Самое смешное, что пока мы, «мелкие», на своих коротких ножках перелезли через забор, от «взрослых» уже и след простыл. Прибегаю домой, для «надёги» сразу лезу под кровать и сижу там довольно долго. Но «шухера» вроде нет. Всё тихо. Потихоньку вылезаю из своего убежища. Как потом мы узнали, всё обошлось благополучно. Мина пролетела над нами, перелетела через улицу Гоголя и упала на другую территорию казармы. Всего она пролетела метров 150–200 и, самое главное, не взорвалась. «СНАЙПЕР» Карбид — это материал, используемый для газовой сварки. Внешне это камешки серого цвета, похожие на гальку. При реакции карбида с водой выделяется ацетилен, который и горит в газовой горелке. Откуда он появлялся у нас, мальчишек, я не знаю, но появлялся он довольно часто. Использовали мы его совсем для других целей. Обычно бралась бутылка с пробкой, наливалась на дно вода, в бутылку бросался кусочек карбида, и она быстро затыкалась пробкой. Через несколько минут, к великой радости окружающих, пробка выстреливала, как из бутылки шампанского, на высоту до 1,5–2 метров. Бутылку снова затыкали пробкой. Следующий выстрел получался более скромным, ну а третий выстрел мог и вообще не получиться, весь карбид завершил свою реакцию. Посередине двора на земле стоит бутылка с карбидом, вокруг нее расположилась группа мальчишек вместе со мной, и ждем мы последнего выстрела из бутылки. Выстрела всё нет и нет. И в это время из раскрытого окна 3-го этажа раздается звонкий голос мо- 134 ЛАМПА И ДЫМОХОД его одногодка и соседа по коммуналке Эдика: «Разойдись, народ, я сейчас в эту бутылку стрелять буду!» И добавил, что у него в рогатке заряжена бронебойная пуля от винтовки. Мы, все мальчишки, отступили в сторону, обеспечив «снайперу» сектор для стрельбы. В этот момент я абсолютно точно почувствовал, что эта пуля попадет мне прямо в лоб. Но мне этого не хотелось, и я отдалился от бутылки и от мальчишек еще дальше. «Снайпер» долго-предолго целится в бутылку — выстрел! И я был прав. Пуля попала в цель, но не в ту, а точно в меня. Кровь льется по лицу. А я, не чуя себя, лечу на третий этаж лупить «снайпера». Помню, что в те времена мой лоб обладал каким-то странным пулеулавливающим свойством. Если где-нибудь что-то «неправильно» летело, то он был тут как тут. Отметин на нем предостаточно. За долгую детскую жизнь не один «снайпер» приложил свою руку к этому делу, но в памяти имена «героев» не сохранились. Запомнилось, как однажды стрела с наконечником из жести попала точно в цель. Затем еще был выстрел из рогатки, но уже камнем. И тоже попадание в «яблочко». Был случай, когда обошлось без «снайперов». На земле около дома валялась железная решетка, вырванная из оконного проема, с торчащими в разные стороны загнутыми концами прутьев. Я ходил по этой решетке, споткнулся, стал падать и не успел вытащить руки из карманов. В итоге плюс ещё одна отметина. Хорошо, что хоть с возрастом это странное свойство утихло. ПЛЕННЫЕ Улица Гоголя — это широкая, магистральная, мощенная булыжником улица от железнодорожной станции до центра города. С этой улицей моя детская память связана неразрывно. Зимой 1942 года, скорее всего это было в феврале или марте, когда на улице еще оставались островки таявшего снега, по улице Гоголя вели военнопленных. Вернее, их не вели, а они сами еле тащились. Причем колонна растянулась, наверное, на километр. Бредут рядом два пленных солдата, шагов через сто за ними бредет еще один, еще через пятьдесят — идут двое. Дальше за ними плетется уставший немец-конвоир с ружьем на плече. За немцем, отстав от него еще на сотню шагов, еле ползут следующие, причем один с самодельным костылем, и дальше, дальше.., за ними очередной немец-конвоир. И эта растянувшаяся колонна движется, как мы потом узнали, в «Картофельный городок» на окраине Симферополя, где был размещен лагерь для военнопленных. Тяжело смотреть на этих уставших, с потухшими глазами людей. Долго стою и наблюдаю эту картину. Вижу приближающегося ко мне высокого на- № 1 (1) 2011 135 Константин ЯЦКОВ Немцы пришли МЫ ПОМНИМ шего пленного солдата в сапогах. Когда же он поравнялся со мной, я глянул на его ноги. На них не сапоги, а только голенища, и он босыми ногами топчет мокрый снег. И сегодня, прошло больше 60 лет, помню я того солдата и то место на улице Гоголя, где они шли. Пленных водили разных. Немцы заставляли всех евреев носить на груди шестиконечные звезды. Однажды я встретил пожилого высокого, статного мужчину с копной абсолютно белых седых волос, причем не прямых, а с мелкими завитушками, как у негров. Лицо смуглое, толстые губы. Глаза его, казалось, плакали. На нем нарядный пиджак и шарф на шее. А на лацкане пиджака с левой стороны приколота белая елочная шестиконечная звезда с блестками. Седой кучерявый, темнокожий еврей — я его всегда помню. Может быть, и в самом деле это был преклонного возраста негр? Тогда при чем тут шестиконечная звезда? ПРЫЖОК С МАШИНЫ Маленькая улица Хацко параллельна магистральной улице Гоголя. От нашего дома до улицы Гоголя сто шагов. На фоне большинства одноэтажных домов наш трехэтажный, с въездной аркой в середине дома, да еще и с редкой в те времена канализацией, был очень привлекательным для немцев. (Поэтому в скором времени нас оттуда вытурили.) Иногда в дом на постой прибывало целое подразделение солдат, и почти постоянно жили немецкие офицеры. Офицеры приезжали и уезжали на легковых машинах. Почти всегда одна или две машины стояли во дворе. Легковые немецкие машины довоенной конструкции имели сзади бампер и запасное колесо. Все мальчишки нашего двора быстро приспособились к таким условиям. Как только машина собиралась отъезжать от подъезда, четыре или даже пять «мелких, но шустрых» цеплялись за машину сзади. Для этого надо было стать на бампер ногами и зацепиться руками за запасное колесо. Проехав по двору от подъезда до выездной арки в доме, водитель-солдат обычно притормаживал перед сравнительно узким выездом, и все мы дружно соскакивали с машины. Только настоящие мальчишки могут понять, какое это великое удовольствие — проехать хоть и по двору, но на настоящей машине! Мы караулили каждый отъезд машины и зорко следили за выходом каждого офицера из подъезда. Зимой 1942-го, скорее всего в феврале или марте, земля была грязная, кругом полурастаявший снег. Несколько дней тому назад по улице Гоголя вели пленных. В тот злополучный день всё шло не так, как обычно. Немецофицер куда-то очень спешил. Он и солдат-водитель буквально 136 ЛАМПА И ДЫМОХОД Константин ЯЦКОВ Рисунок Екатерины КАРПОВОЙ Немцы пришли выскочили из подъезда, быстро сели, завели мотор, и зацепиться за машину успел только я один, так как оказался в тот момент рядом с машиной. Машина доехала до арки и, не притормозив, как обычно, на скорости выскочила на улицу. Спрыгнуть я не успел. Машина набирала скорость, поворот налево, вот уже улица Гоголя, и на ней водитель жмет на полный газ. Я не паниковал, заглянул через заднее стекло внутрь машины. Немцы смотрят вперед и меня не видят. Последняя надежда, что машина притормозит на начав- № 1 (1) 2011 137 МЫ ПОМНИМ шемся подъеме по улице Гоголя, не оправдалась. А уж когда после подъема начался спуск, машина помчалась еще быстрее и стала увозить меня в такую даль, где я никогда не был. Мне стало страшно. Меня «навсегда» увозят от дома. Надо прыгать! Но как прыгать? Решил, что чем ближе к земле, тем легче будет падение. Я пониже присел на бампере, наклонился на бок, отпустил руки от запасного колеса и — правым боком повалился на дорогу. Удар! Я как короткое бревнышко катился за машиной, обернувшись, наверное, десять раз по камням брусчатки. Особенно запомнилось, что первые два или три оборота и удары о землю были очень жесткими. Каждое соприкосновение с дорогой как будто вырывает кусок из твоей одежды. Встал — весь в грязи, но руки и ноги целы. Больно. Порваны штаны на коленях, сквозь дырки видны кровь и ссадины, на лбу, чувствую, тоже содрана кожа. Руки целы, так как одет был в тесное пальтишко, из которого давно вырос. Реву и медленно бреду домой. Вдруг вижу, что мне навстречу бежит мать. Увидев меня грязного, ободранного, но живого, на радостях поддала мне за мои «подвиги». До этого момента помню всё, как будто это произошло недавно. Что было после, в памяти не сохранилось. Мать потом вспоминала, что я проболел целый месяц. Вот как, тогда несмышленыш, я выбрал лучший способ прыжка? Машина, я помню, мчалась с большой скоростью, может быть 50 км / час. Вся накопленная сила удара о землю скрутилась в энергию вращения, с минимальными для меня потерями. Скорее всего, любой другой прыжок стоил бы мне жизни или тяжелых увечий. Видимо, ангел-хранитель был в ту минуту рядом со мной. МАННАЯ КАША У нашей мамы был маленький матерчатый мешочек с манкой. Манной крупы в этом мешочке было грамм 150. Хранился этот мешочек в самом дальнем углу шкафа и доставался только во время великих революционных праздников. А праздников у нас всего два: 1 Мая да 7 Ноября. На фоне вечной голодухи для меня в то время манная каша — это нечто сравнимое с самым вкусным лакомством. Событие произошло 1 мая 1942 года. Манная каша вместилась на донышке мелкой тарелки, была слегка припудрена сахаром, и я вместе с тарелочкой примостился у раскрытого окна на подоконнике. Почему я считаю, что это было именно в 1942 году? Да потому, что оборона Севастополя продолжалась до июля 1942 года. В это яркое солнечное утро из осажденного Севастополя прилетел самолет-разведчик У-2. Он мирно жужжит где-то высоко в небе, никто по нему не стреляет: видимо, очень высоко он забрался. Я, не спеша, маленькой ложечкой смакую праздничное блюдо. И вдруг взрыв! Вздрогнули руки, и — моя тарелочка полетела с тре- 138 ЛАМПА И ДЫМОХОД тьего этажа на землю. Смотрю, как она кувыркается в воздухе. Это самолет-разведчик бросил две бомбы. Одна упала метрах в двухстах от моего окна. Говорили, что от ее взрыва был убит один полицай. Другой бомбой — два немца в казарме. Мое благоговейное отношение к манной каше в некотором роде сродни отношению людей, перенесших блокаду, к черному хлебу. Сейчас, через много лет, как только манная каша появляется в доме на столе, невольно всплывают воспоминания, как кувыркается моя тарелочка. Эту историю все члены моей семьи прослушали уже, наверное, 1000 раз и поэтому вовремя пресекают повествование: мол, уже слышали. И готовят ее, как мне кажется, специально реже. СЕВАСТОПОЛЬ ДЕРЖИТСЯ Севастополь держался до июля 1942 года. В мае—июне он подвергался жестоким бомбардировкам. Уже после войны в зрелом возрасте я узнал, что севернее Симферополя, у станции Сарабуз (переименованной позднее в Остряково), у немцев был крупнейший аэродром, с которого производились налеты на Севастополь. А над Симферополем взлетевшие самолеты строились в боевые порядки. Вот это построение мы, мальчишки, регулярно наблюдали и считали количество пролетавших самолетов. Довольно часто за построением этой армады мы наблюдали с крыши нашего трехэтажного дома, он ведь был самым высоким среди одноэтажных домов ближайшего окружения. Небо было видно до самого горизонта. Точное число самолетов определить было трудно, они перестраивались и сбивали нас со счета, но помню, их почти всегда было больше сотни. До Севастополя 80 километров. В памяти остался день, когда на горизонте, в том направлении, куда улетели бомбардировщики, стали появляться с интервалом в несколько секунд сполохи огня, далекие взрывы. Звуков взрывов не слышно, но сполохи так ярки, что видны, даже несмотря на то что на небе еще светит солнце. (Продолжение следует) № 1 (1) 2011 139 Константин ЯЦКОВ Немцы пришли МЫ ПОМНИМ Виталий МАТВЕЕВ Виталий Матвеевич Матвеев — Член Союза писателей России, конструктор, график, участник Великой Отечественной войны на германском и японском фронтах, лейтенант, командир взвода 79-й морской (легкогорнострелковой) бригады и командир саперного взвода 3-го отлельного батальона автоматчиков. В ГРОБУ МЫ ЕЕ ВИДАЛИ… Стихотворения После победы в 45-м Не всех победителей после войны Венчала парадом столица — Нас повезли по задворкам страны К дальневосточной границе. Не всех встречал Белорусский вокзал Праздничный тысячеокий — Наш замполит в эшелоне сказал: «Ждет вас война На востоке». «Ну что ж, — отвечали, — Война так война: В гробу мы ее видали. А дальневосточный резерв на хрена Наши цепляет медали?» Примолк замполит — что ответить он мог Ребятам из пекла, кромешного ада? 140 ЛАМПА И ДЫМОХОД Промолвил: «С капустой пирог Делит Сам Сталин как надо». Константин МАТВЕЕВ В гробу мы ее видали… Взводный Везло комбатам и даже ротным, иным — солдатам и реже — взводным. Придет в окопы на взвод стрелковый совсем мальчишка в шинельке новой. На вид не больше, чем восемнадцать. Спешит, конечно, с фашистом драться. Придет, доволен: впервой на фронте. Шумит: «Окопы поглубже ройте». А кто-то бросит: «Каков мальчишка? Он дело знает. Но жаль, по книжкам». Наутро бой — кому в атаку поднять усатых и бородатых? Вот новый взводный шинельку скинул и встал под пули, шагнул под мины. Его работа подняться первым, когда сдают у взвода нервы. Тот не поймет, кто в пекле не был, когда над миром с овчинку небо. Поднялся взводный: «Вперед! За мною!» — и тут же сердце прикрыл рукою. Но в тот же миг, когда он падал, поднялся взвод: «Отплатим гадам!!!» Поднялся взвод, рванулась рота. ...Солдаты знали свою работу. № 1 (1) 2011 141 МЫ ПОМНИМ Валерий Адольфович Ременюк (р. 1956 г.) — автор четырех сборников стихов («Черный шар» — 2005, «Фонари рисуют ветер» — 2006, «Плюс-минус зима» — 2008, «Ворчалкин-Бурчалкин» — 2010), автор-исполнитель песен. БЛОКАДНЫЕ КНИГИ Валерий РЕМЕНЮК Стихотворение Шумовой Валентине Григорьевне и всем тем, чье детство прошло в блокадном Ленинграде Метроном чеканит время в доме мерзлом и пустом. Чтобы ожила буржуйка, поднимайся из постели. А растопка занимает до двенадцати листов — Есть у мебели манера разгораться еле-еле. Скоро мама будет дома, только будет ли обед? Но огонь — твоя забота, подогрей хотя бы чаю. «Робинзон» — подарок папин в День рождения тебе — С каждой новою растопкой всё тончает и тончает. Переварены буржуйкой до последнего листа И Толстой, и Маяковский, и «Поваренная книга» — Очень вредное изданье для пустого живота, А особенно картинка, где со сливками клубника! 142 ЛАМПА И ДЫМОХОД Образуется большое из деталей небольших. Растепляется печурка, ты мороз одолеваешь! Перед тем, как жечь страницы, перечитываешь их, Словно чай из чашки в чашку на весу переливаешь. Валерий РЕМЕНЮК Блокадные книги И в тебя перетекают Робин Гуд и Робинзон, И Ассоль — твоя подружка, и мечты ее о Грее. А зима сорок второго — это только страшный сон, И одна твоя надежда — пережить его скорее! Только сон упорно длится. Убывает неба свет. Снег на улице кружится, бьется в синее окошко. Догорают головешки. Что-то мамы долго нет… А на месте «Робинзона» — лишь картонная обложка. 18.11.10 № 1 (1) 2011 143 МЫ ПОМНИМ Александр Петров — автор рассказов. ШЕСТНАДЦАТЫЙ ЗАКАТ Александр ПЕТРОВ Рассказ Ш естнадцатый рассвет сегодня кажется забытым сновидением: зеленый рассвет. Но теперь, каждые сутки мне снится только один сон. «Все с брони! Мать вашу! Духи!.. Лёха!.. Рация!.. Держать оборону!» Папоротниковый небосклон у горизонта точно кто-то размазал кистью, а незаметные до рассвета облака превратили мое пробуждение в лабиринты. Светлеет, утро растворило звезды, остались несколько самых ярких, самых магических, но и они скоро исчезнут отсюда и зажгутся для других одиноких людей, не спящих в своей ночи. «Второй! Я девятый! Второй!.. Сука — обходят!.. На-а-а!.. Второй, твою…» Вот по периферии мазнули другой краской, сначала чуть-чуть — розоватая окаемка, затем весь восток озарился. Пульсируют мои вены: я жду. Мой шестнадцатый восход. Восход — розовый, у него в сердце малиновый диск, исковерканный царапинами голубого, изумрудного и черного — исковерканный зигзагами, каплями, всполохами чего-то совсем непривычного, запредельного. 144 ЛАМПА И ДЫМОХОД «С минометов бьют!..» С каждой новой секундой мысли четче, они чеканят последний каменный шаг, последний итог: «Ты прозрел». Но почему те — пятнадцать предыдущих рассветов — не волновали меня так? Я просто глазел на рассвет, объясняя себе, что выбора нет. Но выбор был, надо было всю мою жизнь жить по-другому. И вот он — приговор в исполнении, эпилог проклятого времени для меня. Время закончилось еще в тот, фатальный момент, на подъеме всеобщего чувства патриотизма и веры, когда я ощущал себя болтом машины, частью организованной мощи и силы, неодолимой мощи, справедливой. Я был слепой герой, живя ради нашей машины. Я был слепой герой… Но сейчас, на распутье эпох, в шестнадцатый рассвет я топчу в своем сердце «великую справедливость во благо людей», я чувствую всё нарастающий запах гниения — это разлагается моя машина и с ней мои идеалы, ценности — всё, что считали выше жизни. «Вертушка на подлете!.. Леха, слева!.. Мочи их! “И я от бабушки уше-ол, и я от де-ду…”» Что от меня осталось? Убожество. Я целиком отдал себя «этой» стране. Родина… «Лешка!.. Нет!.. Ле-о-хааа!..» Я не могу отъехать от окна. Не в силах протереть единственной рукой запотевшее стекло. Я хочу жить… «Держись, парень, держись. Всё. Всё кончилось. “Мои… ноги…”» …(полгода?) перестала навещать дочка — ни слова, но ее молчание меня успокоило; слишком много хлопот для юного создания. Шестнадцать дней назад я разбавил кипяточком засохший в миске кошачий корм и устроил себе последний пир. Я мог просить о помощи: стучать в стены или разбить окно, но опять решил: судьба доведет меня правильной дорогой, может быть, сохраню честь и достоинство. Шестнадцать суток назад то, что я называл судьбой, привело к этому окну. Шестнадцатый… А сколько их могло быть… «Ты — герой…» * * * Шестнадцатый закат − это моя последняя, нереальная просьба, но в моих сомкнутых веках уже посиреневел уголок. Меня взяла тишина. Время закончилось для чего-то… Реальность, галлюцинация или неизвестное истинное, но всё же желанное, в секунду открылось, и я замер у окна, и мне теперь кажется, свершилась моя мечта, о чем грезил я в тенях засыпающего солнца, — умереть на чьих-то руках. 01.2001 № 1 (1) 2011 145 Александр ПЕТРОВ Шестнадцатый закат ВОПРОСЫ ЛИТЕРАТУРЫ Лукин Юрий Леонидович (р. 1958 г.) — учитель русского языка и литературы МОУ «Ивангородская средняя общеобразовательная школа № 1 им. Н. П. Наумова» Ленинградской обл.; руководитель школьной театральной студии «Ивангард»; автор пьес для молодежного театра и литературоведческих работ по творчеству М. Булгакова, Ф. Достоевского, Н. Гоголя, Н. Чернышевского и др. О НАБОКОВЕ — С ЛЮБОВЬЮ Юрий ЛУГИН Статья П ризнаваться в любви к Владимиру Владимировичу — моветон. К Набокову, к Маяковскому или к… Во всеобщую осанну «вмешивать вой свой» — чревато для достоинства пишущего. Слишком просто. Потому как мнением авторитетов проверено и — поэтому безопасно: всегда можно за спину кого-нибудь из авторитетов спрятаться и пафосно возопить: «Да как вы можете не любить Набокова?!» Заранее отказывая не любящему оного в здравом уме и литературном вкусе. Ну как, скажите на милость, не любить самого успешного русского писателя ХХ века, автора самого скандального и оттого самого популярного романа вышеназванного столетия?! А вот никак. Не получается не любить после пятикратного прочтения той же «Лолиты», десятикратного — «Приглашения на казнь», выученного почти наизусть «Облако, озеро, башня». Я люблю Набокова именно за то, что многие ставят ему в вину, даже признавая высокий писательский талант, — за снобизм и ниспровержение авторитетов. За презрение к русской классике ХIХ века, за пасквили на Достоевского, презрение к Горькому, насмешки над Гоголем и т. п. Набоков — один из тех немногих, кто м о ж е т с е б е э т о п о з в о л и т ь. Потому что тех, кого Набоков действительно 146 ЛАМПА И ДЫМОХОД презирает и ни в грош не ставит, он просто не замечает, как мы, глядя в окно, не замечаем находящегося в нем стекла. Потому что только в такой снобистской форме проявляется его любовь к великой русской литературе. К Пушкину и Гоголю, выведенным в романе «Приглашение на казнь» в виде смешных кукол, пародирующих стандартные памятники и клише школьных учебников. К Достоевскому, чьи нравственные императивы в ХХ веке были опрокинуты в сознании людей образом «белокурой бестии» Ф. Ницше, чего не удалось Раскольникову, — то есть к скомпрометированному Достоевскому. Любовь вне пафоса и единения с общепринятой нормой, когда вопли о незыблемости авторитета классика оборачиваются страшным глумлением над их наследием, так как у современников Набокова слово явно расходится с делом: жить по Достоевскому, по Пушкину, по Гоголю как-то многим не захотелось, а чем это закончилось — и закончилось ли? — мы знаем. Даже Горькому Набоков, отказывая в писательском таланте, всего лишь указывает на то, что подчинение идеологическим установкам превращает талант в извращение, а носителя оного — в морального монстра, вроде незабвенного мсье Пьера. Потому что любовь у Набокова — всегда нечто большее, чем «просто любовь». К которой все привыкли, которая вписывается в традиционную и ставшую общим местом систему социальных координат, выражающуюся настолько расхожими фразами, что мы даже не задумываемся над сказанным и никакой глубокой мысли, никакого искреннего чувства в сказанное не вкладываем. 2. Все герои Набокова в той или иной степени люди аморальные, что дает основание заподозрить в аморальности самого Набокова. Аморален Лев Глебович Ганин ни в какие нормы приличного поведения не вписывающимся отношением к Людмиле, бедолаге Алферову, да и к самой Машеньке, если разобраться. Аморален Цинцинат К. в сцене, когда мсье Пьер изволит совершенно справедливо возмущаться его бестактностью: «—Почему от вас так пахнет? — спросил Цинцинат со вздохом. Толстенькое лицо мсье Пьера исказилось принужденной улыбкой. — Это у нас в семье, — пояснил он с достоинством, — ноги немножко потеют. Пробовал квасцами, но ничего не берет. Должен сказать, что хотя страдаю этим с детства, и хотя ко всякому страданию принято относиться с уважением. Еще никто никогда так бестактно… — Я дышать не могу, — сказал Цинцинат». («Приглашение на казнь») Список можно продолжить и закончить фигурой незабвенного извращенца Гумберта. Потому как извращенец Гумберт является главным убойным аргументом в пользу вышеозначенного тезиса. Только аморальность и безнравственность, по Набокову, не одно и то же. Его любимые герои не способны на подлость и предатель- № 1 (1) 2011 147 Юрий ЛУГИН О Набокове — с любовью ВОПРОСЫ ЛИТЕРАТУРЫ ство. Как и на убийство. Убийство Куильти не в зачет: Куильти надо было убить, и любой вменяемый человек, окажись на месте Гумберта с пистолетом в руках, обязательно убил бы Куильти! Что есть мораль? Освященные традицией правила поведения человека в обществе, в которых закреплены нормы нравственности на том минимальном уровне, без которого общество не может существовать. То есть рамки, навязанные человеку извне: жесткая система запретов и ограничений, выражаемая примитивным набором лозунгов и банальных запретительных фраз, типа «По газонам не ходить!», «Не влезай — убьет!», «Берите вилку в руку левую, а нож берите в руку правую…» (Н. Олейников). Они необходимы… Но по-настоящему нравственный человек настолько жестко детерминирован своими убеждениями о том, что порядочно или нет, красиво или безобразно, что ни в каких рекомендациях и запретах извне не нуждается. Более того, банальные правильности оскорбительны для его человеческого достоинства. Для Набокова нравственное чувство есть производное от культуры — д а р, наличие которого превращает носителя его в Личность, реализующую себя в протесте против н о р м ы, в противостоянии «законопослушной т о л п е», потому что в основе законопослушного поведения о б ы в а т е л я лежит либо корысть, либо страх. Д а р — это самоопределение через т а л а н т. Другого критерия отличия от серой массы для Набокова не существует. И для Владимира Владимировича достаточно внутренних убеждений в своей правоте, чтобы не прятаться за какой бы то ни было авторитет. За Пушкина, например, с его хрестоматийным «Гений и злодейство — вещи несовместные». Потому что все книги Набокова — об этом. А дабы не потрафлять толпе, нуждающейся в общепризнанных и окаменевших фразах в качестве руководства к действию, Набоков скорее образно бросит в Пушкина камень, подобно тому, как это по-своему делал Д. Хармс. От Пушкина, реального человека и г е н и я, подобные пассажи — абсурдные у Хармса или снобистские у Набокова — ничего не отнимают. Скорее, наоборот, — выбивают из головы некогда вбитые в нее гвозди, согласно которым в с е знают, что Пушкин — гений, в большинстве своем не вкладывая в сие утверждение никаких личных симпатий, знаний, убеждений и вообще интереса к творчеству поэта. И вряд ли стоит осуждать Набокова за снобизм, высокомерие и отсутствие пиетета перед заслуженным гением, учитывая, чем подобными пассажами он на самом деле рискует. «Не судите да не судимы будете!» — оно, конечно, так, только вот любое суждение есть незыблемое право личности заявить свою индивидуальность и проявить именно по-пушкински «внутреннюю свободу», без которой невозможно творчество как таковое. 148 ЛАМПА И ДЫМОХОД Набоков берется судить, прекрасно понимая, что ставит себя в центр мишени, в которую обязательно полетят все камни, стрелы и — что для ХХ века весьма характерно — пули. Не со стороны равновеликой творческой личности, естественно, — попробуйте представить обиженного на Хармса или Набокова Александра Сергеевича! — а со стороны толпы, черни, которую хлебом не корми, а только дай повод чем-нибудь пошвыряться. Не стоит забывать об эпохе Набокова, чтобы не обвинять его в презрении к народу и пренебрежении правилами политкорректности: книги и людей в Германии в тридцатые-сороковые годы сжигали под одобрительные вопли широких народных масс, равно как и в сталинском Советском Союзе травили творческую интеллигенцию при гораздо большем по децибелам сплошном «Одобряем! Поддерживаем! Осуждаем и требуем!» — чем деятелей той же Промпартии или евреев-космополитов. (Не могу представить себе Набокова, готового кланяться бронзовым памятникам, назначенным власть предержащими быть кумирами и непререкаемыми авторитетами. Его стоическая и в высшей степени рискованная позиция неприятия официальных авторитетов адекватна чувству человеческого достоинства: дай повод воинствующему законопослушному большинству дотянуться до вашего горла под предлогом: «А он нашего Пушкина-Гоголя-Горького не любит!» — то именно те, кто в школьных учебниках глумливо подрисовывал Пушкину, Гоголю, Горькому усы или рожки, первыми в ваше горло вцепятся, демонстрируя «благородное негодование».) «…— Вы должно быть, действительно, подвыпили или сошли с ума. Вы совершаете с нами увеселительную поездку. Речи не может быть о том, чтобы кто-нибудь из нас — в данном случае вы — отказался продолжать совместный путь. Мы сегодня пели одну песню, — вспомните, что там было сказано. — Я буду жаловаться, — завопил Василий Иванович. — Отдайте мне мой мешок. Я вправе остаться, где желаю. Да ведь это какое-то приглашение на казнь, — будто добавил он, когда его подхватили под руки. Как только сели в вагон и поезд двинулся, его начали избивать, — били долго и довольно. Придумали, между прочим, буравить ему штопором ладонь, потом ступню. Почтовый чиновник, побывавший в России, соорудил из палки и ремня кнут, которым стал действовать, как черт, ловко. Молодчина! Остальные мужчины больше полагались на свои железные каблуки, а женщины пробавлялись щипками да пощечинами. Было превесело». («Облако, озеро, башня») Ничего не напоминает? 3. Наверняка многим вышесказанное покажется притянутым за уши — этаким умствованием на предложенную тему, когда обращение к Набокову — всего лишь повод для собственных авторских экзерсисов. Спорить не буду — скорее всего, размышления об отношении к великому русскому народу со стороны Набокова № 1 (1) 2011 149 Юрий ЛУГИН О Набокове — с любовью ВОПРОСЫ ЛИТЕРАТУРЫ в этой статье не есть то, что было на самом деле, а попытка объяснения самому себе его действительно насмешливого отношения к пресловутой духовности и априорной нравственной природе россиян, в которую Набоков не то чтобы не верил, но к которой позволял себе относиться весьма пренебрежительно: достаточно вспомнить его пассаж из «Лолиты» об этих странных русских… Набоков ни в каких — и моих тоже — оправданиях — оправданиях не нуждается, но в них нуждаюсь я. Потому что, в отличие от меня, Владимир Владимирович может себе позволить быть настолько далеким от народности, настолько не обремененным благостным чувством обожания, спровоцированным ностальгией по запаху прелых онучей и гастрономической любовью к блинам и окрошке, что это не может восприниматься недостатком. В конце концов, сторонний взгляд — самый трезвый и объективный взгляд. Пример из «Лолиты» можно воспринимать и как своеобразный перевертыш на «Умом Россию не понять» Тютчева. Для Набокова, человека в высшей степени рационального, то, что умом понять нельзя, никак с умом и не вяжется. И умиляться взахлеб отдаленностью России от ума он не будет: чему тут умиляться-то? Готовностью русских в гостях не смывать воду в туалете? При этом свой взгляд на вещи он не навязывает, предпочитая во всем быть оригинальным. Даже через эпатаж чувств почтеннейшей академической публики. В то же время согласных с ним он не терпит в большей степени, чем тех, к мнению которых оппонирует, — у последних оно хотя бы есть. Как словно бы Набоков находится на вершине им же выстроенной пирамиды, где, кроме него, места нет никому, и приглашает каждого построить свою. Если получится, равную. Иначе он вас в упор не замечает. Для меня, как человека, которому не повезло «быть избалованным до прекрасной крайности ребенком», свобода Набокова выражать свое мнение, пусть крайнее, негативное, о том, что мне по-настоящему дорого, — своего рода противоядие. Против желания за компанию с кем-нибудь общепризнанным и уважаемым истекать слюною и восхвалять как некую богоизбранность и самобытность способность моего народа кичиться позорными недостатками. И не впадать при этом в истерику русофобства. Потому что в моем сознании позиция В. Набокова на другом полюсе уравновешивается позицией А. Платонова, которого, кстати, Набоков считал величайшим талантом из своих современников в России задолго до того, как эту мысль кто-то из официальных литературоведов осмелился высказать вслух, — позицией оправдания народа, сумевшего сохранить себя в историческом пространстве благодаря выморочной зачастую своей «сокровенности» и выжить в ситуации, несовместимой с жизнью. 4. Самые категоричные высказывания Набокова всегда относительны. О русских и о Советской России он высказывался все-таки 150 ЛАМПА И ДЫМОХОД менее нелицеприятно, чем о тех же Германии и США. По его мнению, для культурного образованного русского человека в Европе живут туземцы, а в Америке, соответственно, аборигены. Различие между теми и другими — в тех же критериях, согласно которым африканские туземцы все-таки находятся на более высоком уровне развития, чем аборигены Австралии. Скандальный роман Набокова «Лолита» по сути — это вызов американской системе ценностей в полном соответствии с правилами этой системы, где скандал — основа успеха. «Лолита» — это обвинение американскому образу жизни, при котором любая девочка в ответ на вопрос, хочет ли она сниматься для «Плейбоя», отвечает: «Да!» — не задумываясь. Точно так же, как «Изобретение Вальса» — обвинение западной демократии в неспособности остановить фашизм; как «Приглашение на казнь» — приговор любой тоталитарной системе, не важно, фашистской или сталинской. Пятьдесят лет американским аборигенам, зацикленным на фрейдистском психоанализе, понадобилось, чтобы хоть отчасти понять идею «Лолиты» — романа, написанного в насмешку над американской литературой в виде не пародии на нее даже, а тончайшей стилизации, требующей пристального внимания и высокой образованности от читателя. Образованности не в зашоре от самовитого, американского «Гуд!», а через опору на европейскую культуру, одной из главнейших составляющих которой является русская культура ХIХ века. Недаром Гумберт Гумберт — европеец, то есть туземец среди аборигенов, которому среди оных живется отнюдь не слаще, чем русскому эмигранту Василию Ивановичу среди немецких филистеров-без-пяти-минут-фашистов в рассказе «Облако, озеро, башня». И в то же время и с п о в е д ь Гумберта о самом сокровенном и дорогом — для русского читателя у з н а в а е м а, потому что заставляет вспомнить самые пронзительные произведения Пушкина, Гоголя, Достоевского и Толстого. Особенно после пассажа-перевертыша о «загадочной русской душе», снимающий тот пафос, который в моей вышеизложенной интерпретации все равно прозвучал. И не без издевки над до клубнички охочим читателем Набоков в первых же страницах романа прямо обозначает его идею, отсылая читателя к балладе Эдгара По, к которой до клубнички охочий читатель, особенно — американский, вряд ли обратится: Это было давно, очень, очень давно. В королевстве у края земли, Где любимая мною дева жила, — Назову ее Эннабел Ли; Я любил ее, а она меня, Как любить мы только могли. № 1 (1) 2011 151 Юрий ЛУГИН О Набокове — с любовью ВОПРОСЫ ЛИТЕРАТУРЫ Я был дитя. И она дитя В королевстве у края земли, Но любовь была больше, чем просто любовь. Для меня и для Эннабел Ли — Такой любви серафимы небес Не завидовать не могли. И вот потому много лет назад В королевстве у края земли Из-за тучи безжалостный ветер подул И убил мою Эннабел Ли. И знатные родичи девы моей Ее от меня унесли И скрыли в склепе на бреге морском В королевстве у края земли. Сами ангелы, счастья такого не знав, Не завидовать нам не могли, — И вот потому (как ведомо всем В королевстве у края земли) Из-за тучи слетевший ветер ночной Сразил и сгубил мою Эннабел Ли. Но наша любовь сильнее любви Тех, кто жить дольше нас могли, Тех, кто знать больше нас могли, И ни горние ангелы в высях небес, Ни демоны в недрах земли Не в силах душу мою разлучить С душою Эннабел Ли. Если светит луна, то приносит она Грезы об Эннабел Ли; Если звезды горят — вижу радостный взгляд Прекраснейшей Эннабел Ли; Много, много ночей там покоюсь я с ней. С дорогой и любимой невестой моей — В темном склепе у края земли. Где волна бьет о кромку земли. (В переводе В. Рогова) Еще в 1991 году, когда я впервые попробовал завести разговор о «Лолите» на уроке литературы, одиннадцатиклассники, прочитавшие роман, высказались так: — это роман о любви (а вы о чем подумали?); 152 ЛАМПА И ДЫМОХОД — Гумберт не совратитель несовершеннолетней девочки — ведь он в истерике бился, доказывая матери, что ни в коем случае нельзя отпускать малышку Ло в летний лагерь, где с нимфеткой произойдет то, что неизбежно с нимфетками в скаутских лагерях происходит; — совращен был сам Гумберт — и отнюдь не девочкой; — по типу поведения Лолита ничем не отличается от нимфетки Наташи Ростовой, каковой мы видим ее у Л. Толстого, что никак не влияет на положительную оценку вышепоименованной. И именно тогдашние одиннадцатиклассники обратили мое внимание на финал — на то, что Гумберт умер от разрыва сердца на сороковой день после того, как родами умерла Лолита… Если светит луна, то приносит она Грезы об Эннабел Ли; Если звезды горят — вижу радостный взгляд Прекраснейшей Эннабел Ли; Много, много ночей там покоюсь я с ней. С дорогой и любимой невестой моей — В темном склепе у края земли. Где волна бьет о кромку земли… 5. После всего изложенного выше утверждаю: Несмотря на декларативную отстраненность от «генеральной линии» развития русской литературы, Набоков достаточно традиционный (!) русский писатель, верный основным заветам русской классики XIX века. Потому что в изменившейся исторической реальности, будучи по необходимости новатором, так как традиционная наша литература все-таки не уберегла Россию от катастрофы и благодаря школьной программе стала общим местом, оставляющим холодные сердца, Набоков по-своему пытается достучаться до этих сердец все тем же пушкинским: «Гений и злодейство — две вещи несовместные». Эта аксиома, как мы видим, в головах многих современных так называемых писателей не выдерживает никакой критики и вызывает снисходительную ухмылку, как нечто идеалистическое, не соответствующее современной реальности. Как же! Право материться и смачно описывать процесс совокупления процесса ради в литературе объявлено величайшим завоеванием демократических свобод и чуть ли не главной эстетической составляющей современного искусства. Только для Пушкина эти слова — не аксиома, а максима, определяющая сокровенную природу и сакраментальный смысл Искусства. Как и для Набокова. № 1 (1) 2011 153 Юрий ЛУГИН О Набокове — с любовью ВОПРОСЫ ЛИТЕРАТУРЫ Пусть опять-таки через перевертыш — контроверзу «дар — ряд (рад)». Наделенные д а р о м герои Набокова отнюдь не злодеи. Они просто не вписываются в нормы морали жизнеРАДостных зауРЯДностей — то есть питательной среды, в которой, как плесень, и произрастает и торжествует зло в современном мире. «Гений и злодейство — две вещи несовместные» — главный критерий его отношения к творчеству, которому он до конца жизни верен, а потому и берет на себя право судить современников, зачастую напрочь отказывая им в таланте только за пресмыкательство перед властями или людоедскими идеями. Горькому, например. Чернышевскому Николаю Гавриловичу… И Гоголю от Набокова прилетело только потому, что Владимир Владимирович не мог простить Николаю Васильевичу его стремления истолковать свои книги в угоду читателям. Творец ни в к коем случае не должен объяснять творимое — мало того, что это неизбежно приводит к искажению сотворенного, этим сам писатель превращается из пророка в проповедника, трансформируя сокровенный дар прозрения Истины в заискивание перед мнениями и раболепие перед идеями. Произведение Искусства само за себя скажет, а истинный признак высокого таланта — ощущение, что сотворенное больше творителя, а изреченное Слово обретает некий сакральный смысл, гораздо больший по сравнению с тем, который говорящий — пишущий изначально в это слово вкладывает. Набоковский снобизм проявляется и в его представлении о том, что между Писателем и читателем — дистанция огромного размера. Набоков отказывает читателю в праве возвыситься до писательского уровня хотя бы на миллиметр. Снисхождения же писателя вниз, к читателю, хотя бы на микрон, Набоков не прощает. Потому что от любого читателя, даже от самого искушенного и проницательного, потными ногами пахнет. В смысле — весьма ощутимо отдает «бытовым» запашком, потому как писателем выстраданное и кровью написанное читатель потребляет как любой продукт, купленный за деньги, — за письменным столом ли, в мягком кресле или на диване, в позе Данаи развалясь, кофеек попивая и бутербродом с колбасой закусывая. Снобизм Набокова не только защита, но и средство непримиримой борьбы против вселенского жлобства: мелкие бытовые слабости заурядной посредственности неизбежно оборачиваются примирением с подлостью. Заурядности всегда сбиваются в стаю — и тогда сумма незначительных подлостей каждого представителя стаи становится критической массой. К чему это приводит, Набоков пережил на себе: три четверти ХХ века прокатились непосредственно по нему. И дядюшкин миллион ахнул в одночасье, потому что восемнадцатилетие Набокова пришлось на роковой семнадцатый год, и р а й его детства растоптали и изгадили. 154 ЛАМПА И ДЫМОХОД (Тем, кто сочтет мой текст пафосным, а слова последнего предложения выморочной метафорой, настоятельно советую перечитать «Машеньку» и отправиться в Рождествено поглядеть, что там сейчас делается. Кстати, и Домик «Станционного смотрителя» в Выре рядом…) Вернемся к Гоголю. Точнее — к эссе Набокова о Гоголе. Вроде бы живого места на Гоголе Набоков не нашел, по всему прошелся, камня на камне не оставил от со школьной скамьи вбиваемого благоговения перед «Ревизором» и «Мертвыми душами»: и Россия-то у Гоголя выморочная, и герои — марионетки тряпочные (отсюда и длинноносая кукла в «Приглашении на казнь»), и вообще у Николая Васильевича обороты речи создают якобы живых людей, а не наоборот… Единственное произведение, по мнению Набокова, у Гоголя, которое можно отнести к действительно Высокому Искусству, — повесть «Шинель». Из которой, между прочим, и «выросла» великая русская литература. В свете вышесказанного, как говорится, комментарии излишни… 6. Любовь — интимное чувство и громких реляций не терпит. И человек, о своей любви на публику кричащий, всегда со стороны довольно неприглядным выглядит. Поэтому, поскольку терять мне нечего, позволю себе утверждение, которое наверняка превратит меня в мишень для всяческих и во многом справедливых нападок: отсутствие любви к Набокову есть признак ограниченности и непонимания фундаментальных основ Искусства. О вкусах не спорят. Это действительно так, но только на бытовом или гастрономическом уровне. Самим образом жизни, каждым произведением, любым безапелляционным высказыванием Владимир Владимирович эпатирует читателя и собеседника, намеренно провоцируя в сознании оного негативное к себе отношение. Стоит ли поддаваться на провокацию и, в полном соответствии с авторским замыслом, уподобляться тому самому «проницательному читателю», над которым издевались не только Николай Васильевич с Николаем Гавриловичем, но и Александр Сергеевич с Федором Михайловичем? Провокация для Набокова — способ восторжествовать над обывателем, даже если таковой окажется маститым литературоведом или академиком всяческих наук. Каждый из нас слышал в свой адрес: «От гордости ты явно не умрешь!» Вопрос: это комплимент или оскорбление? Без понятной иронии этими банальными словами может высказаться только посредственность, расхожестью афоризма, не ею придуманного, обретая над вами моральное превосходство и якобы ставя вас на место. Так вот торжество Набокова над обывателями в доказательствах не нуждается, так как является не амбицией, а адекватной самооценкой личного превосходства в большей сопричастности к высокой культуре, во врожденной интеллигентности и в ориги- № 1 (1) 2011 155 Юрий ЛУГИН О Набокове — с любовью ВОПРОСЫ ЛИТЕРАТУРЫ нальности таланта — оригинального потому, что д а р Набокова предельно свободен от любой идеологии, кроме диктата нравственного чувства, позволяющего безошибочно различать Добро от Зла через отличие Прекрасного от Уродливого. Если бы не яростный протест против тоталитаризма, Набокова с легким сердцем можно было бы классифицировать по ведомству так называемого «чистого искусства». Он специально избегает какой-либо глобальности, выбирая для своих произведений нечто, на первый взгляд, мелкотемное, частное, абсолютно не характерное для н о р м ы. В его персонажах нет ничего героического, а когда есть, то непременно снижается либо иронией, либо изначально заявленной безнадежностью подвига как способа разрешения неразрешимых обстоятельств жизни. Но именно противостояние безнадежной н о р м е и делает их героями. Глобальность Набокову претит — отчасти поэтому он и нападает на Толстого с Достоевским. Потому что общественная польза — и есть норма, декларируя которую писатель становится ментором, навязывая свое мнение толпе. А поскольку толпа не управляема ничем, кроме зоологических лозунгов, то и писатель из поводыря превращается в угодника, лебезящего перед так называемым общественным мнением и идущего у толпы на поводу. Более того, изысканный эстет, Владимир Владимирович Набоков в гражданственности и актуальности склонен замечать ущербность таланта: возьмите любой отрывок из Достоевского (кроме диалогов!), прочитайте вслух — и увидите, что Достоевский косноязычен. Про Льва Николаевича тактичнее будет вообще промолчать — на уровне лексики и синтаксиса любой отрывок из «Войны и мира» может служить наглядным примером для школьного урока «Типология речевых и грамматических ошибок». Возьмите любой абзац из Набокова, прочитайте его вслух — и независимо от умения и желания у вас зазвучит что-то соотносимое с библейской «Песнью песней». «…Мало что оставалось от площади. Помост давно рухнул в облаке красноватой пыли. Последней промчалась в черной шали женщина, неся на руках маленького палача, как личинку. Свалившиеся деревья лежали плашмя, безо всякого рельефа, а еще оставшиеся стоять, тоже плоские, с боковой тенью по стволу для иллюзии круглоты, едва держались ветвями за рвущиеся сетки неба. Все расползалось. Все падало. Винтовой вихрь забирал и крутил пыль, тряпки, крашеные щепки, мелкие обломки позлащенного гипса, картонные кирпичи, афиши; летела сухая мгла; и Цинцинат пошел среди пыли, и падших ветвей, и трепетавших полотен, направляясь в ту сторону, где, судя по голосам, стояли существа, подобные ему». («Приглашение на казнь»). А теперь возьмите, перечитав саму «Песнь песней», любой абзац из «Машеньки», «Лолиты». Или вообще перечитайте «Лолиту» по два-три абзаца в день… 156 ЛАМПА И ДЫМОХОД ВОПРОСЫ ЛИТЕРАТУРЫ РЕАЛИЗМ И ПОСТРЕАЛИЗМ С овременная литература представляет собой переплетение различных форм, стилей, течений и направлений. Тут и традиционный реализм критический, господствовавший в русском искусстве большую часть девятнадцатого века, и так называемый социалистический реализм, господствовавший в нем в период советской власти, и, наконец, если можно так выразиться, неокритический реализм, утвердившийся в современной русской литературе после перестройки. И все остальные течения, самые разнообразные, включающие изображение «потока сознания» или внутреннего монолога, сюрреализм, основанный на невероятных образах, возникающих в сновидениях, галлюцинациях, при психических заболеваниях, а также в результате воздействия некоторых наркотиков. Сюда следует отнести изображение самых обыденных вещей и событий в мельчайших подробностях, как бы рассматриваемых через увеличительное стекло, что мы видим, например, у Пруста, Джойса или у представителей французского «нового романа», иначе называемого «алитературой», таких, как Мишель Бютор. Сюда можно добавить еще фантастику (не научную, ибо научную фантастику вряд ли можно отнести к художественной № 1 (1) 2011 157 Алексей ЗАЛЕССКИЙ (Аналитическая статья о положении реализма в искусстве в наше время) ВОПРОСЫ ЛИТЕРАТУРЫ литературе), речь от лица животных, как у Кафки, — всего не перечислишь. Назвать все эти течения авангардизмом или модернизмом, как было принято раньше, в настоящее время уже не представляется возможным, хотя бы потому, что произведениям Пруста, Джойса и Кафки уже около ста лет. Да еще и потому, что уже появился постмодернизм. Поэтому я выбрал слово «постреализм» для объединения всех этих новых, или, скорее, относительно новых литературных течений. Хотя, может быть, кто-то и раньше меня употреблял этот термин. Как известно, Ортега-и-Гассет считал, что реализм не вечен, что его возраст не превышает двухсот лет и что искусство не может стоять на месте. Еще он говорил, что если в реализме жизнь показывалась через героев произведений и через отношения между ними, то в новом искусстве на первый план выступает сам автор и его мировосприятие. Однако прежде чем говорить о постреализме и его праве на существование, следовало бы разобраться, что представляет из себя сам реализм, хотя на первый взгляд кажется, что это и так всем известно. Кажется, еще со времен Аристотеля искусство, особенно литература, считалось подражанием жизни. Иными словами, реалистическое искусство изображает подобие жизни. До недавнего времени критерием положительной оценки литературного произведения было изображение автором своих героев, как живых людей. Но, оставаясь в рамках реализма, каждый из выдающихся писателей отличался своеобразием, неповторимостью, «непохожестью» на других. Это и не удивительно: ведь каждый автор накладывает на своих героев, а также на изображаемые им отношения между этими героями и на происходящие вокруг события отпечаток своего мировосприятия, своей индивидуальности — своей души. Поэтому прозу Гоголя никогда не спутаешь с прозой его современника Пушкина, прозу Толстого — с прозой Достоевского, прозу Тургенева — с прозой Лескова и т. д. Когда же мы переходим к постреализму, то обнаруживаем, что различия между писателями увеличиваются во много раз. Джойс, например, более непохож на Кафку, чем Толстой — на Достоевского. Это объясняется резко возросшей индивидуализацией отдельных авторов. Они отдаляются друг от друга подобно ветвям дерева, расходящимся в разные стороны. Ортега-и-Гассет говорит, что писатели, отказавшиеся от реализма, больше заняты изображением своего внутреннего мира, чем внешней жизни. Можно сказать, что и в живописи художники постепенно все более отступают от изображения внешнего мира. Это можно отчасти объяснить возникновением художественной фотографии, отдельные снимки которой не уступают картинам Шишкина, Левитана и других выдающихся пейзажистов. Можно ли объяснить отказ от реализма возникновением кино и телевидения, я не берусь судить, но ясно 158 ЛАМПА И ДЫМОХОД одно: кино легче воспринимается зрителем (т. е. требует меньшего напряжения душевных сил), чем книга читателем. Сказанное выше не означает, что реалистическая литература отжила свой век и больше не воспринимается современниками. Реалистическая литература по-прежнему находит и будет находить своих читателей. В дальнейшем возможно появление талантливых и даже, может быть, гениальных реалистических произведений. Речь идет о том, что реализм не должен больше считать себя господствующим течением в литературе. Другими словами, он должен немного потесниться и дать место другим. Когда-то китайский вождь Мао Цзедун сказал: «Пусть распускаются сто цветов». Не знаю, к чему он относил этот афоризм, но, во всяком случае, к литературе его слова подходят как нельзя лучше. № 1 (1) 2011 159 Алексей ЗАЛЕССКИЙ Реализм и постреализм РОМАН, ПОВЕСТЬ ДАЧА Алексей ЗАЛЕССКИЙ Роман Часть 1 ГЛАВА 1 ача. Брызги солнца в окно. Сквозь густую листву сирени, откуда время от времени раздается короткая, но звучная, похожая на голос флейты песенка серой птички с черной шапочкой на голове, птичка так и называется — черноголовка. Еще вчера хозяева дачи, мои родственники — генерал с женой и двумя детьми, — уехали в Москву и вернутся поздно вечером. Я лежу на постели, уже 10 часов, пора вставать, но мне хочется еще поваляться. Куда спешить, если ты один дома и впереди еще целая половина длинных летних студенческих каникул? Стены нашей дачи настолько тонкие, что слышно, как на соседнем участке разговаривают. Надо мной часы-ходики с гирей в виде шишки на длинной цепочке. А циферблат выкрашен голубоватой краской с изображениями красных ягодок и зеленых травинок. Стены комнаты обиты желтыми листами фанеры. Желтый дом. Дополненный неостекленной терраской — просто крыша на четы- Д 160 ЛАМПА И ДЫМОХОД рех столбах, соединенных решетчатыми перилами, сверху дощатый потолок, а снизу дощатый пол. Но зато там есть большой обеденный стол, за которым в хорошую погоду мы едим. Как интересно обедать на террасе в компании цветов и деревьев, бабочек, стрекоз, ос и пчел, а изредка и летающих жуков, которые, хотя к человеческой еде равнодушны, но по ошибке все же могут упасть на стол… Однажды к нам в сад повадилась летать сорока. Она клевала вишни. И дед — он теперь уже умер — решил ее застрелить. Он был раньше большой охотник и имел двухстволку. И хотя ружье уже лет двадцать не стреляло, дед зарядил его дробью и вынес на террасу. А у нас в то время были гости, и когда в очередной раз прилетела сорока, обед был в полном разгаре. Дед сказал: «Заткните уши!» — и выстрелил. А я побежал по узенькой тропинке вдоль кустов смородины и крыжовника посмотреть, что сделалось с сорокой. Она была ранена и бегала по траве, оставляя за собой полоску крови. Птицу поймали и сварили из нее суп, добавив туда еще и утку. На даче иногда устраивались пиры. Генерал приглашал всех родственников, и подавалось обильное угощение, конечно же не из сорочьего мяса. На угольях жарились шашлыки, надетые на гладко обструганные палочки из орешника, что должно было придавать шашлыку особый вкус… Вокруг дома сад и огород. Яблони большие и развесистые, вишни, сливы. Но всего понемножку. А огород — это вообще две-три грядки. Дед выращивал помидоры, огурцы, кабачки, клубнику. А теперь от этого почти ничего не осталось. Но есть большой малинник. В нем мы, дети, прятались. В малиннике жили малиновки. У самой дорожки, ведущей к деревянной скамейке, старой, покосившейся и серой от дождей, они свили гнездо, где мы обнаружили пять голубоватых яичек с черными крапинками. Потом, когда появились птенчики, мы ходили на них смотреть, пользуясь минутами, когда родители улетали. Взрослые сказали, что, если подходить к гнезду в то время, когда родители кормят птенцов, малиновки могут оставить гнездо и птенцы умрут от голода. Но потом гнездо опустело. Неизвестно, что стало с его жителями: выросли и улетели или их съела кошка, случайно забежавшая на наш участок. За малинником и садом с двух сторон до самого забора остаток древнего леса, который сорок лет назад основатели дач вырубили, а наш дед маленький кусочек его сохранил для красоты и уюта, а еще и ради того, чтобы прохожие с улицы шарили праздными любопытными взглядами по его владениям. Микролес. У подножья великанов-деревьев карликовое государство лесных трав и цветов. Как Люксембург или Монако на карте Европы. Узорчатые веера листьев папоротников. И хвощ. Редкое даже в настоящем лесу растение. А здесь сохранился. В доисторические времена был гигантским деревом, под которым разгуливали ящеры. № 1 (1) 2011 161 Алексей ЗАЛЕССКИЙ Дача РОМАН, ПОВЕСТЬ Крокодилы на задних лапах. «Ландыши, ландыши — светлого мая привет». И копытник, или копытень, названный так за то, что его листья напоминают след лошадиного копыта. Гирлянды копыт. Табун лошадей, бегущих вверх ногами. И колокольчики. «Колокольчики мои, цветики степные». Не степные, а лесные. И не темно-голубые, а лиловые. Лучше у Вертинского: «И колокольцы лиловые тихо звенели хорал». Но не звенят. И поднятые к небу кривые сабли безымянной травы. Но на ученом языке у нее все же есть имя. Когда я был маленьким — учился в первом или во втором классе, — я выкопал некоторые из этих растений и посадил в песочнике перед терраской, обильно полив водой. Пусть будут всегда перед моими глазами. И песочник оживился, стал подобным грядке. Но на следующее утро они все завяли. Не хотят жить рядом с людьми. Переселятся из чащи, где в косых лучах солнца, как вертолеты, зависли, работая винтами крыльев, пчелы или желтые мухи, похожие на пчел. Висят, висят и вдруг сорвутся с места и исчезнут… А где нет травы, там земля сплошь усыпана опавшими коричневыми иголками коричневых сосен. Загорелые мужчины на пляже льнут к бледнотелым девицам в зеленых бюстгальтерах — березам. Одна из них растет в углу у забора. Угол участка, выходящий на перекресток двух улиц, — это нос корабля. Режет неподвижные волны дачного поселка. А береза — мачта. Взбираться на нее и обозревать с высоты серые и красные крыши соседних домов в воротниках садовой листвы. Соседи. За колодцем, напротив нашего забора — забор татарина Малеева. Говорят, что хозяину сто лет. Сейчас Малеев не выходит из дома — ослаб. А еще лет десять тому назад напивался пьяным и матерился на всю округу. Был высок, здоров и толст. Имел парники и торговал ранними огурцами и помидорами. У него, как батрак, за жилье и скудное питание работал отставной священник. Его называли малеевским попом и рассказывали, что он служил в Белой армии. Он работал от зари до зари: доил корову, копал и поливал огород, колол дрова, носил воду из колодца и собирал навоз на улице, где прогоняли стадо. Если и вправду он служил в белой армии, то наверное, уже отсидел свой срок, а может быть, даже и не один — иначе бы его забрали. Он иногда разговаривал с детьми. Идет мимо нашего забора с ведром навоза, остановится на минутку отдохнуть — больше нельзя, Малеев мог заметить и отругать, а то и избить, — поглядит на нас своими голубыми, добрыми, необыкновенно ясными глазами и расскажет что-нибудь веселое и интересное: «Вот иду ранним утром по лесу, роса кругом блестит, удивительно поют птицы — лес, как живой. Подойду к елочке, поглажу ее по лапкам и скажу: здравствуй, елочка, какая ты хорошая, а где-то у тебя грибочки? А вы знаете язык цветов?..» Но языка я не запомнил. А еще он пел нам какие-то отрывки из оперетт. Умер он как-то незаметно или ушел от своего хозяина. Тогда мы над ним смеялись, а теперь 162 ЛАМПА И ДЫМОХОД его жалко. И жалко, что мало слушал его и мало запомнил из того, что он говорил. Дорога. Вернее, дачная улица. Всегда под солнцем или изредка под дождем. На ней высохшие лепешки коровьего навоза — их теперь никто не собирает. Глинистые колеи и между ними низкая травка, которую щиплют гуси, выпущенные из какой-то калитки. Там растет много подорожника. Если приложить его к ранке, то, говорят, он кровь останавливает. Пробовал, но останавливается не сразу. Только размазывается по лицу листа. Если пройти босиком по рассыпанному здесь стеклу — и какой дурак набросал! — подорожником не обойдешься. Улица ведет к станции. Но по пути надо перейти Ярославское шоссе. По нему все время одна за другой едут машины. Издали кажется, что они стоят, а движется сама серая асфальтовая лента, которую тянет на себя кто-то невидимый. Конвейер машин. Перебегаешь через него, как заяц. На другой стороне указатель с надписью: до станции 1 км. Идешь, прячась от жары под сенью дачных деревьев, распростерших свои широкие ветви над заборами. За каждым забором свой уют. Качели и гамаки, привязанные к стволам старых сосен. Самовары, растапливаемые шишками. Матери и детишки. Брошенные на шелковистой траве игрушки и велосипед. По такой траве хорошо ходить босиком, не то что по дороге. Кусочки чужой жизни. Кажется, что там всегда все хорошо, мирно. Не ссорятся и не ругаются. Едят щавелевый суп с яйцом и со сметаной. Или малину с молоком. Зайти к ним в гости. Но не пустят. Во дворе злая собака… Дойти до станции. На солнце блестят рельсы и над ними раскаленный воздух струится. Там недавно, в такой же солнечный день, как сегодня, электричка раздавила старуху. Я видел, как половину ее тела за руки оттаскивали от рельсов. Кусок белого в серых пыльных тряпках. И кровь позади. Не смотреть в эту сторону. Но уже поздно. Забыть нельзя… Около станции рынок. Под тенью навесов продают молоко и творог, яблоки и ягоды. Толстые загорелые руки над прилавками. Потные лица в платках и косынках. Знойный день. Знойные бабы. Идешь обратно с сумкой, полной овощей. А сверху торчат зеленые стрелы лука. Не поломать бы их. Тяжело нести. Меняешь руку. Синевато-розовый след от ручки сумки на онемевших пальцах. Надо же вставать, наконец! В последний раз закрою глаза. Из серого тумана неопределенности выплывает фигура пьяного. Некрасивое лицо. Несвязно говорит что-то грубое или угрожающее. Руки жестикулируют перед самыми глазами. Бью его изо всех сил по лицу. Выражение сразу меняется — по-бабьи плачущее. Кулаками размазывает по щекам слезы. Неожиданно пьяный превращается в огромного муравья. Муравей поднял передние лапки и перебирает ими в воздухе. Но и он исчезает в облаке тумана. Муравьи и облака. Вот № 1 (1) 2011 163 Алексей ЗАЛЕССКИЙ Дача РОМАН, ПОВЕСТЬ где было бы им ползать. Или застрянут в облачной вате. А по земле бегают быстро. От муравейника в лес и обратно. Встречаясь, касаются друг друга усиками, сообщают важную информацию и расходятся. Работать и спать. Работать и спать. Едят они за работой. За последней дачной улицей поле. Комья вспаханной земли, на которой пока ничего не растет. Поле медленно спускается к речке и превращается в зеленый луг. Там пляшут бабочки и стрекозы. Речка, скрытая за стеной кустов. Плоское лицо луга, окаймленное узкой шотландской бородкой. В кустах без умолку поют камышовки. Маленькая птичка, незаметная в гуще листвы. То трещит, то посвистывает. Бесконечная песня, сплетенная из чужих слов. Птица-пересмешник. Увидишь ее, если вспугнешь. Но зато песни больше не будет. За кустами у самой воды примостился рыболов. Длинное удилище, повисшее над беспокойной черной и голубой поверхностью, и поплавок, не уносимый течением. Нырнет раз, другой, третий — значит, рыбка попалась. Короткий взмах, и она, серебряной искрой блеснув на солнце, падает в траву… Поле и луг отделены от леса пыльной желтизной дороги. В лесу тень и другие птицы. Кудахчут дрозды-рябинники. Кукушка — всегда далеко. Нагадает тебе долгую жизнь. Изредка пестрый дятел. Торопливо исследует корявый ствол. «Полдневный зной сюда не проникал». Особенно тениста липовая роща. Но и в ней есть солнечные поляны. С трухлявыми пнями, на которых иногда встречаются ярко-красные лесные клопы. Стаями. Еще там водятся небольшие бурые ящерицы. Греется такая на солнце, подняв мордочку с внимательным черным глазом. Когда заметишь ее, нельзя шевелиться, иначе мелькнет и спрячется — ни за что ее потом не найдешь. Надо медленно, очень медленно подносить к ней руку и затем резко накрыть ладонью. Но никогда не хватать за хвост — оторвется и несколько секунд будет извиваться в твоей руке, как разрезанный на части дождевой червяк. На месте разрыва немного крови. Новый хвост отрастет нескоро и будет меньше прежнего. Ящерицу можно принести домой, посадить в большую банку с песком на дне и кормить мухами. Но зимой она становится вялой. Ползает медленно, как бы нехотя… Зима. Как редко думаешь о ней летом! Зимой учеба, из дома в метро — в институт и обратно. Институт. В полутемных коридорах вдоль стен на скамейках с откидными, как в кино, сиденьями — студенты. Курят. Обмениваются короткими фразами о том и о сем. Оценивающим взглядом щупают проходящих девиц. На улице слякоть, редко бывают морозы. Мокрый снег тает под ногами. Гриппозное состояние. Город — постоянное мелькание чужих лиц. Равнодушные взоры прохожих, проезжих. Каждый занят собой. И ты тоже. Ни они тебе, ни ты им не нужен. Зачем же смотреть по сторонам? От нечего делать. Особенно на эскалаторе. Лица плывут навстречу. Розовато-жел- 164 ЛАМПА И ДЫМОХОД тая лента лиц. Старых, молодых, пожилых. Красивые женщины оживляют поток. Цветы среди травы. Зачем нас так много вместе? А если бы мы все знали друг друга? Каждый улыбался бы каждому. И здоровался при встрече. Есть такая секта — со всеми подряд здороваются. И хорошо! Лучше, чем просто смотреть. Если заметишь печальное лицо, участливо спросишь: «Что с вами?» Не захочет отвечать — оставить в покое. А может быть, ему нужно поговорить, отвести душу. Не быть навязчивым. Но добрым ко всем. И все — к тебе. Идиллия всемирного братства. «Стучись в любую дверь». Только в кино. Или в сказке. Забыть о городе, о зиме и о людях. Слушать немой — не мой — язык липовой рощи. Где трухлявые пни с ящерицами. Лесные клопы. Стаями. Ходить по длинным просекам, уходящим не знаю куда. Может быть, в конце одной из них озеро. Но никогда не добирался до конца. По сторонам бесконечные деревья и кусты. Однообразие разнообразного леса: кленов, берез, елей, дубов, рябин, орешника и бузины. Хоть бы какой-нибудь зверь встретился по дороге: заяц, лисица или хорек. Но такие здесь не водятся. Только один раз видел ежика, он медленно шел ко мне по тропинке, вытоптанной на самой середине просеки. Но, заметив меня, остановился и свернулся в клубок… Зато здесь есть лоси. Лось — лесной бык. Забодает или не забодает? Затопчет копытами… Умереть в лесу. Вырыв предварительно себе могилу. Лечь в нее и забросать себя еловыми ветками. Чтобы никто тебя не нашел. А наступит осень, кленовые листья налетят сверху и накроют тебя лоскутным одеялом из желтых и красных звезд. Зимой напáдает снег и сравняет яму с землей. Весной же мутные потоки воды нанесут туда много песка и глины, да еще края могилы обвалятся и все зарастет к лету высокой травой. А может быть, здесь образуется невысыхающая лесная лужа, по которой будут бегать лодочки-водомерки и кругами плавать мелкие водяные жуки-вертячки, раздвигая зеленый покров ряски. И коричневые травяные лягушки с расписными спинками будут бултыхаться в эту лужу, оставляя после всплеска воды расходящиеся круги. И какой-нибудь неведомый зверок, который все же водится в этих местах, прибежит сюда напиться. Певчие дрозды будут перекликаться над тобой на вершинах деревьев своими звонкими, им одним понятными словами, и синицы пересвистываться короткими песенками, похожими на блестящие на солнце паутинки. А по ночам сова будет выискивать и ловить маленьких птичек, заснувших среди листвы, и те с отчаянным предсмертным криком — биться в ее лапах. * * * Мысль о ночи возвращает меня из леса в город и из лета в зиму. Москва-река. Черная, как нефть, вода. Мост у Котельнической № 1 (1) 2011 165 Алексей ЗАЛЕССКИЙ Дача РОМАН, ПОВЕСТЬ набережной. И отражения фонарей вытянулись на поверхности, как светящиеся изнутри колонны. Дом на той стороне. Дворец сталинского времени, увенчанный башенкой со шпилем. «Московских окон негасимый свет». Негасимый свет давней любви. Первая любовь. И последняя. Это в двадцать-то с лишним лет? Ха-ха-ха! «Над кем смеетесь? Над собою смеетесь!» — гоголевский смех сквозь слезы. Любил ли Гоголь? Гоголевский бульвар, засыпанный снегом. Я люблю пройтись по нему вечером, когда занятия в институте кончаются поздно. Чисто кругом. Как будто всюду развесили белые кружевные занавески. Кое-где на скамейках влюбленные. Влюбленным не холодно. А весной грязи много. На улице и на сердце. Не хочу этой грязи. Не Хо Чу. Китайское имя. Генерал с семьей год жил в Китае. А мы с мамой поселились в его квартире в сталинском доме со шпилем напротив Котельнической набережной. Сторожили квартиру от воров. Хотя в подъезде вахтер. Перед тем как уехать, генерал созвал родню и устроил очередной пир. «И я там был, мед-пиво пил». Но «меда», т. е. вина, мне не давали. Мал еще. Так что ни по усам текло, ни в рот не попало. Но было много других вкусных вещей — только успевай таскать с богатых фарфоровых блюд к себе на тарелку. Потом на двух больших черных машинах мчались на Внуковский аэродром. В то время за Калужской заставой… «леса, леса, леса». Но столбы не гудели. И Окуджава не пел. А может быть, и пел, но где-нибудь в квартире, тайком. Тогда только снег летел в лицо автомобилю. Аэровокзал был совсем маленький. И к самолету пускали провожающих. В круглом окошке лица моих улетавших племянников — детей генерала. Фотография в круглой рамке на память. Люк захлопнулся, и самолет удалился в ночь. Когда взлетел, видели его огонек… Опять Гоголевский бульвар. Сворачиваю с него и иду к реке, меся ботинками теперь уже грязный от следов прохожих московский снег. Вдоль Кремлевской стены, затем вдоль Зарядья и длинного здания военного госпиталя до самой Котельнической набережной. Как хорошо кругом — Москва под снегом. Каменная лестница спускается к самой воде. Зимой Москва-река вся не замерзает. Как и сердце. Память сердца. Я рад, что она не угасла. Без нее и жить нельзя. Вернее, трудно. Вернее, скучно. Хотя и «хлебом единым жив человек». Рядом, в высотном здании, ярко освещенные витрины магазина. Раньше в нем продавали кофе с молоком и булочки с изюмом. А теперь что?.. Трамваи грохочут по мосту. С двумя разноцветными фонариками впереди, около номера. По этим разноцветным огонькам можно было издалека узнать, какой номер идет. Язык цветов — язык трамваев. И звонки. Звон колокольный старой Москвы сменился звоном трамвайным… Черные волны плещутся у самых моих ног и достают до них, если реку возмутит редкий зимой катер. Карликовый ледокол плывет, чтобы колоть лед где-то очень далеко. Непод- 166 ЛАМПА И ДЫМОХОД вижные цепочки фонарей вдоль набережной. Фонари, как солдаты в строю. И бегущие цепочки автомобильных фар. Широко расставленные глаза низкорослых бычков (овцебыки), несущихся мимо. Их стадо, кажется, все сметет на своем пути. Но, как по команде, застывает у светофора. Позади каждого бычка, над самыми его копытами, загораются красные сигнальные огоньки. Их много-много. Вся проезжая часть вдруг покрылась красной икрой. Но через минуту они погаснут. И стадо снова ринется вперед. Не забодают ли кого-нибудь по дороге? Светится окно в ее доме на другой стороне реки. Я хорошо запомнил, где оно находится: четвертое снизу и второе от угла. Но там она давно не живет. Вышла замуж и уехала жить к мужу. Куда? Ее имя — Аня… Оно звучало во мне под музыку вальса, но теперь этой музыки нет, и имя обесцветилось. Но это сегодня, сегодня! А тогда? Тогда были ночи и дни, полные одинокого счастья. Знала ли она, что я любил ее? Скорее всего, нет, но, может быть, догадывалась. Или это мои догадки о ее догадках. Я познакомился с ней во дворе генеральского дома, где мы временно жили. Там был деревянный столик и скамейки, где ребята и девчата старших классов готовились к экзаменам. Обучение в то время было раздельное, и мы друг друга стеснялись. Но все же разговорились. Кроме школьных тем говорили о литературе. Я высказывал для тех времен смелые мысли, и Аня к ним прислушивалась. Аня была наполовину еврейка, а в семье генерала евреев недолюбливали. Монтекки и Капулетти. Евреи и русские. Но никто из моих родственников не знал о нашем знакомстве. Я ловил каждую подробность из ее жизни. Отец, мать, брат — какие они, что делают, о чем говорят — все меня интересовало. И даже их белая мохнатая собака по кличке Соболь. Когда генерал вернулся из Китая и мы с мамой уехали к себе домой, знакомство наше кончилось. Но любовь осталась. И даже усилилась. Я не смел подходить к Аниному дому, чтобы на нее посмотреть. Мне было бы страшно стыдно, если бы она поняла, что я ее выслеживаю. Но с другой стороны реки я мог смотреть на ее дом сколько угодно. И мечтать. В мечтах мы гуляли с ней по всей Москве, катались на речном трамвайчике, ходили в парк на танцверанду. Мне хотелось танцевать с ней вальс, хотя я совсем не умел танцевать. Кружиться в вальсе, держа ее руку в своей. У нас в Сокольниках в парке играл военный оркестр. Золотые литавры и трубы. Музыка — как золотая река, где ты качаешься на волнах. Иногда мы с мамой бывали у генерала в гостях, и за четыре года разлуки я встретил Аню всего лишь раз. Мы поздоровались. И только! А раньше, бывало, когда надоест заниматься, мы вдвоем прогуливались по набережной. Смотрели на проплывавшие мимо баржи. На корме какой-нибудь из них можно было увидеть развешанное белье, женщину в платочке и играющих детей. № 1 (1) 2011 167 Алексей ЗАЛЕССКИЙ Дача РОМАН, ПОВЕСТЬ — Как интересно жить на барже, — говорил я Ане. — Ехать сначала по Москве-реке, потом по Оке, потом по Волге, до самой Астрахани. — И останавливаться в больших городах, — добавила она. — Днем осматривать город, музеи, кремли. — Откуда ты знаешь, что в других городах есть кремли? Разве ты была на Волге? — Нет, но я читала. Например, в Горьком. — А я несколько лет жил на Волге. В Горьком и в деревне, во время войны. — Расскажи что-нибудь про это время. — Что же тебе рассказать?.. Мы жили в деревне, которая называется Кременки. Наверное, потому ее так назвали, что она стоит на высоком кремнистом берегу. Берег с реки кажется розовым. И там есть розовые горы с острыми вершинами — совсем как настоящие. — Высокие? — Нет, маленькие. Может быть, чуть повыше вашего дома. Я смотрел из окна избы, где мы тогда жили, — она стояла совсем близко от обрыва, — как по реке плавают лодочки. Они казались сверху очень маленькими и черными, похожими на мух, — весла, как лапки. Черные мухи на голубом стекле. Я даже картину такую нарисовал синим и черным карандашами: река и на ней мухилодочки… А один раз мы с мамой шли через поле ржи и видели лисицу. Представляешь? Дорога сухая, пыльная, а рожь по обеим сторонам высокая-высокая, как две стены, и золотая. И вдруг изо ржи выходит лисица — ярко-рыжая, почти красная. Остановилась, посмотрела на нас, перебежала дорогу и опять в рожь. Нам даже страшно стало. — Да разве лисицы нападают на людей? — Один охотник рассказывал, что ранней весной, когда лисица очень голодная, она может подкрасться сзади к человеку, откусить кусок мяса и убежать. — Но мне тогда было пять лет. А моя мама вообще всегда чего-нибудь боится. — А я бы не испугалась. — А еще я тебе расскажу, как у нас в деревне был пожар. Ночью. Мама меня разбудила, и мы начали вытаскивать вещи из дома. Я сначала ничего не понимал, но потом увидел, как вдалеке, в конце деревни, горел дом. Я никогда раньше не видел такого большого огня. Казалось, что он поднимался до самого неба. И искры летали вокруг, как бабочки. Кругом темнота, люди мечутся от избы к избе, кричат. А искры летели вдоль улицы — деревня на Волге — это часто одна длинная и широкая улица — летели низко, над самыми крышами, и каждая из них могла зажечь дом. Поэтому люди так метались и кричали. А через некоторое время прискакали пожар- 168 ЛАМПА И ДЫМОХОД ные из соседнего большого села. Они везли на телегах огромные бочки с водой и звонили в колокольчики. — Они потушили пожар? — Потушили, когда почти весь дом уже сгорел. Утром мы ходили туда смотреть. В погребе было много картошки, и она вся испеклась. Ее собирали и ели. Печеная картошка очень вкусная… Чайки носились низко над водой, ловили куски хлеба, которые им кидали с речных трамвайчиков. Некоторые пролетали совсем близко от нас и садились на парапет, отделявший нас от реки. Когда чайка сидит или плавает, она похожа на маленькую утку. Ветер трепал наши прически, а у Ани отдельные пряди ее темных прямых волос, ровно подстриженных чуть выше плеч, то и дело лезли ей на лицо, она отодвигала их и тогда казалась мне особенно прекрасной. В эти минуты я даже отворачивался, чтобы скрыть свое волнение. — А ты согласилась бы путешествовать со мной на барже? Я бы тебе рассказывал про все интересные места, которые нам встречались бы. Я и сейчас не могу понять, как я осмелился тогда задать ей такой вопрос, хотя, конечно, и ей и мне было ясно, что это всего лишь фантазии. — Согласилась бы. Только никто бы нас туда не взял… Один раз мы перешли мост и гуляли около высотного здания напротив ее дома. Аня не хотела, чтобы ребята из ее двора нас видели часто вместе. Заниматься за одним столиком — это одно, а гулять… Еще будут дразнить. Я захотел угостить Аню кофе с молоком, у меня в кармане как раз было два рубля. Мы зашли в магазин, но когда я, подойдя к кассе, вытащил деньги, оказалось, что один рубль потерялся. Я пришел в ужас, но отступать было некуда. Сгорая от стыда, я предложил ей стакан кофе. — А тебе? — Я не хочу. — Неправда, у тебя денег нет. Я молчу и готов сквозь землю провалиться. Аня это поняла и сказала: — Знаешь что? У меня есть рубль. Значит, каждый из нас будет пить кофе на свои деньги. Хорош из меня кавалер! Но она, опережая мои мысли, предложила: «Я куплю калорийную булочку, и мы съедим ее пополам». «А кофе тебе», — сказал я, как утопающий хватаясь за соломинку. «Нет, кофе мы тоже поделим». Отказываться у меня не было сил. Я метнулся за стаканом. Но Аня удержала меня. Разломив булочку и выпив свою половину кофе, она отдала мне стакан: «Пей, я не заразная». Меня как будто из пропасти вынесло на вершину горы. На вершину счастья. Пить из ее стакана. Да об этом я и мечтать не смел. № 1 (1) 2011 169 Алексей ЗАЛЕССКИЙ Дача РОМАН, ПОВЕСТЬ Пить из одной чаши, как на венчании. Я видел в церкви. Жених и невеста стояли красные как раки. Тогда венчаться — считалось выставлять себя на всеобщее посмешище: верят только старушки, а если молодые, то несознательные. Может быть, родители заставили. Но когда мы пили кофе, мне вспомнилось это венчание. А вдруг то, что мы сделали, — прообраз нашей будущей свадьбы… Ее отец был переводчиком и переводил для внутреннего пользования (для каких-то знаменитых писателей) «Превращение» Кафки. Кафку я то время почти никто не знал. А она читала отцовский перевод и как-то пересказала мне прочитанное. А потом спросила: «Ну как?» Я ответил: «Это страшно серая вещь. Но не в переносном, а в прямом смысле. Как будто все кругом только серое и никогда не показывается солнце. После такого чтения и жить не хочется. Но я бы придумал другой конец: таракан, в которого превратился Грегор, мучился, мучился, а потом вылез в форточку и улетел. В голубое небо». — Но ведь тараканы не летают! — Все равно, у них есть крылья. А в Египте тараканы летают. — Ты романтик. Чтобы ее рассмешить и одновременно скрыть переполнявшие меня чувства, я изобразил сцену из известного тогда фильма, где моряк-ловелас соблазняет девушку. «Я романтик моря», — произнес я страстным шепотом и сделал вид, что хочу обнять Аню. Разве я осмелился бы сделать это всерьез! Она вспомнила эту сцену и совсем как в фильме дала мне в ответ легкую пощечину. Я достиг цели: она смеялась до упаду. Но ее прикосновение!.. Вечный студент. Учусь вот уже седьмой год. Около года пролежал в больнице, потом академический отпуск. Два года проучился, снова больница и снова отпуск. Два доктора с сестрицей хотели жизнь спасать. Спасайте не спасайте, мне жизнь не дорога… Дорога ли мне жизнь? Иногда да, иногда нет. Скорее летом, чем зимой. Когда зимой лежишь в больнице, кажется, что лето никогда не придет. Больничные койки, больничные стены. Белые халаты врачей и сестер. По ночам выхожу в коридор посидеть на кожаном диванчике. Бессонница. И дольше века длится ночь. Когда же наконец утро?! Однажды около дивана заметил банку с отработавшими пиявками. Свежих пиявок приносят в чистой воде. А когда они напьются крови и отвалятся от больного, их убивают. Кладут в закрытую банку с раствором соли. Медленная смерть. Так люди отблагодарили их за проделанную работу. Ecсe homo! — вот человек! Раковая опухоль на теле Земли… Все поедает, но ничего не дает организму… Большинство пиявок в банке уже умерло. В розовой от крови воде шевелились всего две или три. Высовывали из воды тонкие шеи с пятачком-присоской на конце, 170 ЛАМПА И ДЫМОХОД ища выхода. Но банка плотно закрыта пластмассовой крышкой. Скоро и эти последние успокоятся. А хорошо было бы их выпустить! Бросить в какой-нибудь водоем. Но кто этим будет заниматься?.. Видел пиявку летом в неглубокой речке. Она плавала среди водорослей и подводных камней, извиваясь, как маленькая черная змейка. Как красиво было кругом: солнечный день, голубые стрекозы над речкой, поникшая трава на краю берега склонилась к самой воде, и кончики отдельных травинок касались поверхности, как длинные языки каких-то животных, пришедших сюда на водопой. И эта пиявка на воле. А здесь, в больнице, ее пленные сородичи обречены на мучительную казнь. Казнить себя любовью. Кто-то сказал, что любовь — это болезнь. Конечно, любовь без взаимности. Семь лет без взаимности. Есть такая примета: если на каком-то празднике тебе достанется место на углу стола. А сколько длилась моя любовь? Началась она в шестнадцать лет. А когда кончилась? Когда мне было 22 года, я встретился с Аней совершенно неожиданно. Можно ли считать это концом? Или началом конца? Встретились мы на той самой каменной лестнице у набережной, куда я приходил много раз смотреть на ее дом. Но тогда я попал в это место случайно. Было первое мая. Студентов гоняли на демонстрацию, и, пройдя Красную площадь, поток людской сворачивал на набережную и, сворачивая знамена, устремлялся по направлению к высотному дому. Там демонстрантов ждали грузовики, куда мы с радостью бросали надоевшее за несколько часов оформление. Оформление — именно таким было официальное название того, что мы несли. «Товарищи! Выше оформление! Вы вступаете на Красную площадь», — вещал громкоговоритель у Исторического музея. Вожди махали нам с Мавзолея руками и шляпами. Но мы мало обращали на них внимания — настали хрущевские времена. Боль в руках от гладко оструганных палок, на которых болталась несомая нами красная материя. «Сознание — продукт высокоорганизованной материи». Наше коммунистическое сознание было продуктом красной материи флагов и транспарантов — высоко организованного оформления улиц и площадей. И таким же непрочным, как ткань транспарантов. «Транспарант» в переводе с французского значит «прозрачный». Мы были прозрачны для вождей. Они нас не видели и не слышали, хотя и махали нам руками. Для них мы были только толпа. Толпа тупа. Но праздничная музыка мне нравилась: Май течет рекой нарядной По широкой мостовой… И гирлянды искусственных цветов — настоящие еще не распустились. Шарики влетают в небо над морем людей, где знамена бьют, то вздымаясь, то опадая, как кровавые гребни волн. Шарик взлетает быстро-быстро по косой линии вверх и вперед, уменьша- № 1 (1) 2011 171 Алексей ЗАЛЕССКИЙ Дача РОМАН, ПОВЕСТЬ ясь с каждым мгновением. Пролетит над всем городом, от Москвы до самых до окраин. Потом над полями и деревнями. Над лесами. Поднимется ли до облаков? Или сморщится и вернется на землю? Чем кончится его путешествие под небом? А я на земле. Привязан к ней тяжелыми от усталости ногами и всеми моими чувствами. Что мне делать в холодном и пустом небе?.. Незаметно дотащился до Яузы. Перехожу мост, и вот я у высотного дома. Спущусь к воде по каменной лестнице и еще раз (в который — в сотый или в тысячный?) посмотрю на дом, где Аня теперь не живет. Еще три года назад, когда я был в гостях у генерала, кто-то мне сказал, что она уехала. Но этот дом мне по-прежнему дорог. Запах реки. Знакомый запах, которого давно не ощущал, оживляет воспоминания. Изредка я заходил во двор, чтобы посидеть на скамейке, у столика, где мы тогда с Аней сидели. Скамейка цела, как и столик, но, может быть, это уже новые, а те сломали… Гранитные ступени, площадка у воды, и на ней молодая женщина с девочкой лет двух или трех. Девочка старается достать лопаткой набегающие волны, а мама крепко держит ее за руку. Мама худенькая, стройная, ярко-черные волосы острижены совсем коротко, как говорят, «под мальчика». Явно накрашенные — не люблю крашеных волос. Пальтишко на маме серое, но сшитое по последней моде. А на дочке теплая красная курточка заграничного происхождения. Лиц их я не вижу. Но вдруг мама поворачивается, тянет за собой дочку, видимо, собираясь уходить… Аня! А может быть, просто похожа на нее, к тому же я близорук, и то, чего не разглядел, дорисовал воображением. Пристально смотрю на них, забыв, что это не совсем прилично. Они поднимаются по ступенькам навстречу мне все ближе, ближе. Женщина останавливается, удивительно вскидывает брови. Глаза карие, ее глаза, ее взгляд! Меня она не узнает. Еще капелька сомнения: неужели ошибся? Вдруг она спрашивает с неприязнью в голосе: «Что вы на меня так смотрите?» Наверно, она принимает меня за уличного волокиту или за пьяного. Решаюсь спросить, хотя это невероятно трудно, но нет другого выхода: надо же как-то объяснить мое поведение: «А вас не Аня зовут?» Неприязнь на ее лице сменяется удивлением, затем любопытством, затем желанием что-то вспомнить: «Откуда вы знаете мое имя?» — А помните, много лет назад мы готовились к экзаменам у вас во дворе? Она вспомнила (свет на ее лице, тот свет, который светил мне все эти годы). — А вы — Андрей, но тогда вы были совсем другим. — Каким? — Ну, таким наивным стеснительным мальчиком. Я пытаюсь шутить: — А сейчас я такой видавший виды, нахальный мужчина? 172 ЛАМПА И ДЫМОХОД — Нет, вы и сейчас почти такой же, как и тогда, только выросли и немного пополнели. Мне неприятно, что она заметила последнее, и я снова пытаюсь перевести разговор в шутку: — За простоту Бог дает толстоту. Она поняла, что мне не понравилось ее замечание, и оправдывается: — Я не то хотела сказать… — Просто средней упитанности, — подсказываю я. Она смеется. — А я вот вышла замуж, родила дочку и учусь на четвертом курсе университета. — А что изучаете? — Романо-германскую филологию. Я чувствую, что разговор может стать страшно скучным: не для того же я с ней заговорил, чтобы узнавать ее анкетные данные. А для чего? У нее на лице дежурная полуулыбка, но, может быть, она все-таки хочет от меня отделаться. Тем более что дочка тянет ее за руку: мама, пойдем! Не знаю, что сказать, — молчать дальше невозможно: надо или распрощаться, сделав вид, что я подошел к ней просто из любопытства, или заинтересовать ее чем-нибудь. Но какой смысл? Она замужем и вряд ли захочет продолжать со мной знакомство. И вдруг — терять мне нечего — делаю признание (разведка боем): — А вы не догадывались, что я тогда был страшно влюблен в вас? — Догадывалась. У меня из груди, к голове, к лицу поднимается тепло, как будто я стакан крепкого и сладкого вина выпил залпом. Мне теперь все равно, что она замужем, что у нее ребенок, что мы не виделись много лет и теперь совсем не знаем друг друга. И я говорю: — Помните, как мы гуляли по набережной, как чайки летали вокруг нас, как ветер развевал ваши волосы и они лезли вам в глаза, как я предлагал вам путешествовать со мною на барже? Я еще не закончил своей тирады, но внутренне спохватываюсь, не смею продолжать, смотрю в сторону и после короткой паузы, — что я делаю? — Мы ведь практически не знакомы, — добавляю уже совсем другим тоном, растерянным, полувопросительным: — Но теперь все это и я сам в том числе — плюсквамперфектум? Она отвечает шуткой, указывая на себя и на дочку: — Плюс к нам перфектум. Я оценил ее остроту. Укол в сердце длинной и тонкой иглой. Адреналин в сердечную мышцу, чтобы заставить остановившееся сердце работать. Но тут наоборот: чтобы заставить мое черес- № 1 (1) 2011 173 Алексей ЗАЛЕССКИЙ Дача РОМАН, ПОВЕСТЬ чур сильно бьющееся сердце замедлить свой ритм. Не получится! Меня бросает в жар, теперь уже в жар, а не в сладкое, расслабляющее тепло. — Ну тогда до свидания! — отвечаю я и поворачиваюсь, чтобы уйти. Как мне хочется остаться еще на минуточку, на секундочку! Но меня ведь гонят. Поднимаясь по ступенькам, слышу звонкий Анин голос и смех: — Куда же вы? Я вас не гнала. Я останавливаюсь, поворачиваюсь назад и смотрю на ее лицо в лучах смеха. Она добродушно смеется над моей детской обидчивостью. Нет! Обидчивость не то слово: над обвалом, взрывом моих чувств. Говорят, что женщина, если даже не любит мужчину, испытывает удовольствие от того, что она ему нравится. Но в тот момент я об этом не думал. Я был счастлив уже одним тем, что она еще хочет со мной говорить. Мы поднимаемся по ступенькам, почти касаясь друг друга, и идем вдоль реки в обратном направлении, к мосту. Девочка хнычет: ей надоело, что мама ей не занимается. Аня успокаивает ее, потом обращается ко мне: — Знаете что, раз мы уж встретились, давайте погуляем немного и поговорим. Сейчас я дочку отведу к моей маме — я ведь теперь здесь не живу, я приехала сюда на праздники, — а потом к вам выйду. — А муж? — Объелся груш! — отвечает Аня и смеется. — Его сейчас нет в Москве. Он — музыкант и уехал на гастроли. Мы садимся на трамвай, переезжаем Москву-реку и сходим на следующей остановке. Здесь Аня оставляет меня ждать ее, а сама быстрыми шагами, почти волоча девочку за собой, направляется к своему бывшему дому и вскоре исчезает за углом. Минут через двадцать она должна вернуться. За это время я прихожу в себя и задумываюсь. Как это все быстро произошло: повторное знакомство на набережной, мое признание в любви, и после этого она предлагает пройтись с ней по улицам, притом будучи замужем. Скорее всего, это просто желание поразвлечься. А что еще? Неужели же это отголосок прежних, невысказанных чувств? Кто-то сказал: не надо очаровываться, чтобы потом не разочаровываться. Но я не могу. Раз мне была послана такая необыкновенная встреча, то и закончиться она должна чем-то необыкновенным. Не надо иллюзий! А все-таки любопытно, какая она теперь. А какая она была раньше, разве я знал? В юности я жил идеальным образом, созданным мною самим. О чем мы будем с ней говорить? Это не важно, важно, что она хотя бы полчаса будет со мной. Пища для новых переживаний. Давно переставшая кровоточить рана, с которой вдруг содрали корку запекшейся крови… Распахнувшиеся двери в новый мир. В ее мир. И в мой с ней 174 ЛАМПА И ДЫМОХОД вместе. Не слишком ли дерзкие надежды? Стараюсь вспомнить, о чем она говорила со мной тогда. Кроме той прогулки по набережной, которая отпечаталась во мне, как цветная фотография, подаренная на память. Да, о литературе… Вот Аня возвращается. На ней заграничная кожаная куртка и платочек с ярким рисунком, повязанный на шее. Значит, ей небезразлично, как она будет выглядеть рядом со мной. Ее улыбка мне навстречу. — Ну вот я и свободна, какую программу вы мне предложите? В кино я не хочу, но в ресторан не против. Я молчу и чувствую, что краснею. — Как и тогда — помните? — когда я хотел угостить вас кофе в булочной и у меня не хватило денег, у меня и сейчас их недостаточно, чтобы предложить вам культурную программу. — А не культурную? И она сквозь улыбку пристально, испытующе смотрит на меня. — Вы, как Сталин, хотите смутить человека вопросом. — Почему как Сталин? — Потому что он любил задавать такие вопросы, на которые очень трудно было сразу найти ответ, и смотрел, как человек будет выпутываться. — Ну, вы меня со Сталиным не сравнивайте — это мне неприятно. Я просто пошутила, сказала без всякого умысла. Мы шли некоторое время молча, не зная, куда идти и о чем разговаривать. Но Аня сама нашла выход: — Знаете, давайте погуляем по той набережной, где мы гуляли в юности, и представим себе, что нам опять пятнадцать лет. — Это вы замечательно придумали, а то, честно говоря, я не мог вам ничего предложить и ужасно растерялся. — А разве вы не помните, что с самого начала я предложила вам просто немного погулять и поговорить? — Как-то вдруг забыл. — Ну и память же у вас в 22 года. Я опять погружаюсь в томительное молчание. Но вот наконец мы выходим на набережную. — Ну, рассказывайте, рассказывайте что-нибудь. Про деревню, про Волгу, — торопит меня Аня. — Только не повторяйте то, что я уже слышала. Ведь времени у нас (она смотрит на часы) не так уж много. — Одного китайского поэта заставляли сочинять стихотворение за то время, пока он пройдет пять шагов. И если он не успевал, его жестоко наказывали. — Но ведь я вас не стихи сочинять прошу, а просто вспомнить прошлое. И чтобы мы лучше вошли в роль, давайте опять будем на ты. Хочешь? № 1 (1) 2011 175 Алексей ЗАЛЕССКИЙ Дача РОМАН, ПОВЕСТЬ — Так сразу мне будет трудновато, но если вы… если ты хочешь, попробую. — Так что же ты мне будешь рассказывать? — Знаешь, своей манерой держаться, своей интонацией ты мне напомнила ту, прежнюю Аню. — Вот и отлично. Ну, давай! — В солнечный день, когда дует ветер, река становится ослепительно блестящей. Мы с мамой ходили на Волгу ловить рыбу. Удилища, лески и поплавки мы делали сами: леску сплетали из ниток, а поплавком была маленькая деревяшка или пробка. Червей мы накапывали в огороде, около избы. Крючки мама где-то доставала. Но рыбная ловля была для нас не развлечением, а подспорьем. Эвакуированные очень голодали в деревне. У берега стояли большие лодки — баркасы, привязанные за что-то цепью; мы залезали в них и оттуда закидывали удочки. Я помню, что очень долго ждал, пока рыбка клюнет, а она большей частью не клевала, и мне страшно надоедало ждать. А у мамы получалось лучше — наверное, она дальше закидывала. Когда рыбка поднималась в воздух, она казалась такой же ослепительно блестящей, как отблески солнца на воде… А вечером вода в реке становится розовато-серой, и над ней загораются бакены. Тогда они не были электрическими, как теперь, и бакенщик ездил на лодке от одного к другому и зажигал их. — А зачем нужны бакены? — Чтобы пароходы не садились на мель. А еще на Волге есть довольно большие острова. На них растет лес. Один раз мы с мамой перебирались на такой остров вброд, не знаю зачем, может быть, за грибами или ягодами. Мама была в купальном костюме, а меня и нашу одежду несла на руках. Было глубоко, ей почти по грудь, и мне казалось, что волны вот-вот унесут нас. Тогда на Волге уровень воды был ниже, чем сейчас, — не было плотин, и, перебираясь с мели на мель, можно было дойти почти до самой середины. Это так интересно: стоишь на песке, кругом вода, и рядом пароход плывет. На острове мы ходили по лесу, и вдруг, откуда ни возьмись прямо на нас выезжает мужик на телеге. Что он там делал — до сих пор не могу понять. Мы его очень испугались… — Как тогда лисицу среди поля ржи? — Прошло столько лет, и ты помнишь, что я тебе рассказывал! — Вот видишь, помню. — А еще что ты помнишь? — Как ты хотел угостить меня кофе, и у тебя не хватало денег на два стакана. — Именно поэтому мне предложила пойти с тобой в ресторан? — Да! 176 ЛАМПА И ДЫМОХОД Она сказала это вызывающе и потом рассмеялась с довольным видом. Казалось, что она сейчас подпрыгнет на месте или захлопает в ладоши от радости: разозлила! разозлила! Ей ужасно нравилось приводить меня в смущение. — Ты сейчас такая, как будто тебе даже не пятнадцать, а десять лет — совсем девочка. — Ничего себе комплимент! — Это не комплимент, а правда. Кроме того, женщинам обычно нравится, когда им говорят, что они молодо выглядят. — Когда этим женщинам за сорок, а мне еще до тридцати далеко. — Что тебе еще рассказать? — Ничего. Давай просто поболтаем. Роль 15-летнего мальчика тебе прекрасно удалась. И мы ходили по ближайшим улицам и переулкам и просто болтали. О чем? Сейчас я и не припомню. Помню только ее лицо и улыбку. И праздник кругом. Обрывки праздника: музыка из открытого окна, подвыпившие, но еще не пьяные граждане на улицах, красные флаги на домах и редкие в этом старинном уголке Москвы портреты вождей. Голубое небо над головой и на его фоне зеленые огоньки тополиных листьев, чуть высунувшихся из почек. Речные трамваи по Москве-реке, полные праздничных пассажиров. Я предложил покататься по реке. А она съязвила: — А денег у тебя хватит? Но тут же взяла меня под руку и, прижавшись на мгновение щекой к моему плечу, — слишком много счастья в первый день — сказала: «Не обижайся, я опять шучу». Потом, чуть помедлив: «Знаешь, у нас не хватит времени, я скоро должна идти домой». И как будто с сожалением (или мне так показалось) добавила: «Кроме того, сейчас ведь большие очереди за билетами. Мы целый час простоим». Время прощаться. И вдруг она предлагает мне то, чего я желал больше всего на свете, — встретиться еще раз: «Давай увидимся, когда у меня будет больше времени. Возьми мой телефон». — «А тебе можно позвонить?» — «Вот книжка, запиши мой номер и вырви листок». — «А если муж узнает?» — «Это не твое дело. Ну, до встречи». И она исчезла. ГЛАВА 2 «Когда человека любишь, хочется, чтобы он ушел. Чтобы о нем помечтать», — так, кажется, сказал поэт. Вот теперь я и остался один, чтобы о ней помечтать. Разве можно идти домой в такие минуты? Усталости после демонстрации как не бывало. От того места, где мы расстались, я вернулся к ее дому, прошел под самыми ее окнами к той или не той скамейке, где мы сидели в юности, потом вышел № 1 (1) 2011 177 Алексей ЗАЛЕССКИЙ Дача РОМАН, ПОВЕСТЬ на набережную, где искрилась река и летали чайки, где теплоходы медленно проплывали то в одну, то в другую сторону. Казалось, что время вернулось назад и я так же по-детски счастлив, как был тогда, после каждой с ней встречи. Я поднялся на мост и, уходя, несколько раз останавливался, чтобы еще взглянуть на ее дом. А вокруг шумел Первомай. Я всегда любил его, но не как официальное советское торжество, а просто как праздник весны. На этот раз я сливался с ним в одно целое, и, наверное, я переносил на всех людей, идущих по улицам, свою радость. А если закрыть на минуту глаза, то передо мной только лицо Ани, крупным планом, как на экране кино. И ее голос в ушах, как любимая мелодия на пластинке, которую хочется слушать без конца. И мечты о нашей будущей встрече: что я ей скажу и что она скажет мне. Но в это счастье, как змея, вползает страх: ведь она замужем, чего я могу ожидать, какой любви? Или воровато бегать на свидания, опасаясь, что муж нас застанет врасплох? Ничего себе перспектива, как в дешевом романе! Нет, на роль любовника я не гожусь. Тогда неизбежна разлука с ней навсегда. Не бросит же она мужа и ребенка не лишит отца ради меня! Поэтому о будущем (дальнем) и думать не надо, а жить лишь настоящим и ближайшим прошлым… Шарики в небе. Как надутые воображением мечты, они летят высоко-высоко, и ничто не останавливает их полет. Но сдуются, сморщатся, опустятся на землю, где им и конец. Почему же мы все снова и снова покупаем эти шарики и затем выпускаем? Нам приятно следить за их полетом, которому мы вольны положить начало, но не вольны им управлять. Шарики всегда в конце концов исчезают из виду. Но есть и другие шарики, которые не летят вверх. Подбросишь их, и они возвращаются в твои руки. Это наши мысли о реальном и достижимом. Но они нам не так интересны… В следующий раз мы встретились с Аней в конце июня. До этого мы перезванивались, но у нее не было свободного времени: то девочка заболела, то мама переезжает на дачу, то у мужа какие-то гости. Летом в центре Москвы, в его маленьких улочках и переулочках, удаленных от шумных проспектов и площадей, совсем мало народу, особенно по выходным дням. Кто на даче, кто в гостях, а кому-то просто не хочется в жару выходить из своей квартиры. Кругом камень да асфальт, как раскрытые от жары рты, настежь распахнуты окна в серых неуклюжих зданиях, почему-то напоминающих в такие часы слонов или бегемотов. Они хотят прохлады — свежего ветерка или дождика, которые сейчас, наверное, далеко-далеко. Стараешься ходить по теневой стороне улицы, но солнце то и дело тебя настигает, выглядывая в просветы между домами. Асфальт размягчен от жары, и кое-где на нем ясно виднеются вдавленные следы тонких женских каблучков. Тополиный пух, надоедливо носясь перед глазами, ложится на мостовую и сбивается к бордюру тротуара, где его заодно с семенами склевы- 178 ЛАМПА И ДЫМОХОД вают жирные и ленивые московские голуби. Как контрастировало это спокойное, сонное, пустынное Замоскворечье с моим приподнятым настроением! Мы встретились в скверике близ ее бывшего дома. Аня была почему-то необыкновенно весела, как будто ее выпустили на волю после долгого пребывания в душном и тесном служебном помещении или в больничной палате. «Знаешь что, я теперь совершенно свободна, — скороговоркой произнесла она, торопясь сообщить мне радостную для нас обоих весть. — Муж уехал в Питер на гастроли, мама с девочкой на даче! Мы можем делать все что захотим: кататься на речном трамвайчике — помнишь, ты меня приглашал, — пойти в парк, в кино, в театр, даже поехать за город посмотреть какой-нибудь памятник архитектуры. Или сходить в ресторан — деньги у меня есть». И она, улыбнувшись своей обворожительной улыбкой, закружилась на месте так, что ее расклешенная юбка стала похожа на раскрытый летний зонтик. Потом она бросилась на скамейку и, закрыв лицо руками, расхохоталась. Но тут же, внимательно посмотрев на меня, добавила уже совсем другим тоном: «Я, наверное, кажусь тебе дурочкой, и у тебя возникло много серьезных вопросов ко мне, например, почему я так радуюсь, что убежала из дома и какие у меня отношения с мужем. Но заранее предупреждаю тебя, что на эти вопросы я отвечать не буду. Не буду, и все!» В ответ я мог только продекламировать: «Платье носит она полуклешем и вертлявая, как стрекоза». — Это из какой-то блатной песни? — Да, но тут в нескольких словах вся ты. Ане это понравилось. — Скажи мне еще какой-нибудь комплимент, — попросила она. — У меня такое впечатление, что для тебя наступила одна из тех редких минут, когда ты не чувствуешь на себе тяжести жизни, которая каждый день давит на всех. Теперь ты сбросила с себя этот груз, и кажется, что ты, как стрекоза, будешь носиться над землей и твои крылья будут пронизаны солнечным светом. — Несколько тяжеловесно, но на первый раз сойдет. — Знаешь, я хотел бы сказать тебе много прекрасного, но язык мой — враг мой, он путается в каких-то неясных образах и говорит совсем не то, что надо выразить. Хотя в мыслях — нет, опять не то — в образах, в представлениях ты являешься мне очень светлой и легкой, почти невесомой, — отсюда и сравнение со стрекозой. Но лучше я не буду говорить тебе комплиментов по заказу, а когда мне что-нибудь само придет в голову, я тебе скажу, и тебе это понравится. — Почему ты решил, что мне обязательно понравится? Ты, наверное, стихи пишешь? № 1 (1) 2011 179 Алексей ЗАЛЕССКИЙ Дача РОМАН, ПОВЕСТЬ — Пишу. — Прочитай мне что-нибудь. — Мне трудно подобрать стихотворение, которое мне теперь было бы не стыдно читать. Я пишу с большими перерывами: то чуть ли не каждый день по стиху, а потом два или три года ничего. — В шестнадцать лет ты писал — наверное, обо мне? — И она лукаво улыбнулась. — Да, о тебе. Только не проси — я все равно читать не буду. Все мои стихи того времени — подражательные. Давай лучше оставим эту тему. — Ладно… Так куда же мы пойдем? — Ты сама решай. — Я хочу в ресторан. И тут не знаю зачем, совершенно не в тон разговора, ни к селу, ни к городу у меня с языка сорвался вопрос: «На деньги мужа?» Казалось, в одну секунду между нами было все кончено. Аня нахмурилась, даже покраснела от гнева и сказала уже совсем другим, сухим, чужим голосом: «Ну, тогда нам больше не о чем разговаривать. До свидания». Я схватил ее за руку: — Аня, прости, я вовсе не хотел этого говорить… Я сам не знаю, почему… В таких случаях говорят: бес попутал. Я думал… У меня денег немного есть, но мне было бы неудобно… — Пусти мою руку! — Анечка, я никогда… Ты понимаешь? Я все эти годы столько думал, мечтал о тебе. И вот мы встретились, чтобы расстаться. Я не отпущу тебя, пока не простишь. Хочешь, я на колени встану? Я люблю тебя больше жизни. Должно быть, у меня был такой жалкий вид, что Аня смягчилась: «Ну ладно. Только если еще раз будут подобные замечания, пеняй на себя». Я поцеловал у нее руку и заглянул ей в глаза. В них уже не было гнева, но зато не было и прежней радости. Я старался ее развлечь, рассмешить. Вспоминал какие-то смешные истории, которые в тот момент казались мне совершенно не смешными. Направляясь сами не зная куда, мы незаметно перешли мост и очутились у пристани. Аня предложила: «Давай сейчас на речной трамвай и доедем до Парка культуры. А там погуляем немного и зайдем в какое-нибудь летнее кафе или ресторанчик на свежем воздухе под тентом. В обычных ресторанах сейчас душно и всегда накурено». Как я обрадовался, что она не оставила свою идею о ресторане! Значит, она больше не сердится на меня. На теплоходе пассажиров было совсем мало. Мы устроились наверху, на одной из задних скамеек. Кругом никого. Москва, зна- 180 ЛАМПА И ДЫМОХОД комая нам с детства, но с реки вечно новая, медленно проплывала с обеих сторон. Вот Василий Блаженный, Кремлевские стены и башни, златоглавые соборы и колокольни, Софийская набережная с особняком английского посольства, Каменный мост, а за ним громоздкий серый дом, прилепившийся к кинотеатру «Ударник», и напротив недостроенный фундамент Дворца Советов. Далеко впереди, за широким плесом, как будто висящий на ниточках Крымский мост. Аня почему-то все время молчала. Вдруг она, не отнимая своей руки и улыбнувшись совсем уже по-другому, чем раньше, как-то загадочно, сказала: «Вот ты говорил, что любишь меня больше жизни. Помнишь стихотворение Шиллера “Перчатка”. Так вот, там рыцарь не боится войти к зверям, чтобы вернуть уроненную перчатку любимой женщины. А ты бы смог сейчас, сию минуту, броситься в воду ради любви ко мне?» Я рывком встал и, перешагнув через перила, очутился на краю палубы. Я плаваю хорошо, но клянусь, если бы я даже совсем не умел плавать, то не раздумывая бросился бы в воду. Однако я не успел сделать последнего шага. Аня обхватила меня сзади руками и изо всех сил пыталась втащить обратно. Я перелез через перила и сел рядом с ней. Но она не отпускала меня, крепко обнимая руками и прижимаясь щекой к моему плечу. В ее глазах, как капли речной воды под солнцем, блестели слезы. — Какие мы дурачки, — произнесла она наконец. — Я — что сказала тебе такое, а ты — что собирался прыгнуть в воду. Но я никак не думала — честное слово, — что ты на это решишься. Скажу откровенно: я разозлилась на тебя, когда ты спросил про деньги мужа, и хотела посмотреть, как ты будешь выкручиваться, когда я предложу тебе отдать жизнь за меня. — А что бы ты сделала, если бы я успел прыгнуть? — Схватила бы спасательный круг и прыгнула бы за тобой. То, что я ощутил в этот момент, невозможно передать словами. Был ли это сон или сказка? — Аня, ты не разрешила мне спрашивать о твоих отношениях с мужем. Но я хочу задать один-единственный вопрос: ему ты устраивала подобное испытание? — Не совсем такое, но похожее. — И он его не выдержал? — Нет. — Я спросил тебя об этом только для того, чтобы понять, почему ты не доверяла моим чувствам. Как говорится, обжегшись на молоке… ты знаешь дальше. А теперь доверяешь? Она молча кивнула головой. Мы и не заметили, как теплоходик причалил к пристани, где мы должны были выходить. Вдруг Аня толкнула меня: «Бежим вниз, а то не успеем». Дощатый пол дебаркадера, каменная лест- № 1 (1) 2011 181 Алексей ЗАЛЕССКИЙ Дача РОМАН, ПОВЕСТЬ ница, и мы в Парке культуры. Я не люблю этот парк. Слишком он напичкан аттракционами, эстрадами, торговыми палатками, кафе и ресторанами, лодочными станциями и другими развлекательными постройками. Из-за этого всего и деревьев не видно. Но есть там два уютных места — беседка на набережной, откуда можно без конца смотреть на искрящиеся волны реки, необычно широкой в этом месте, и еще розарий с огромной каменной вазой посредине и дорожками из мраморных плит. Я увлек Аню в этот розарий: «Посидим здесь немного. В ресторан мы еще успеем». Она удивилась: «Да мы ведь все время сидели». И, немного помолчав, сказала: «А если бы ты бросился в воду, что бы ты стал делать?» — Доплыл до берега — я умею плавать. — Но ведь там почти отвесная каменная набережная. Как бы ты вылез? — Доплыл бы до ближайшей пристани — они здесь на каждом шагу. — А куда бы ты мокрый пошел? — А ты? Ведь ты тоже хотела за мной прыгнуть! — Не знаю. Нас, скорее всего, забрали бы в милицию. Мне не нравилось, что она все превращает в анекдот, и я сказал: «Давай забудем об этом». — Но именно это и позволило нам лучше узнать друг друга, — ответила она, взяв меня за руку. — Слушай, я много рассказывал тебе о своем детстве, а ты никогда. Она задумалась. — Да ты и не спрашивал. И потом, у меня детство было не такое красивое, как у тебя. — А какое? — Ну, совсем другое. И даже страшное. Мы были в войну на оккупированной территории. — Вот интересно. Ну, расскажи! — Я мало что помню. Но кое-что мне мама потом рассказывала в дополнение к моим воспоминаниям, и теперь я сама точно не знаю, что я видела собственными глазами, а что вообразила по маминым рассказам. Перед самой войной мы поехали на Украину в деревню где-то около Винницы навестить бабушку. Она тогда болела. А когда началась война, мы не успели уехать: то ли мама не хотела оставить бабушку, то ли обратная дорога была отрезана. Но мой папа ведь еврей, и мы очень боялись, что его немцы убьют. К счастью, наша деревня стояла вдали от больших дорог, и немцы к нам заходили всего два раза — когда наступали и когда отступали. Но мы боялись, что соседи донесут, что в деревне живет еврей. Ведь некоторые крестьяне ждали немцев, особенно те, кого раньше раскулачивали. Так вот, когда немцы 182 ЛАМПА И ДЫМОХОД пришли к нам в деревню, папа куда-то спрятался. А пришли они совсем ненадолго — даже не ночевали, небольшой отряд. Они остановились у нашей хаты, постучали в окно и начали кричать: «Матка, млеко, курка, яйка». Это они, когда в Польше воевали, научились так просить. Бабушка вышла и сказала, что даст только одну курицу — у нее их мало, а яйца и молоко сейчас принесет. Один немец зашел в хату, не знаю зачем: чтобы посмотреть, как мы живем, или чтобы поторопить бабушку. И вдруг увидел в углу иконы — бабушка была верующая, — снял пилотку и, оглядываясь на дверь, зашептал по-русски, чуть не плача: «Я не хочу воевать — у меня пять детей». Бабушка пожалела его и сказала: «А ты молись Богу». И указала на иконы: «Молись как умеешь». Немец закивал головой: «Да, да, спасибо, матка». Потом бабушка вместе с мамой стали собирать провизию, а в окно застучали: «Ганс, комм хер!» Бабушка и мама вышли за ним. Мама была красивая, и немцы сразу загоготали: «А, вот он зачем так долго. Но он имеет киндер — дети в дому». Один из них, толстый и красный, наверное, старший по чину, указал на Ганса: «Он поэт, идеалист. Шиллер, Гете, знаешь». А мама добавила: «Генрих Гейне». Но толстый сразу же рассвирепел, погрозил ей кулаком и закричал: «Гейне не есть немецкий поэт. Еврейская морда!» Но, слава Богу, они скоро ушли. Потом папа ругал маму за такую неосторожность — надо бы знать, как фашисты относятся к евреям. А в другой раз было совсем страшно. Нас было несколько детей, мы играли на улице, и вдруг откуда ни возьмись немцы. Они собрали нас, поставили у стены и стали стрелять поверх голов. Мама выбежала на выстрелы, бросилась к немцам, начала их умолять, встала на колени. Тогда один из них сказал: «Шутка», — заулыбался, помахал рукой, и они ушли. Наверное, куда-то спешили, а то бы так просто это не кончилось. После этого все мои чувства и все мои слова, которые я говорил Ане до сих пор, показались мелкими и ничтожными. Аня стала для меня вдруг совсем маленькой и беспомощной, мне захотелось взять ее на руки и нести долго-долго. Но говорить в этот момент я не мог, да и не хотел. — Что же ты молчишь, не ожидал? — Мне жалко тебя. — Сейчас жалко? Да это же давно прошло. Я и не переживаю. Просто интересный эпизод… Наконец мы нашли подходящее кафе, отгороженное от остальной территории парка невысокой железной оградой. Там под большими полосатыми зонтиками стояли круглые столы с голубым покрытием из оргстекла вместо скатерти. На каждом из них лежала коричневая папка с меню, которое Аня тотчас же принялась изучать. К нам приблизилась толстая официантка (благо посетителей № 1 (1) 2011 183 Алексей ЗАЛЕССКИЙ Дача РОМАН, ПОВЕСТЬ было мало) и молча остановилась в ожидающей позе. Аня заказала шампанское и мороженое, а потом обратилась ко мне: — Может, мало? Ты хочешь есть? Я не смел ничего просить, да и не до еды мне было в эти минуты. Высокие и узкие фужеры цилиндрической формы на тоненьких ножках и разноцветные шарики мороженого в металлических чашках — как мне все это запомнилось! Я старательно разливал вино, боясь перелить из-за пены. Пузырьки толпой поднимаются к поверхности. Холодное кипение желтоватой жидкости. Тает пена, отпуская в высоту невидимый газ. Неслышный шелест листьев над толстыми стволами, уходящими к небу, далекому, бледноголубому, в белоснежных хлопьях облаков. А в недалеком пруду плещется вода под веслами лодок, красными, как гусиные лапки. Веселые лица людей на воде. Лодка туда и сюда. А чуть подальше, за горбатым мостиком, лебеди плавают. Но их не видно. Мы проходили мимо них по дороге в это кафе. «Остановись мгновенье, ты прекрасно!» Все прекрасно кругом. Даже этот нелюбимый мною парк. — Ты что, заснул? — голос Ани возвращает меня в реальность. — За что же мы будем пить? За встречу? Или за утерянное детство? — Я смотрю кругом и радуюсь. — Но на меня ты не смотришь. Возьми на том столе пепельницу — я хочу курить. — Ты разве куришь? — А что, тебе не нравится? Она вытаскивает из сумочки сигареты и спички. Желтая пачка с надписью «Дукат». Тогда это были наши первые сигареты с фильтром. Она зажигает и затягивается. Дым из ее рта. Как это не похоже на нее. — С сигаретой ты выглядишь взрослее. — Это плохо или хорошо? Ее улыбка и глаза, с нетерпением ждущие ответа. — Для меня все в тебе хорошо. — Ты врешь, наверное, ты не любишь, когда женщины курят. — Не знаю, может быть и не люблю. Но к тебе не подходит слово «женщина». В нем есть какой-то пошловатый оттенок: например, вино и женщины. — А кто же я? — Ты как весна, которая ни за что не хочет уступить место лету. Она смеется: «Такой комплимент мне нравится». Потом, немного помедлив, снова спрашивает: «Так за что же мы будем пить?» — Давай за встречу и еще за то, чтобы ты всегда оставалась такой, как сейчас. 184 ЛАМПА И ДЫМОХОД — Какой? — Ну, веселой, радостной, юной, красивой — словами все равно не выразить. — Давай! И еще за то, чтобы мы эту нашу встречу навсегда запомнили — чтоб через десять, двадцать лет она всегда нам светила, даже тогда, когда будет очень грустно, скучно, тяжело на душе, когда нечему будет больше радоваться и нечего будет больше ждать от жизни, а тут вспомнишь и утешишься: как все-таки хорошо нам было раньше. Эти слова она произнесла с чуть заметным оттенком грусти, и на лицо ее как будто легкая тень набежала и тут же исчезла (так бывает, когда солнце в ясный летний день вдруг закроется маленьким полупрозрачным облачком, и тогда ярко-зеленая трава и листва деревьев на мгновенье тускнеют, чтобы потом вновь приобрести свой прежний, радующий взоры цвет). А у меня слезы были готовы навернуться на глаза: значит, она не очень счастлива, а наше теперешнее счастье, как праздник, так быстро проносится мимо, что не успеваешь осознать, как оно огромно и что лучшего и желать не надо было, но вот оно пройдет, это счастье, и снова потянется, как серая лента асфальта, однообразная будничная жизнь… Мы пьем. Терпкий вкус шампанского, заглушаемый сладостью тающего во рту мороженого. Аня выпивает свой бокал залпом и, едва притронувшись к своей порции пломбира, наливает себе еще. — Ты что, напиться хочешь? — Шампанским не напьешься. Наливай себе. Да что ты смотришь на меня так, будто я алкоголичка? Просто вино развязывает язык — беседа становится проще, непринужденнее. — А у нас разве принужденная? — Да нет, лучше сказать: откровеннее. Вот ты, например, почти ничего о себе не рассказываешь. Ты с кем живешь? Один с мамой? Женщины у тебя есть? Или были? — Зачем это тебе? — А может быть, я хочу тебя соблазнить и быть твоей первой женщиной? И она закатывается смехом. Я поражен ее переменой. Какая-то наигранная развязнность чувствуется во всем ее поведении. Как будто она очутилась в другой компании, где принято вести себя подобным образом. А может быть, в такой компании ей привычнее. Она выпивает второй бокал, наливает себе третий и закуривает. Тут я замечаю: именно курение больше, чем все другое — жесты, улыбка, интонация, — изменяет ее. Она кажется мне теперь какой-то изношенной, уставшей и искусственно бодрящейся. — Я не хочу подделываться под тебя и играть роль возвышенной романтической дуры. Наше время не такое, и я не такая. И по- № 1 (1) 2011 185 Алексей ЗАЛЕССКИЙ Дача РОМАН, ПОВЕСТЬ том, я замужем. Я не свободна и не способна наслаждаться раем в шалаше. Как говорится, с милым рай в шалаше, если милый атташе. Но ты на атташе и не тянешь. Вот сейчас мы отлично проводим время, а можно и еще лучше: где-нибудь на пляже или в лесу, мы совсем одни, лежим на песке или на коврике, обнимаемся, целуемся сколько захотим, и никто на нас не смотрит. Красивая природа вокруг, мы любуемся водной гладью, солнцем на небе, ивами, склоняющими к реке пряди своих ветвей, — видишь, я тоже умею говорить поэтическим языком, — но поэзия хороша лишь до поры до времени. Наступает вечер, и в голову, особенно тебе, мужчине, да и мне тоже, лезут совсем другие мысли: как бы нам вместе провести ночь… Нельзя терять времени, то, что я тебе сказала, можно осуществить через день или через два, а дальше все закрутится по-иному — муж приедет, дочка заболеет, у меня появятся другие дела. Или другие мужчины. Тут она кокетливо взглянула на меня, как бы приглашая к более активным действиям. — Давай выпьем для успокоения, — говорю я, чувствуя, что и мне вино начинает ударять в голову, хотя я и второй бокал еще не могу осилить. А она уже наливает себе четвертый, опять залпом выпивает его и затягивается не успевшей еще погаснуть сигаретой: — Почему для успокоения, скорее, наоборот, для возбуждения. — Ты и так уже возбуждена. — А ты? — Я имею в виду не половое возбуждение, а нервы. Ты нервничаешь. — Не будем заниматься самокопанием. Давай лучше закажем еще одну бутылку шампанского, а то здесь, — и она стучит ложкой по стеклу, — уже совсем немного осталось. — Да ты лучше сначала докончи мороженое. И закажи что-нибудь поесть, хотя бы фрукты. — Официант! — кричит Аня неестественным для нее голосом и машет рукой. — Нам еще одну бутылочку шампанского и фруктов каких-нибудь — яблок, апельсинов или винограду. Официант медленно приближается и, как мне кажется, с укором смотрит на нас: — Фруктов у нас нет, девушка, а шампанского сейчас принесу. — А что у вас есть поесть? — Салат оливье из кур, рыба заливная, люля-кебаб. — Ну несите салат оливье и еще мороженого. А тебе… ты ведь, наверное, проголодался, — и она гладит меня по руке, — люля-кебаб принесите ему. Мы сидим некоторое время молча и не пьем. Разрядка. Лицо у Ани раскрасневшееся, сигарету она держит в руке, но ко рту 186 ЛАМПА И ДЫМОХОД не подносит, взгляд устремлен вдаль, недавней развязанности как не бывало, думает она о чем-то своем и меня как будто не замечает. Как она быстро меняется! И вдруг — словно очередную маску с себя сорвала, — передо мной опять прежняя Аня: улыбка озорная, почти детская, довольная, только щеки раскраснелись и глаза выдают, что алкоголь еще не выветрился, но настроение уже совсем другое: ни следа наигранного цинизма — налета того общества, в котором она находится или думаю, что находится в последние годы. Вспоминаю свой комплимент: весна, которая ни за что не хочет уступить места лету. — Здорово я тебя разыграла? А ты и вправду подумал, что я легкого поведения. Ну сознайся, подумал так? — Нет, не подумал, но подумал, что у тебя в семье что-то не в порядке, поэтому ты и нервничаешь. — Ну, об этом мы договорились не говорить. Хорошо звучит: договорились не говорить. — Я все время смотрю на тебя и думаю: какая ты есть на самом деле? — А ты догадайся! Я допиваю свой бокал, но не наливаю ни себе, ни ей. Пусть будет передышка. Теперь мы не пьем, а едим. У Ани, кажется, появился аппетит. И слава Богу. Как хорошо, что она успокоилась. Боюсь возобновить разговор, чтобы не помешать ей. Пусть поест побольше. Тогда вино перестанет действовать. Или, по крайней мере, будет действовать не так сильно. А она уже заметила мой взгляд: — Ты что смотришь на меня и молчишь? — Молчу, чтобы дольше был перерыв между бокалами. — Но ведь у нас еще целая бутылка. Хотя мне не хочется больше пить. Знаешь, что я придумала: я сейчас рассчитаюсь и скажу, чтобы официантка оставила эту бутылку на потом. Мы погуляем часочек и вернемся сюда допивать вино и доедать мороженое, которое нам еще не принесли. Она подзывает официантку и договаривается с ней. Та, сделав на миг удивленные глаза, тут же соглашается, потому что при расчете получает значительно больше положенного. «На деньги мужа», — мелькает у меня в голове, но теперь я уже ни за что не повторю этих слов. Мы гуляем по парку и целуемся. Потом выходим на набережную, долго стоим у реки, облокотившись на парапет. Вечереет. Я держу ее руку в своей. Мы смотрим на волны, лениво расходящиеся от движения речных трамваев. Я говорю Ане: Метерлинк где-то писал, что с близким человеком легко молчать, не надо заполнять словами пустоту общения. Она кивает головой и прижимается к моему плечу. Нежность… № 1 (1) 2011 187 Алексей ЗАЛЕССКИЙ Дача РОМАН, ПОВЕСТЬ Мы возвращаемся в кафе. Пьем шампанское, но уже понемногу. Я доволен, что лихорадочное опорожнение бокалов прекратилось. Мы разговариваем о многом и о разном. Нам стало легко говорить. Разговоры влюбленных — это как музыка в кинофильме. Без нее можно было бы обойтись, но она усиливает действие. Но можно ли нас назвать влюбленными? Аня все-таки постепенно пьянела. Вдруг она резко придвинулась ко мне, схватила меня за руку и с каким-то надрывом, как бы освобождаясь от тяжести долго скрываемого страдания, сказала: — Хочешь, я расскажу тебе, как я живу с мужем? Мы не любим друг друга и время от времени друг другу изменяем. Сначала он завел себе женщину, и, хоть он скрывал это, мне рассказали. А я не такая, чтобы в долгу оставаться, я тоже нашла себе любовника. — Так чего же вы не развелись? — Ну, как тебе сказать — из приличия. Он не хотел скандала — он известный музыкант, а я привыкла жить за его широкой спиной, т. е. обеспеченно. Кроме того, и дочке было бы хуже — она любит его. «К тому же с старыми взглядами могла обидеть мать». — Это Есенин. — Не важно, не перебивай! Вот мы и живем, делая вид, что все нормально. Сначала, правда, он мне нравился. Нас сосватали — евреев до сих пор еще сватают. Но если бы он мне не нравился, я бы ни за что за него не вышла. Он интересный человек, талантливый, превосходный рассказчик, с юмором, следит за собой, хотя ему уже около сорока лет, зарабатывает хорошо, не злой — ну чего же еще надо для жизни? Но бабник. — А ты? — Что я? — Ты говорила о любовниках. — Не делай страшные глаза, в артистических кругах это часто бывает. Но большого чувства у меня ни к кому не было. — И ко мне? — Ну вот ты и расстроился, чуть не плачешь. К тебе совсем другое: тут и милые воспоминания юности, и общность интересов, а главное, что ты меня любишь, а я до сих пор ничего подобного не встречала. Я не знаю, что такое любовь. Любовь — это, наверное, что-то слишком большое, великое, то, что раз в жизни и на всю жизнь, а я про себя этого сказать не могу… пока не могу. — Значит, я для тебя только отвлечение и развлечение? — Не смей так говорить, а то я поссорюсь с тобой. Поживем — увидим. Или ты не хочешь? Игра слов. И ее игра. Она опять надела на себя маску циничной женщины. Для чего? Чтобы скрыть свою безрадостную жизнь? Или чтобы раздразнить меня? Но после такого откровенного при- 188 ЛАМПА И ДЫМОХОД знания ей вряд ли до шуток. А она, как бы прочитав мои мысли, отвечает на них: — Не ломай себе голову, что я из себя строю и какая я на самом деле. Я и такая, и такая. И весна, и лето, и осень. Нежная, злая, веселая, циничная — все вместе. Двуликий или даже трехликий, четырехликий Янус. — Кто-то сказал, что человек — это полузверь-полуангел. — Вот именно. А разве ты не такой же? Скажи честно, только не выкручивайся: ты хотел бы сейчас быть моим любовником? — Я хотел бы быть с тобой навсегда, на всю жизнь. — Это глупая романтическая утопия. Лет через пять ты женишься на другой, скорее всего, тоже по любви, и я для тебя ровно ничего не буду значить. — Но ты же сама предлагала выпить за то, чтобы мы навсегда запомнили нашу встречу и потом ты сказала, что любовь — это то, что раз в жизни, большое, великое. — Да, но одно дело — красивое воспоминание, а другое — вечные чувства. Если они и бывают, то один раз в сто лет и на сто тысяч человек. Даже из литературы мы знаем, что даже самая большая любовь со временем проходит. Так что, если у нас сейчас что-то похожее на любовь, надо жить настоящим и не думать о будущем. — Один мой знакомый рассказывал, что если замужняя женщина в доме отдыха захочет сойтись с мужчиной, то она отдается ему в первый же день, чтобы не терять остальные двадцать девять. — Не злись, не надо. Я от тебя ничего не скрываю, говорю все что думаю, а ты в ответ хочешь сделать мне больно. Опять ее нежное прикосновение к моей руке. И беспомощный взгляд широко раскрытых глаз. Меня всего перевернуло. Я хотел оправдаться, утешить ее, но слов не понадобилось — она все прочла на моем лице. — Ну ладно, не будем об этом. Я просто слишком много выпила. И все, что сидит во мне, полезло наружу: и плохое, и хорошее. Я завидую тебе, что ты можешь смотреть на жизнь сквозь розовые очки. И, может быть, из зависти стараюсь тебе противоречить. Помнишь: давным-давно, когда я рассказывала тебе «Превращение», как ты придумал конец, в котором таракан улетел в голубое небо. А я сказала, что тараканы не летают. Такие мы разные — и тогда, и теперь. — Ты всегда пьешь так помногу? — Нет, но иногда случается. Знаешь, я устала. Пойдем домой!.. Мы шли через парк, пробудившийся от ленивого дневного полусна. Вовсю крутились аттракционы, гремел военный оркестр, раздавались голоса массовиков-затейников, усиленные громкоговорителями. Аллеи заполнились гуляющими. Аня крепко держала № 1 (1) 2011 189 Алексей ЗАЛЕССКИЙ Дача РОМАН, ПОВЕСТЬ меня под руку, потому что ступала нетвердо. Я надеялся, что вечерняя прохлада ее отрезвит, но в метро она заснула. Она сказала, чтобы я проводил ее не туда, где она жила с мужем, а в квартиру ее матери, потому что не хотела, чтобы кто-нибудь из соседей увидел ее нетрезвой. А я был рад побывать еще раз около ее старого дома — дома нашей юности и наших встреч. Сиреневый вечер. Желтые огни распахнутых настежь или плотно закрытых окон домов. А высоко-высоко над ними чуть заметный серебряный огонек первой звезды… Подъезд и в нем заспанный вахтер, который без слов нас пропустил. Лифт поднимается легко, как отпущенный воздушный шарик. Ее дверь. Чуть слышный звон ключей и щелканье замка. Черная пасть приоткрытой двери. Аня… ее тонкие руки обнимают меня, и ее ласковые темные глаза совсем близко. Ее голос на этот раз без тени развязности: «Может, зайдешь? Дома никого нет». Мое нечеловеческое усилие не зайти: — Анечка, давай я приду к тебе завтра. После всех наших разговоров я не хочу воспользоваться тем, что ты выпила… и я выпил. Чтобы мы проснулись завтра утром и пожалели о том, что было, что будет между нами. — Ну как хочешь. Я целую ее в глаза: «Чтобы ты вспоминала обо мне». Ее улыбка в последний раз. Дверь захлопывается. Я один. И опять, как, зажженный факел, в моей голове светятся слова поэта: когда человека любишь, хочется, чтобы он ушел, чтобы о нем помечтать… На другой день я не решился позвонить Ане утором — пусть выспится. Но когда часов в девять утра у меня зазвонил телефон, я не сомневался, что это она. И я не ошибся. Утренняя свежесть ее голоса: — Ну как самочувствие? — Прекрасное. Когда встретимся? — Сегодня. Ты же сам хотел прийти ко мне. Часов в пять. — Почему только в пять? — Секрет. Я был на верху блаженства: запомнила, что я сказал ей на прощание, и приглашает в гости. Но что будет дальше? Мне становится тошно от одной мысли, что мне придется делить Аню с бабником — ее мужем, для которого она — всего лишь красивая вещь, потребительная стоимость. Этот марксистский термин мен казался очень подходящим в такой ситуации. Как он смеет ложиться с ней, постель, не любя ее! Кто-то сказал: от ревности не умирают, от ревности убивают. Да, действительно, я готов был убить ее мужа и всех ее любовников. Эти чувства отравляли мне радость предстоящего свидания. Но может быть, Аня права: надо жить настоящим и не думать о будущем… Не могу сидеть дома до пяти часов. Вы- 190 ЛАМПА И ДЫМОХОД хожу побродить по улицам. Старые улицы Сокольников. Улица — значит «у лица». У каждой из них свое лицо. Тут больница за белым каменным забором, а напротив — кирпичное здание школы. Там одни деревянные двухэтажные и одноэтажные дома, в одном из них продуктовый магазин, а напротив зеленая овощная палатка. В детстве долго стоял там в очереди за картошкой. В палатке торговал толстый краснолицый и седой продавец, который нередко обвешивал. Во дворах растут большие тополя. К ним привязывают веревки для белья и детские качели. Следы от веревок на стволах. Сколько раз я ходил по этим улицам и переулкам наедине со своей любовью. Некоторые, давно знакомые мне дома связаны с особенно яркими воспоминаниями детства и юности. Но сейчас мне не до воспоминаний. Сейчас каждый дом как будто радуется моей радостью или тревожится моей тревогой. Но вот время ожидания, казавшееся мне бесконечным, прошло. Я стою у ее двери. Звоню. Быстрые шаги в таинственной тишине скрытой за дверью квартиры. Поворот ручки замка. Электрический свет в просвете. Полсекунды, четверть секунды, и Аня снова передо мной. На ней темное платье, в котором она кажется еще тоньше, как тростинка. Я опускаю глаза. Ее ноги в шерстяных чулках и домашних туфлях. Ей, наверное, холодно дома. — Да что же ты не входишь и молчишь? — Не знаю, как вести себя с тобой. — А что случилось? — Ничего. Я пытаюсь угадать, какой лик Януса ты сейчас ко мне повернула. Она смеется: «Пойдем в комнату». Я вхожу. Коридор с тусклой лампочкой под высоким потолком, вешалка, большое зеркало в темной раме напротив, встроенные шкафы, дверь на кухню с матовым стеклом. И наконец комната. Тяжелая мебель конца сороковых годов. Ведь я был здесь шесть лет тому назад — один-единственный раз. Пианино я помню. И пузатый диван. И круглый стол, покрытый узорчатой серовато-коричневой скатертью с кистями. — Ты что так внимательно все осматриваешь? — спрашивает Аня. — А ты разве не помнишь, что я был у тебя? — Не помню. — Когда мы занимались вместе там, во дворе, за столиком, ты сказала, что у тебя нет какого-то учебника, и я принес тебе его. — Совсем забыла. Ну и что? — А то, что я теперь вспоминаю, какая была твоя квартира тогда и что из прежнего осталось в ней теперь. — Ну да — пианино, стол, диван, но разве это важно? — Для меня встреча с твоей прежней квартирой — это встреча с тобой 16-летней. № 1 (1) 2011 191 Алексей ЗАЛЕССКИЙ Дача РОМАН, ПОВЕСТЬ — А вот на стене моя фотография того времени — мама сохранила. На стене Аня снята во весь рост, в темном платье, только волосы длиннее. — Ну что, похожа? — Ты почти такая же. Только не думай, пожалуйста, что я хочу сделать тебе комплимент. А платье на тебе то же самое, что и на снимке? — Ну вот еще, буду я столько лет носить одно платье! Ты, как всегда, все идеализируешь. А теперь пойдем на кухню. Я открываю дверь и вижу столик, заставленный дорогими закусками, а в центре высокая конусообразная бутылка с каким-то темным заграничным вином. Аня берет меня под руку и говорит: — Вот мой секрет — почему я не хотела встретиться с тобой раньше. Это я все для тебя приготовила. Я хочу поцеловать ее в знак благодарности, но она отстраняется: — Давай сначала поедим. Что значит «сначала»? Мы садимся за стол. Аня хочет налить вино в хрустальные рюмки, но я говорю: — Может быть, на этот раз без выпивки? — А что, ты боишься, что я опять напьюсь? Обещаю, что сегодня буду пить не много. Некоторое время мы молчим. И вдруг я решаюсь: — Ты помнишь, что ты мне вчера рассказывала? Аня хмурится: — Да, помню, про мужа. Но мне не хотелось бы начинать с выяснения отношений. — Это не совсем то. Ты знаешь, как я тебя люблю, но мне тяжело, что ты размениваешься на таких мелких людей. — А что ты мне можешь предложить? Разойтись и выйти за тебя замуж? Я на это никогда не пойду. Хотя бы из-за дочки и из-за мамы. — Но неужели тебе не противно ложиться в постель с человеком, который спит с другими женщинами? — Но я ведь тоже сплю с другими мужчинами. — Ты делаешь это, чтобы забыться или отомстить. Но я думаю, если бы у тебя с мужем было все в порядке, то ты не ходила бы к другим мужчинам. — Кто знает! Может быть, тогда он бы мне раньше надоел, чем я ему. Опять маска-карикатура на саму себя. Или наоборот: маска — ее детская веселость и нежное, ласковое обращение со мной. — А если бы он бросил тебя? 192 ЛАМПА И ДЫМОХОД — Зачем фантазировать: если бы да кабы? Скажи, где бы мы с тобой стали жить? В одной комнате с твоей мамой в коммунальной квартире? А мою дочку куда денем? Сюда тебя моя мама ни за что не пустит. Тут брат мой еще прописан. Он теперь в армии. — И еще отец твой тут прописан, — отзываюсь я, как эхо. — Мой отец умер. Я чувствую, что надо переменить тему. Но я не в силах. — Знаешь, я не могу приходить к тебе, как вор. Это унизительно и для тебя и для меня. Пусть другие, для которых ты только удовольствие, пользуются тобой, потребляют тебя, а я не хочу. Мне жалко тебя, потому что эти люди, недостойные… — Я в жалости не нуждаюсь. Опять сухость и раздражение в ее голосе, как тогда, когда я упомянул о деньгах ее мужа. Но теперь она не просто рассердилась, как в тот раз, — она разочарована. И тут уже извинениями не отделаешься. Конечно, не ради развлечения и легкого флирта она пригласила меня к себе. Но и не для того, чтобы слушать мои разглагольствования о морали. Из вчерашней встречи можно было бы заключить, что я значил для нее больше, чем очередной любовник. Ее слезы на теплоходе. И ее слова: «Если у нас сейчас что-то похожее на любовь…» И еще: «Я от тебя ничего не скрываю, а ты в ответ хочешь сделать мне больно». И ее беспомощный взгляд. Все это пронеслось в моей памяти в одно мгновение. Я испортил ей праздник — маленькое счастье, которое началось вчера. А это угощение! Она хотела сделать мне приятное. Нетронутые блюда на белой клеенке с ярко-красными цветами. Нельзя так просто уходить — нужно хоть немного поесть для приличия… Для приличия Аня не расходится с мужем… Как закончить это бессмысленное сидение за столом? И говорить не о чем, и молчать невозможно. Но Аня и здесь находит выход. — Давай послушаем музыку. Ты что любишь, классику или эстраду? — Что ты сама хочешь. — Я хочу Баха. Она приносит проигрыватель и ставит его на широкий подоконник. Затем уходит и возвращается с пластинкой. — Эта французская сюита. Я очень ее люблю. Мы слушаем. Когда музыка заканчивается, я говорю: — Я знаю это произведение. И тоже люблю его, но не всё. Там есть место, которое вызывает у меня такой образ: солнце только что вышло из-за тучи после дождя, капли воды на оконном стекле как будто стекают по самому солнечному лику — улыбка после плача. — Говорят, что если кто воспринимает музыку через образы, — отвечает Аня, — тот недостаточно глубоко ее чувствует. № 1 (1) 2011 193 Алексей ЗАЛЕССКИЙ Дача РОМАН, ПОВЕСТЬ — Пусть так. Но я воспринимаю ее только через образы. Хочешь, я расскажу тебе об одном современном произведении — названия его я не помню, но впечатление от него незабываемое. Сначала звучит красивая, светлая мелодия, похожая на женский голос или на звон колоколов, с каждой минутой она становится все прекраснее, наконец достигает своей высшей точки так, что ты просто не можешь оторваться — слушал бы и слушал без конца. И в этот момент в ней проступает какая-то тревога, предчувствие чего-то недоброго, страшного, как будто песня или колокола звучат в кромешной тьме, из которой вот-вот должно появиться чудовище или дьявол. Тревога постепенно нарастает, она превращается в жалобу или в мольбу о помощи, и вдруг в ответ на это раздается короткий звук, похожий на рычание зверя, некоторое время его больше не слышно, но его ждешь, и он повторяется. Затем все чаще и чаще. Неожиданно рычание превращается в новый мотив, контрастирующий с тем первым. Этот мотив похож на порывы сильного холодного ветра, на вой вьюги или пляску ведьм. Он перебивает первый, иногда совсем заглушает его, и тот начинает звучать еще жалобнее. Но самое интересное, что второй не вытесняет первого совсем, а постепенно с ним смешивается и превращается во что-то вроде разгульной песни, и становится уже не страшно, а грустно, что исчезло самое возвышенное и красивое и заменилось чем-то пошловатым, обыденным и унылым. — Что же это могло быть? — Скорее всего, это просто человеческая жизнь. Вот и наша встреча началась так необыкновенно, почти чудесно, а закончилась таким нехорошим тяжелым разговором. — Но ты ведь сам начал его! — Я, как Икар, полетел к солнцу, но крылья растаяли, и я обрушился вниз. — Значит, не надо было забираться на такие высоты! Аня смягчилась. И она удерживает меня на краю пропасти. Пропасти неминуемой разлуки. На этот раз навсегда. Мы продолжаем не начатый обед или ужин: густое красное вино в крошечных граненых рюмках, семга и сырокопченая колбаса, исчезнувшая в последнее время с прилавков. — Где ты это достаешь? — В спецраспределителе. Моя мама прикреплена к нему. Еще одна перегородка между нами. Ее мама не пустит меня сюда. Даже если бы Аня не была замужем. — Ты что опять помрачнел? — Думаю о красной рыбе и копченой колбасе, которых нет теперь в магазинах. — Мелочи жизни! 194 ЛАМПА И ДЫМОХОД Для меня не мелочи. Ее семья относится к классу (слою, прослойке) людей, имеющих доступ к закрытым магазинам, комфортабельным квартирам и прочим материальным благам, недоступным для большинства. Я не завидую этим людям. Мне неприятно только, что Аня усвоила их привычки, мораль и ценности… Гроза прошла. Вновь выглянуло солнце, как в той сюите Баха. Его лик, омываемый слезами дождя. Мы снова рады друг другу. Тишина квартиры, в которой, кроме нас, никого нет. Толстые каменные стены хранят тайну нашей встречи. Не думать о будущем. Клеопатра. Или царица Тамара. Чтобы провести с ними ночь, мужчины решались на казнь. Какой будет наша ночь? Первая и последняя. А после нее казнь разлуки. Лучше умереть на следующий день, чем постоянно сознавать, что твоим сокровищем будет обладать другой. Другие. Незаживающая рана. Лисенок, которого ты, как спартанский мальчик, скрыл под одеждой, чтобы его не увидел учитель, и который поедает твои внутренности. Но не проронить ни слова. Не думать о будущем… Вдруг телефонный звонок. Длинный, междугородный. Аня: «Это муж». Телефон у них на кухне. Их разговор. Трубка у этого аппарата необычно громкая, и я все слышу. Он: Привет! Вот ты, оказывается, где. А я вчера весь день тебе звонил и сегодня. Но тебя нет дома. Я завтра прилетаю в десять утра. Значит, дома в двенадцать. А почему ты у мамы? Наверное, любовника принимаешь. Аня (не моргнув глазом): А ты как думал? Самое время. Он: Ну, ну! А на какой стадии? До или после? Она: В самый разгар. Он: Значит, я помешал? Ну, извини. Она: А на твоем фронте какие успехи? Наверно, уже не одну трахнул? Он: Как минимум пять. А кроме шуток, очень соскучился по тебе. Хочу тебя… Тут я не выдерживаю. Поклонники Клеопатры шли на казнь ради любви. А я отказываюсь от любви ради казни. Своего и его. Отомстить за растоптанную чистоту. Уничтожить морально, если не могу физически. Вырываю у Ани трубку. — Слушай, ты, кобель. Ты не стоишь ее мизинца, хоть и называешься мужем. Сходи на Невский, поищи проституток себе. По одному твоему голосу видно, в какой ты грязи извалялся. В трубке пауза. Затем он отвечает спокойным, насмешливым тоном: — А ты, мальчик, я вижу, очень влюблен в мою жену и ревнуешь. Но она тебе не отдалась, вот ты и злишься. И не отдастся — я же ее знаю. Ей такие, как ты, ни на хрен не нужны. Она с тобой играет, как с мячиком, а ты и губы раскатал. Знаешь, как в песне № 1 (1) 2011 195 Алексей ЗАЛЕССКИЙ Дача РОМАН, ПОВЕСТЬ поется: понапрасну, Ваня, ходишь. А подслушивать разговоры между женой и мужем нехорошо. Я твоей маме пожалуюсь. Дай-ка мне теперь Аню. Я кричу: «Перебьешься» — и бросаю трубку. Некоторое время мы молчим. Думаем каждый о своем. Я — что теперь всё окончательно разрушено и мне ничего больше не остается, как уходить, а она, наверное, — о том, как будет объясняться с мужем. Аня нарушает молчание: — Ты ведешь себя, как маленький. Зачем было портить всем настроение, и в первую очередь самому себе. Мы с ним все время так шутим. — Пусть он хоть один раз в жизни услышит правду о себе. — Ты думаешь, это его заело? Да плевать он хотел! — Аня, я пойду. Действительно, зачем портить всем настроение? — Ну куда ты бежишь. Посиди, ведь он не сегодня приезжает. Но это говорится уже без всякого энтузиазма. Видимо, огонек чего-то похожего на любовь в ней погас. Вот он — день казни. А счастливой ночи так и не было. — Аня, прощай. Извини за все. За то, что я не могу смотреть на жизнь проще. — Зачем так торжественно: прощай? Пройдет какое-то время, и мы еще увидимся. — Я думаю, не увидимся. — Ну, как хочешь. Я закрываю за собой дверь. Если бы Аня удержала меня, позвала обратно. Но дверь остается закрытой. Я медленно схожу вниз по лестнице. И с каждой ступенькой тает надежда. * * * На другой день я в лесу. В том самом, до которого можно доехать от моего дома на трамвае. Черкизовский лес. Вокруг меня березы. Две из них почти касаются друг друга у подножия, а выше стволы их расходятся. Две девочки взялись за руки и, откинувшись всем телом назад, кружатся на месте. Я поцеловал одну березку так нежно, как не целовал даже Аню. Издали дерево казалось одушевленным, как человек, но губы коснулись жесткой сухой коры, которая ничего не чувствует. Сажусь на пенек, потемневший от времени. У самых ног крохотный дубочек — всего пять листьев, но они уже тронуты какой-то ржавчиной. Болезненный ребенок. Кричит где-то ворона — город близко. В дальнем лесу ворон не бывает. В длинной спутанной траве что-то шуршит, и не пойму, откуда раздаются тонкие посвистывания. Оглядываюсь с недоумением: свист на земле, а не на ветках. Оказывается, это целая стайка лес- 196 ЛАМПА И ДЫМОХОД ных мышей куда-то переселяется. А я сначала думал, что это синицы. Опять около меня зашуршало и запищало, на этот раз громче обычного. Маленький мышонок заблудился и тревожно зовет своих… На руке у меня сидит комар и все глубже впивается в кожу своим хоботком. Не хочу сгонять его, хотя чувствую легкий укол. Тонкое серое брюшко раздувается, наполняется кровью. Вот оно стало красным и толстым. Тяжелым. Иногда комар так напивается крови, что не может потом улететь. Но этот спокойно, неторопливо вытаскивает наружу шприц хоботка и легко улетает. Он сыт, наверное, на целый вечер, а может быть, и на завтрашний день. Солнце уже опустилось довольно низко. На поляне, где я сижу, тень, сырость, а на стволах берез у вершин розовые блики… Хорошо, когда не любишь никого, кроме леса. Он и в горе утешит, не сказав ни одного слова в утешение. И на этот раз он успокоил меня, рассказав еще один рассказ из своей жизни. Лес никогда не устает открывать свои тайны. Даже про одни и те же вещи он говорит каждый раз по-новому, когда бы ты ни пришел его слушать. А если тебе не до его тайн, он замолкает. И снова начинает говорить, когда ты обратишь к нему свой взор и слух. Но если какой-нибудь рассказ оборван на полуслове, он никогда не повторится. Вместо него будет другой. (Продолжение следует) № 1 (1) 2011 197 Алексей ЗАЛЕССКИЙ Дача РОМАН, ПОВЕСТЬ Дарья Андреевна Серенко — (род. 1993) студентка Литинститута. Девять лет занималась балетом. Публиковалась в журналах «Интеллект будущего» и «День и ночь» и др. Удостоена именной стипендии фонда «Третьяковские традиции». Дарья СЕРЕНКО Стихотворения Диптих 1 Воду кормила травой из рук, Солнце светило, и день крепчал. Память не ищет со мной разлук: Сгонишь щекой комара с плеча, Расчешешь плечо сгоряча. Речь — тертая редька и репчатый лук — Наверно, полезна. Должна горчить. Язык — это воображаемый друг, Он хочет меня лечить: — Перебирая, как гречку, дни, В темную горсточку загляни: Есть ли там первый на маму крик? Не ври. Что ты врешь? Не ври. Есть ли желание умереть, Так, чтобы можно на всё смотреть — 198 ЛАМПА И ДЫМОХОД На папины всхлипы над детским лбом? (Приятно прощать потом.) Господи, как же себя простить? Образы ясны, слова просты: — Вспомни свой чистый святой исток, Берущий начало от первых строк — Ручная вода, гречка в обед, солнечный черенок. Дарья СЕРЕНКО 2 Ящерка в банке, шмель в кулаке, Бабочка в спичечном коробке, Квелые яблоки в грязной панаме И китикет, припасенный в кармане. Птицы больные по темным подъездам, Крошки и тряпки, ругань соседок. Птиц хоронили потом повсеместно, То есть совместно — и крестик из веток. Всё-таки смерть была очень условна — Птицы с утра появлялись другие, Снова голодные, снова живые, Снова, и снова, и снова, и снова. Но утекает песок из песочниц, Но забывают, где птиц хоронили, Ящерок, кошек своих худосочных, А ведь у каждой из них было имя. Детство всё примет в свой жадный живот, Всё тянет в рот, что ему интересно. Доброе злое голодное детство Весь этот мир с потрохами сожрет, Чтобы хоть как-то его уберечь... Веточка. Птичка. Речь. Чашка Я пью из трусливой чашки, Привыкшей к его губам. Должно быть, ей очень страшно: Чужая! Уронит! БАМ! № 1 (1) 2011 199 Дрожит, проливает кофе, Выскальзывает, хоть плачь. И стол для нее — Голгофа, И я для нее — палач. Пришедшая в дом однажды, Не сможет уйти за так... Мы квиты с тобою, чашка: Мы обе в чужих руках. Чужой! Уронит! БАХ! РОМАН, ПОВЕСТЬ 200 ЛАМПА И ДЫМОХОД ФИЛОСОФИЯ, ЭСТЕТИКА Светлана Бердаус — аспирант Института философии и права, специализация «История философии», направление диссертационного исследования — концепция «Жизненного мира» Э. Гуссерля. Победитель конкурса эссе на Интерре-2009. ПРОБЛЕМА САМОИДЕНТИФИКАЦИИ С амоидентификация как феномен затрагивает так или иначе следующие явления: непосредственно процесс идентификации себя с собой (со своей сущностью), человека (личность, индивид), культуру (ценности, артефакты, смыслы и т. п.). Процесс самоидентификации — это чаще всего неосознанный акт, имеющий конечным пунктом потребность в коммуникации. Сам факт неосознанности говорит о том, что со стороны эмоционально-волевого фона человека исходят только своего рода сигналы: «подходит — не подходит», «интересен — не интересен» и т. п. тот или иной социальный концепт для реализации его в качестве основы собственного бытия. То есть конструирование ценностноориентационного фундамента происходит под влиянием воздействий извне. Речь не идет о том, что человек в какой-то момент есть пустота, а потом со временем «социальное» наполняет его полностью собой. Скорее человек представляет собой сосуд, который перед наполнением «социальным» уже имеет в себе морально-нравственные включения (воспитание, образование), которые играют решающую роль в столкновении с первым вызовом общественной № 1 (1) 2011 201 Светлана БЕРДАУС Философское эссе ФИЛОСОФИЯ, ЭСТЕТИКА жизни — необходимостью вобрать в себя навыки, обычаи, традиции, ценности, смыслы и при этом не утратить ощущение себя. Это происходит по модели выбора, но, повторюсь, выбора неосознанного. Диктатом выступают два фактора — тирания «социального» и состояние эмоционально-волевого фона человека. Если этот фон слабо выражен, не развит, то человек-индивид покоряется диктату «социального» и уже не может или даже не имеет морального права что-либо выбирать. Теперь «социальное» наполняет его до краев собой, человек сам себе по большому счету уже не принадлежит. У него есть только «социальное» Я. Таким образом, можно говорить о том, что несостоявшаяся самоидентификация переросла в идентификацию или полное отождествление себя с контекстом. В том случае, если эмоционально-волевой фон достаточно насыщен, способен к адекватной оценке, то ситуация выбора усложняется. Выбор больше начинает напоминать борьбу. В этой борьбе происходит размежевание на два личностных феномена — Я-социальное и Я-индивидуальное. Я-индивидуальное — это, в какой-то мере, синоним личности: присутствует и не размазанное по картине бытия Я, и факт его индивидуального развития, что подтверждается стабильно возникающими порывами обнаружить смысл своего существования (что исключается для Я-социального, которое и отличает невозможность и ненужность постановки подобного вопроса, так как ответ уже дан социокультурным контекстом). Я-индивидуальное — это единство актов и возможность актов. Ключевых понятий для определения Яиндивидуального достаточно — это и самость, и переживание себя, в традиции русской религиозной философии — душа. Все они дают представление о том, как человек обретает, узнает себя в этом мире, объясняют тот иррациональный дискомфорт, который пронизывает личность при столкновении с такими феноменами/универсалиями, как Бог, смерть, любовь, свобода, реальность, одиночество и т. п. Эти контакты имеют место быть в течение всей жизни и в зависимости от того, что «понял» человек, фундируется предтеча формирования Я-социального. Поэтому чем развитее личность, тем сложнее ей идентифицировать себя с ценностями своего контекста. Но в то же время сложно полностью отождествить Я-индивидуальное с личностью. Более правдоподобным кажется отождествление личности именно с интегративным целым Я-индивидуального и Я-социального. Или словами Бердяева: «Личность есть живое противоречие — противоречие между личным и социальным, между формой и содержанием, между конечным и бесконечным, между свободой и судьбой». Бердяев также писал, что «личность есть прежде всего личина. В личине, маске человек не только себя приоткрывает, но он 202 ЛАМПА И ДЫМОХОД себя защищает от растерзания миром. Поэтому игра, театральность есть не только желание играть роль в жизни, но также желание охранить себя от окружающего мира, остаться самим собой в глубине…» Я бы этот пассаж отнесла к оборонительной позиции Я-социального, которая, чем острее человек ощущает эту жизнь, тем способнее на вполне изощренные способы отвести глаза окружающих от своего Я-индивидуального. Каков же механизм идентификации индивида, являющегося носителем только лишь Я-социального? И возможно ли это вообще — пребывать в этом мире без Я-индивидуального? Сначала отвечу на второй вопрос. Конечно, утверждение принципиального отсутствия Я-индивидуального — это преувеличение. Оно присутствует, но как бы в качестве мертвого плода, не извлеченного из тела матери. Я-индивидуальное — это априорный задаток любого человека, но оно сопряжено с необходимостью его раскрытия и развития в себе через определенное усердие и муки, напряжение и усилие над собой. Если эти «роды» не происходят, то задаток так и остается внутри, конечно, отравляя ядом самого человека. Это выражается в недовольстве и, что хуже, в непонимании причины недовольства, вечной неудовлетворенности, зависти и подозрении в использованности и обманутости, какой-то неполноценности, загнанности в потоке жизни и тотальной бессмысленности происходящего. Поэтому ответ на вопрос — можно, но это путь, обрекающий на вечное недовольство всем. Ответ на первый вопрос — это прямое пересечение с вопросом о кризисе идентификации. Возьму на себя смелость предположить, что личность (в моей деревянной концепции ее представления как единства и борьбы индивидуального и социального) в этом вопросе более интеллектуально подкована и смелее в выборе и предпочтениях, более свободна и «зряча» (осмысленное видение и трактовка происходящего). Масса же людей с пороком Я, т. е. носители только Я-социального, не имеют адекватного инструментария для отделения зерен от плевел в ситуации перемешивания в конкретном культурном контексте как национальных традиций, так и традиций универсально-идеологических (когда в целостном социокультурном контексте совмещаются такие системы ценностей, которые являются принципиально несовместимыми). По мысли Ж.-Ф. Лиотара, «эклектизм является нулевой ступенью общей культуры: по радио слушают регги, в кино смотрят вестерн, на ланч идут в McDonald's, на обед в ресторан с местной кухней, употребляют парижские духи в Токио и одеваются в стиле ретро в Гонконге». Такое состояние культуры формирует социально-психологические ситуации, когда человек оказывается не способен жестко зафиксировать собственную позицию по отношению к плюрализму ценностных шкал (несостоятельность коммуника- № 1 (1) 2011 203 Светлана БЕРДАУС Проблема самоидентификации ФИЛОСОФИЯ, ЭСТЕТИКА ции с ценностями и артефактами иного контекста), а, следовательно, не в состоянии зафиксировать самотождественность своего сознания и себя как личности. Согласно Рорти, постепенное отстранение от платоновскохристианской модели исходного совпадения целей индивидуальной самореализации и общего блага, где подлинные интересы отдельной личности изначально гармонируют с общечеловеческими ценностями, а требования социальной справедливости и нравственного долга определяют единые адекватные пути личностного совершенствования, привело к принципиально иной модели соотношения личного и общественного измерений человеческого бытия. Эта модель обозначена тенденцией, согласно которой сущностные стороны человеческого бытия понимаются как принципиально противоположные потребностям массы и толпы. Центральным в этом контексте становится провозглашение автономии и свободы личности, истинное развитие которой возможно не «благодаря», а «вопреки» обществу, что превращает тем самым не только ницшеанского «сверхчеловека», но и просто «человека» в антисоциальное явление. Об этом нужно говорить для конкретизации состояния отчужденности личности, которая, проходя становление себя в рамках самоидентификации, руководствовалась ценностями, во многом чуждыми социокультурному контексту. «Антисоциальность» личности делает его «чужим среди своих». То принципиальное неприятие и отторжение «печальных заблуждений современности» отгораживает личность от основного коммуникативного потока, насыщенного идеями славы, денег, поверхностных, ни к чему не обязывающих отношений вперемешку с проблемами быта. Также непохожесть и противоречивость процессов идентификации личности и индивида исходит и из давней сложности, связанной с систематизацией ценностей общества. Систематизация, или классификация, ценностей предполагает соподчиненность элементов системы, их иерархическую выстроенность. Однако ценности, расположенные по разным уровням, лишаются своей самоценности, безусловности: начинают выполнять служебные функции, психологизируются, превращаются в слепок с человеческих потребностей. Продуктивную попытку создать систему ценностей предпринял Г. Риккерт. Осознавая непреодолимые трудности, стоящие перед исследователем, дерзнувшим классифицировать, ранжировать мир трансцендентного, Риккерт предложил «открытую» систему ценностей как «учение о миросозерцании»; он поставил задачу обнаружения сверхисторического в историческом, осуществления ценностей в процессе достижения «благ». Риккерт разделил ценности и «культурные блага» — реальные, исторически 204 ЛАМПА И ДЫМОХОД ограниченные предметы «пользования» человека. Только обращаясь к историческим формам воплощения ценностей — к благам, можно создать «открытую» систему ценностей, предполагающую постоянную корректировку содержания отдельных ценностей, как они понимаются человеком и человечеством. Система ценностей требует понятия оценки — значимости для субъекта, а также надо учитывать стремление к осуществлению ценностей в жизни — «тенденцию к свершению». Но, как можно заметить, от того, что природа современных ценностей обозначена, мало что изменилось. Кажется, лучшим было бы не заниматься поиском точных формулировок и эпитетов, а сразу обратиться к той идее, что кризис идентификации — это кризис самого человека, это утрата им себя как субъекта, как творца своей действительности, как существа, способного к осмыслению, а не проглатыванию реальности. Если сознание человека (хотя бы и не личности) будет адекватно интерпретировать происходящее вокруг и ему будут доступны оценки соответствия, то это станет более благодатной почвой для воспроизведения тех ценностей, которые можно было бы назвать подлинными. Что такое подлинные ценности? На очевидный вопрос — очевидный ответ: есть ценности контекста, есть общечеловеческие непреходящие ценности. Поэтому когда знакомишься с рассуждениями некоторых авторов о сложившейся ситуации в мире ценностей, а также относительно попыток ее качественного улучшения, то наваливается некоторая озадаченность. О каких конкретно ценностях ведется речь? Это принципиально важно, хотя бы уже потому, что, как уже отмечалось, есть ценности контекста, направленные на обезличивание человека, и есть ценности, которые дают надежду на какой-никакой эскиз «лица». Не усматриваю смысла в структурном обретении ценностей контекста в таком случае. Поэтому и по еще некоторым основаниям представляются сомнительными несколько тезисов А. Маслоу, связанных с предположением возможности получения описательной натуралистической науки о человеческих ценностях: «Мы можем изучать высшие ценности или цели человеческого существования, как мы изучаем ценности муравьев, лошадей или дубовых деревьев; мы можем открыть, какие ценности двигают человека вперед, за какие ценности он борется, к каким стремится, как они утверждают свою ценность и как теряются ценности, когда человек заболевает (хотя уже на следующей странице он пишет, что эти ценности не открывают, не создают и не конструируют, они присущи структуре человеческой природы сами по себе, они имеют биологическую и генетическую основу и развиваются в культуре. — Авт.). № 1 (1) 2011 205 Светлана БЕРДАУС Проблема самоидентификации ФИЛОСОФИЯ, ЭСТЕТИКА Но всё это может быть сделано плодотворно, если мы будем различать здоровых представителей человечества и остальную популяцию». На мой взгляд, это абсолютно тупиковый подход. Сразу отметаю бредовую идею о разделении ценностей здоровых и больных, хотя бы по двум основаниям: 1) отсутствие критерия «болезненности» человека, позволяющий с достаточной степенью точности и уверенности обозначить его ценности как ценности, предпочитаемые невротически больным человеком; 2) невротические болезни наступают из-за разрушительного эффекта самоидентификации с ценностями, предпочитаемыми «здоровыми» людьми, по классификации А. Маслоу. Дескрипция ценностей — это работа с очевидностями, которые как таковые есть результат своеобразной эманации. Есть определенная заданность в общественном сознании, которая определяет некий норматив человеческой жизни, дающий ему подсказки, как не выбиться из социального контекста. В свое время это были родоплеменные отношения, затем религия, после — апологетика сильной тотальной власти в ХХ веке. С наступлением эры либерализма встал «своевременный вопрос», где есть та сила, которая обеспечит необходимый уровень страха, который заставит человека идентифицировать себя со своим контекстом. Сформировалась дихотомия: 1) человек должен бояться больше всего сам себя, так как его нерасшифрованные глубины подсознания, психики, либидо могут прорваться наружу, опрокинуть человека в асоциальный образ жизни, лишить его земных благ и наслаждения собой и жизнью; на фоне общего благоденствия это рассматривалось как высшая мера; 2) самый главный враг или безликая сила — это общество, масса, те, которые больше всего боятся потерять приобретенное благо и готовые на многое, чтобы защитить стабильность и ровное течение своей жизни. Поэтому в современном контексте ценности есть определенные правила игры, выполнив которые можно получить свою толику либерального счастья в обмен на Я-индивидуальное. Культура, искусство, творческая жизнь потому сейчас в состоянии клинической смерти, они ни в коем случае не должны дышать и выдавать хоть как-то свое присутствие. Артефакты культуры не могут быть востребованы и актуализированы по причине насыщенностью идеалами более высокого порядка, чем может потянуть современный контекст. А подлинное, одухотворенное искусство, творческий акт — это опасность пробуждения истины, находящейся в творении. Это пробуждение повлечет за собой зловоние от шевеления мирно распределившихся отношений в социуме. Таким образом, остается идентифицировать себя с вежливо, но настойчиво предложенным набором ценностей, имеющих в ос- 206 ЛАМПА И ДЫМОХОД нове фальш, жажду наживы (поклон Гоббсу), собственный интерес и подлый обман. И это при том, что по сути своей человек, действительно, не самое плохое создание Господа (поклон Локку). Ну а чтобы не заканчивать на минорной ноте, выскажу свои предположения-соображения о том, каким образом можно облагородить процесс самоидентификации как «приоритетную задачу нашей страны». Так как процесс самоидентификации действительно непрост и для человека заурядного вызывает некий стопор, то очевидно, что «благородные» ценности должны быть как-то сконцентрированы. Самый простой вариант — это некая национальная идея, которая твердит электорату, как жить дальше. Ажиотаж о неимоверной сложности по созданию этой идеи — мираж. Президенто-председатель-правительства каждый день, неся «вести с полей», оперирует незамысловатым термином — «приоритеты». Так что думаю, что многие уже не очаровываются поиском национальной идеи, просто у нас очень любят говорить об одном и том же патологически долго. Исконно русская черта — побеседовать полусонно, с цитатами, с аллюзиями из Пушкина и Достоевского о судьбах России, о том, как там они, бедные, дюжат ли? Да дюжат, куда они денутся, привыкли уже. Но дело в невинных и трогательных пороках российских претендентов на благородную и проницательную мысль. Дело в несостоятельности идеи, основанной сплошь на политиканских ингредиентах. Смена власти — крах системы. Народ опять будет тыкаться друг в друга, как щенки, в поисках миски с молоком. Ценности должны быть представлены и детерминированы тем, что уже нельзя разрушить: история, искусство, национальный характер, научные достижения, системное образование. Нужно показательно, ярко и информативно противопоставлять это либеральным ценностям Европы и объяснять, что на самом деле их мир не сделал людей полноценными, а сделал их гипербореями, которые ищут и не могут найти хоть какое-нибудь еще мегапорочное падение, гнусность, за которую им пришлось бы бороться и за которую ЕС жестоко бы их наказывал. Но ЕС коварен и хитер — он тут же включает эту гнусность в список главных естественных государственно-защищаемых прав своих граждан, в срочном порядке составляет и подписывает конвенции и всячески поощряет и субсидирует реализацию этого права. Нужно отбивать желание «жить так же, как они», потому что мало кто в России действительно осознает, с чем он собирается себя идентифицировать, ориентируясь на западные ценности. Я полностью согласна с И. А. Ильиным, который полагал, что эту национальную идею не нужно ни у кого заимствовать. Она должна выражать русское историческое своеобразие и в то же вре- № 1 (1) 2011 207 Светлана БЕРДАУС Проблема самоидентификации ФИЛОСОФИЯ, ЭСТЕТИКА мя — русское историческое призвание. Эта идея формулирует то, что народу уже присуще, что составляет его силу, а также отражает его самобытность среди всех других народов. В то же время эта идея указывает историческую задачу русских и их духовный путь. И если пробуждение в людях понимания своего исторического призвания — дело титанически сложное, учитывая современную ситуацию тотальной олигофренической неполноценности россиян (как говорится, Русь в упадке) и тревожной радости за то, что уже нажито непосильным трудом, — то ситуация с национальным своеобразием более обнадеживающая. Можно сыграть на русской самовлюбленности и самомнении, за что нас нередко называли попросту дураками. Ну, дураки не дураки, а в космос первыми полетели, бомбы там всякие, таблицы, выигранные войны и т. п. Конечно, способ не самый благородный, зато действенный, да и чисто по-русски ведь — делать всё не как у людей. 208 ЛАМПА И ДЫМОХОД ДРАМАТУРГ Ирина Матвеевна Наумова — член профессионального Союза художников, художник театра и книги. Автор сказочных повестей и стихов для детей. В изд-ве «Эксмо» вышли две сказочные повести «Вышел заяц погулять», победитель литературного конкурса изд-ва Росмэн на лучшую прозу для детей. Член Союза писателей России. МЫШИНЫЙ ЭЛИКСИР Действующие лица: А д а А л е к с а н д р о в н а — немолодая, некрасивая женщина. Д ж о н Б р а у н — известный молодой пианист. Англичанин, говорит с акцентом. К и р а Д м и т р и е в н а — соседка. Х а л и м П е т р о в и ч — сосед, муж Киры Дмитриевны. Т а т а — молодая, красивая девушка, их дочь. П а у к. М ы ш ь. М у х а. В р а ч. С а н и т а р ы, п о к л о н н и ц ы. Пролог Служебный выход из консерватории. Звучат заключительные аккорды первого концерта Чайковского. Они тонут в аплодисментах. К выходу подбегает толпа. В основном это женщины. У многих в руках цветы. Женщины толкаются, стараясь протиснуться ближе к дверям. № 1 (1) 2011 209 Ирина НАУМОВА Пьеса ДРАМАТУРГИЯ — Пустите меня, мне надо пройти! — Всем надо! — Не толкайтесь, не смейте до меня дотрагиваться! — Вы мне на ногу наступили! — А нечего тебе с сорок пятым размером здесь околачиваться! — Не тыкай мне! — Я считаю, что исполнение сегодня было слабым и традиционным. — Что?!! Да за такие слова надо морду бить! Маленькая немолодая женщина с разбега прокладывает себе дорогу к дверям. Кого-то бьет по голове букетом роз. — Ай, она меня поцарапала, хулиганка! — Милиция! Женщины отвлекаются от ожидания у служебного входа. Начинается небольшая потасовка. В это время дверь приоткрывается и из нее высовывается голова Джона Брауна. Он в концертном костюме. Пытается незаметно пробраться мимо толпы сцепившихся поклонниц. Те наконец-то замечают его. — — — — — Джон! Джон! Джон! Вот он! Он вышел! Держите его! Как вы играли! Восторг! Вы гений! Возьмите цветы! Джон пытается выбраться из толпы. Д ж о н: Спасибо, спасибо, дайте мне пройти, пожалуйста. Оставьте меня, не трогайте! Пустите! Джон вырывается и бежит. Поклонницы остаются. Внезапно его перехватывает маленькая женщина с букетом роз. Это Ада Александровна. Она сует ему цветы. А д а: Это вам за вашу волшебную музыку! Д ж о н: Спасибо. Ай, я укололся шипами! Смотрите, даже кровь пошла! Лезет в карман за носовым платком. Пытается перевязать руку. При этом из кармана падают на землю какие-то бумажки. С ревом появляется толпа поклонниц. — Джон! Джон! Джон! 210 ЛАМПА И ДЫМОХОД Джон в панике убегает. Поклонницы бросаются к рассыпавшимся бумажкам. — — — — — НАУМОВА Мышиный Это его визитки! Мне! Мне! Дайте сюда! Я первая нашла! Вы мне на руку наступили! Жалко, не на голову! эликсир Начинается драка. Визитки рвут друг у друга из рук. Наконец все расходятся. Остается одна Ада Александровна. Вид у нее помятый. Она разжимает руку. Там у нее визитная карточка Джона. Ада Александровна прижимает ее к груди, целует и кладёт в сумочку. Действие первое КАРТИНА ПЕРВАЯ Пустая квартира. Кухня. Под потолком в гамаке из паутины лежит паук. Он что-то вяжет. Из-под мойки вылезает мышь. Это мышь — молодой человек. В лапах у него узелок. Мышь опасливо озирается по сторонам. М ы ш ь: Неплохое местечко, никого, кажется, нет. Люблю малонаселённые квартиры. Заглядывает в кастрюли на плите. М ы ш ь: Интересно, интересно. Вот где они держат еду. Очень удобно! П а у к ( громко): Кис-кис-кис! Мышь подпрыгивает и бросается назад под мойку. П а у к: Ха-ха-ха! Поверил, вот потеха! До чего же я всё-таки остроумный. Эй, ты, храбрец, вылезай. Мышь осторожно высовывает голову. М ы ш ь: Ушла? П а у к: Кто? М ы ш ь: Ну эта, кис-кис… П а у к: Шутка, здесь кошек нет. Это я так шучу. М ы ш ь: Очень глупо шутишь! Не добрый ты какой-то. П а у к: Более того, я злой. М ы ш ь: И напрасно! Злым быть плохо. № 1 (1) 2011 Ирина 211 ДРАМАТУРГИЯ П а у к: Почему? М ы ш ь: Для здоровья вредно. Это все знают, кроме конечно, ко… Вылезает из-под мойки, прижимая к себе узелок. М ы ш ь: Я из дома ушел, чтобы не встречаться с этим отвратительным животным. Оно погубило моих родителей, братьев, сестер, дядюшек, тетушек, племянников, бабушек, дедушек, свояков… П а у к: Эка важность! Братья, сестры… Я своих съел и нисколько не жалею. Одному гораздо лучше. И чувствую себя, кстати, совершенно здоровым и бодрым. М ы ш ь: И ты так спокойно об этом говоришь?! Надеюсь, это тоже шутка? П а у к: Напрасно надеешься, я говорю совершенно серьезно. Если не хочешь быть съеденным — нападай первым. Посмотри, как мне теперь хорошо! Я живу один в этой огромной квартире, мне никто не мешает, не угрожает. Я здесь полный хозяин! М ы ш ь: А люди? П а у к ( пренебрежительно): Они меня только развлекают. Так забавно наблюдать за ними сверху! За их глупыми страстишками, ссорами, склоками. М ы ш ь: И много тут живет людей? П а у к: Не очень. В одной комнате семья. Муж, жена и взрослая дочь. А в другой одинокая тетка. М ы ш ь: Их тетка? П а у к: Да нет, чужая. Вернее, ничья. М ы ш ь: Почему же они живут в одной норе, то есть квартире? П а у к: Я думаю, чтоб было с кем ругаться. Впрочем, не знаю. Люди такие странные, я их не всегда понимаю. М ы ш ь: Тут ты прав: люди, действительно, очень странные. Я их совсем не понимаю. Как, по своему желанию, можно заводить таких чудовищ? П а у к: Ты это о ком? М ы ш ь: Разумеется о ко… Но раз ты говоришь, что их здесь нет, то, пожалуй, я останусь здесь жить, ты не возражаешь? П а у к: Живи, мне-то что. М ы ш ь: Вот спасибо, так спасибо! Пойду поищу себе нору. Не подскажешь, в каком помещении лучше поселиться? Чтоб безопасно, тепло и сытно. Может, на кухне? П а у к: Ни в коем случае! М ы ш ь: Почему это? П а у к: Потому, что здесь живу я. М ы ш ь: Ну и что? Кухня-то большая. 212 ЛАМПА И ДЫМОХОД П а у к: Ты будешь меня озлоблять своим присутствием. Я же ясно сказал, что люблю одиночество. Навещать меня иногда можешь, но жить — ни-ни! М ы ш ь: А если я всё-таки останусь здесь? П а у к: Не советую. Поверь, у меня всё схвачено, уж я найду способ тебя извести! М ы ш ь: Ладно, ладно, ухожу. Уходит. Снова возвращается. М ы ш ь: Расскажи, будь другом, в какой комнате мне будет спокойнее и сытнее жить? П а у к: Во-первых, запомни: я тебе никакой не друг и никогда им не буду. А во-вторых, сам подумай. В одной комнате трое, да еще постоянно толкутся дома, а во второй одна тетка, и та сыриха. М ы ш ь: Сыриха? Какое приятное слово! Она что, из сыра? П а у к: Вот невежество! Конечно, нет. Так называют поклонниц. М ы ш ь: Это которые кланяются? П а у к: Нет, это которые поклоняются. М ы ш ь: Я понял, понял, она поклоняется сыру. Значит, он у нее есть! П а у к: Ты еще глупее, чем я думал. Она поклоняется артистам. Ну не всем, конечно, а какому-нибудь одному. Ходит на все его спектакли, дарит ему цветы, всякие дурацкие подарки и всё такое. Словом, ведет себя, на мой взгляд, глупо и странно. М ы ш ь: Действительно, странно. Но мне всё равно больше нравится эта сыриха. Очень уж слово приятное! Буду у нее жить. Прощай! П а у к: Прощай, но боюсь, сыра ты у неё не найдешь. Хорошо, если сухой корочкой разживешься. М ы ш ь: Мне много и не надо. Лишь бы не было ко… Уходит. КАРТИНА ВТОРАЯ Комната Ады Александровны. Скудная обстановка. Стены увешаны портретами Джона Брауна. В углу пианино. Осторожно входит Мышь, оглядывается по сторонам. М ы ш ь: Скромненько, скромненько. Ой, кто это со стенки таращится? Впрочем, мне-то что за дело? Кошки нет, и ладно. Заглядывает за шкаф. М ы ш ь: Очень и очень неплохо. Решено, остаюсь здесь. № 1 (1) 2011 213 Ирина НАУМОВА Мышиный эликсир ДРАМАТУРГИЯ Скрывается за шкафом. Входит Ада Александровна. Она все еще находится в возбуждении. Достает из сумочки визитную карточку Джона и ставит на этажерку. Любуется. Переставляет на книжную полку. Любуется. Наконец находит ей место на обеденном столе. Облокачивается на сахарницу. Садится напротив. А д а: Здравствуй, Джон. Теперь у меня есть твой адрес. Даже письмо тебе могу написать. Подумать только, что ты трогал этот кусочек бумаги своими удивительными руками! Вот и я теперь дотрагиваюсь до него (трогает визитную карточку) и представляю, что дотронулась до твоей руки. Ада Александровна встает, подходит к проигрывателю и ставит пластинку. Громко звучит первый концерт Чайковского. В стену немедленно начинают стучать. Ада Александровна не обращает внимания, садится, закрывает глаза и слушает музыку. Теперь громко уже стучат в дверь. Ада Александровна не реагирует. Дверь распахивается, на пороге мужчина в спортивных штанах и майке. Это сосед Халим Петрович. Х а л и м: Долго еще нам терпеть этот грохот?! А д а (не открывая глаз): Отстаньте, еще рано. Х а л и м: Завтра, между прочим, рабочий день. А д а: Вам-то что? Вы же теперь пенсионер. Это я работаю. Х а л и м: Хватит разговоров, я сказал: выключайте, — значит, выключайте. А д а: Убирайтесь из моей комнаты. Х а л и м: Я уберусь, только сначала сломаю этот мерзкий ящик. Давно собирался это сделать, да времени не хватало, а теперь, как у пенсионера, у меня и время нашлось. Идет к проигрывателю. Ада Александровна вскакивает, хватает со стола утюг и замахивается на Халима. В дверях появляется жена Халима Кира Дмитриевна. Она уже некоторое время подслушивала у двери. К и р а: Спасите! Убивают! Вызовите же кто-нибудь милицию! А д а: Да, да, убью, если только подойдете! Халим отступает, и Ада захлопывает перед ними дверь. К и р а: Зачем ты с ней связался?! Она же сумасшедшая хулиганка. Х а л и м: Должен быть порядок. Она здесь не одна. Почему мы должны страдать и слушать этот грохот? К и р а: Пойдем, включи телевизор погромче, и тогда мы его не услышим. 214 ЛАМПА И ДЫМОХОД Х а л и м: Как же, не услышим. Весь дом трясется. К и р а: Ну что делать, если у нас соседка невменяемая. Ты же сам знаешь, мы куда только ни жаловались, никому нет дела! Такой уж у нас народ безразличный к чужому горю. Х а л и м: И всё-таки надо добиться, чтоб ее выселили. Теперь я на пенсии и могу этим заняться вплотную. Все должны соблюдать правила общежития! Порядок и тишина должны быть. Ясно? К и р а: Мне-то ясно, как бы ей объяснить? Х а л и м: Не беспокойся, объяснят и ей. Уходят к себе в комнату. Оттуда раздается громкое, визгливое пение какой-то эстрадной певички. Комната Ады. А д а (обращается к фотографии Джона): Видишь, Джон, что я должна выносить? Прости меня за эту безобразную сцену. Делает звук проигрывателя еще громче. За стеной тоже увеличивают громкость. Во входную дверь громко и продолжительно звонят. Ада, со вздохом, выключает проигрыватель. А д а: Прости, Джон, что прервала тебя на середине. Ужасно это не люблю, но ты мне еще сыграешь, правда? К сожалению, в нашем доме никто не в состоянии оценить великого музыканта. За стеной тоже выключают звук. В дверь продолжают громко звонить. Кира и Халим вместе выходят в коридор и открывают входную дверь, готовые дать отпор. На пороге их дочь Тата. Т а т а: Вы что, с ума сошли?! Я звоню, звоню, никто не открывает. Оглохли, что ли? К и р а: Это ты? Слава Богу! Я думала, соседи пришли скандалить. Почему ты не открываешь своим ключом? Т а т а: На лестнице темно. К и р а: Просто безобразие! Никто свет не может зажечь, что за люди?! Т а т а: Вот вы бы и зажгли. Х а л и м: С какой стати мы должны зажигать свет? Есть старший по подъезду, старший по дому, техник-смотритель, наконец. Вот они пускай и зажигают. Порядок должен быть. Т а т а: Пока вы тут будете разбираться, на меня в темноте кто-нибудь нападет. К и р а: Между прочим, последней вошла наша милая соседка и даже не подумала включить свет. № 1 (1) 2011 215 Ирина НАУМОВА Мышиный эликсир ДРАМАТУРГИЯ Т а т а: Естественно. Она об этом никогда не думает. У неето нет дочери, которая должна возвращаться в темноте. К и р а: Прекрати на нас нападать. Мы и так все на нервах из-за этой негодяйки. Представляешь, она только что бросалась на твоего отца с утюгом! Т а т а: Серьезно? Вот это класс! Жаль, я не видела. А нельзя ли повторить? К и р а: Не говори ерунды! У меня чуть инфаркта не было. Т а т а: Чем охать, лучше бы тоже треснули ее утюгом. Х а л и м: Честно говоря, очень хотелось. Я с трудом сдержался. Т а т а: Следующий раз без меня не деритесь. Я хочу это видеть! К и р а: Неужели ты действительно мог ее ударить? Х а л и м: Почему нет? Просто связываться не хотелось. Т а т а: Папа у нас герой. Уходят к себе в комнату. Комната Ады. Она пьет чай, делает себе бутерброд. Из-за шкафа выходит Мышь и медленно приближается к столу, не сводя глаз с бутерброда. М ы ш ь: Как есть хочется! Просто сил никаких нет. Будь что будет, а я свой кусок должен получить. А д а: Ой, мышь! Гадость какая! М ы ш ь: Заметила. Восхищается мной. Это правильно! А д а: Да что ж такое, прямо средь бела дня по комнате разгуливает! Мышь садится напротив и смотрит не отрываясь на бутерброд. А д а: А наглая какая! Кыш, кыш! Уходи! Убирайся! М ы ш ь: Ну, подумай, подумай своей большой, некрасивой головой, чего я хочу? А д а: Вот беда, не уходит! Чего тебе надо, нахалка? Мышь сидит. А д а: Есть, что ли, хочешь? Так я тебе дам, а ты потом целый выводок мышей за собой приведешь! М ы ш ь: Не приведу, я сирота. Дай, дай, дай! А д а: Ладно уж, покормлю тебя, я сегодня добрая. На, возьми. Кидает ему кусок бутерброда. Мышь жадно ест. 216 ЛАМПА И ДЫМОХОД А д а: Не пойму, почему люди так боятся мышей? Не такие уж они и противные. Вот у этой даже глазки какие-то умные. Как будто она меня понимает. Мышка, ты любишь музыку? М ы ш ь (продолжая жевать): М-м-м… А д а: А вот я больше всего на свете люблю! А ты знаешь, кто самый выдающийся пианист современности? М ы ш ь: М-м-м? А д а: Конечно, это Джон! Джон Браун. Если бы ты слышала, как он играет! Хочешь послушать? Я тебе сейчас поставлю пластинку. Включает проигрыватель. А д а: Только тихо-тихо, чтобы ты не испугалась. А я пока, под музыку буду писать ему письмо. Достает бумагу и начинает писать. А д а (пишет и проговаривает вслух): Здравствуй, Джон. Не написаться «милый» или — «дорогой Джон»? Нет, нельзя так сразу, хотя и хотелось бы его так назвать, он ведь и вправду очень милый. Но первое же письмо и сразу же — «милый»! Может, уважаемый? Нет, это совсем уж глупо! Пусть будет просто — «Здравствуй, Джон!» (Пишет.) Вот я и решилась написать тебе. Впрочем, ты сразу же спросишь — кто эта «я», которая пишет тебе? Что ж, хотя мы с тобой… Как это сказать? «Не представлены друг другу» или просто — «не знакомы»? Но это неправда! Мне кажется, что я знала его всегда! (Пишет.) Хотя мы и не знакомы, но я столько раз слушала твою игру, что у меня такое чувство, будто я хорошо тебя знаю. Вся музыка мира для меня существует только в твоем исполнении! Она постоянно звучит у меня в душе. И только музыка помогает мне жить и преодолевать все невзгоды… (Садится за пианино, начинает играть, но ее исполнение далеко от совершенства, и она это понимает). М ы ш ь (позевывая): Пойду, пожалуй, вздремну. Добрая тетка, еды дала. Интересно, завтра даст? А паук говорил, что я у неё буду голодать. Что-то не похоже! Вот только шуму много… А д а (опускает руки, говорит, обращаясь к портрету): Когда-то я училась в консерватории, даже окончила второй курс, но потом… пришлось бросить учебу. Мама заболела и, впрочем, тебе это не интересно. Не буду про это писать. Да и «когда-то» звучит страшновато. Подумает еще, что я древняя старушка… А я поч- № 1 (1) 2011 217 Ирина НАУМОВА Мышиный эликсир ДРАМАТУРГИЯ ти такая и есть. Пусть лучше считает меня молодой и красивой. Может, тогда ответит? Напишу по-другому. (Садится к столу, пишет.) Обстоятельства сложились так, что пришлось оставить консерваторию и стать переводчиком в издательстве. Но всё равно, музыка для меня — главное в жизни. Я люблю ее больше всего на свете, а ты стал для меня символом музыки. Мне кажется, что ты чувствуешь и исполняешь ее именно так, как и я слышу ее в своей душе… (Говорит.) Словом… ты именно тот, кого я мечтала встретить в своей жизни! Но как написать об этом? Это можно только сыграть так, как играет он! Ставит пластинку с Первым концертом Чайковского. Музыка звучит под аккомпанемент стука соседей в стену. КАРТИНА ТРЕТЬЯ Ранее утро. Паук лежит в гамаке, вяжет. На кухню входит Мышь. Вид уверенный, он даже растолстел. В руках тот же узелок. П а у к (не меняя позы): Давно тебя не видел, хорошо выглядишь. Почему с вещами, съезжаешь? М ы ш ь: Ну уж нет, не надейся. Я отсюда никуда и никогда. П а у к: Тогда почему с узлом? М ы ш ь: Наследство. Дедушка-покойник велел никогда с ним не расставаться. П а у к: Что за наследство? М ы ш ь: Неважно. П а у к: Как это неважно? Я должен всё знать. М ы ш ь (вызывающе): Это еще почему? П а у к: Потому, что я здесь главный. Руковожу поступками всех обитателей квартиры. М ы ш ь: Интересно знать, как? П а у к: У меня в лапах все нити, разве не ясно? М ы ш ь: Ну не знаю… П а у к: Вот то-то и оно, не знаешь, а я всё должен знать. Быстро говори, что у тебя в узле? М ы ш ь (нехотя): Ну, эликсир. П а у к: Какой еще эликсир? М ы ш ь: Какой, какой. Известно какой. Жизни, молодости, красоты. Передается из поколения в поколение. П а у к: Глупости. Не может быть такого. М ы ш ь: А вот и может! П а у к: Нет, не может. М ы ш ь: Может! П а у к: Не зли меня, не может! М ы ш ь: Может, может, может, вот тебе! Злись, если хочешь. 218 ЛАМПА И ДЫМОХОД П а у к: Не буду, раз ты этого хочешь. Но до чего же ты обнаглел и разжирел на хозяйских харчах, просто смотреть противно! Ну-ка, ответь мне на вопрос: почему это вся твоя родня погибла, если вы владели таким сокровищем? М ы ш ь: Не успели выпить. Злодейский кот слишком быстро их… нет, не могу! (Рыдает.) П а у к: Ладно, не реви. Если веришь в эту сказочку и она тебя успокаивает, можешь носить свой эликсир с собой. Разрешаю. М ы ш ь: Спасибо. П а у к: Ну а вообще, как жизнь? М ы ш ь: Отлично! Тетка, сыриха, оказалась что надо! За стол меня приглашает, угощает разными деликатесами, беседой развлекает, музыкой. П а у к: Откуда у нее деликатесы? Вечно денег нет, а те, что есть, тратит на театры и концерты. Ну и на эти, шумные такие, круглые, как их? М ы ш ь: Пластинки? П а у к: Вот-вот. Они самые. М ы ш ь: Мне они сначала тоже не нравились. Я вообще шум не люблю, а теперь привык. Мы с ней вместе слушаем. П а у к: Что? М ы ш ь: Разное. Концерты для фортепиано с оркестром Чайковского, Петра Ильича, Моцарт очень успокаивает, а последнее время я как-то к Бетховену пристрастился. Музыка тревожная, вызывает воспоминания о коте-убийце, но надо быть в форме, не расслабляться. Вот я ее и слушаю. П а у к: Какой ужас! Я так и знал, что это ненормальное пристрастие к музыке заразно. Не смей подходить ко мне близко. Вдруг я тоже заражусь?! На кухню выходит Кира Дмитриевна. Она в халате, видно, что только что встала. Ставит чайник на плиту. Видит Мышь. К и р а: А-а-а-а! Вбегает Халим. Х а л и м: Что случилось?! К и р а: Мышь!!! Вон, смотри! Наглая, жирная мышь! Убей ее скорей! Х а л и м: Где?! К и р а: Да вот же, прямо перед тобой! Х а л и м: Вижу цель! Хватает швабру и начинает гоняться за Мышью. Мышь лениво уворачивается. № 1 (1) 2011 219 Ирина НАУМОВА Мышиный эликсир ДРАМАТУРГИЯ П а у к: Давай, давай! К и р а: Вот она, держи, бей! П а у к: Всё-таки люди ужасно неповоротливы. М ы ш ь: Ага. Х а л и м: Вот черт, почти поймал! Опять увернулась! Гони ее на меня. К и р а: Ты что, с ума сошел? Забыл, как я всю жизнь боялась мышей? П а у к: Вот потеха! До чего же я люблю такие развлечения! Входит Ада Александровна с письмом в руке. А д а: Что тут происходит? К и р а: Развели тут мышей и еще спрашиваете?! А д а: Оставьте мышь в покое! Чем она вам мешает? В конце концов, может быть, это мое домашнее животное. К и р а: Слышишь?! Она признается, что разводит мышей! Я сегодня же напишу заявление в санэпидемстанцию и в управу. Пусть её выселят за хулиганство и антисанитарию. М ы ш ь (машет пауку лапой): Ну, пока, поразмялись и хватит. Надо, знаешь ли, иногда побегать, не то совсем форму потеряю. П а у к: До свидания, заходи как-нибудь еще. Я давно так приятно не проводил время. М ы ш ь: Обязательно зайду. Мне и самому понравилось. Убегает. А д а: Сколько же вам надо?! Вы и так отняли у меня полквартиры. Если бы в свое время моя бедная, доверчивая сестра не вышла замуж за этого изверга Халима и не прописала его сюда! Все, все ее отговаривали. А он быстренько свел ее в могилу, женился на вас и теперь вы пытаетесь выгнать меня из моего же дома! Как же вам не стыдно?! К и р а: Меня не интересуют ваши мифические истории. А разводить в доме всякую дрянь мы не позволим. А д а: Это вы о себе? К и р а: Какая наглость! Х а л и м: Ну погоди, сейчас я тебе… Наступают на Аду Александровну. Она пятится. Паук с интересом наблюдает сверху из своей паутины. Даже свесился, чтоб лучше видеть. В кухню, зевая и потягиваясь, выходит Тата. Т а т а: Опять скандал? Оставьте вы ее в покое, она же сумасшедшая. 220 ЛАМПА И ДЫМОХОД К и р а: Она нас оскорбляет! Т а т а: Ну и что? Оскорбите ее в ответ. Возьмите утюг или еще что-нибудь убедительное. НАУМОВА Мышиный эликсир Топает на Аду Александровну ногой. Т а т а: А ну, брысь в свою комнату! И чтоб больше не выходить на кухню, когда здесь находится кто-нибудь из нашей семьи, ясно? А д а: Какая же ты выросла хамка! Поворачивается и уходит к себе. Т а т а: Вот и всё, никаких скандалов. Было бы с кем. К и р а: Всё-таки молодец у нас Татка, может постоять за себя и за нас! Х а л и м: Правильно, дочка, никому не давай себя в обиду. Помни, мы здесь хозяева. К и р а: Только не все это понимают, к сожалению. Т а т а: Главное, не обращайте на нее внимания. Ей только и надо завести свою шарманку про то, как мы у нее отняли квартиру. Осточертело слушать! К и р а: Золотые слова. Ладно, пойдемте завтракать. Кира Дмитриевна берет чайник и уходит к себе в комнату. Т а т а: Папа, я давно хотела спросить, ты что, действительно был женат на ее сестре? Х а л и м ( неохотно): Ну, был. Т а т а: Ну ты даешь! И как тебя угораздило? Х а л и м: Это было давно. Я уже плохо помню. Т а т а: Да ладно прикидываться. Она, небось, страшная была, как и наша Ада? Х а л и м: Да нет. Не при матери твоей будет сказано, очень была красивая. Только оказалась больной. Ну а я считаю, что здоров ты или болен, нужно дела делать, а не сидеть, книжечки почитывать. Не можешь на работу ходить — помой пол, свари обед, белье постирай, а потом читай себе. Учил я ее, учил, а она возьми да и умри. Ну что тут будешь делать? Откуда я знал, что у нее сердце такое больное? Вот Ада и злится на меня. Но я всё равно считаю: вышла замуж, так будь любезна. Порядок соблюдай. Вот так. Т а т а: Ишь ты, какой строгий. Значит угробил первую жену, а я и не знала. Х а л и м: Я же тебе объяснил. Не знал я, что она больна. Сама виновата, должна была предупредить. Может, я бы тогда и не стал № 1 (1) 2011 Ирина 221 ДРАМАТУРГИЯ на ней жениться. Ладно, матери про наш разговор ничего не говори. Она злиться, когда я про ту вспоминаю. Хотя, честно говоря, я и не вспоминаю почти никогда. Пойдем-ка завтракать. Уходят к себе в комнату. П а у к (разочарованно): А я-то надеялся, что будет драка. Скучно, скучно мы еще живем. В открытом окне появляется Муха. «Залетает» в окно и с любопытством оглядывается по сторонам. Обходит кухню, всё трогает, всё внимательно разглядывает. Сует пальцы во все кастрюли, облизывает их, Паука не замечает. П а у к: Кхм-кхм. Муха поднимает голову. П а у к: Господи, какая хорошенькая! Кто это?! Даже сердце упало куда-то вниз, в какую-то из ног. В эту? (Поднимает одну ногу.) Или в эту? (Поднимает другую.) Или, может быть в эту? (Поднимает третью ногу.) Кто ты, прелестное создание? М у х а: Хи-хи-хи, а вы не знаете? П а у к: Моя прелесть, я домосед и мало что видел в жизни. Но одно знаю точно, такую красотку вижу впервые! Да еще здесь, в нашем забытом и тихом углу. М у х а: Хи-хи-хи, так я и поверила. Я не дурочка какая-нибудь, чтоб всему верить. А угол ваш довольно милый. Садится на стол с ногами, начинает потирать лапки. П а у к: Поверь, милая барышня, я никогда не лгу. Такой нежной, аппетитной, славненькой крошки мне еще не приходилось встречать. Лети скорей сюда, давай же познакомимся поближе! М у х а: К чему такая спешка? П а у к: К тому, что я влюбился в тебя с первого взгляда! О, муки любви! О, голодные спазмы! М у х а: Что-то я не понимаю, при чем тут спазмы? П а у к: Это оттого, что ты еще молода и никогда не любила. (С надеждой) Ты ведь молода? М у х а (обиженно): Вы что, сами не видите? П а у к: Конечно, вижу. Это я так, на всякий случай спросил. Ну, лети же скорее ко мне. М у х а: Нет уж, как-нибудь в другой раз. Меня мама предупреждала, чтоб я была осторожна с незнакомцами. Если быть слишком 222 ЛАМПА И ДЫМОХОД доверчивой, можно попасть в сети к … пауку! Кстати, вы не знаете, здесь нет пауков? Я слышала, что они очень, очень опасны, а я даже не представляю, как они выглядят. П а у к (вкрадчиво): Разве мама не говорила тебе? М у х а: Говорила, что они ужасные и страшные. П а у к: Как я, например? М у х а: Ой! П а у к: Я пошутил, можешь быть совершенно спокойна. Пауков здесь нет. Я и сам их терпеть не могу. Если хочешь знать, я здесь главный истребитель пауков. А теперь скажи мне, я тебе хоть чуть-чуть нравлюсь? М у х а: Хи-хи-хи… П а у к: Так да или нравлюсь? М у х а: Ну не знаю, я лучше потом прилечу. П а у к: Нет, нет, не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Тебя мама этому не учила? М у х а: Нет… Хи-хи-хи... П а у к: И о чем они только думают, эти мамы? М у х а: Честно говоря, может, она и говорила что-то в этом роде, но я не очень слушала. Мне ужасно надоели её нравоучения. Туда не летай, сюда не заглядывай — тоска одна! П а у к: Ты совершенно права! Все родственники такие зануды! А ты уже в том возрасте, что сама знаешь, куда тебе летать и зачем. М у х а: Точно, вот и я так считаю. П а у к: Молодец! Так приятно видеть в таком юном и прелестном создании столько здравого смысла! М у х а (самодовольно): Да, я такая, здравая. П а у к: Раз ты такая умница, так лети же сюда скорей! М у х а: Хи-хи-хи… В другой раз. Сейчас у меня очень много дел. Я полетела. Чао-какао! «Улетает» в окно. П а у к: Куда же ты?! Вернись! А как же любовь?! Как же наш общий обед?! Вот и всё, а счастье было так возможно, так близко. (Вздыхает.) А она, действительно, очень, ну просто очень хорошенькая. Что это со мной? Может быть, я влюбился? Нет, нет, глупости. Просто давно не ел. КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ Комната Ады Александровны. А д а: Какие мерзавцы! Испортили мне настроение, а ведь я получила письмо! От него! Как страшно открывать, даже руки дрожат. Не могу читать, надо сесть. № 1 (1) 2011 223 Ирина НАУМОВА Мышиный эликсир ДРАМАТУРГИЯ Садится. То подносит письмо к глазам, то откладывает. Наконец начинает читать. А д а: «Милая Ада, Ваше письмо очень тронуло меня. Удивительно в наше время встретить в молодой девушке такое глубокое понимание музыки. Я хотел бы увидеть Ваше лицо. Пришлите мне, прошу Вас, вашу фотографию. Я уверен, что Ваше лицо так же прекрасно, как и Ваша душа. Джон». А д а: Вот и всё: «лицо так же прекрасно»! Смотрится в зеркало. А д а: Боюсь, я и раньше-то не была красивой, а уж теперь… Горько смеется, потом начинает плакать. Появляется Мышь. М ы ш ь: Что такое? Где еда? Завтрак где? Ходит вокруг Ады, пытается привлечь ее внимание. Наконец она его замечает. А д а: А, это ты, мышка? (Всхлипывает.) Спаслась от злодеев? М ы ш ь: Всё-таки плохо я еще понимаю человеческую речь. Кажется, она спрашивает, хочу ли я есть. Хочу, хочу! А д а: Не бойся, глупенькая, здесь тебя не обидят. В моей комнате можешь чувствовать себя спокойно. В конце концов, я же имею право держать домашнее животное. Пусть это будешь ты! М ы ш ь: Боюсь, она меня не поняла. Говорит четко и громко. М ы ш ь: Я хочу есть. Пора завтракать. Есть! Есть! Е-да! А д а: Он хочет получить мою фотографию, понимаешь? Он думает, что я молодая девушка. Ну что мне делать, скажи?! Перестать ему писать, не отвечать на письма, но с чем же я останусь? Буду сидеть тут одна, ругаться с соседями. А ведь его письма для меня, извини за банальное сравнение, — луч света в моей серой жизни. Почему, ну почему, со мной не случилось ничего подобного лет тридцать назад?! М ы ш ь: О чем это она? Ой, плачет! Может, у нее есть нечего? Или ей жалко того, что она мне уже дала? Тетя, тетя, зачем же жадничать?! А д а: Нет, не могу я отказаться от этой переписки. В конце концов, пошлю ему чужую фотографию. Всё равно мы никогда не увидимся. Так многие делали, я слышала. Не важно, чье там бу- 224 ЛАМПА И ДЫМОХОД дет лицо, хоть бы и моей соседки Таты. Она, конечно, отвратительная, злобная девица, но мордочка у нее хорошенькая, даже очень. Как ты думаешь, мышка? М ы ш ь: Я не против, давно пора подкрепиться. А д а: Как бы мне раздобыть ее фотографию? Кажется, придумала! М ы ш ь: Эй, тетя, ты куда? Ада Александровна выходит в коридор, стучится в комнату соседей. Из двери выглядывает Тата. Т а т а: Вам чего? А д а: Видишь ли, любезная Тата, в издательстве, где я работаю, ищут красивых девушек, чтобы поместить их портреты на обложки журналов. Может быть, у тебя есть фотографии каких-нибудь твоих привлекательных подруг? Они могли бы участвовать в конкурсе. Или твоя фотография, только самая удачная, размером с открытку. Т а т а: Я не держу фотки подружек, да еще красивых. А свою сейчас посмотрю, подождите. Выносит из комнаты пачку фотографий. Ада Александровна перебирает их. Наконец выбирает одну. А д а: Я думаю, эта подойдет. Т а т а: Вы уж там, у себя в редакции, замолвите за меня словечко. Кстати, если мой портрет напечатают на обложке, мне за это заплатят? А д а: Я точно не знаю, но очень может быть. Т а т а: Прикольно! Я на обложке журнала! Вот все обзавидуются! Может, меня и в кино пригласят сниматься? А д а: Всё возможно. Но я слышала, для этого надо получить актерское образование, а ты, кажется, учишься на социального работника? Т а т а: Какая разница? Были бы внешность и везение, а остальное приложится. И нечего меня попрекать моей специальностью. Куда смогла, туда и поступила. Главное, как потом устроиться! Вам хорошо говорить, в ваше время конкурсов в институты не было, а теперь один блат. Если бы не он, я со своими внешними данными могла бы легко стать артисткой, ясно? А д а: Разумеется. У тебя замечательная внешность. Т а т а: Спасибо, что заметили. Ну так вы похлопочете за меня? А д а: Обязательно. Расходятся по своим комнатам. № 1 (1) 2011 225 Ирина НАУМОВА Мышиный эликсир ДРАМАТУРГИЯ КАРТИНА ПЯТАЯ Кухня. Озираясь, входит Мышь. П а у к: Заходи, не бойся. Никого нет. М ы ш ь: Вижу, что нет, а вдруг явятся, да опять со шваброй?! П а у к: Ну и что? Убежишь. М ы ш ь: Я форму потерял. Только ем, сплю и развлекаюсь. П а у к: Везет тебе! Как же ты развлекаешься? Всё музыку слушаешь? М ы ш ь: И музыку тоже. А еще мне письма читают. Тут целый роман! П а у к: У кого с кем? Меня это сейчас очень интересует. Я сам почти влюбился! М ы ш ь: В кого? Ты же съел всех пауков в округе. Паук (мечтательно): Прилетает тут одна мушка… Она такая, такая аппетитная, славненькая, а какая чистая душа! Если ее заарканить, да подкоптить, и под соусом… М ы ш ь: Что-то я не пойму. Ты ее любишь или хочешь съесть? П а у к: Я и сам себя не пойму, где уж тебе. Расскажи лучше про роман в письмах. Неужели эта твоя старушенция Ада способна еще в кого-нибудь влюбиться? М ы ш ь: Еще как способна! Она пишет одному молодому пианисту. У нее все стены увешаны его портретами, и музыку в его исполнении слушаем каждый день! Так что я теперь легко отличаю Чайковского от Шнитке, а Моцарта от Бетховена. А какая сила звука! П а у к: К чему это? Какая в этом может быть польза для простой мыши? М ы ш ь: Для каждого есть польза в музыкальном образовании. П а у к: Да Бог с ним, с этим музыкальным образованием! М ы ш ь: Не скажи. Мы вот третьего дня слушали Гершвина, и хозяйка так расчувствовалась, что отдала мне свою конфету. П а у к: Действительно, польза. Хотя я конфеты не люблю. А что молодой музыкант, отвечает на ее письма? Она же старуха! М ы ш ь: В том-то и дело, что отвечает. Он не знает, сколько ей лет, и думает, что она красивая и молодая. Хозяйка послала ему, вместо своей, фотографию нашей соседки Таты. И теперь читает от него любовные письма и плачет! П а у к: Как интересно! Отчего же она плачет? Письма-то любовные. М ы ш ь: Как ты не понимаешь?! Джон влюбился в письма Ады и в лицо Таты. Это же две разные женщины. В окно «влетает» Муха. 226 ЛАМПА И ДЫМОХОД П а у к: Это она! М у х а: Здравствуйте! Вот и я! П а у к: Здравствуй, любимая! М ы ш ь: Привет! М у х а (обращаясь к пауку): Кто это? Случайно, не паук? П а у к: Что ты, куда ему до паука. Познакомьтесь, наш жилец Мышь. (Обращаясь к Мыши) А это она, моя мушка! Мы тут как раз говорили о любви. М у х а: Как интересно! Какой симпатичный у вас жилец! Такой пушистый, глаза большущие, выразительные, ресницы длинные! Подходит поближе к Мыши, разглядывает, трогает пальчиком. П а у к (ревниво): Не нахожу ничего симпатичного. Мышь как мышь. Отойди от него немедленно! М ы ш ь (отодвигаясь): Действительно, не надо меня хватать! М у х а (обиженно): Я просто любуюсь. М ы ш ь: А лапами зачем тыкать? П а у к: Ткни лучше меня, любимая. М у х а: Вас почему-то не хочется. Давайте лучше опять говорить о любви! На кухню выходит Ада Александровна с письмом в руках. Открывает конверт, читает. А д а: Господи! Он сделал мне предложение! Джон просит меня выйти за него замуж!!! Что же делать?! Что делать? За всю жизнь ни один мужчина не предлагал мне этого. Какое счастье, он меня любит! Нет, что я говорю, какое несчастье, он любит эту смазливую, грубую девицу! Но ведь это мои письма он читал. Это я ему открывала душу! Что же мне ему ответить? Признаться во всём? П а у к: Ни в коем случае! Никогда ни в чем нельзя признаваться. М у х а: А в любви? П а у к: Если только ко мне, моя радость. А д а: Вдруг это разобьет ему сердце?! Он такой ранимый, тонкий. Согласиться? Еще хуже! Когда он меня увидит, у него, бедняги, инфаркт случится! Хватается за сердце. А д а: Как сердце ноет! Как больно, как обидно, что жизнь прошла, а счастье пришло ко мне так поздно. № 1 (1) 2011 227 Ирина НАУМОВА Мышиный эликсир ДРАМАТУРГИЯ Плачет, перечитывает письмо. М ы ш ь: Как-то мне грустно стало. Пойти, что ли, поесть? П а у к: Тебе-то почему грустно? М ы ш ь: Вдруг она и правда выйдет за него замуж и он увезет ее отсюда? П а у к: Ну и что с того? Тебе-то что до этого? М ы ш ь: Как это что?! Я привык. Это моя тетка. Она хорошая, она меня любит. Меня еще никто так не любил, даже родители. Нас, детей, было слишком много. Всех накорми, напои, от злобной кошки спаси. А тут я один, любимый. В конце концов, она не имеет права любить кого-то другого! Мне нравится сидеть с ней рядом, слушать музыку, есть сыр. Мне, если хочешь знать, даже смотреть на нее нравится. Когда звучит музыка, ее лицо преображается, светлеет, в нем столько красоты и благородства! Жаль, что она не мышь! П а у к: Действительно жаль, что у нее нет усов и хвоста. Ты что, влюбился в нее? М ы ш ь: Не знаю, никогда об этом не думал. Знаю только, что встретились два одиноких сердца, а Джон тут совершенно лишний. М у х а: Ах, как романтично! Только я всё равно не понимаю, как может нравиться кому-то эта огромная, старая тетка, когда рядом есть молодая, хорошенькая му… М ы ш ь: Не смей так о ней говорить! Я знать не знаю никакой му... Наверняка какая-нибудь безмозглая, невежественная пустышка, которая не в состоянии отличить Генделя от Гайдна! М у х а (обиженно): Подумаешь, гендель-шмендель! Нечего тут воображать и говорить непонятные слова. Мало ли, чего ты сам не знаешь! П а у к: Правильно, так его! М ы ш ь: Стыдно вас слушать, невежи! В гневе уходит. На кухню выходит Тата. Т а т а: Давно хотела вас спросить, Ада Александровна, напечатают мой портрет на обложке? Уже надоело ждать. Может быть, мне самой поговорить с вашим главным редактором? А д а (рассеянно): На какой обложке? Т а т а: Ничего себе, она еще спрашивает! Сама вырвала у меня мою лучшую фотку, а теперь не помнит! А д а: Ах, ты об этом. Да, да, уже скоро… Т а т а: Вы обещали похлопотать. Об этом хоть помните? А д а: Разумеется. Сегодня же напомню редактору, если не утоплюсь по дороге … Т а т а: Дурацкие шутки. 228 ЛАМПА И ДЫМОХОД А д а: Ты совершенно права. Прощай. Ирина НАУМОВА Выходит из квартиры. Хлопает входная дверь. Мышиный Т а т а: Вот ведь старая ведьма! Неужели обманула? А я уже всем рассказала, что скоро на обложке журнала появится мой портрет! Не понимаю, зачем тогда ей понадобилась моя фотка? Раздраженно пинает ногой стол Ады Александровны. Замечает муху, которая сидит на столе. Т а т а: Мух тут развела! Скажет потом, что это тоже ее домашнее животное. Хватает газету, складывает ее и замахивается на Муху. П а у к: Беги, лети, спасайся! Тата бьет Муху газетой, та падает со стола. В эту минуту в дверь звонят. Т а т а: Кого еще черт принес? Я никого не жду. Звонок повторяется. Тата демонстративно идет к себе в комнату и закрывает за собой дверь. П а у к: Мушка, мушенька, очнись! Ты живая? М у х а (слабым голосом): Нет… П а у к: Слава Богу! Сейчас, сейчас я спущусь и помогу тебе. М у х а: Вот уж не надо, я и так умру. П а у к: Не смей так говорить! А как же я? М у х а (приподнимается и расправляет крылышки): При чем тут вы? Это меня чуть не убили, а вы спокойно наблюдали. Если бы я действительно вас интересовала — вмешались бы! П а у к: Да, моя радость, ты совершенно права. Я постыдно растерялся. Больше такого не повторится! М у х а: Разумеется, не повторится! Теперь, как только я увижу газету, сразу улечу. Ненавижу газеты! Прощайте! «Вылетает» в окно. П а у к: До свидания, моя птичка! Почему это я назвал ее птичкой? Птицы — наши первейшие враги, а мухи… О, эти прелестные создания! Такие беспечные, такие любознательные и легкомысленные! Сколько в них задора и очарования! Или только в этой? Я уже сам не понимаю, что говорю. Надо что-то с этим делать. № 1 (1) 2011 229 эликсир ДРАМАТУРГИЯ Может, пожевать сушеного таракана? Я слышал, очень помогает. Снова раздается длинный звонок. Из комнаты выходит Тата. Она чрезвычайно раздражена. Открывает входную дверь. На пороге стоит Джон Браун с большим букетом роз. Д ж о н (входит): Здравствуйте, я приехал. Простите, что не предупредил, но письма идут так медленно, а я не мог ждать. Нет, не так я говорю! Я ждал, ждал, а потом не выдержал. Вы не сердитесь? Видите, я говорю по-русски! Всё это время я учил русский язык, хотел сделать сюрприз. Ой, простите, это вам! Протягивает Тате букет. Т а т а: Спасибо, только я всё равно ничего не поняла. Д ж о н: Я что-то неправильно сказал? Конечно, я еще не очень хорошо говорю по-русски. Т а т а: Так ты иностранец, что ли? То-то я смотрю, на нашего вроде не похож! Послушай, а ты, часом, не аферист? Цветочки, разговорчики, а потом серебряных ложек, как не бывало. Д ж о н (растерянно): Каких ложек?! Я ничего не понимаю! Вы ведь мисс Ада? Т а т а (поражённо): Я?! Д ж о н: И я просил вас в последнем письме стать моей женой! Т а т а: Меня?! Д ж о н (с воодушевлением): Когда я получал ваши первые письма, я уже был очарован. Я понял, что мы близкие, родные души! Мы одинаково чувствуем музыку, мы живем в ней! А когда я увидел ваше лицо на фотографии, то понял, что вас мне посылает сама судьба. Знаете, мисс Ада, я ведь всегда был очень одинок. Только работал, работал, работал… Нет, я не жалуюсь, так уж сложилось, что рядом никогда не было близкого человека. Я уже писал вам, что рано остался сиротой. Такое счастье найти человека, который тебя понимает! Целует Тате руку. Д ж о н: Скажите да, умоляю вас! Т а т а: Ну вообще! В натуре, я балдею! Д ж о н (озадаченно): Что-то я не понял, очень сложное выражение. Т а т а: Ну, в смысле, потом поговорим, когда познакомимся поближе. Скажи-ка, моя фотка у тебя с собой? Д ж о н: Что это — фотка? 230 ЛАМПА И ДЫМОХОД Т а т а: Господи, ну фотография, которую я тебе прислала. Д ж о н: Фотография? Конечно, с собой. Я с ней не расстаюсь. НАУМОВА Мышиный Вынимает фотографию и показывает Тате. эликсир Т а т а: Так я и знала! Вот ведь хитрая старуха! Д ж о н: Кто хитрый? Т а т а: Неважно. Как-нибудь потом объясню. В квартиру входят Халим и Кира. В руках хозяйственные сумки с продуктами. К и р а: Здравствуйте! Что это вы на пороге стоите? Таточка, познакомь нас. Т а т а: Знакомьтесь, это мои родители, а это… Д ж о н: Джон Браун. Очень, очень рад. (Тате тихо) Вы никогда не упоминали в письмах о своих родителях. Это так неожиданно! К и р а: У вас такой странный акцент! Вы что, иностранец?! А откуда к нам приехали? Д ж о н: Только что прилетел из Лондона. Х а л и м (мрачно): Этого еще не хватало! Ни на минуту нельзя отлучиться из дома. Кира и Т а т а (хором): Англичанин! К и р а: Что же мы стоим на пороге? Проходите в комнату. Уводят Джона к себе в комнату. КАРТИНА ШЕСТАЯ За столом сидят Кира, Халим, Тата и Джон. Они пьют чай. К и р а: Вы с Таточкой давно знакомы? Д ж о н: С Таточкой? А кто это? К и р а: Да вот же она, перед вами сидит! Ну вы и шутник! Д ж о н: Вы хотите сказать, Ада? Т а т а (незаметно толкает мать): У меня двойное имя, ТатаАда. Дома меня обычно называют Тата. Х а л и м: Вот еще новости! Д ж о н: Для меня это тоже новость! Вы мне об этом не писали. Я привык, что вы мисс Ада. Но если дома вас называют по-другому, я тоже готов вас так называть. Хотя, если можно, Ада мне как-то больше нравится. Может быть, я просто привык так к вам обращаться. Я вас не обидел? Т а т а (вызывающе): А мне больше нравится «Тата». Кстати, Тата это Татьяна, если кто не в курсе. № 1 (1) 2011 Ирина 231 ДРАМАТУРГИЯ Д ж о н: Татьяна! (Напевает арию месье Трике из Евгения Онегина). Татьяна, Татьяна, Татьяна, Бель Та-ти-она-а! Я так счастлив, что вижу вас! Мне хочется играть! Где у вас инструмент? Тата и К и р а (хором): Инструмент? Т а т а: Это по папиной части. Па, принеси Джону инструменты. Х а л и м: Зачем это? Он что, собирается что-нибудь чинить? Так у нас вроде всё в порядке. К и р а: Неси, раз просят! Халим пожимает плечами, встает и приносит ящик с инструментами. Х а л и м: Вот, пожалуйста. Надеюсь, ничего не сломаете. Обращайтесь аккуратно! Д ж о н (изумленно): Что это?! К и р а: Инструменты. Как вы и просили. Д ж о н: Я, наверное, неправильно сказал. Я еще не очень хорошо говорю по-русски. Я имел в виду фортепьяно. Мисс Ада, то есть мисс Тата, писала мне, что училась в консерватории и сейчас ещё иногда играет. И я хотел бы вам всем сыграть. Т а т а: Ха-ха-ха! Мы подумали, тебе инструменты нужны! А фортепьяно мы продали буквально неделю назад. Д ж о н (пораженно): Но зачем?! Т а т а: Деньги были срочно нужны. На операцию бабушке. Х а л и м: Как я понимаю, инструменты можно убирать? К и р а: Да убирай уже! Х а л и м: Порядок должен быть. Очень хорошо, что не пригодились. Терпеть не могу, когда посторонние берут мои вещи. Уносит ящик с инструментами. Д ж о н: Как жаль, что вам пришлось расстаться с инструментом. Вы, наверное, очень сильно переживали? Т а т а: Ужасно! Ночами не спала, но бабушка — это святое! Д ж о н: Конечно, я понимаю. Надеюсь, ей стало лучше? Т а т а: Нет, она умерла, бедняжка. Д ж о н: Простите, это такое горе! За стеной раздается музыка. Звучит Первый концерт Чайковского. Возвращается Халим и садится за стол. Х а л и м: Опять завела свою шарманку. Убил бы! Джон прислушивается. 232 ЛАМПА И ДЫМОХОД Д ж о н: А ведь это же я играю! Т а т а (иронично): А мы думали — проигрыватель. Д ж о н: Я хотел сказать, что запись в моем исполнении. К и р а: У нас соседка просто сумасшедшая. Она помешана на музыке. Вот у нее, кстати, есть пианино. Если хотите, можете сыграть на нем. Думаю, она будет счастлива. Д ж о н: Это удобно? К и р а: Еще спасибо скажет, вот увидите. Тата усиленно подмигивает матери и толкает ее в бок. К и р а: Ну что еще такое? Разве я не правильно сказала? Т а т а: Давайте лучше поговорим за жизнь. Ты к нам надолго приехал? Д ж о н: Пока точно не знаю. Мне предложили контракт. Х а л и м (оживляясь): Контракт? А вы чем, собственно, занимаетесь? Д ж о н: Разве мисс Ада, то есть мисс Тата, вам ничего не говорила? Я пианист. Х а л и м (разочарованно): У-у-у… Это трень-брень, что ли? И что за занятие для мужика? Я смотрю, нынешняя молодежь всё норовит не работать. Волосы отпустят подлинней и давай тренькать кто во что горазд! Д ж о н: Тренькать?! Х а л и м: Ну, в смысле наяривать на разных там музыкальных инструментах. Ха-ха-ха, я теперь понял, почему вы про инструмент заговорили! Д ж о н: Наяривать? Я не понимаю… К и р а ( Халиму): Что ты привязался? (Джону) Не слушайте его. Лучше расскажите о себе. Где вы живете? У вас как, свой дом или квартира? Что за контракт вам предложили? Я, представляете, даже не знаю, как оплачивается работа пианиста! Д ж о н (усмехаясь): Так много вопросов, на какой отвечать сначала? Т а т а: Я думаю, на все, а особенно на последний. Я ведь должна о тебе побольше узнать, прежде чем дам ответ. Д ж о н: Конечно, я понимаю. Х а л и м: Какой ответ? Т а т а: Джон сделал мне предложение. К и р а и Х а л и м: Вот те раз, а мы ничего не знали! К и р а: И давно вы знакомы? Д ж о н: Мне казалось, тысячу лет, но теперь я как-то не уверен. Всё так странно, даже имя изменилось. Т а т а: Ты что, уже передумал на мне жениться? Д ж о н: Мне кажется, нам надо получше познакомиться. № 1 (1) 2011 233 Ирина НАУМОВА Мышиный эликсир ДРАМАТУРГИЯ К и р а: Вот это правильно! И всё-таки скажите, вы человек обеспеченный? Мы же должны знать, за кого выдаем свою единственную дочь! Д ж о н: Я вас понимаю, но пока я только начинающий музыкант. Мне приходится много гастролировать. Я почти всегда в разъездах. О, простите! (Смотрит на часы.) Мне надо позвонить и договориться о встрече насчет контракта. Где у вас телефон? Т а т а: В прихожей. Пойдем, провожу. Тата с Джоном выходят в коридор. Т а т а: Вот, звони. Не буду мешать. Возвращается к себе в комнату. Джон набирает номер, слышны частые гудки. Он кладет трубку и оглядывается по сторонам. Из своей комнаты выходит Ада Александровна. Видит Джона и замирает. А д а: Джон?! Это вы?! Здесь!? Д ж о н: Вы меня знаете? А д а: Мне, наверное, снится сон. Этого не может быть! Вы Джон Браун?! Д ж о н: Да, это я. А д а: Но как вы здесь оказались? Д ж о н: Приехал в гости к мисс Аде, то есть к мисс Тате. А д а: Понятно. Начинает сползать по стене. Д ж о н: Что с вами? Вы так побледнели! Давайте я провожу вас. Подхватывает Аду, помогает ей дойти до ее комнаты и сажает на диван. Берет со стола стакан, брызгает на нее водой, пытается привести в чувство. А д а: Спасибо, мне уже достаточно мокро. Д ж о н: Вам лучше? А д а: Хуже некуда. Д ж о н: Наверное, надо пригласить врача? А д а: Лучше сразу гробовщика. Д ж о н: Не надо так говорить. Вы еще не такая старая, чтоб умирать. А д а: Спасибо, но умереть можно не только от старости. Д ж о н: От чего же еще? А д а: От стыда, например. 234 ЛАМПА И ДЫМОХОД Плачет. Ирина НАУМОВА Д ж о н: Пожалуйста, не плачьте. Всё будет хорошо, всё наладится. Скажите, что я могу для вас сделать? А д а: Простить меня! Д ж о н: За что? Мы ведь даже не знакомы. Хотя вы меня знаете, а я вас нет. Скажите, как ваше имя? А д а: Ада Александровна. Д ж о н: Как, еще одна Ада?! А д а: Я должна вам признаться. Ада здесь только одна, и это я. Мне очень, очень стыдно. Д ж о н: Из-за того, что вас зовут Ада? А д а: Я очень виновата перед вами, но мне и в голову не приходило, что всё так получится. Поверьте, я и сама жестоко наказана. Жизнь сыграла со мной злую шутку. Снова плачет. Джон подает ей стакан, но воды там уже нет. Он озирается по сторонам и видит свои портреты по стенам. Д ж о н: Я, кажется, начинаю понимать. Это вы мне писали? А д а: Да. Вы меня теперь ненавидите? Джон садится к столу. Говорит спокойно. Д ж о н: Нет. Просто вы разбили мне сердце. Не понимаю, зачем вам это понадобилось. Я полюбил девушку, мечтал встретиться с ней, предложил ей стать моей женой, а ее, оказывается, не существует. Смешно, правда? А д а: Нет, очень больно. Д ж о н: Тогда зачем? Хотели посмеяться? Наверное, собирались со своими подругами, читали им мои письма и веселились. Если артист становится хоть немного известным, у него появляются поклонники. С одной стороны, это приятно, но с другой — невыносимо! Зачем вы преследуете нас? Отравляете нам жизнь своим нелепым поведением, досаждаете глупыми письмами! А д а: Мне казалось, что вам нравились мои письма. Д ж о н (вызывающе): Нисколько! Они меня забавляли. А д а: Тогда зачем вы приехали? Д ж о н (мрачно): Посмеяться всласть. А д а: Что ж, будем смеяться вместе. Но сначала попробую вам объяснить. Понимаете, поклонницы — это особая порода. Все девушки в молодости ждут принцев, но большинство вскоре понимает, что напрасно тратят время. Ведь принцы бывают только в сказках. И девушки выходят замуж за обыкновенных молодых людей. За тех, кого им предлагает жизнь. Но есть такие, которые продолжают ждать. Вот из них-то и получаются поклонницы. На сцене № 1 (1) 2011 235 Мышиный эликсир ДРАМАТУРГИЯ вы — принц. Прекрасный, талантливый, благородный. Воплощение того самого образа, который мы, девушки, видели в своих мечтах. Вы не храпите по ночам, не чавкаете, не почесываетесь. Не ходите в спортивных штанах с вытянутыми коленями, не ругаетесь, не деретесь, не пьете, не говорите пошлости. На вас всегда надеты фрак и белая рубашка, а ваша музыка вызывает у слушателей самые возвышенные мысли. Вы — мечта! Идеал! Д ж о н: Уверяю вас, я далек от совершенства. Фрак надеваю только на концертах, а дома обожаю ходить в спортивных штанах. Но коленки… на месте. Я правильно говорю? А д а: Всё равно вы прекрасны! А про спортивные штаны я ничего знать не хочу. Будем считать, что я о них не слышала. Знаете что, сыграйте мне. Пусть это будет не только самый горький, но и самый счастливый день в моей жизни. Джон подходит к пианино, открывает его и проводит рукой по клавишам. Д ж о н: Какой прекрасный инструмент! Начинает играть. В стену немедленно начинают стучать. Слышен возмущенный голос Халима. Х а л и м: Немедленно прекратите хулиганить! Приглушите звук! В комнату заглядывает Тата. Т а т а: Джон, ты здесь? А мы тебя уже заждались. А д а: Тсс… Прикладывает палец к губам. Тата не обращает на нее внимания. Т а т а: Джон, ты идешь или нет? Д ж о н: Нет. Продолжает играть. Т а т а: Что значит нет?! Я не привыкла, чтоб со мной так разговаривали! Изволь повернуться ко мне лицом. Кажется, два часа назад кто-то просил меня выйти за него замуж! Джон не поворачивается и продолжает играть. Д ж о н: Это была прискорбная ошибка. Извините, но вы сами ввели меня в заблуждение. 236 ЛАМПА И ДЫМОХОД Т а т а: Я?! А кто подарил мне розы? Кто сказал моим родителям, что хочет жениться на мне? Я, между прочим, никого за язык не тянула! Д ж о н (не оборачивается и продолжает играть): Я хотел жениться на мисс Аде. Т а т а (указывает пальцем на Аду Александровну): На этой, что ли? Она же старая, сумасшедшая и к тому же воровка! Украла мою фотку и выдала за свою. Д ж о н: Я вам ее возвращаю. Достает из кармана фотографию и отдает Тате. Т а т а: Отлично! Два сапога — пара. Старая дура и молодой идиот! А д а: Тебе лучше уйти. Т а т а: Без вас догадалась. Уходит, хлопнув дверью. Джон продолжает играть. Д ж о н: Какое счастье, что она — это не вы! Пожалуй, мне сегодня везёт. Продолжает играть. КАРТИНА СЕДЬМАЯ Кухня. Из комнаты Ады Александровны доносится музыка. Появляется Мышь. Он страшно взволнован. М ы ш ь: Эй, паук, мне нужен твой совет. П а у к: Наконец-то меня оценили по достоинству. Не скрою, приятно. М ы ш ь: Совсем не приятно. То есть просто катастрофа! П а у к: Где? М ы ш ь: Да здесь же, у нас. П а у к: Неужели ремонт?! М ы ш ь: При чем тут ремонт? П а у к: Катастрофа — это ремонт. Нет, лучше так: ремонт — это катастрофа. Я столько трудился, чтобы создать себе комфортабельное жилье, все оплел паутиной. Чудесной, прочной, с таким простым, но элегантным рисунком. У меня вся квартира под контролем. И вдруг придут какие-то толстые тетки с лестницами, щетками и побелкой и испортят труд всей моей жизни! Ужас! Ужас! М ы ш ь: Ты меня совершенно запутал со своей побелкой. Я ведь хотел сказать тебе что-то важное. Или нет, я хотел спросить тебя о чем-то важном, но о чем? № 1 (1) 2011 237 Ирина НАУМОВА Мышиный эликсир ДРАМАТУРГИЯ П а у к: Если это не ремонт, то не такое уж и важное. М ы ш ь: Нет, очень, очень важное. У меня даже лапы вспотели от волнения. Как будто я кошку увидел. П а у к: Это вряд ли. Кошку я бы и сам заметил. М ы ш ь: Тогда что? П а у к: Попробую подсказать. Приехал наш молодой музыкант, и ты в отчаянии. Правильно? М ы ш ь: Точно! Но как ты узнал? П а у к: Я же сказал, у меня вся квартира под контролем. М ы ш ь: Значит, ты видел, как нашего Джона перехватила эта отвратительная девица? Я просто места себе не находил от злости! Хотел даже ее укусить. П а у к: Ну, ты прямо герой! М ы ш ь: Герой не герой, но в бешенстве я страшен. П а у к: В бешенстве все страшны. М ы ш ь: Так ты, оказывается, всё знаешь? П а у к: Я же тебе сказал: у меня всё под контролем. Всё видел, всё знаю, всем руковожу. М ы ш ь: Так уж и всем. Почему же ты допустил, чтобы нашего Джона утащили соседи? П а у к: А с какой стати мне вмешиваться? Какая мне от этого польза? К тому же он и так понял, кто ему писал. Так что можешь успокоиться. М ы ш ь: Я не могу успокоиться, когда она страдает! В окно заглядывает Муха. М у х а: Это не обо мне разговор? Я, кстати, очень страдаю! М ы ш ь (равнодушно): Мои сочувствия, но мы говорили не о тебе. Меня волнуют страдания моей хозяйки. Она слушает игру этого Джона, и по ее лицу текут слезы! П а у к: Что-то не пойму, мне кажется, что исполнилась ее мечта. У нее дома, в убогой комнатенке, сидит ее кумир, мировая знаменитость и играет лично для неё на пианино, причём совершенно бесплатно. Даже билет не пришлось покупать. Чего же еще желать? Искусство само пришло в народ. Правильно я говорю, Мушка? М у х а: Откуда мне знать? У меня всё тело болит, и я ни о чём другом даже думать не могу! П а у к: Бедняжечка моя, иди сюда, я тебя пожалею. М у х а: Хи-хи-хи… Право, не знаю. Ты, Мышь, как думаешь: идти или нет? М ы ш ь: По-моему, лучше не ходить. М у х а: Почему? Может быть, ты ревнуешь? М ы ш ь: Еще чего! Скажешь тоже. П а у к: Тогда не вмешивайся! Ты, вообще, зачем сюда явился? 238 ЛАМПА И ДЫМОХОД М ы ш ь: За советом. П а у к: Быстро спрашивай и уходи. Не видишь разве, ты здесь лишний. М ы ш ь: Вопрос в том, как мне поступить. Я уже говорил, что у меня есть эликсир молодости и красоты. М у х а: Ой, как интересно! А откуда он у тебя? М ы ш ь: По наследству достался. Не перебивай. Так вот, если я отдам его хозяйке, она станет молодой и красивой. Этот Джон в нее влюбится, и она уедет с ним навсегда. П а у к: Ну и славненько. Теперь уходи скорей. М ы ш ь: Совсем даже не славненько. Как же я? Что со мной будет? Я привык сидеть с ней вместе за столом и смотреть на нее. Привык вкусно есть и наслаждаться искусством. Кто будет меня кормить и ставить мне пластинки? Опять придется подбирать крошки по углам. Дрожать от страха при малейшем шорохе. Не хочу я возвращаться к прежней жизни! П а у к: Чего проще? Тогда не давай ей эликсир молодости, и она навсегда останется с тобой. М ы ш ь: Но она же страдает! Как тяжело сделать выбор… Мне хорошо — ей плохо. Мне плохо — ей хорошо! Вот ты как бы поступил? П а у к: Я сторонник здорового эгоизма. Сначала думай о себе, а потом тоже о себе. М у х а: Вот ты, оказывается, какой! П а у к: К тебе, моя прелесть, эти слова не относятся. Для тебя я готов на всё. Ты мне веришь? М у х а: Не очень. После удара газетой я стала намного умней. П а у к: Будь прокляты все газеты, а эта в особенности! Музыка, которая всё это время звучала фоном, замолкает. Из комнаты выходят Джон и Ада Александровна. Д ж о н: Мне пора. Такой странный день, не того я ждал от него. Не знаю даже, смеяться мне или плакать. Но я всё равно рад, что мы познакомились. А д а: Я понимаю, вы это говорите из вежливости. Простите меня, если сможете. Прощайте! Д ж о н: До свидания! Уходит. А д а: Вот и всё, сказка кончилась, так и не начавшись. Плачет и уходит к себе в комнату. № 1 (1) 2011 239 Ирина НАУМОВА Мышиный эликсир ДРАМАТУРГИЯ М у х а (всхлипывает): Какая грустная история! Неужели и правда на этом всё закончится? П а у к: Это жизнь, дитя мое. Впрочем, теперь всё в лапах у Мыши. М ы ш ь: Я еще ничего не решил. Мне надо подумать. П а у к: А ты не боишься, что от этого эликсира у твоей хозяйки вырастет хвост? Напиток-то не опробованный. М ы ш ь (мечтательно): Хвост… Какое было бы счастье! Он бы так её украсил! П а у к: Ты серьёзно думаешь, что ей понравится, если у нее вырастет хвост? М ы ш ь: (вызывающе) Конечно! Хвост любого украсит. Это так благородно! Ладно, хватит мечтать попусту. Пойду к ней, поплачем вместе, поедим, подумаем. Прощайте! Уходит. П а у к: Наконец-то мы одни! Я так ждал этой минуты! М у х а: И совершенно напрасно. П а у к: Но почему, любимая?! М у х а: Эта сетка, которая тебя окружает, кажется мне какой-то подозрительной. Что-то я про такое слышала от мамы. П а у к: Клевета! Всё ложь! Меня нарочно оболгали и очернили в твоих глазах. Посмотри лучше, какой прелестный рисунок! Я сплел его в твою честь. М у х а: Сплел?! П а у к: Ну, связал, если тебе так больше нравится. М у х а: Кажется, я начинаю догадываться… Какой ужас! П а у к: Я мирно лежу в гамаке, а все постоянно твердят мне про какой-то ужас. Что это? Кто это? М у х а: Ужас — это ты! Я наконец-то прозрела! Ты — коварный и жестокий паук!!! П а у к: Нет, да, нет, не могу тебе лгать. Я — это он, а он — это я! М у х а: Кошмар! Я чуть не попала тебе в лапы! Прощай! «Улетает» в окно. П а у к: Прощай, любовь, прощай, выпивка и закуска. Вот к чему приводит дурная манера говорить правду. Ну что мне стоило сказать, что я, к примеру, сороконожка или таракан? Нет, нет и нет, никто и никогда не услышит больше от меня ни слова правды. 240 ЛАМПА И ДЫМОХОД 1/2011 Екатерина ДЬЯЧКОВА ДВА ПУШКИНА БОРИСА ШЕРГИНА Вера ПАВЛОВА ПОЭЗИЯ — ПРЕКРАСНЫЙ СПОСОБ ИЗМЕНИТЬ ПРОШЛОЕ… Евгений ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ ЕЕ ОСЕННИЙ ЗВЕРЬ Рассказ лампа и дымоход Юрий ЛУГИН О НАБОКОВЕ — С ЛЮБОВЬЮ _Lampa_Cover_V3.indd 1 Ирина НАУМОВА МЫШИНЫЙ ЭЛИКСИР Пьеса 04.02.2011 10:42:33