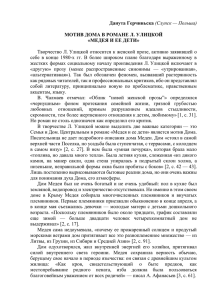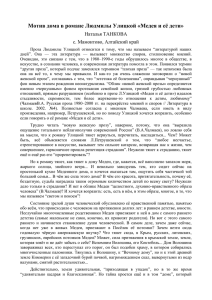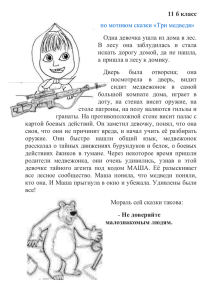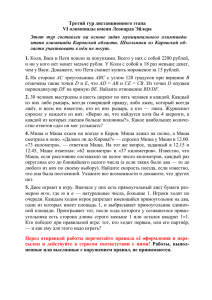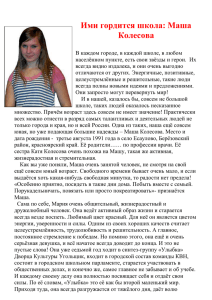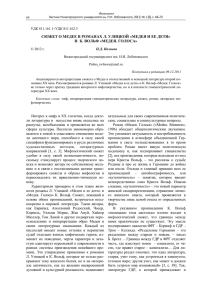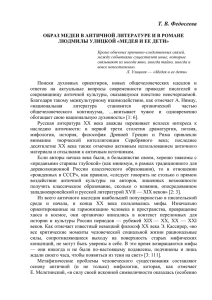ОПЫТ МИФОПОЭТИЧЕСКОГО ПРОЧТЕНИЯ ПОВЕСТИ О.В. Побивайло
advertisement
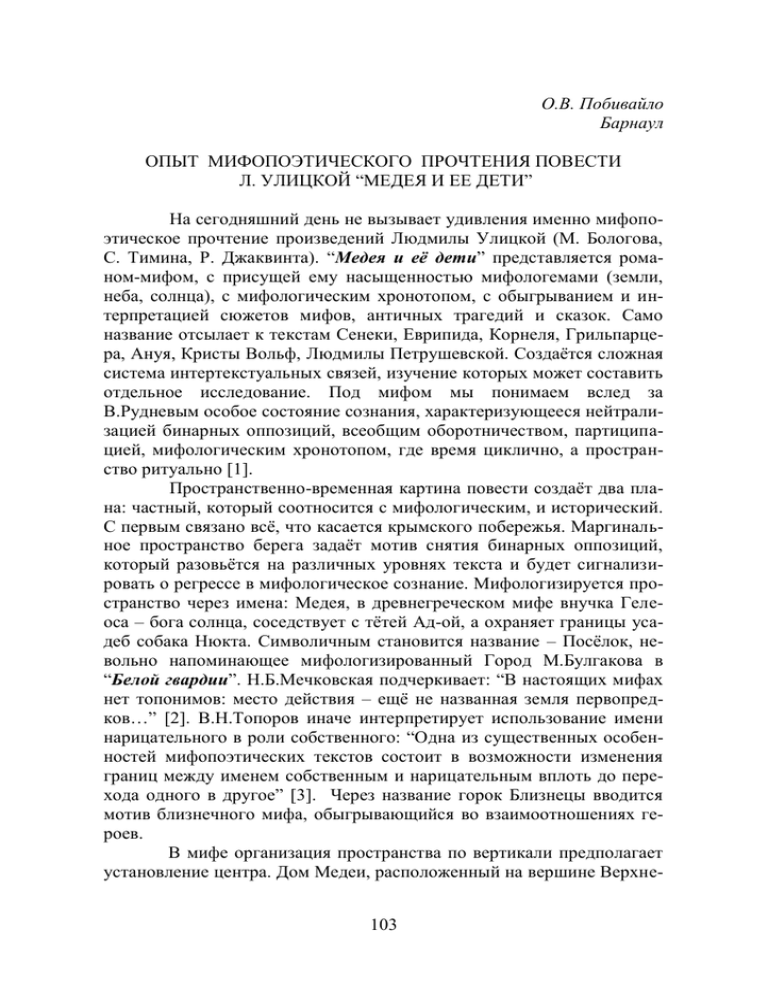
О.В. Побивайло Барнаул ОПЫТ МИФОПОЭТИЧЕСКОГО ПРОЧТЕНИЯ ПОВЕСТИ Л. УЛИЦКОЙ “МЕДЕЯ И ЕЕ ДЕТИ” На сегодняшний день не вызывает удивления именно мифопоэтическое прочтение произведений Людмилы Улицкой (М. Бологова, С. Тимина, Р. Джаквинта). “Медея и еѐ дети” представляется романом-мифом, с присущей ему насыщенностью мифологемами (земли, неба, солнца), с мифологическим хронотопом, с обыгрыванием и интерпретацией сюжетов мифов, античных трагедий и сказок. Само название отсылает к текстам Сенеки, Еврипида, Корнеля, Грильпарцера, Ануя, Кристы Вольф, Людмилы Петрушевской. Создаѐтся сложная система интертекстуальных связей, изучение которых может составить отдельное исследование. Под мифом мы понимаем вслед за В.Рудневым особое состояние сознания, характеризующееся нейтрализацией бинарных оппозиций, всеобщим оборотничеством, партиципацией, мифологическим хронотопом, где время циклично, а пространство ритуально [1]. Пространственно-временная картина повести создаѐт два плана: частный, который соотносится с мифологическим, и исторический. С первым связано всѐ, что касается крымского побережья. Маргинальное пространство берега задаѐт мотив снятия бинарных оппозиций, который разовьѐтся на различных уровнях текста и будет сигнализировать о регрессе в мифологическое сознание. Мифологизируется пространство через имена: Медея, в древнегреческом мифе внучка Гелеоса – бога солнца, соседствует с тѐтей Ад-ой, а охраняет границы усадеб собака Нюкта. Символичным становится название – Посѐлок, невольно напоминающее мифологизированный Город М.Булгакова в “Белой гвардии”. Н.Б.Мечковская подчеркивает: “В настоящих мифах нет топонимов: место действия – ещѐ не названная земля первопредков…” [2]. В.Н.Топоров иначе интерпретирует использование имени нарицательного в роли собственного: “Одна из существенных особенностей мифопоэтических текстов состоит в возможности изменения границ между именем собственным и нарицательным вплоть до перехода одного в другое” [3]. Через название горок Близнецы вводится мотив близнечного мифа, обыгрывающийся во взаимоотношениях героев. В мифе организация пространства по вертикали предполагает установление центра. Дом Медеи, расположенный на вершине Верхне103 го Посѐлка, – центр семейного паломничества всех Синопли, которые не забывают одаривать дом, приносить ему символические жертвы. Дом так же, как и его хозяйка слит с окружающей природой, он словно рождѐн самой матерью-землѐй: “…в паху стоял дом…” [4]. Расположение оказывается сакрализованным местом рождения дома, семьи, мира. Однако центр здесь не один: “… А место, на котором она стояла, показалось ей вдруг тем неподвижным центром, вокруг которого и происходит движение миров, звѐзд, облаков и овечьих отар” (39), – так описывает Л.Улицкая состояние Норы в момент, когда та видит Георгия. “Пуп земли”, – говорит поражѐнный Самуил, испытывая чувство “совершенного покоя” рядом с Медеей на поляне между Верхним и Нижним Посѐлком. “Но Медея знала в здешних краях несколько таких “пупов”” (61). На одном из таких пупов Маша впервые сближается с Бутоновым. Очевидно, что пространство центра влияет на состояние и поведение героев. “Как и в космологической схеме мифопоэтических традиций, пространство и время не просто рамка (или пассивный фон), внутри которой развѐртывается действие; они активны (и, следовательно, определяют поведение героя)”, – пишет В.Н.Топоров в исследовании по поэтике Достоевского [4]. Неслучайно, что на самом верху усадьбы Медеи возвышается туалет, из которого открывается, по мнению племянников, “лучший на свете вид”. Подобная связь пространственного верха и телесного низа характерна для мифологического дискурса. Цикличным делает время мотив возвращения: “сезонные наплывы родни”; желание Георгия, похожего, по мнению Норы, на Одиссея, построить здесь дом; идея возвращения татар. В кольцо замыкается совместная жизнь Медеи и Самуила, начавшись с еѐ болезни и закончившись его. М.Бологова так определяет один из принципов поэтики произведений Л.Улицкой: “Любимая структура Л.Улицкой – кольцевая, закольцовывается всѐ что можно и на всех уровнях – композиции, мотивики, читательского восприятия” [6]. Исторический план представлен широко: Москва, Коктебель, Тбилиси, Ташкент, Литва, Сибирь, Средняя Азия и т.д. Большинство этих топонимов упоминается вскользь как места проживания многочисленных родственников Медеи. Часто встречаются конкретные даты (11 апреля 76 года, 10 октября 1916), но время в романе течѐт не линеарно: повествование обращается то к 20-м годам – юности Медеи, то к 70-м – основному действию романа, то к 50-м. И все эти цифры об истории семьи, а не мира. О войнах XX века мы узнаѐм лишь потому, что братья и племянник погибли. “Всѐ это было для неѐ отдалѐнным гулом чужой жизни” (169) – так Улицкая описывает отношение Медеи к раз104 говорам о смерти Сталина. Хронотоп “всемирной истории” сужается до “сценической площадки”, которую Медея знала, “как содержимое собственного буфета”. Сравнением с медеиным буфетом подчѐркивается зависимость истории от человека, для которого не существует линеарного времени, напротив, оно раздроблено на отдельные предметы, уничтожено как процесс, соединяющий прошлое – настоящее – будущее. Метафорически исторический план втягивается в частный. Редукция истории неслучайна, как пишет М.Элиаде, мифологическое время внеисторично [7]. Видимая гармония крымского мироустройства неидеальна: “Земля тосковала без человеческой любви и медленно вымирала от бездарности хозяев” (19). Высыхают источники, вырубают ореховые деревья, разрушаются кладбища, умирают близкие. Но к смерти у автора и героев романа особое отношение. Супруги умирают вместе или почти в один день, как в житиях святых (Сергей и Таня, Георгий и Матильда). Смерть приходит мгновенно, даже незаметно, не нарушая покоя и красоты мира (Самуил). Тело не обнаруживает признаков тления (Самуил) или исчезает в море (Георгий). Умершие посещают родных, причѐм их внешний облик говорит о том, что и после смерти они живут и изменяются. “Вдовство Медеи длилось уже значительно дольше брака, а отношения с покойным мужем были по-прежнему прекрасными и даже с годами улучшались” (47). Само циклическое повествование нивелирует трагизм смерти. Прослеживается снятие таких фундаментальных бинарных оппозиций как жизнь-смерть, реальноеиллюзорное, что является характерной чертой мифологического сознания. Поддержание гармонии в мире требует выполнения ритуальных действий, которые совершают герои-созидатели (демиурги), их близнецы или трикстеры. Герои-демиурги – это Георгий, Гвидас, Харлампий, унаследовавшие семейную черту Синопли – страсть к строительству. Стремление к созиданию, творчеству проявляется в целой плеяде героевврачей (Самуил, Медея, Алик, Бутонов) и художников (Нора, модельер Ника, поэт Маша). Медея, которая стремилась “всѐ привести к порядку, к системе, от чайных ложек на столе до облаков на небе” (12), похожа на античную скульптуру с иконописным лицом. Подобно первочеловеку, она “размашисто и крупно ходила по окрестной земле”, “давно уже была частью пейзажа” (12), знала крымскую землю и та, как сестра, была к ней щедра. У многих героев в романе оказывается герой-близнец, а иногда не один. Близнечный миф обыгрывается в двух вариантах: миф о 105 близнецах-союзниках и близнецах-соперниках. Близнецы-союзники – это, как правило, мать и дочь (Нора и Таня, Сандра и Ника), тѐтя и племянница (Медея и Маша) или муж и жена (Маша и Алик). Роднит близнецов-союзников внешнее сходство (Нора и Таня), характер и образ жизни (легкомыслие и жизнелюбие Сандры и Ники), духовная или генетическая близость. Маша и Алик, похожие на “супруговпопугайчиков”, близки почти инцестуально, так что для выражения их родства Маша подобрала немецкое слово “Geschwister” – “брат и сестра”. Близнецы-соперники также обнаруживают внешние близость и родство: сѐстры (Медея и Сандра), подруги (Медея и Елена), тѐтя и племянница (Ника и Маша). При этом они могут быть полными противоположностями: лѐгкие пятѐрки Елены – “мозолистые”, “трудовые” у Медеи; плодовитость, легкомыслие, ветреность Сандры – бездетность, серьѐзность, верность Медеи; “одна смеѐтся” – “другая плачет”, Ника “была первой” – Маша “как переводная картинка”. Отношения этих героинь строятся на подражании, соперничестве в учѐбе или любви. Одна из соперниц оказывается менее успешной, так называемым трикстером. “В поздних мифах это первобытный плут, он противостоит, неудачно подражает и мешает культурному герою” [8]. Маша в поэзии ещѐ не нашла своего голоса, и потому еѐ “влекло в разные стороны – то к Розанову, то к Хармсу” (204). Стихи еѐ были “как будто вырванные из разных авторов”. В любви она словно следовала романам Ники, мысленно сравнивая ситуации, ища еѐ совета, вступая в близость с еѐ любовником. “Что касается Маши, она без колебаний предпочла бы Нику самой себе. Ника же о подобных вещах не задумывалась, ей-то в себе всего хватало” (227). Согласно мифологической традиции фигура трикстера амбивалентна, так что в некоторых ситуациях сложно понять, как распределяются роли между близнецами. Плодовитая и многомужняя Сандра “похищает” возможного ребѐнка Медеи, увлекая еѐ мужа Самуила. Бездетная Медея оказывается окружѐнной многочисленными племянниками. Маша, заподозренная в воровстве стихотворений, всѐ же талантливый поэт. Используя приѐм оборачивания ролей, автор нейтрализует заданную оппозицию демиург/трикстер и возвращает мир к мифологической целостности, где близнецы воспринимались как ипостаси одного человека. Миф об андрогине является вариантом близнечного мифа в его варианте о близнецах-союзниках. Мотив андрогинии развивается в романе в двух вариантах: слияния и травестии. Слияние происходит на физиологическом уровне в форме полового акта. Травестия реализует106 ся в переодевании, изменении внешнего облика, характера, сознания. О женщинах говорится: “мужественный человек”, “стриженная под мальчика”, “обе стали носить мужские рубашки и джинсы”, “с мужским лицом”, “мужская психология”. Соответственно о мужчинах: “болтливый, как девочка”, “с длинными волосами, по-женски схваченными резинкой”, “глаза… совершенно женские”. Через обыгрывание андрогинного мифа автор снимает другую культурную оппозицию – мужское/женское. Нейтрализация оппозиций душа/тело, я (личность)/мир осуществляется через сюжетную линию Маша-Бутонов и через обыгрывание античной сказки Апулея об Амуре и Психее. Апулей создал поэтическую сказку, в которой повествуется о “странствиях человеческой души, жаждущей слиться с любовью” (Apul. Met. IV28-VI24). С помощью Зефира Амур получил в жѐны царскую дочь Психею. Однако Психея нарушила запрет никогда не видеть лица своего загадочного супруга. Ночью, сгорая от любопытства, она зажигает светильник и восхищѐнно смотрит на юного бога, не замечая горячей капли масла, упавшей на нежную кожу Амура. Амур исчезает, и Психея должна вернуть его себе, пройдя множество испытаний. Преодолев их и даже спустившись в ад за живой водой, Психея после мучительных страданий вновь обретает Амура…” [9]. Бутонов, напоминающий бога любви, создан в духе античной сказки. Есть здесь и физическая красота, и культ тела, и метание ножа в “сердцевину цели”, и любовь женщин. В сцене появления Бутонова трижды употребляется глагол “летел”. Маша-Психея, хрупкая, одухотворѐнная, умная, с первого дня влюблѐнности страдает. Даже ожѐг, предназначенный Амуру, получает она. Ситуация с живой водой из ада прочитывается во сне Маши и в словах: “Я к тѐте Аде зайду…” (258). Но финалы, на первый взгляд, абсолютно разные. Маша пытается расстаться с Бутоновым, затем сходит с ума и совершает самоубийство. К такому поведению еѐ подталкивает инцестуальная измена Бутонова с Никой, которую по совету Ники Маша “не может принять как факт”. Измена для неѐ трагедия. Точно так же Медея чувствовала в измене мужа с сестрой какое-то тайное преступление, к которому Сандрочка отнеслась со свойственным ей легкомыслием. Но обречѐнность любви Маши и Бутонова видна с начала их романа. Его прикосновение вызывает у неѐ аллергическую реакцию. С первых дней Маша ощущает, что еѐ правильный семейный мир рушится. Подчѐркивается их несовместимость, противоположность: “умница” и “придурок”, “пильщик”. Она пишет и читает ему стихи – он обходится простыми словами: “Поди сюда… подвинься… 107 подожди… дай закурить” (194). Ситуация полного непонимания видна в утреннем разговоре: - За что тебе сегодня благодарен – что ты, пока меня понос одолевал, хоть стихов мне не читала… Маша посмотрела на него с удивлением: - Валера, а я читала… Я тебе “Поэму без героя” от начала до конца прочла… (224). 108 По сути антитетичны их мироощущения. Мифологическое сознание Бутонова целостно, он самодостаточен в своей телесности и не задумывается над темами верности и измены. Маша же насквозь противоречива, она в постоянной рефлексии, не может ни смириться с жизнью, ни принять еѐ. Еѐ отношение к миру немифологическое: устанавливая оппозиции (душа/тело, умная/глупый, верность/измена), она оказывается неспособной к их медиации. Таким же бинарным мышлением наделена Медея, для неѐ “нет таких обстоятельств, которые сделали бы зло добром” (179). У сестры Сандры, напротив, “всѐ в прекрасной простоте соединялось”. Любовные треугольники отражаются, близнецы повторяют друг друга. Однако Медея оказывается способной пережить измену мужа и предательство сестры. Ей удаѐтся преодолеть внутренний разлад, “душевную темноту” благодаря своей религиозности. Мужа она, повидимому, простила, а сестру? Наверное, только после искупительной, жертвенной смерти Маши. Принять такую жертву, пусть и неосознанно, может только сознание, для которого границы добра и зла стали не такими чѐткими. А вот путь изменения сознания можно проследить на судьбе Маши. Всѐ начинается с размывания границ реальностей, когда Маше кажется, будто Бутонов – актѐр, а всѐ происходящее с ними кино. Стихи раскрывают свершающийся в еѐ голове переворот: “Всѐ отменю, что можно отменить, - себя, тебя, беспечность и заботу, трудов любовных пьяную охоту и беспробудность трезвого житья…” (187). В следующем стихотворении Маша уравнивает дух и тело: Любовь – работа духа, всѐ ж тела в работе этой не без соучастья. Влагаешь руку в руку – что за счастье! Для градусов духовного тепла и жара белого телесной страсти – одна шкала (210). Маша почти достигает гармоничного состояния, когда в следующем стихотворении пишет о единении с возлюбленным: Сквозь “вы” на “ты” – и далее в пролѐт несуществующих местоимений, своею речью твой наполню рот, твоим усильям послужу мишенью, и в глубине телесной темноты, в огне еѐ мгновенного пробоя 109 всѐ рушится, как паводком мосты, границы нет меж мною и тобою…(219). Возникающий образ паводка трансформируется в последующих стихотворениях в “беспамятные воды”, которые вызывают ассоциации с “бессознательным” Юнга. Паводок (стихийное, природное, бессознательное начало) рушит мосты (упорядоченное, культурное). Метафору разрушение моста можно прочитывать как снятие оппозиций. Изменение сознания сопровождается избавлением от бинарной грамматики языка. Как это свойственно мифу, инициация в иное сознание сопряжена с гибелью и возрождением, поэтому возникают образы мишени, телесной темноты. Но открывшаяся тайна измены рушит ещѐ не окрепшие связи. Теперь соединение духа и тела кажется Маше химерическим: Играй, кентавр, играй, химера двух пород, гори, огонь, по линии раздела бессмертной человеческой души и конского невзнузданного тела. Наследственный удел – искусство перевоза, два берега лежат, забывши о родстве, а ты опять в поток, в беспамятные воды, в которых я никто – ни миру, ни тебе (223). Появляется новая антитеза я-мир, которую преодолеть Маше сложнее. Она поэт, личность, и не может быть, как все, не может смешаться с “потоком”. А в “беспамятных водах” – в мифе – нет личного. Таким образом, самоубийство Маши прочитывается как метафорическое преодоление границы, отделяющей еѐ от мира. Отметим, что реального переезда за границу, который предлагает Алик, Маша не хочет. Видимо, для еѐ сознания русского поэта эмиграция – это синоним смерти. Самоубийству предшествует погружение в безумие, которое Машей переживается как откровение и счастье. Новое сознание Маши, легко отказывается от “реального” Бутонова и создаѐт не менее реального для неѐ близнеца-Амура. Ангел во сне учит летать, фехтовать, знает точечную бутоновскую науку. Учѐба Маши напоминает древний ритуал инициации, который проходили подростки, чтобы приобщиться к тайным знаниям. Новые знания связаны с постижением нового языка. Словесно-мысленная борьба, которой учится Маша, – это развѐрнутая метафора регресса в мифологическое сознание. Задаѐтся бинарная оппозиция: “И тут же, немедленно, появились два противника, один справа выше, второй слева и чуть ниже” (233). Таким образом, позиция Маши оказывается посредине. Враги отступают, она победи110 ла. Символично, что Маша именно “улетает” из жизни. Когда-то слияние с Бутоновым переживалось ею как полѐт, в котором растворялось тело и не было границ между внешним и внутренним. Одновременно полѐт – это уход в детство и спасение от безумия вокруг. Перемены произошли не только с Машей, но и с Бутоновым. Он, довольствовавшийся до встречи с ней радостями только плотской любви, вдруг открывает для себя иную любовь – к сыну. Таким образом, гармоническое соединение телесного и духовного всѐ же происходит. Итак, миф определяет поэтику романа Л.Улицкой, моделируя композицию, хронотоп, сюжетные линии, мотивику, образную систему и художественные приѐмы автора. Примечания 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Руднев В.П. Энциклопедический словарь культуры XX века. М., 2001. С. 240-245. Мечковская Н.Б. Язык и религия: Пособие для студентов гуманитарных вузов. М., 1998. С. 90. Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического. М., 1995. С. 210. Улицкая Л.Е. Медея и еѐ дети// Лялин дом. М., 2001. С. 18. Далее текст Л. Улицкой цитируется по этому изданию. Номер страницы указывается в круглых скобках после цитаты. Топоров В.Н. Указ. соч. С. 201. Бологова М.А. Рождение лирики из духа пародии. Л. Улицкая “Весѐлые похороны” VS “Медея и еѐ дети”, “Сонечка” & “Казус Кукоцкого”// Пародия в русской литературе XX века. Барнаул, 2002. С. 136. Элиаде М. Миф о вечном возвращении. СПб., 1998. С. 124. Мечковская Н.Б. Указ. соч. С. 94. Мифологический словарь// Под ред. Е.М. Мелетинского. М., 1992. С. 453. 111