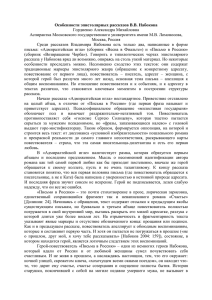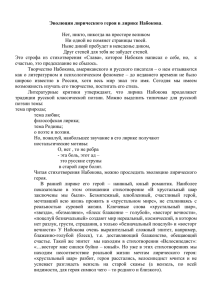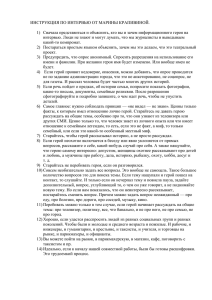Литература русской эмиграции "первой волны"
advertisement
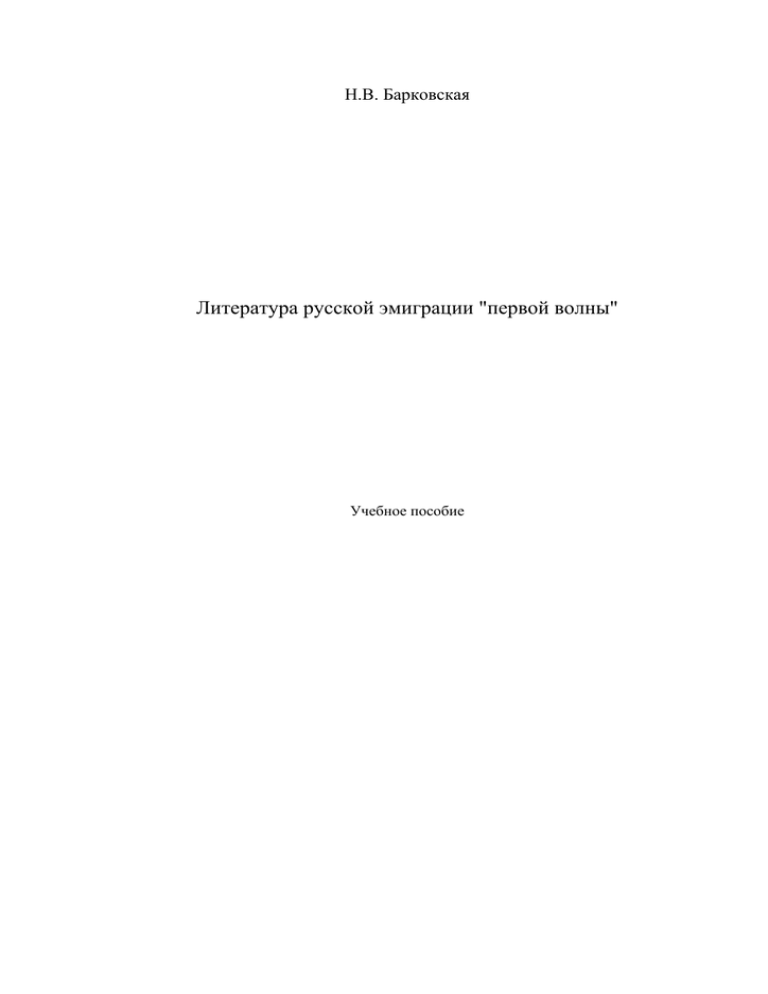
Н.В. Барковская Литература русской эмиграции "первой волны" Учебное пособие 2 Со второй половины 1970-х годов в нашей стране началось интенсивное изучение литературы русской эмиграции (до этого она была предметом внимания только западных славистов). Сегодня многие вопросы, вокруг которых так долго кипели дискуссии (одна или две русских литературы существовали после 1917 года? какая из них сильнее? является ли литература эмиграции единственной наследницей русской классики? возможно ли слияние двух ветвей русской словесности?), можно считать уже решенными. Наверное, прав был А.М. Ремизов, утверждавший в книге "Огонь вещей": "Русская литература, как и литература всякого народа, едина… И какой вздор, когда после революции стали говорить о какой-то зарубежной и не зарубежной литературе; там, где стихия русского слова, не может быть речи ни о каких рубежах, ведь стихия это мир человеческой души, русского человека". Все это не просто академические вопросы; напомним, что Варлам Шаламов получил свой третий, десятилетний срок заключения в 1943 г. за то, что назвал Бунина русским классиком. Русская литература XX столетия едина, произведения эмигрировавших писателей закономерно вернулись к русскому читателю. Огромный интерес к ним показывает значительность духовного содержания и художественное совершенство этих произведений. В истории литературы русского зарубежья еще очень много "белых пятен". Мы мало знаем о судьбах отдельных писателей, о культурной ситуации в целом – ведь эмиграция была очень разнородной, и в географическом, и в политическом, и в художественном отношении. Даже об авторстве некоторых произведений возникают споры (как, например, Набоков или Авдеев написал "Роман с кокаином"). Очень интересны контактные и типологические связи литературы зарубежья с советской, а также европейской и американской литературой. Литература русского зарубежья – благодатное поле для исследования, в том числе и в "малых" научных жанрах: школьный реферат, сообщение на факультативе, доклад на конференции начинающих филологов. Цель данного пособия заключается не в изложении законченной историколитературной концепции, а в том, чтобы дать первые ориентиры для тех, чье знакомство с литературой эмиграции только начинается. Каков принцип организации материала в пособии? Он носит не исторический, а логический характер. В литературе русского зарубежья можно выделить две большие группы писателей. К первой относятся те авторы 3 (Алданов, Осоргин, Шмелев, Ремизов, Зайцев), которые ищут опору для человека, выброшенного из "типических обстоятельств", из привычной жизненной колеи, вне его субъективности. Эти писатели ведут свой генезис от реализма, утверждающего примат жизни над искусством. Ко второй группе можно отнести писателей, которые ищут опору в самом человеке, в его свободной и независимой индивидуальности (Набоков, Ходасевич, Г. Иванов). Обнаруживая родство с романтизмом (двоемирие, столкновение человека с роком и т.д.), эти писатели ставят искусство как свободное творчество "второй реальности" выше действительности. Человек в изображении писателей первой группы воплощает характерные черты русского характера, души и духа; национальная принадлежность героя в произведениях писателей второй группы менее существенна. Художественный мир первой группы писателей полнокровен, запечатлен в цвете, звуке, запахе, дорогих, памятных мелочах; художественный сновидению. мир вторых По-разному нередко решается иллюзорен, писателями подобен декорации, проблема историзма ("быстротекущего времени", политической злобы дня). В концепции человека у писателей первой группы социальное покрывается метафизическим, конкретноисторическое – субстанциональным; социальному злу противопоставляются этические и религиозные ценности. В концепции человека у писателей второй группы социально-историческое побеждается персональным; творчество для героев этих писателей – единственный способ жить, не теряя личного достоинства, артистизм составляет суть жизненной позиции, а культура, искусство – единственный настоящий дом, прибежище для одинокой души. Оба типа представлений о человеке устремлены к раскрытию богатого духовного мира и имеют большое нравственное значение. В отдельный раздел вынесен разговор о поэзии русского зарубежья. Писатели, чье творчество изучается на уроках монографически (как, например, Бунин или Цветаева), в настоящем пособии не рассматриваются. Если профиль литературы, то класса возможно не предполагает проведение одного углубленного урока, изучения посвященного нравственной (а не собственно эстетической) проблематике. Предложим один такой вариант. Судьбы очень многих изгнанников отличались трагизмом: ностальгия, ощущение бездомности и никчемности, отчаяние. Но были и люди, не 4 сломленные испытаниями, сохранившие достоинство, бодрость духа, надежду. Что давало им силу? Ответить на этот вопрос поможет знакомство с судьбами, похожими на легенду, с судьбами Е.Ю. Кузьминой-Караваевой, Н. Ульянова и Н. Оцупа. I. Слово учителя о личности и жизненном подвиге Елизаветы Юрьевны Кузьминой-Караваевой. Юность (стих. А. Блока "Когда вы стоите на моем пути...", 1908); эмиграция (1920); принятие монашества (1932) и решение остаться в миру, помогать бедствующим русским эмигрантам (в устроенном ею приюте скончался в 1942 году К. Бальмонт). Участие в антифашистском движении (Résistance), арест в 1943 г. и гибель в концлагере Равенсбрюк. Выразительное чтение учащимися одного-двух стихотворений матери Марии. Это религиозная поэзия, но обращенная к людям, исполненная сострадания и деятельной любви. И каждую косточку ломит, И каждая мышца болит. О Боже, в земном твоем доме Даже и камень горит. Пронзила великая жалость Мою истомленную плоть. Все мы – ничтожность и малость Пред славой Твоею, Господь. Мне голос ответил: "Трущобы – Людского безумья печать – Великой любовью попробуй До славы небесной поднять. 1937 II. Рассказ ученика, получившего опережающее задание, о жизни историка и писателя Н. Ульянова. Николай Иванович Ульянов родился в 1904 г. в Петербурге, после окончания историко-филологического факультета был оставлен при университете для подготовки к научной деятельности. В начала 1930-х г.г. преподавал в Архангельском пединституте, потом работал старшим научным сотрудником в историко- 5 археологической комиссии при Академии наук. В 1936 г. был арестован, срок отбывал на Соловках и в Норильске. Перед самой войной был освобожден и работал ломовым извозчиком в Ульяновске. Осенью 1941 г., во время рытья окопов под Вязьмой, попал в немецкий плен. Сумел бежать из концлагеря и, пройдя 600 километров по немецким тылам, добрался до г. Пушкина под Ленинградом, где отыскал свою жену. Осенью 1943 г. они были отправлены на работы в Германию, в лагерь под Мюнхеном. После окончания войны Н. Ульянов, понимая невозможность возвращения в СССР, эмигрирует в Марокко, где работает сварщиком на заводе. Все эти трудные годы он продолжал писать или хотя бы обдумывать свои произведения. В 1953 г. Ульяновы уезжают в Канаду, а затем в США. Здесь в течение семнадцати лет Николай Иванович преподавал русскую историю и литературу в Нью-Хэвенском университете, до самой смерти в 1985 г. Затем можно провести обсуждение очень небольшого по объему рассказа Н. Ульянова "Первого призыва", опубликованного в журнале "Москва" (1993, №9). Ксерокопии текста рассказа следует за неделю раздать ученикам. Предлагаем вопросы для обсуждения: 1. Почему Прутов пошел работать в ЧК? За какие качества его там ценили? 2. Прутов – человек исключительный или типичный? Как характеризует его портрет, манера держаться, речь, а также его литературные пристрастия? 3. Когда, в каких случаях ненависть к истязуемым жертвам перерождалась в любовь к ним? Добр или жесток Прутов? 4. Какое отношение к себе вызывает Прутов у героев рассказа? у авторарассказчика? у читателя? Если мать Мария любила людей самоотверженно, что Прутов сосредоточен только на самом себе, другие люди для него только "клавиши", нажимая на которые, он извлекает жуткую "музыку". Прутов жалок, потому что полностью совпал со своей жестокой, исковерканной эпохой, ему нечего противопоставить ей, смерть – единственный выход для него. III. Сообщение ученика о судьбе Н. Оцупа. Творчество Оцупа, одного из поэтов "парижской ноты", показывает, как пустота существования эмигранта перевоплощается в познание ценности жизни конкретного, самого обыкновенного человека; человек остается последней единицей, о которую разбивается смерть. 6 Николай Оцуп (1894-1958) родился в Царском Селе, учился в той же гимназии, которую окончил Гумилев и где был когда-то директором И.Ф. Анненский (отсюда – любовь к "пушкинской", классической культуре и преклонение перед Анненским и Гумилевым). Заложив за 32 рубля золотую медаль, отправился после окончания гимназии учиться в Сорбонну. Во время Первой мировой войны служил в армии. Входил с 1918 г. во второй "Цех поэтов". В 1922 г. эмигрировал. Элегантный, умный, энергичный человек, Н. Оцуп сумел организовать издание журнала "Числа", вокруг которого объединились поэты "парижской ноты". В начале второй мировой войны был арестован за антифашистские убеждения, но сумел бежать из концлагеря и сражался до конца войны в рядах итальянских партизан. После войны защитил в Сорбонне первую в мире диссертацию по творчеству Н. Гумилева, затем преподавал. Умер в 1958 г., похоронен на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, рядом со многими из русских эмигрантов. В стихах Н. Оцупа звучат элегические мотивы убывания жизни, неизбежности смерти, одиночества ("Возвращается ветер на круги своя..."). Но неизменно согревает его чувство любви, любви рыцарской, благоговейной. От жалости ко мне твоей И нежности почти сквозь слезы И оттого, что ты прямей, Чем длинный стебель южной розы, И потому, что с детских лет Ты любишь музыку и свет, – С тобою, ангел нелюдимый, Я сам преображаюсь весь, Как будто и в помине здесь – Обиды нет неизгладимой, Болезни нет неизлечимой, Нет гибели неотвратимой. 7 Образ возлюбленной становится символом силы и стойкости русской женщины и России в целом: в сиянии ее глаз – отблеск сияния Божьей Матери. Выразительное чтение и комментирование стихотворения "Буря мглою". (Какие произведения, каких писателей и почему упоминаются в стихотворении? В чем смысл противопоставления литературных героев – мужчин и женщин? О каком свете, сдерживающем разгул бесовских сил, говорится в финале стихотворения?). Судьбы этих трех людей показывают, что выстоять в любых катастрофах помогают вера, любовь и культура, настоящая интеллигентность. 8 "Чем талантливее человек, тем труднее ему без России..." (А. Куприн). Федор Августович Степун в эссе "Мысли о России" писал: "Каждому человеку свойственна жажда гармонии. Чувство гармонии есть чувство подчиненности окружающего тебя мира закону внутреннего бытия."1 Эмигранты – это люди, утратившие свой привычный мир, переставшие свободно распоряжаться своей судьбой, растерявшиеся, потерявшие почву под ногами. А.И. Куприн в одном из писем 1922 г., адресованных литератору В.Е. Гущину, оказавшемуся в Таллине, так описывает свое состояние: "Видели Вы когда-нибудь, как лошадь поднимают на пароход, на конце парового крана. Лишенная земли, она висит и плывет в воздухе, бессильная, сразу потерявшая всю красоту, со сведенными ногами, с опущенной тонкой головой... Это я". Сравнительно немногие эмигрировали в первый два года после Октябрьской революции. Массовая эвакуация началась в октябре 1920 г., когда по сигналу правителя Юга России, генерала Врангеля крымский берег покинули 126 судов, в основном с военными и их семьями. Историки метафорически определяют основные Галлипополи этапы (Турция), эмигрантского Константинополь, о. пути: военные Лемнос лагеря (Греция), в затем "европейское шатание" по славянским странам – Болгария, Югославия, Польша, Чехия, "берлинское сидение", парижский "финал" с "эпилогом" в Нью-Йорке (после начала Второй мировой войны). Другие пути в эмиграцию лежали через Финляндию и Шанхай. Летом 1922 г. в административном порядке, по инициативе Льва Троцкого, из России была выслана большая группа интеллигенции (т.н. "философский пароход"). Среди высланных были: ректор Московского университета проф. Новиков (зоолог), ректор Петроградского университета проф. Карсавин (философ), математики во главе с деканом математического факультета Московского университета проф. Стратоновым, экономисты – проф. Зворыкин, Бруцкус, Лодыженский, Прокопович; кооператоры Изюмов, Кудрявцев; историки, социологи (П. Сорокин), философы Бердяев, Франк, Вышеславцев, Ильин, Трубецкой, С. Булгаков; литераторы М. Осоргин, Ю. 9 Айхенвальд, Ф. Степун. Многие из них были членами Всероссийского комитета помощи голодающим – организации не политической, но все же внеправительственной. Это был первый шаг на пути к сталинской политике уничтожения интеллигенции. После 1929 г., когда "железный занавес" между Россией и Европой опустился, приток эмигрантов почти иссяк. К 1926 году из России выехали 1 млн. 160 тыс. человек. Эмиграция обеднила культурную жизнь в России, но способствовала подъему искусства и философии стран Западной Европы. До 1924 г. "столицей" русского зарубежья был Берлин, ввиду географической близости и сравнительной дешевизны проживания. В Берлине издавались русские газеты и журналы ("Руль", "Голос России", "Дни", "Время"), был свой Дом искусств, Клуб писателей, работали русские книжные магазины и кафе. Потом центр переместился в Париж, особенно когда фашизм стал набирать силу. Здесь осела основная масса русских. Выходили две крупные ежедневные газеты: "Последние новости" ("левая") и "Возрождение" ("правой" политической ориентации), литературно-критические журналы ("Современные записки", "Иллюстрированная Россия", "Числа"). Действовали русские лицеи, гимназии, школы, уровень преподавания в которых был очень высоким, т.к. даже в начальных классах работали учителя бывших лучших столичных гимназий. Работали Коммерческий и Богословский институты, русская консерватория и балетная школа, Военная академия, Торгово-промышленный союз, Союз писателей, Религиозно-философская академия. Существовали русские клубы и ресторанчики, больницы, парикмахерские, даже похоронное бюро. Русские эмигранты не ассимилировались с коренным населением, вели обособленный образ жизни. На "воскресеньях" в доме Д. Мережковского и З. Гиппиус встречались прозаики и поэты "серебряного века". В 1933 году И.А. Бунину была присуждена Нобелевская премия, что явилось фактом признания и триумфа русской культуры в эмиграции. Однако жизнь большинства эмигрантов, отнюдь не имевших "бриллиантов в подкладке", складывалась очень трудно. В рассказе Тэффи (Надежды Александровны Лохвицкой, бывшей в России ведущим сотрудником 1 Литература русского зарубежья: Антология. Т. I. Кн. 1. – М., 1990. С. 300. 10 в журнале "Сатирикон"), иронически названном "Чудесная жизнь", показан тип "великолепно устроившегося и довольного своей судьбой беженца". Герой рассказа хвастается, как он хорошо устроился: "Прежде всего надо найти хорошую комнату. У меня комната чудесная. Конечно, не в центре, но тем лучше, потому что на окраине воздух всегда чище. Ну, конечно, седьмой этаж, так что очень светло. Ну и сравнительно очень-очень недорого – три франка. Но ведь у меня и стул, и кровать, и даже столик. Комната без отопления, но опятьтаки надо уметь устраиваться: я открываю дверь на лестницу, и если сяду перед дверью, то даже чувствую сравнительно теплый воздух. Все это надо уметь". Как не вспомнить Макара Девушкина из романа Ф. Достоевского "Бедные люди"! (ср.: Г. Иванов: "Бедные люди – пример тавтологии, / Кем это сказано? Может быть, мной"). Многие из эмигрантов продолжили линию "маленького человека" и "лишних людей", перекочевавшую из XIX в век XX. Герой Тэффи считает, что пальто человеку совсем не нужно, т.к. на улице человек движется, и ему тепло. Он и питается рационально: "А если человек умеет, так он делает так: покупает два кубика бульона – один куриный и один говяжий. Говяжий вдвое дешевле, но очень уж соленый, а куриный совсем без соли, так что изволь к нему еще соли покупать. Ну-с, а умеючи вы кладете в кастрюлю по полкубика того и другого. И вот вы сыты. Но если вам нужно усилить питание, то вы можете еще купить кровяной колбасы, она сравнительно дешева – три франка кишка. Надолго хватает, если по маленькому кусочку класть в этот самый бульон. Много даже и нельзя – вызывает некоторую тошноту. – А вы чай пьете? – Ах, нет, я против чая. Чай действует плохо на нервы..." Только одно огорчает этого бодрого человека: предстоят очень крупные траты – нужно купить шерстяные носки. Александр Черный (Александр Михайлович Гликберг, известный до революции как Саша Черный) написал поэму "Кому в эмиграции жить хорошо", в которой уживаются пародия и лирическая сатира: Однажды в мглу осеннюю, Когда в Париже вывески Грохочут на ветру, Когда жаровни круглые На перекрестках сумрачных 11 Чадят-дымят каштанами, Алея сквозь глазки, – В кавказском ресторанчике "Царь-Пушка" по прозванию Сошлись за круглым столиком Чернильные закройщики – Три журналиста старые – Козлов, Попов и Львов... И после пятой рюмочки Рассейско-рижской водочки Вдруг выплыл из угла, – Из-за карниза хмурого, Из-под корявой вешалки, Из сумеречной мглы – На новый лад построенный Взъерошенный, непрошенный Некрасовский вопрос: Кому-де в эмиграции В цыганской пестрой нации Живется хорошо? Итак, три журналиста пытаются отыскать "бодрого и цепкого", пусть и не очень счастливого, земляка. Все встреченные ими люди сначала хвастаются своим умением жить, а потом, в задушевной беседе, изливают в жалобах свое несчастье. Это и Варвара Теософченко – знаменитая гадалки, зарабатывающая на хлеб вязанием жилетов; это и Агафья Тимофеевна, разводящая кур в крохотной усадебке под Парижем – вечно в хлопотах и заботах, а вся выручка на кур же и уходит; это и врач, работающий в Африке и только от попугая слышащий русские слова... Затем звучат голоса многих эмигрантов, мыкающих горе: рабочий с алюминиевых шахт в Провансе, ночной сторож под Ниццей, матрос у берегов Австралии, пролетарий с цементной фабрики в Гренобле и др. Почему автор использовал форму некрасовской поэмы? Во-первых, по аналогии: его герои – те же русские люди, с той же тяжелой долюшкой. Вовторых, по контрасту: в поэме А. Черного нет Гриши Добросклонова, нет пафосного финала "Пир – на весь мир"; в конец поэмы об эмигрантах – 12 развеянные иллюзии (журналист Львов получил письмо от берлинского издателя с чеком на солидную сумму, размечтался о новом пальто, но чек предназначался для передачи жене издателя). Кроме того, аллюзия на некрасовскую поэму косвенно ставит вопрос о доле вины демократовшестидесятников, звавших Русь к топору. Но не только тяжелое материальное положение угнетало покинувших Родину. Большинство из них испытывало "эмигрантский комплекс" – чувство отторгнутости от России, и, одновременно, неразрывной связи с ней. Жестокая ностальгия выливалась в проклятия большевикам (Бунин "Окаянные дни"), в горькое сознание гибели прежней России, как, например, в стихотворении ДонАминадо (А.П. Шполянский) "Родина-мать": Господи, сколько на свете народностей, Сколько различий и сколько несходностей, Даже не веришь ушам. Как обменяться и словом и мнением, Если ты хочешь со всем населением Поговорить по душам. Как, заразившись безумием массовым, Вслед за писателем, вслед за Некрасовым, Именно вслух не сказать: – Ты и узбекская, ты и кумыцкая, Ты и кигризская, ты и калмыцкая Общая родина-мать. Ты их рожала в снегу и на холоде, Ты их морила, держала их в голоде, Но не могла уморить. Очень уж были голубчики дюжие, Ездили ловко, имели оружие... Словом, о чем говорить! Выросли эти узбеки с бурятами, Вышли вполне социал-демократами, 13 Стали на правильный путь. Взяли учебник изящной словесности, И как давай наводить на окрестности Азербайджанскую жуть... Ходят башкиры и купно с монголами Учат грамматику, жарят глаголами, И от зари до зари В страшном порыве народного рвения То наизусть повторяют склонения, То ли долбят словари. Бодро идут караваны с верблюдами, Бойко туркмены стучат ундервудами, В такт им стараясь попасть. И, не теряя рабочего времени, Вслух переводят для тюркского племени Маркса последнюю часть. Как же, взирая на массы крестьянские, Нам удержать наши чувства гражданские, И со слезой не сказать: – Ты и Калинина, ты же и Ленина, Ты и Малинина, ты и Буренина Общая родина-мать! С поздним раскаянием писалось и о вине самой интеллигенции, как в стихотворении того же автора "Свершители": Расточали каждый час. Жили скверно и убого. И никто, никто из нас Никогда не верил в Бога. Ах, как было все равно Сердцу – в царствии потемок! 14 Пили красное вино И искали незнакомок. Возносились в облака, Пережевывали стили, Да про душу мужика Столько слов наворотили... Тягостным чувством эмигранта было чувство бездомности. Дело не только в отсутствии своего дома, квартиры (как у Б. Поплавского), но в утрате дома как особой, близкой, благорасположенной к человеку сферы материальной и духовной культуры. Даже разбогатев, В. Набоков жил в отелях, не покупал дом и говорил, что его Дом – в Петербурге. О такой метафизической бездомности писал Бунин: У птицы есть гнездо, у зверя есть нора... Как горько было сердцу молодому, Когда я уходил с отцовского двора, Сказать прости родному дому! У зверя есть нора, у птицы есть гнездо... Как бьется сердце, горестно и громко, Когда вхожу, крестясь, в чужой, наемный дом С своей уж ветхою котомкой! Писатели стремились хотя бы в памяти восстановить утерянное навсегда прошлое (ср. М. Цветаева "Рассвет на рельсах", ключевое стихотворение в цикле "После России"). Попытка оживить во плоти, т.е. в цвете, звуках, запахах, объемах прошлое ощущение полноты и радости жизни породила такое качество художественного мира у многих писателей, как феноменологизм, когда не просто вспоминается жизнь (предмет, ситуация), а воссоздается восприятие и переживание жизни. Память – выход из истории, преодоление времени, это – вечное настоящее. Такая "объективная субъективность", феноменологизм сближает даже сугубо реалистические произведения с экзистенциализмом. Обновление творческих принципов, новая поэтика, небывалая свобода 15 художественных поисков – это тот "позитив", который породило изгнание; эмигрантская литература – отнюдь не перепевы старого. Обратимся к конкретному примеру. Стремясь подняться над быстротекущим временем социально- политической истории, Бунин сосредоточивает свое внимание на глубинной экзистенции земного существования – прекрасной, трагической, загадочной ("жить на свете – значит совершать нечто самое непостижимое в мире"). Бунин отказывается от роли автора-демиурга, занимает позицию созерцателя, наблюдателя "настоящей жизни": "какими-то новыми глазами смотрю кругом, остро слышу, вижу, обоняю, – главное, чувствую что-то необыкновенно простое и в то же время необыкновенно сложное, то глубокое, чудесное, невыразимое, что есть в жизни и во мне самом и о чем никогда не пишут как следует в книгах". Писатель не стремится к занимательности сюжета, к литературной игре, его задача – выразить, сохранить в слове то "единственно настоящее" (чудо существования мира), что "есть истинно твое". Таким образом, добиваясь исключительно сильного эпического эффекта – иллюзии саморазвивающегося художественного мира, как бы равного объективной реальности, Бунин в то же время выражает глубоко субъективное ощущение жизни. Подобно скульптору, видящему заключенный в глыбе мрамора образ и лишь освобождающему его от всего лишнего, Бунин в своих миниатюрах подает крупным планом фрагмент реальной жизни, говорящей сама за себя. В миниатюре-мизансцене "Летний день" отсутствует авторское "я"; есть обстановочная ремарка: "Слобода, бесконечный летний день" и действие (диалог между "героями" – босым сапожником и его рыжей собачкой, которая упорно не хочет давать лапку). Действие ничтожно и статично, но полна экспрессии сама жанровая сценка: элементарность и скука жизни без событий, звенящий от зноя летний воздух, сонное марево полдня, одинаково томящие, окутывающие и сапожника (с его "раскрытой лохматой головой") и "рыжего кобелька". Занятые друг другом, оба персонажа абсолютно отчуждены (пес "не понимает", "не дает" лапку, хозяин осыпает его пощечинами). Раздражение испытывает не только человек, но и собака, которая "с отвращением моргает, отворачивается, кисло-сладко оскаляется". Остановленное, бесконечно длящееся мгновение ("и весь день", "и тотчас опять", "и опять пощечина, и 16 опять", бессмысленно повторяющийся приказ, однотипность действий) передает состояние ("переживание") самой жизни – ее томление и скуку. Но помимо такого "первичного" лиризма и по контрасту с ним в произведение вдруг, в самом конце, врывается "вторичный", собственно авторский лиризм. Для жанра миниатюры очень важно полиграфическое пространство страницы. Несколько строк, рисующих летний день, окружены пустым белым пространством листа, как момент бытия – бездной небытия. Дата написания, стоящая под текстом миниатюры – 1930 год – вдруг вносит щемящую ноту авторской грусти по поводу исчезнувшей – а ведь казавшейся такой неизбывной! – жизни. Этот русский летний полдень в слободе, этот сапожник, его рыжий кобелек – эти штрихи, запавшие в память, милы и дороги, как приметы прежней, еще не старой, России. Возникает тот эффект "противочувствования", о котором писал Л. Выготский, когда резко замыкаются в финале два противоположных эмоциональных потока. Е. Г. Эткинд отмечал характерную черту в литературе "серебряного века" – замену принципа историзма (заменяющего личность социальной детерминацией) принципом этернизма (ориентированного на метафизического человека). Лиризм в рассмотренной миниатюре Бунина рождается из парадоксального совмещения обоих этих принципов. Подобным образом построена и миниатюры "Первая любовь". Объективированное, безличное, внешне бесстрастное повествование оставляет впечатление очень личного, глубоко интимного восприятия мира. Название настраивает на новеллистический сюжет, однако ожидание не оправдывается, ибо большую часть произведения занимает пейзаж; появляющиеся только в последнем абзаце текста образы девочки и мальчика только завершают целостность картины летнего вечера. Лирическая атмосфера – прозрачное, немного грустное чувство прелести – присуща самому описанию леса. Внешняя социально-характерологическая функция пейзажа сведена до минимума: "Лето, имение в лесном западном краю". Гораздо важнее психологическая функция, но, в отличие от лирической прозы 1890-1900 г.г., не происходит метафорического одушевления природы. Бунин воспроизводит (в цвете, звуке, запахах) дух самой жизни, не нуждающейся в одухотворении ее человеком. Природная жизнь – первичная, движущая субстанция бытия: "Весь день проливной свежий дождь", "Но вот 17 часа в четыре, дождь светлее, реже", "А к закату совсем чисто, тишина, успокоение". Самое пространство слито с движением: просеки "уводят своей вечерней далью", в глубине бора "темно, тесно", а при выходе на поляну юная сосновая поросль "прелестного летнего тона, зелени нежной, болотной". Даже цвет приобретает временное измерение: "Уже синеет вечер". Пространство развертывается, длится, простирается: такой эффект текучести, проницаемости достигается при передаче пространства через звук ("Бор душист, сыр и гулок, чей-то дальний голос, чей-то протяжный зов или отклик дивно отдается в самых дальних чащах") и запах ("Ставят самовар в сенцах – бальзамический запах дыма стелется по всей усадьбе"). Бунин утверждает самоценность любого, самого обычного момента жизни. Не важно, что герои – "господа", "кадетик". Важно другое – ощущение юности, чистоты, прелести мира. Чувства юных героев неотделимы от влажного летнего вечера, могучего леса, доброй собаки, молодой сосновой поросли в брызгах и мелкой водяной пыли: "В тот вечер бежали впереди гулявших маленький кадетик и большая добрая собака, все время играя, обгоняя друг друга. А с гулявшими степенно, грациозно шла девочка-подросток с длинными руками и ногами, в клетчатом легком пальтишке, почему-то очень милом. И все усмехались – знали, отчего так неустанно бежит и притворно веселится кадетик, готовый отчаянно заплакать. Девочка тоже знала и была горда, довольна. Но глядела небрежно и брезгливо". Этот последний абзац текста отделяется от развернутого описания природы многоточием – паузой-вздохом, выдающим взгляд повествователя, уже немолодого человека, потерявшего родину, вспоминающего в 1930 году прежнюю, такую простую и такую прекрасную жизнь. Настоящее время глаголов, использованное при воссоздании летнего времени, сменяется в финале прошедшим временем. Изменение грамматического времени служит основой для возникновения психологического подтекста, выражающего переживания автора-повествователя – лиризм, полный горечи и сознания необратимости временного изменения от юности – к старости, от жизни – к смерти. Авторский лиризм, контрастно взаимодействующий с лиризмом описаний, подчеркивающий сущность жизни – одновременно прекрасной и ужасной, пребывающей вечно и всегда обреченной на исчезновение – не 18 "прикрепляется" Буниным к лирическому "я". Отсутствие единичного субъекта переживания делает носителем лиризма сам мир, каждого из людей. Утратив Россию, писатели-эмигранты единственным Домом ощущали русскую культуру и верили, что "гордые музы России" (В. Набоков) попрежнему сопутствуют им. В такой жизненной и художественной установке есть и рыцарская верность, и мужество, и удивительная чистота души. Вот как выразил это Георгий Иванов, один из наиболее трагичных и пессимистичных поэтов русского зарубежья: Это звон бубенцов издалека, Это тройки широкий разбег, Это черная музыка Блока На сияющий падает снег. ...За пределами жизни и мира, В пропастях ледяного эфира Все равно не расстанусь с тобой! И Россия, как белая лира, Над засыпанной снегом судьбой. Стихотворение Г. Иванова показывает такую особенность многих произведений, созданных в эмиграции, как "цитатность", т.е. текст содержит аллюзии (намеки), реминисценции (скрытые цитаты) на какие-либо широко известные произведения русской литературы. Так, строчка "Это звон бубенцов издалека" – неточная цитата из романса "Бубенцы" на слова А. Кусикова; "черная музыка Блока" навеяна стихотворениями А. Блока из цикла "Арфы и скрипки": "Страшный мир! Он для сердца тесен! / В нем – твоих поцелуев бред, / Темный морок цыганских песен, / Торопливый полет комет!". Дисгармония "цыганских скрипок", "вьюжная" страстность Снежной Маски, соотносясь с гоголевским символом Руси как птицы-тройки, приобретают космический масштаб, и тем величественнее образ России – "белой лиры", незыблемой святыни, поднятой на метафизическую высоту. 19 В стихотворении Николая Оцупа "цитатность" становится знаком света русской культуры, который побеждает "мглу" всех трагических перипетий истории как XIX, так и XX века, того Света, который во тьме светит. Буря мглою Мчатся тучи... Пролетают годы, Пролетают и свистят в ушах. Снова то за ветром непогоды... Буря мглою... Снова мы впотьмах. И – не домового ли хоронят? Ведьму ль замуж?.. В жалобе стихий, Как в метели, пушкинское тонет... Буря... Кони стали... Гоголь... Вий... Мчатся бесы... Бесы... Верховенский... Федька-Каторжный... Топор. Петля. Кто-то где-то про Собор Вселенский, Про Мессию... И поля, поля. Молодость, а страшно поневоле... Прокламации, нагайка, кнут... За мечтами о земле и воле Ночь... Ужасен там и краток суд... Лучше спать тяжелым сном медведя, Спать и спать... Обломов, Домострой, И цыганка и Протасов Федя, Добрый, ласковый, но... труп живой. Мчатся бесы, искрами мелькая, Вьюга, кони дышат тяжело, Но... Волконская и Трубецкая – И уже от сердца отлегло. 20 И такое же, как те в кибитке, Чудное лицо... Опять она: Сонечка на улице в накидке... Мармеладов... Страшная страна. Буря мглою... Стелется и свищет, И Хома над гробом... Страшный час Может быть, она и нас отыщет, Уничтожит каждого из нас. Панночка прелестная из гроба Смотрит... Буря мглою... Мелом круг... Поднимите веки мне!.. и в оба На меня и палец... Ах! и вдруг Буря мглою небо застилает: Свет с Востока!.. Будет вам уже Свет, когда рванет и запылает Рядом – на восточном рубеже. Буря мглою... Варвары под Римом. Под ударом – Лондон и Париж. Расставаясь с невосстановимым, Ты уже на Западе горишь. Ты горишь, как мы, как наше пламя, Потому что ты жива всегда. Буря мглою... но за облаками – Ты как неподвижная звезда. Нет, не с Запада и не с Востока Эти незакатные лучи, Этих глаз огромных поволока, Этот лоб над пламенем свечи. 21 Маленькое пламя задувая, Буря мглою... Только над звездой Там за вихрем, вечная, живая – Божья Мать и рядом ангел мой. (Судьба Николая Оцупа удивительна, как и судьбы многих русских эмигрантов. Умный, практичный, очень интеллигентный и красивый человек, он родился в Царском Селе и через всю жизнь пронес любовь к И. Анненскому, Н. Гумилеву, всему "серебряному веку". Входил во второй Цех поэта; акмеистские принципы, усвоенные там, повлияли на поэзию "парижской ноты": предельная простота, отсутствие формальных изысков, исповедальность. Поэтов "парижской ноты" (Б. Поплавский, Ю. Фельзен, Д. Кнут, А. Ладинский, А. Штейгер, Ю. Софиев, В. Смоленский и др.) объединил редактируемый Н. Оцупом журнал "числа". В 1939 году Оцуп ушел добровольцем во французскую армию, был в тюрьме и в концлагере, в 1942 г. сумел бежать и сражался до конца войны в рядах итальянских партизан. После войны защитил в Сорбонне диссертацию о творчестве Н. Гумилева, преподавал русскую литературу. Умер в 1958 г., похоронен на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем, среди других русских могил). Судьбы русской поэзии в эмиграции История поэзии русского зарубежья еще не исследована. Обычно (вслед за Г. Струве) выделяют две возрастные группы: поэты старшего поколения (Бальмонт, Гиппиус, Вяч. Иванов, Ходасевич, Цветаева) и поэты младшего поколения, родившиеся между 1900 и 1910 годами; к младшим причисляют обычно Г. Иванова и Адамовича, родившихся в 1894 г. Молодых поэтов группируют часто по географическому признаку: поэты парижские (группа "Перекресток", ориентированная на "неоклассицизм" Ходасевича: Ю. Терапиано, Вл. Смоленский, Г. Раевский, Д. Кнут, Ю. Мандельштам; группа "Кочевые", тяготевшая к поэтике Цветаевой: А. Гингер, А. Присманова, отчасти Б. Поплавский), поэты пражские (группа "Скит поэтов"), дальневосточные (самый известный из них – Арсений Несмелов). 22 В таком (возрастном и географическом) структурировании поэтического "поля" есть известный резон. Так, феномен "парижской ноты", спор о пушкинском и лермонтовском направлениях в развитии поэзии, явление т.н. "незамеченного поколения" – все это характерно для парижских молодых поэтов. Однако более глубокой представляется группировка поэтов по эстетическим принципам. Ф.П. Федоров выделяет четыре потока: 1) поэзия неомифологического миростроения, опирающаяся на классическую традицию (напр., Д. Кнут); 2) поэзия антимифологическая (Г. Адамович, А. Штейгер); 3) поэзия "формистская", генетически восходящая к левому русскому авангарду (Б. Божнев); 4) поэзия завершения, исхода первой эмиграции, с совершенно определенными чертами финитности (И. Чиннов)1. Как видим, существенно важным вопросом для поэтов-эмигрантов был вопрос об отношении к классическому наследию и традициям "серебряного века". "Пушкинскую" партию возглавлял В. Ходасевич, культивировавший строгие формы, полагавший, что роль эмиграции – в сохранении высокой литературной традиции, настаивавший на мастерстве и поэтической дисциплине. "Лермонтовскую" партию вел Георгий Адамович. Его эстетические принципы выразились в творчестве поэтов "парижской ноты": предельная искренность и эмоциональность, аскетизм словаря, синтаксиса, рифмы, "дневниковость" и исповедальность, приглушенность тона, каким говорится о любви и смерти. Вот, например, одно из стихотворений Адамовича: Ночью он плакал. О чем, все равно. (Многое спутано, затаено). Ночью он плакал, и тихо над ним Жизни сгоревшей развеялся дым. Утром другие приходят слова, 1 Федоров Ф.Н. Поэзия первой русской эмиграции: младшее поколение // Русская литература первой трети XX века в контексте мировой культуры. Екатеринбург, 1998. С. 103. 23 Перебираю, что помню едва. Ночью он плакал… И брезжил в ответ Слабый, далекий, а все-таки свет. Думается, что спор этих двух литературных "партий" разворачивался больше на страницах журналов, чем в самой поэзии. Г. Струве вообще отрицал единство "парижской ноты" (вряд ли справедливо, т.к. стилевое единство всетаки было). В творчестве Г. Иванова, обычно соотносимого с поэтами "парижской ноты", одинаково важны и "пушкинские", и "лермонтовские" интенции. Ходасевич не только "классичен", но и глубоко дисгармоничен и трагичен. Достоинство эстетической произведений нескованности, в поэтов-эмигрантов той полноте заключается проявления в их творческой индивидуальности, которой были лишены поэты в Советской России (хотя масштабы дарования могут быть очень разными). Богатство творческих индивидуальностей и разнообразие поэтических мотивов не могут быть рассмотрены в рамках пособия. Большинство поэтов зарубежья еще ждут своего исследователя. Более подробно остановимся на творчестве трех поэтов (В. Ходасевич, Г. Иванов, Б. Поплавский), чья лирика выходит за пределы классической традиции. Творческий портрет одного из поэтов, продолжающих традиции русской поэзии, каждый из вас может попытаться составить самостоятельно, используя материал поэтических антологий. Можно обозначить следующие "векторы" поэтических устремлений: выражение и преодоление "эмигрантского комплекса" в лирической сатире (Тэффи, А. Черный, Дон Аминадо); верность романтической мечте; переосмысление прежних поэтических мотивов (К. Бальмонт, И. Северянин); современность сквозь призму вечности: философия мира в лирике И. Бунина, З. Гиппиус, Вяч. Иванова и философия души в поэзии С. Маковского, А. Присмановой; возвращение к истокам: славянская мифология в творчестве С. Кондратьева, Л. Столицы; поэзия "парижской ноты": элегические мотивы в лирике Н. Оцупа, Ю. Терапиано; "блаженный муки" в стихотворениях Г. Адамовича. 24 При составлении творческого портрета необходимо учитывать такие параметры: биографические сведения об авторе, общий характер мироощущения поэта, своеобразие трактовки сквозных для поэтов зарубежья тем: Россия, любовь, смерть, память, сущность и назначение поэзии, поэтический мир, характер лирического героя, особенности стиля, ритмико-интонационное своеобразие. 25 Судьбы русской поэзии "Тяжелая лира" Владислава Ходасевича (1886-1939) Твори уверенно и стройно, Слова послушливые гни И мир, обдуманный спокойно, Благослови иль прокляни. А под конец узнай, как чудно Все вдруг по-новому понять, Как упоительно и трудно, Привыкши к слову – замолчать. Владислав Фелицианович Ходасевич – один из самых значительных поэтов русского зарубежья. Им восхищались такие разные писатели, как М. Горький ("поэт-классик", "большой, строгий талант") и А. Белый ("поэт божией милостью, единственный в своем роде"). Весьма скупой на похвалы В. Набоков назвал Ходасевича "гением" и придал черты Ходасевича образу критика Кончеева в романе "Дар". А вот Д. Мирский уничижительно утверждал, что Ходасевич – "маленький Баратынский из подполья, любимый поэт тех, кто не любит поэзии". Сейчас репутация Ходасевича как поэта-классика, "крупнейшего поэта нашего времени, литературного потомка Пушкина по тютчевской линии" (В. Набоков) бесспорна. Своеобразие его поэзии заключается в парадоксальном сочетании пушкинской ясности формы и трагедийности содержания, или, по наблюдению В. Набокова, дерзкой свободы в выборе тем, образов, слов и правильного (т.е. в некотором смысле несвободного) ритма стиха. Владислав Ходасевич родился в Москве, его отец-поляк был известным фотографом (позднее Ходасевич будет использовать прием "сдвоенного кадра" – совмещение двух изображений на снимке, как если бы фотограф забыл перевести пленку – создавая модель жизни эмигранта, в сознании которого сквозь образы "Соррентийские реальности проступают фотографии"). Мать по образы памяти, национальности стихотворение еврейка, но воспитывалась в польской семье (впоследствии Ходасевич много переводил еврейских и польских поэтов). Но самое проникновенное стихотворение он 26 посвятил в 1922 г. своей кормилице Елене Кузиной ("Не матерью, но тульскою крестьянкой Еленой Кузиной я выкормлен"). В стихотворении есть строчки: И вот, Россия, "громкая держава", Ее сосцы губами теребя, Я высосал мучительное право Тебя любить и проклинать тебя. Однако надо учитывать и то, что Ходасевич в своем творчестве идет не столько от стихии русского народного языка, сколько от философских элегий Пушкина 1830-х годов. В юности Ходасевич увлекался балетом, живописью, еще в гимназии начал писать стихи, подражая символистам. В 1905 г. он женился на одной из первых московских красавиц, богатой и эксцентричной Марине Рындиной. Ей посвящена первая книга стихов "Молодость", проникнутая романтической тоской. В этой книге Ходасевич еще ищут свой голос, пытаясь подражать Брюсову, А. Белому... Первый брак не был прочным. Второй супругой Ходасевича стала Анна Ивановна Гренцион, младшая сестра писателя Г.И. Чулкова. Ей посвящена книга стихов "Счастливый домик", в самом названии которой есть оттенок кукольности и недолговечности. В стихах этой книги поэт обращается в поисках гармонии к стилизованным простым радостям жизни. Как многие из интеллигенции, Ходасевич восторженно принял Февральскую революцию. Ему нравился стихийный размах народного гнева. После Октябрьской революции Ходасевич активно работал в различных советских учреждениях. Он готов был принять все, что несет с собой революция. Новые принципы поэтики воплотились в стихах сборника "Путем зерна" (1920). Душа поэта должна пройти путь, единый со всей страной; пройти тяжкие испытания, даже погибнуть, чтобы впоследствии возродиться в новых побегах новой культуры. Мотивы подземного мрака, зерна, колоса напоминают цикл Блока "Ямбы" – образец гражданской лирики, мужественности поэта. Стихотворение Ходасевича "Путем зерна", написанное двустишиями шестистопного ямба, с точной рифмовкой, звучит торжественно и возводит конкретные политическое события на уровень философского обобщения. Путем зерна Проходит сеятель по ровным бороздам. Отец его и дед по тем же шли путям. 27 Сверкает золотом в его руке зерно, Но в землю черную оно упасть должно. И там, где червь слепой прокладывает ход, Оно в заветный срок умрет и прорастет. Так и душа моя идет путем зерна: Сойдя во мрак, умрет – и оживет она. И ты, моя страна, и ты, ее народ, Умрешь и оживешь, пройдя сквозь этот год, – Затем, что мудрость нам единая дана: Всему живущему идти путем зерна. 23 декабря 1917 Именно в этой книге стихов уже отчетливо проявилась характерная особенность поэзии Ходасевича: соединение философически-высокого и житейски-конкретного. В заботах каждого дня Живу, – а душа под спудом Каким-то пламенным чудом Живет помимо меня. И часто, спеша к трамваю Иль над книгой лицо склоня, Вдруг слышу ропот огня – И глаза закрываю. Не "в башне из слоновой кости", не на "берегу пустынных волн", а в житейской суете открывается поэту метафизическая суть мира. По замечанию В. Вейдле, самые здешние стихи Ходасевича – о вещах нездешних. Ходасевич часто использует прозаизмы, что не является приемом, но выражает онтологию (т.е. представление об устройстве мира): Ходасевич 28 ощущает земную духовность (в отличие от романтиков и символистов). Он не воспаряет над действительностью, а пытается прорваться сквозь нее: Перешагни, перескочи, Перелети, пере- что хочешь – Но вырвись: камнем из пращи, Звездой, сорвавшейся в ночи... Сам затерял – теперь ищи... Бог знает, что себе бормочешь, Ища пенсне или ключи. Образность Ходасевича воплощает слияние духовного опыта с плотью: ... Прорезываться начал дух Как зуб из-за припухших десен. В конце 1920 г. Ходасевич уезжает в Петроград. В книге "Тяжелая лира" возникает высокий образ поэта – хранителя священного огня поэзии (стих. "Музыка"). В статье "Колеблемый треножник" Ходасевич сравнивает молодых поэтов, дерзко ворвавшихся в поэзию, с детьми, шалящими в Храме. и нужен взрослый, опытный человек, способный поддержать колеблемый треножник, сберечь священный аполлонов огонь на алтаре поэзии. Из 45 стихотворений "Тяжелой лиры" 26 написаны четырехстопным ямбом – самым классическим размером русской поэзии. Преданность классической поэзии заявлена в стихотворении "Петербург" (открывающим следующую книгу "Европейская ночь"). Напастям жалким и однообразным Там предавались до потери сил. Один лишь я полуживым соблазном Средь озабоченных ходил. Смотрели на меня – и забывали Клокочущие чайники свои; На печках валенки сгорали; Все слушали стихи мои. А мне тогда в тьме гробовой, российской, 29 Являлась вестница в цветах, И лад открылся музикийский Мне в сногсшибательных ветрах. И я безумел от видений, Когда чрез ледяной канал, Скользя с обломанных ступеней, Треску зловонную таскал, И, каждый стих гоня сквозь прозу, Вывихивая каждую строку, Привил-таки классическую розу К советскому дичку. 12 декабря 1925 Сохраняя метрику в неприкосновенности, Ходасевич добивается новизны звучания сдвигами на ритмическом и интонационном уровне. Так, впечатляет усеченная, как бы оторванная последняя строка (трехстопный ямб с пиррихием на второй стопе, звучащий как двухударный дольник) на фоне строк четырех- и пятистопного ямба. Для поэта-Орфея, сознающего свое высокое призвание, не важны мелочи убогого быта, он может преобразить и "штукатурное небо", и "солнце в шестнадцать свечей". Но жить становилось все трудней. В 1922 г. вместе с молодой поэтессой Ниной Берберовой Ходасевич покидает Россию, уезжая в Берлин, а потом в Париж. Бытовая неустроенность, тяжелое физическое состояние, необходимость поденной журналистской работы усугубляли горечь от разлуки с родиной, определяли безрадостное мироощущение поэта. Последняя, лучшая книга стихов Ходасевича называется "Европейская ночь". Относительная прозрачность мира сменилась тьмой. Мир стал омерзительно вещественным. Берлин открылся как город трущоб и подвалов, камня и неприютности. Стихотворение "Окна во двор" состоит из строф, отделенных друг от друга отточиями. Строф может быть больше или меньше, они могут стоять в том или ином порядке. Каждая строфа – окно, за которым виден свой маленький 30 домашний ад. Автор нагнетает низкие, ничтожные подробности, показывающие, как опошлено все: и любовь, и семья, и смерть, и искусство. Несчастный дурак в колодце двора Причитает сегодня с утра, И лишнего нет у меня башмака, Чтобы бросить его в дурака. ....................... Кастрюли, тарелки, пьянино гремят, Баюкают няньки крикливых ребят. С улыбкой сидит у окошка глухой, Зачарован своей тишиной. ....................... Курносый актер перед пыльным трюмо Целует портреты и пишет письмо, – И, честно гонясь за правдивой игрой, В шестнадцатый раз умирает герой. ....................... Отец уж надел котелок и пальто, Но вернулся, бледный как труп: "Сейчас же отшлепать мальчишку за то, Что не любит луковый суп!" ....................... Небритый старик, отодвинув кровать, Забивает старательно гвоздь, Но сегодня успеет ему помешать Идущий по лестнице гость. и т.д. Однообразная перечислительная интонация передает чувство скуки и уныния, однако ощущается и некоторая нервозность, благодаря смене размера: 31 в первой строфе 1 и 3 строки – трехстопный амфибрахий, а 2 и 4 – трехстопный анапест, во второй строфе 1, 2 и 3 строки – амфибрахий, 4 – анапест. Реальная действительность так нестерпима, что кажется адом. В стихотворении "С берлинской улицы..." ночные дома уподобляются демонам, прохожие – ведьмам с песьими головами; все проникнуто сухим электрическим треском. Ресторанный мир в стихотворении "Берлинское" представлен как система зеркал: окно ресторана, стекла трамваев, зеркальная поверхность стола. Создается ощущение ирреальности происходящего, когда в чужом пространстве герой с отвращением вдруг узнает свою "отрубленную, неживую голову". В таком мире невозможно жить, самоубийство становится желанным исходом: Было на улице полутемно. Стукнуло где-то под крышей окно. Свет промелькнул, занавеска взвилась, Быстрая тень со стены сорвалась – Счастлив, кто падает вниз головой: Мир для него хоть на миг – а иной. Стихотворение звучит вроде бы сухо, непоэтично, с протокольной точностью, замыкаясь афоризмом, дающим формулу предельного отчаяния. Но, по наблюдениям В. Вейде, выразительна звукопись: пауза разрывает надвое третью строку, а затем тень, сорвавшаяся со стены, падает, проваливается в раскрытое "а" в слове "счастлив", которому, как эхо, вторит "а" и слове "падает". Лирическому герою книги стихов снится сон, где он разлетается на частицы, атомы, "как грязь, разбрызганная шиной по чуждым сферам бытия". В поисках спасительной опоры, констант в хаосе лирический герой пытается проникнуть в душу другого человека ("Баллада"). Почему человек из толпы так уверен в себе, чувствует себя правым и счастливым? Но попытка диалога не удалась; да, наверное, никакой загадки в душе "маленького человека" и нет. Однако лирический герой на может опереться и на самого себя, т.к. он утратил ощущение целостности своего "я". Перед зеркалом Nel mezzo del cammin di nostra vita. 32 (На средине пути нашей жизни) Я, я, я. Что за дикое слово! Неужели вои тот – это я? Разве мама любила такого, Желто-серого, полуседого И всезнающего, как змея? Разве мальчик, в Останкине летом Танцевавший на дачных балах, – Это я, тот, кто каждым ответом Желторотым внушает поэтам Отвращение, злобу и страх? Разве тот, кто в полночные споры Всю мальчишечью вкладывал прыть, – Это я, тот же самый, который На трагические разговоры Научился молчать и шутить? Впрочем – так и всегда на средине Рокового земного пути: От ничтожной причины – к причине, А глядишь – заплутался в пустыне, И своих же следов не найти. Да, меня не пантера прыжками На парижский чердак загнала. И Вергилия нет за плечами, – Только есть одиночество – в раме Говорящего правду стекла. 18-23 июля 1924 Париж Стихотворение рисует ситуацию одиночества, несовпадения внутреннего "я" и того внешнего, что сформировано "ничтожными причинами". Горькое 33 осознание безысходности подчеркнуто тем, что "Вергилия нет за плечами". Контраст высокого и сниженного реализуется благодаря аллюзиям и цитатам из "Божественной комедии" Данте. Очень напряженна интонация: повтор "я,я,я" в первой строке замещает первую стопу анапеста сплошными ударными слогами; синтаксис сложный, с обилием пауз, восклицаний, местоимений, частиц – запинающийся, бормочущий. Ритм выравнивается к концу стихотворения, передавая холодную безнадежность. Итак, Ходасевич приходит к пониманию катастрофичности мира, неизбывности разлада человека с самим собой. Единственное, что оставалось незыблемым – поэзия как святое ремесло. В самых нервных, даже сюрреалистических произведениях Ходасевич сохраняет ясную, "пушкинскую" форму стиха. С. Бочаров говорил, что ямб для Ходасевича – не размер, а мироощущение, гражданская позиция. Когда-то Ходасевич мечтал: О, если б мой предсмертный стон Облечь в отчетливую оду! Но в эмиграции он убедился в отсутствии читателя, ненужности поэзии. После 1928 г. Ходасевич перестал писать стихи. (В 1930-е годы он пишет прозу: биографию Г. Державина, статьи о Пушкине, книгу воспоминаний "Некрополь"). Последнее стихотворение В. Ходасевича посвящено четырехстопному ямбу: Не ямбом ли четырехстопным, Заветным ямбом, допотопным? О чем, как не о нем самом – О благодатном ямбе том? С высот надзвездной Музикеи К нам ангелами занесен, Он крепче всех твердынь России, Славнее всех ее знамен. Из памяти изгрызли годы, За что и кто в Хотине пал, 34 Но первый звук Хотинской оды Нам первым криком жизни стал. <... > Таинственна его природа, В нем спит спондей, поет пэон, Ему один закон – свобода, В его свободе есть закон... 1938 35 Трагическая ирония Г. Иванова (1894–1958) Отчаянье я превратил в игру... Если Ходасевич замолчал, дойдя до предела отчаяния, то Г. Иванов как поэт раскрылся за пределами отчаяния: И полною грудью поется, Когда уже не о чем петь. Сам называл себя последним поэтом "серебряного века". Творчество, поэзия всегда были для него главным смыслом существования. В 1912 г. вышел из печати сборник "Отплытие на о. Цитеру", когда едва Иванову исполнилось семнадцать лет. Книга была отмечена положительными рецензиями Брюсова и Гумилева. Молодой автор был принят в "Цех поэтов", где прошел прекрасную поэтическую школу. В России Г. Иванов издал несколько книг стихов, лучшая из которых – "Сады". В октябре 1922 года вместе с поэтессой Ириной Одоевцевой Георгий Иванов отправился в эмиграцию. У него странная литературная судьба: до и после эмиграции – это два разных поэта1. До – стихи мастерские, не обделенные ни талантом, ни вкусом, но, как говорил А. Блок, это "стихи ни о чем", без накала чувства и мысли. После эмиграции стихи Г. Иванова (книги "Розы", "Портрет без сходства", "Дневник", "Посмертный дневник") потрясают огромной, до надрыва, эмоциональностью, трагической иронией, горестным нигилизмом. Пережив распад души, поэт убедился, что "страшный мир" не только вне, но и в самом человеке. Ранние стихи Г. Иванова написаны в духе акмеизма. Они изящны, без риторики, выражают спокойное, несколько созерцательное мироощущение: Когда светла осенняя тревога В румянце туч и шорохе листов, Так сладостно и просто верить в Бога, В спокойный труд и свой домашний кров. Как видим, тревога – светлая, тучи – в румянце, труд – спокойный; жизненные опоры для поэта – Бог, поэзия, домашний кров. Жизнь отображается не широко, у Г. Иванова довольно узкий круг лирических тем, лирический 1 Американский славист В.П.Крейд ("Петербургский период Георгия Иванова". СПб, 1989), 36 герой либо одинок, либо с ним его возлюбленная. Пейзаж, как правило, петербургский – набережная Невы, Исаакиевский собор, Адмиралтейство, Петропавловская крепость. Часто окружающая действительность воспринимается сквозь призму искусства, например пейзаж уподобляется старинной гравюре: На западе желтели облака, Легки, как на гравюре запыленной, И отблеск серый на воде зеленой От каждого ложился челнока. Еще не глохнул улиц водопад, Еще шумел Адмиралтейский тополь, Но видел я, о влажный бог наяд, Как невод твой охватывал Петрополь. Сходила ночь, блаженна и легка, И сумрак золотой сгущался в синий, И мне казалось: надпись на латыни Сейчас украсит эти облака. Целый ряд стихотворений Г. Иванова приближаются к жанрам ведуты (вид определенного места) и экфразиса (описание произведения живописи или скульптуры), такие, например, как: "Зеленый фон – немного мутный", "Она застыла в томной позе", "Китайские драконы над Невой", "Опять на площади Дворцовой", "К памятнику" (описание памятника А.В. Суворову работы скульптора М.И. Козловского). Петербург видится Г. Иванову как некая целостность, уже вневременно (панхронно) существующая в мире искусства. Именно искусство мыслится вечным, оно – высшая отрада и награда в жизни: Дитя гармонии – александрийский стих, Ты мед и золото для бедных губ моих. Я истощил свой дар в желаньях бесполезных, вопреки традиционной точке зрения, отстаивает идею единства творческого пути поэта. 37 Шум жизни для меня, как звон цепей железных... Где счастие? Увы – где прошлогодний снег... Но я еще люблю стихов широкий бег, Вдруг озаряемый, как солнцем с небосклона, Печальной музыкой четвертого пэона. Такие стихотворения Г. Иванова можно назвать "поэзией поэзии" (в отличие от "поэзии жизни"). Александрийский стих – это древняя форма стиха, представлявшая собой двустишия пяти- или шестистопного ямба с цезурой; интонация торжественная, неторопливая, требует лаконизма мысли. В России такой стих использовал, например, В. Тредиаковский. Пэоном в античности называлась песнь в честь бога Солнца Феба; пэон – это и стихотворный размер, где стопа состоит из пяти слогов; пэон четвертый – ударение в стопе падает на четвертый слог ( ). Такой размер слышится в пушкинских строчках: "Под голубыми небесами великолепными коврами...". Многие стихотворения раннего Г. Иванова проникнуты стилизации. Петроградские волшебства. Заря поблекла, и редеет Янтарных облаков гряда, Прозрачный воздух холодеет, И глухо плещется вода. Священный сумрак белой ночи! Неумолкающий прибой! И снова вечность смотрит в очи Гранитным сфинксом над Невой. Томящий ветер дышит снова, Рождая смутные мечты, И вдохновения былого Железный город, полон ты! духом 38 Дрожат в воде аквамарины, Всплывает легкая луна ... И времена Екатерины Напоминает тишина. Колдует душу сумрак сонный, И шепчет голубой туман, Что Александровской колонны Еще не создал Монферран. И плющ забвения не завил Блеск славы давней и живой ... ... Быть может, цесаревич Павел Теперь проходит над Невой! ... Восторга слезы – взор туманят, Шаги далекие слышны ... Тоской о невозвратном – ранят Воспоминания старины. А волны бьются в смутной страсти, Восток становится светлей, И вдалеке чернеют снасти И силуэты кораблей. В стихотворении выражена ностальгия по прежнему Петербургу, городу Петра I и Екатерины II. "Блеск славы давней и живой" продолжает жить в настоящем. Как воссоздается "век минувший" в стихотворении? Знаком Петровской эпохи выступает ориентированность на Неву: Петербург был задуман как город-порт; отсюда непременная деталь – "снасти и силуэты кораблей". Метафора "аквамарины" своей пышностью напоминает о произведениях Державина (в "Видении мурзы" рисуются "мрамор и граниты", "жемчужные струи", "блеск, богатство, красота" полунощной столицы) и Ломоносова ("Похвала Ижорской земле и царствующему граду Санкт-Петербургу"). 39 Стилизация, имитация "высокого штиля" классицизма подчеркивают "стильность" блестящего века. В композиции стихотворения запечатлен креативный акт – акт сотворения пространства города. Из гаснущих, блеклых красок, сумрака, голубого тумана постепенно прорисовываются Нева, гранитный сфинкс, железные решетки и мосты, т.е. из аморфного, бесплотного кристаллизуются отчетливые детали – твердыни Петербурга. Настоящее время глаголов фиксирует миг, который равен длящейся вечности. Перед нами остановленное время ("и снова", "еще не создал", "теперь") – время, отвердевшее в петербургском пейзаже, ориентированном не горизонтально (что было бы естественно для петербургского ландшафта), а вертикально (небо, отражающееся в воде). Образ Петербурга создается из природных стихий: воздуха, ветра, воды, солнца, луны, камня. Создающийся эффект "космизма" картины представляет Петербург как центр Вселенной, средоточие мироздания. Однако прошлое оживает в особых, волшебных, условиях; нужна магия белой ночи, которая колдует, завораживает, шепчет. Классический Петербург увиден глазами романтика. Меланхолический колорит создает сочетание блеклых, пастельных тонов: розовый, янтарный, белый, зеленоватый, голубой. Рисуя "чувствительный пейзаж", Г. Иванов использует романтическую лексику: томящий ветер, легкая луна, душа, мечты смутные, былое вдохновенье. Лирическая задушевность, интимность смягчают помпезность классицизма, торжественность оды лишь "просвечивает" сквозь светлую грусть элегии. Ближе всего Г. Иванову стиль Пушкина – романтика 1820 годов. Первая строка варьирует начало пушкинского стихотворения 1820 г. "Редеет облаков летучая гряда..."; очевидна и аллюзия на картину летней ночи из I главы "Евгения Онегина", написанной в 1823 г. Но и на классицизм, и на романтизм ("Золотой век" в русской поэзии) автор смотрит из 1914 года ("теперь"). Горечь чувствуется в выражениях: "еще не создал", "еще не завил", дающих утверждение через отрицание: теперь-то уже создал, уже завил плющ забвения. Вместе с тем, преобладающее чувство в стихотворении – не тоска, а "восторга слезы". Залог надежды – сам Петербург, существующий не в физическом, а в духовном пространстве, бессмертный как средоточие русской культуры. И вот этот мир гармонии оказался утраченным навсегда. 40 Стихи, написанные в эмиграции, очень исторически конкретны, вписаны в определенную эпоху, передают подробности, штрихи, осколки воспоминаний, звучат, как эпитафии: Эмалевый крестик в петлице И серой тужурки сукно... Какие печальные лица И как это было давно. Какие печальные лица И как безнадежно бледны – Наследник, императрица, Четыре великих княжны... В стихотворения, посвященные мертвым друзьям (Л. Каннегисеру, О. Мандельштаму), Г. Иванов включает подробности обстоятельств гибели, просторечия, характерные для эпохи ("чужое слово"), например: "без прицела и без промаха, а потом домой шажком", "Довольно! Больше не могу, Поставьте к стенке и ухлопайте!". Но смысл картины, складывающийся из подробностей, не сводим к воссозданию конкретно-исторической эпохи, он – шире, это бытийный, онтологический смысл. Г. Иванов убедился в полной беспросветности человеческого бытия: "черная кровь", "чепуха мировая", "чернеет гибель снизу", "истории зловещий трюм", русский паспорт "давно уже в помойной яме мирового горя сгнил". Мир распался, везде царят зло, мрак, вызывая ощущение тоски ("тошноты", как говорил Ж.–П. Сартр). Состояние человека в мире, "оплывшем, как свеча", концентрированно выражено в прозаической поэме "Распад атома": "Человек, человечек, ноль", утративший Россию, любимую, Бога, переживает "мировое уродство", и его собственная душа, сквозь которую сначала пропустили миллион вольт любви, а потом погрузили в ледяной холод одиночества, напоминает взбаламученное помойное ведро. Герой поэмы сознает невозможность искусства; сияние Анны Карениной уже едва достигает до нас, невозможно представить, чтобы кто-нибудь плакал над томиком стихов. "Душа хотела бы громко и торжественно сказать: "На холмы Грузии легла ночная мгла", славя себя и Творца, но она только мычит, как глухонемая, с 41 отвращением, похожим на наслаждение, матерную брань с метафизического забора: "Дыр, бул, щил... ". Задача всех стихотворений "Дневника", как считает Н.А. Богомолов, исчерпать до дна душу, достигшую пределов отчаяния. Для лирического героя Г. Иванова очевидна бессмысленность поэзии: Мимозы солнечные ветки Грустят в неоновом чаду, Хрустят карминные креветки, Вино туманится во льду. Все это было, было, было... Все это будет, будет, бу... Как знать? Судьба нас невзлюбила? Иль мы обставили судьбу? И без лакейского почету Смываемся из мира бед, Так и не заплатив по счету За недоеденный обед. 1955 Казалось бы, еще можно находить опору в воспоминаниях о прошлом: Быть может, города другие и прекрасны... Но что они для нас! Нам не забыть, увы, Как были счастливы, как были мы несчастны В туманном городе на берегу Невы, в любви ("Ты не расслышала, а я не повторил", "Распыленный мильоном мельчайших частиц", "Вся сиянье, вся непостоянство" и другие стихи, посвященные И. Одоевцевой), в поэзии и друзьях-поэтах: ... Зимний день. Петербург. С Гумилевым вдвоем, Вдоль замерзшей Невы, как по берегу Леты, Мы спокойно, классически просто идем, Как попарно куда-то ходили поэты, 42 в красоте природы ("Даль грустна, ясна, холодна, темна"). Отрешенному от жизни, погруженному в освобождающие сны, открывается "над бедной землей неземное сиянье", например: Закроешь глаза на мгновенье И вместе с прохладой вдохнешь Какое-то дальнее пенье, Какую-то смутную дрожь. И нет ни России, ни мира, И нет ни любви, ни обид – По синему царству эфира Свободное сердце летит. Но пробуждение, возвращение в жизнь, погубленную зря, неизбежно: Как все бесцветно, все безвкусно, Мертво внутри, смешно извне, Как мне невыразимо грустно, Как тошнотворно скучно мне... Постоянно ощущая только "смертный вкус на языке", герой, тем не менее, равнодушен и к смерти ("сегодня меня убили, завтра тебя убьют"). Русская молодежь в Париже зачитывалась стихотворением Г. Иванова, передающим последние минуты жизни самоубийцы: Синеватое облако (Холодок у виска) Синеватое облако И еще облака... И старинная яблоня (Может быть, подождать?) Простодушная яблоня Зацветает опять. Все какое-то русское – (Улыбнись и нажми!) Это облако узкое, 43 Словно лодка с детьми, И особенно синяя (С первым боем часов...) Безнадежная линия Бесконечных лесов. Герой Г. Иванова испытывает тотальное разочарование, все подвергает ироническому осмеянию. Бесцельна, бессмысленна красота природы, она мертва для мертвого человека: Все розы увяли. И пальма замерзла. По мертвому саду я тихо иду. И слышу, как в небе по азбуке Морзе Звезда выкликает звезду, И мне – а не ей – обещает беду. Без отлика остается обращение к любимой: Отзовись, кукушечка, яблочко, змееныш, Весточка, царапинка, снежинка, ручеек, Нежности последыш, нелепости приемыш, Кофе-чае-сахарные потерянный паек. Отзовись, очухайся, пошевелись спросонок, В одеяльной одури, в подушечной глуши, Белочка, метелочка, косточка, утенок, Ленточкой, веревочкой, чулочком задуши. Отзовись, пожалуйста. Да нет – не отзовется. Ну и делать нечего. Поживем и так. Из огня да в полымя. Где тонко, там и рвется. Палочка-стукалочка, полушка-четвертак. И даже память о родине не греет: "Я вашей России не помню и помнить ее не хочу". Абсолютный нигилизм выражает стихотворение "Хорошо, что нет Царя", где на фоне монотонного ритма трех трестиший с анафорами, синтаксическим параллелизмом, отсутствием глаголов или отрицанием 44 действия, следует ударный финал: четверостишие, состоящее из сплошных отрицаний. Хорошо, что нет Царя. Хорошо, что нет России. Хорошо, что Бога нет. Только желтая заря, Только звезды ледяные. Только миллионы лет. Хорошо – что никого, Хорошо – что ничего, Так черно и так мертво, Что мертвее быть не может И чернее не бывать, Что никто нам не поможет, И не надо помогать. Даже поэзия беспомощна и бессмысленна: "Рассыпаются слова и не значат ничего", "я попросту хлороформирую поэзией сознание". Стихотворения из циклов "Rayon de rayonne", "Посмертный дневник" передают поток отрывочных мыслей на грани бессознательного состояния, напоминая бормотание, коснеющий лепет, предсмертный бред, в духе сюрреалистической техники письма, и их же "черного юмора": Еще я нахожу очарованье В случайных мелочах и пустяках – В романе без конца и без названья, Вот в этой розе, вянущей в руках. Мне нравится, что на ее муаре Колышется дождинок серебро, Что я нашел ее на тротуаре И выброшу в помойное ведро. *** 45 Полу-жалость. Полу-отвращенье. Полу-память. Полу-ощущенье. Полу-неизвестно что, Полы моего пальто... Полы моего пальто? Так вот в чем дело! Чуть меня машина не задела И умчалась вдаль, забрызгав грязью. Начал вытирать, запачкал руки... Все еще мне не привыкнуть к скуке, Скуке мирового безобразья! Гармония уничтожена "мировым уродством". Сам стих Г. Иванова нередко нарочито утрачивает напевность. "Рваный" синтаксис с обилием пауз делает речь поэта бормочущей, спотыкающейся, даже косноязычной: "Побрили Кикапу в последний раз, Помыли Кикапу в последний раз Волос и крови полный таз, Да-с". Не так… Забыл… Но Кикапу Меня бессмысленно тревожит, Он больше ничего не может, Как умереть. Висит в шкапу – Не он висит, а мой пиджак – И все не то, и все не так. Да и при чем бы тут кровавый таз? "Побрили Кикапу в последний раз…" Классическое искусство теперь невозможно и ненужно: Художников развязная мазня, 46 Поэтов выспренная болтовня… Гляжу на это рабское старанье, Испытывая жалость и тоску: Насколько лучше – блеянье баранье, Мычанье, кваканье, кукареку. В 1938 г. в Париже была опубликована прозаическая (!) поэма Г. Иванова "Распад атома". По содержанию и по жанру "Распад атома" ориентирован на два произведения: "Записки сумасшедшего" Гоголя и "Записки из подполья" Достоевского. М. Бахтин убедительно раскрыл диалогическую природу повествования в таких самоотчетах-исповедях. Казалось бы, произведение Г. Иванова должно быть вдвойне диалогично: и как форма исповеди, всегда ориентированной на "другого", и как некий "интертекст". Однако "Распад атома" утверждает обратное – полную невозможность диалога. Внешнее сходство с повестями писателей XIX века только заостряет принципиальное, сущностное несходство. Безымянный герой "Распада атома" – русский эмигрант, живущий в Париже. После ухода возлюбленной он окончательно понимает бессмысленность существования и кончает самоубийством. Повествование представляет собой поток сознания героя, демонстрирующий распад его души. Причем герой отчетливо сознает, что история его души в точности соответствует истории мира ("Обнявшись, слившись, переплетясь, они уносятся в пустоту со страшной скоростью тьмы, за которой лениво, даже не пытаясь ее догнать, движется свет"). Следовательно, речь идет о всеобщем распаде. Квинтэссенцию "мирового уродства" эпохи, разлагающейся на глазах (1938 год!), содержал первый вариант финала: "Хайль Гитлер, да здравствует отец народов Великий Сталин, никогда, никогда, никогда англичанин не будет рабом!". Первое побуждение героя – отделить себя от мирового уродства. Как писал М. Бахтин, "предстояние себе – опора гордости и самодовольства". Повествование в "Распаде атома" представляет собой ту форму самоотчетаисповеди, в которой преобладают богоборческий и человекоборческий момент, 47 с присущими ей тонами злобы, иронии, вызова; абсолютно отсутствует момент покаяния. Особенно много в исповеди героя цинизма ("Эта женщина, конечно, красива, ( ) но я представляю ее голой, лежащей на полу с черепом, раскроенным топором"), дразнящей откровенности, непристойностей. По сравнению с "Записками из подполья", в произведении Г. Иванова гораздо более сгущенно подается "коллаж" из грязных, низких подробностей, вызывающих чувство отвращения: "Рвота, мокрота, пахучая слизь, проползающая по кишкам. Падаль. Человеческая падаль. Поразительное сходство запаха сыра с запахом ножного пота" и т. п. Тотальное отрицание, выверт и юродство в речи героя Г. Иванова опять заставляют вспомнить "лирику зубной боли" подпольного парадоксалиста у Достоевского. Обнажение мирового уродства приобретает какие-то дикие, гротескные формы, в которых переплетаются реальность и видения кошмарного сна (как и в "Записках сумасшедшего" Гоголя). Весь мир – отвратительный хаос, где по спирали пролетает в вечность все: "окурки, закаты, бессмертные стихи, обстриженные ногти, грязь из-под этих ногтей. Мировые идеи, кровь, пролитая из-за этих идей, кровь убийств и совокупления, геморроидальная кровь, кровь из гнойных язв. Черемуха, звезды, невинность, раковые опухоли, заповеди блаженства, ирония, альпийский снег ". Проклиная мировую чепуху, герой "Распада атома" пытается утвердить свое "я", свою, пусть и искаженную, точку зрения на мир. Он стремится ощутить свое тело ("я дышу", "я живу", "я иду", "я хочу"), а потому так много физиологизма в описаниях. Он делает предметом переживания свои собственные переживания и ощущения, вновь и вновь возвращаясь к ним, повторяя и усиливая. И однако он постоянно срывается в самоотрицание. Он дышит – но воздух отравлен. Он думает, ищет ответа – но ответа нет ни на что. Сердце перестает биться, легкие отказываются дышать. Он хочет порядка – но порядок разрушен. Он хочет душевного покоя – но "душа, как взбаламученное помойное ведро". Центр, сердцевина его души – утрата любимой, того "другого" (по М. Бахтину), который только и придавал ценность существованию "я". Герой "Распада атома" – это "я" без "ты". Вся исповедь героя – своего рода прощальное письмо, которое никогда не получит адресат. 48 Образ любимой (а она для героя и Бог, и Россия, и жизнь, и семья, и искусство) теряет свою определенность, дробится, распадается во множестве подобий. Отблеск "ты" есть и в уличной женщине, и в любовнице министра, и в генеральской дочери из популярного романса, и в Психее, и в мертвой девочке. Все эти облики только фантомы, порожденные сознанием героя, иллюзия, чуть розовеющая "налетом жизни, как призрак, хлебнувший крови". Распадается в обличьях, дробится в двойниках и сам герой. Его подобия – министр, проворовавшийся из-за девчонки, испытавший блаженство, позор, смерть; художник-самоубийца, бездарный и голодный, ощутивший, как ледяное дуло коснулось пылавшего рта; нищий, подобравший в бульварном писсуаре мерзкую булку; наконец, Башмачкин, "с головой, отуманенной скукой жизни и пивом, под вкрадчивый ропот гитары", предающийся воспаленным мечтам о генеральской дочке. Местоимение "я" вытесняется местоимением "он": герой пытается сам занять позицию "другого", посмотреть на себя со стороны. Его "я" аналогично любому "я" из миллионов обитателей земного шара": "Все отвратительны. Все несчастны". "Человек, человечек, ночь" – это и есть "я", такое же, как всякий "он". Несобственно-прямая речь этого "он" неотличима от речи собственно лирического "я" – те же отчаяние, цинизм, противоречия. Так, Башмачкин (не столько гоголевский, сколько напоминающий Передонова) бормочет: "Что же мне теперь делать с тобой, Психея? Убить тебя? Все равно – ведь и мертвая ты придешь ко мне". Формально это высказывание принадлежит Башмачкину, но в аспекте содержательно-субъектной организации автор высказывания – сам лирический герой. По мере приближения к финалу увеличивается доля назывных предложений, в которых вообще отсутствует конкретный субъект, типа: "Тишина и ночь. Полная тишина, абсолютная ночь". Так происходит распад "я", утратившего "ты". Личное повествование ведется в настоящем времени ("я иду", "я думаю"); герой остро ощущает свое сиюминутное состояние оставленности, покинутости, "черную дыру одиночества". Ситуация "я без ты" исключает самую возможность диалога с "другим", поскольку этого "другого" просто нет. Даже "неизвестный друг" – не более, чем риторическая фигура. Жажда диалога с "другим" есть стремление восстановить целостность распадающегося "я". Отделяя себя от мирового уродства, герой хотел бы 49 вернуть причастность к миру гармонии и смысла ("Я хотел бы выйти на берег моря, лечь на песок, закрыть глаза, ощутить дыхание Бога на своем лице. Я хотел бы начать издалека – с синего платья, с размолвки, с зимнего туманного дня. "На холмы Грузии легла ночная мгла" – такими приблизительно словами я хотел бы говорить с жизнью"). Внешне речь героя Г. Иванова напоминает речь героя "Записок из подполья", речь с "оглядкой" и "с лазейкой". Но сосуществование цинизма с теплотой и сентиментальностью не нарушает монологизма речи и сознания героя "Распада атома": это две стороны одной медали, проклятье хаосу и жажда гармонии. Герой мучительно жаждет тепла и участия: "я хочу рассказать, как я тебя любил ", "я хочу объяснить ", "я хочу предостеречь мир". Его томит "желание говорить, стремление петь – о своей любви, о своей душе". Чувство сострадания к человеку перевешивает ненависть к банальности и уродству мира. Прежнее прекрасное искусство, преображающее хаос жизни в гармонию, герой отвергает ради мучающегося человека. Если для эстета, полагает герой, на картине Рембрандта игра света и теней на лице старухи важнее самой старухи, то он лично уверен, что старуха бесконечно важнее Рембрандта, ему хотелось бы эту старуху спасти и утешить. Его любовь к ушедшей женщине включала в себя пронзительную жалость. Как отзвук прежней счастливой жизни вдвоем возникает образ зверьков – Размахайчиков, Голубчика, Жухлы, глупого Цутика. Зверьки любили танцы, мороженое, прогулки, шелковые банты, праздники; разговаривали на собственном, "австралийском", языке. Распадаясь в двойниках-подобиях, переходя от личного "я" к безличному "он", герой переживает смерть своей души, сливаясь с "мы": "Наши отвратительные, несчастные, одинокие души соединились в одну и штопором, штопором сквозь мировое уродство, как умеют, продираются к Богу". Потерянный человек, "он" (ипостась "я"), бормочет: "Пушкинская Россия, зачем ты нас обманула? Пушкинская Россия, зачем ты нас предала?". На грани жизни и смерти безгранично малая точка "я" ("атом") распадается окончательно – и "вдребезги плавится ядро одиночества". Герой, столь гордо отделявший себя от разлагающейся эпохи, теперь сознает, что он сам – часть мирового уродства, часть "мы". В финале произведения вроде бы утверждается незыблемость и реальность "ты". Сквозь хаос проступает, проясняясь – не Бог, не смысл жизни, а "дорогое, 50 бессердечное, навсегда потерянное твое лицо". И наконец появляется еще один "ты", вполне реальный "другой" – полицейский комиссар, которому адресована предсмертная записка. Но диалог по-прежнему невозможен. Ситуация "я без ты" сменяется ситуацией "ты без я"; лицо любимой бессердечное и навсегда потерянное; комиссар прочтет записку, когда героя уже не будет в живых. Исповедь лирического героя завершается предсмертной запиской. Это очень важный момент: после безличного (и бессубъектного) повествования вновь звучит голос лирического героя, пишущего записку в конкретный момент (поздней ночью), с полным сознанием реальности, обращаясь к конкретному, а не к "сновидческому" чужому сознанию. Герой мечтал "спеть" о своей любви, но написал лишь эту записку. Он использовал "австралийский" язык – условный, образный, понятный лишь двоим, в доверительной атмосфере любви и счастья. Казалось бы, тем самым утверждается в качестве единственно достойного – именно язык искусства, и предсмертная записка возвращает к счастливым дням. Однако оговорки героя ("если бы зверьки могли знать, в каком важном официальном письме я пользуюсь их австралийским языком, они, конечно же, были бы очень горды. Я был бы уже давно мертв, а они бы все еще веселились, приплясывали и хлопали в свои маленькие ладошки", и добровольный отказ от диалога-взаимопонимания в финальной фразе ("это вашего высокоподбородия не кусается"), как и весь грустно-иронический тон записки утверждает невозможность всякого общения, в том числе, и средствами искусства. Сознание героя, двигаясь по спирали в поисках "ты", описало порочный круг – от утверждения "я" через растворение в "он" снова к "я", но теперь слитому с мировым уродством ("мы"). Одиночество и бессмысленность выступают атрибутами разлагающегося мира. Такая концепция придает "Распаду атома" экзистенциалистское наполнение. М. Бахтин доказал, что "самоотчет-исповедь" принципиально не может быть завершен", ибо "живое переживание во мне, в котором я активно активен, никогда не может успокоиться в себе, остановиться, кончиться, завершиться". В "Распаде атома" переживание героем бессмысленность жизни потенциально бесконечно. Вместе с тем, трагическая история человека, покончившего собой, завершена автором, представлена как уже состоявшийся факт. Если сознание героя "Распада атома" колеблется на противоречиях, повторяется в лейтмотивах, не может оторваться от прошлого, то сознание автора однонаправленно, векторно, устремлено от прошлого к будущему и потому – особенно безнадежно. 51 Г. Иванов – поэт-лирик – использовал в "распаде атома" прозаическую форму повествования (что соответствует "эпической" установке героя: "рассказать" историю своей души и историю мира). Ю.М. Лотман отмечал, что в прозе преобладает синтагматический принцип упорядоченности текста, служащий в данном случае целям завершения судьбы героя и созданию дистанции между автором и героем. Однако герой "Распада атома" – это именно лирический герой Г. Иванова. Достаточно вспомнить такие стихотворения, как "Я люблю безнадежный покой ", "Синеватое облако ", "Пушкина, двадцатые годы ", "Отчаянье я превратил в игру". Наряду с синтагматическим принципом в "Распаде атома" существенен собственно лирический – парадигматический – принцип организации текста. Обилие дистанцированных повторов, лейтмотивов формирует подтекст, который Б.О. Корман считал одним из проявлений лирической стихии в эпических жанрах. Лирическая природа "Распада атома" отчетливо выступает при сопоставлении этого произведения с "Записками сумасшедшего" Гоголя и "Записками из подполья" Достоевского. Писатели XIX века рассказали о трагедии определенного социальнопсихологического типа людей: ничтожный чиновник, "маленький человек", "ветошка с амбицией". Г. Иванов раскрывает трагедию распада души любого человека (что соответствует обобщенности лирического субъекта; "лирическое инкогнито", местоимение, сочетает в себе и интимность, и отвлеченность. Герои Гоголя и Достоевского стремились к утверждению своего "я", но неизбежно ориентировались на "чужое" сознание, и скрытый диалогизм их исповеди доказывал невозможность абсолютно уединенного "я". Герой Г. Иванова, напротив, жаждет диалога, но не в силах вырваться за пределы своего сознания; его монологическая речь демонстрирует полную невозможность диалогических отношений. Жанр "записок" у писателей XIX века – это жанр эпический. И Гоголь, и Достоевский занимали позицию авторской вненаходимости по отношению к своим героям. Сознанием героя не исчерпывался, не покрывался весь мир. Болезненным представлениям героя авторы противопоставляли некие незыблемые, общечеловеческие ценности. Перед тем, как сознание Поприщина окончательно меркнет, ему на мгновение видятся не богатство и генеральская дочка, а тройка быстрых как вихорь коней, звезда в небе, родной дом и матушка 52 с ее любовью и защитой. Достоевский противопоставляет герою, живущему умозрительной идеей, понятие "живой жизни". В лирической поэме Г. Иванова отсутствуют моменты, внеположенные сознанию героя. Из классической литературы им выбираются произведения, схожие по комплексу переживаний (несчастная любовь, душевная патология). Кроме того, герой Иванова сознательно искажает цитаты, по-своему контаминирует тексты предшественников, интериоризируя их, присваивая себе, делает их "однонаправленными" со своим голосом. В результате "двуголосое" слово героя (например, когда он входит в роль Башмачкина) оказывается "одноголосым": "чужое" слово только усиливает "свое". "Записки сумасшедшего" и "Записки из подполья" – не совсем обычные для реализма XIX века произведения, и в героях их авторы подчеркивали особость, уклонение от нормы, патологию. Напротив, Г. Иванов создает ощущение закономерности трагедии своего героя: это "обыкновенная история" человека, потерявшего родину, веру, надежду, любовь и сочувствие окружающих. Достаточно вспомнить хотя бы трагическую судьбу Бориса Поплавского. В "Распаде атома" изображен вполне " типический" характер в "типических" обстоятельствах, что заставляет соотносить это произведение именно с реализмом XIX в. Но если классический реализм все-таки сохранял надежду на торжество гармонии, добра и истины (отсюда и эпическая дистанция между автором и героем), то произведение Г. Иванова – произведение модернистское – выражает полную безнадежность. Отчаяние в "Распаде атома" как раз и заостряется соотнесением с реалистической традицией, которая, вывертываясь наизнанку, выполняет роль "могильщика", окончательно "завершая" жизнь героя и подводя черту под классическим искусством в целом, ибо основная идея "Распада атома" – ненужность и невозможность искусства как диалогического общения людей в безобразном мире. "Распад атома" четко фиксирует историческую грань, черту, разделяющую две культурные эпохи. Современный человек не находит утешения в классическом искусстве: сияние Анны Карениной почти не достигает до нас, скоро навсегда погаснет. Остается один путь: пройти "по неприглядной, растрепанной, противоречивой стенограмме жизни". Г. Иванов создает в своей прозаической поэме промежуточную форму субъектной организации: герой максимально близок автору по эмоциональному 53 тону, но и отделен от автора как некий характер, раскрывающийся в жизненных обстоятельствах. Стирая грань между эпосом и лирикой, миром внешним и миром субъективным, такой герой обладает "двоящимся" голосом (личноиндивидуальным и безлично-всеобщим), создавая тот эффект усиливающего резонанса, от которого, как мечтал Г. Иванов, рухнет мировое уродство. Промежуточная форма субъектной организации, найденная в "Распаде атома", характерна для такого своеобразного жанра, как "проза поэта" (куда можно отнести, например, роман Б. Поплавского "Аполлон Безобразов", "Доктор Живаго" Б. Пастернака, "Бледный огонь" В. Набокова). В истории литературы назначение этого жанра, переосмысляющего традиционные отношения между автором и героем как отношения эпической вненаходимости или лирического сближения, видится в том, что в этом жанре "остраннялись" принципы классического повествования и формировалась поэтика новейшего искусства. Итак, итог "земного хождения по мукам" – отчаяние: За столько лет такого маянья По городам чужой земли Есть от чего прийти в отчаянье И мы в отчаянье пришли. – В отчаянье, в приют последний, Как будто мы пришли зимой С вечерни в церковке соседней По снегу русскому, домой. И все же Георгий Иванов верит, что ему суждено – Воскреснуть. Вернуться в Россию – стихами. В чем же притягательность его поэзии? Наверное, не только в том, что Г. Иванов ярко выразил экзистенциалистский комплекс оставленности, одиночества, заброшенности и обреченности человека, комплекс, в той или иной степени знакомый каждому в XX столетии. Г. Иванов сумел передать самую музыку стиха, ту интонацию, мелодию, которая значима даже помимо слов, пусть даже они "рассыпаются и не значат ничего". В поздних стихах Г. Иванова нет стилизации, он отбросил все украшения и ухищрения, вместе с иллюзиями. 54 Не боясь посмотреть горькой правде в глаза, он писал о самом главном. Вл. Марков утверждает: "В лучшей эмигрантской поэзии словарь утончен до предела, до христианской нищеты, так что сквозь язык начинает сквозить дух, – столь тонка словесная оболочка"1. Дух поэзии, добавили бы мы. Тяготение к малым формам стиха, афористичность при дневниковой интимности и, главное, прозрачность стихового оформления сближают Г. Иванова с поэтами "парижской ноты". Итак, если В. Ходасевич как святыню берег четырехстопный ямб, способный своей гармонией сдержать хаос, то Г. Иванов не может забыть музыку русской поэзии. Каковы те приемы, с помощью которых высвечивается интонация из-под оболочки слов? Прежде всего, "цитатность", широкая интертекстуальность стихов, отсылающих к поэзии Лермонтова, Блока, Анненского. Тот же Вл. Марков считал Г. Иванова одним из самых "цитатных" русских поэтов. Этому исследователю посвящено стихотворение, полное аллюзий на произведения Гете, Пушкина, Мятлева и Тургенева. Полутона рябины и малины, В Шотландии рассыпанные втуне, В меланхоличном имени Алины, В голубоватом золоте латуни. Сияет жизнь улыбкой изумленной, Растит цветы, расстреливает пленных, И входит гость в Коринф многоколонный, Чтоб изнемочь в объятьях вожделенных! В упряжке скифской трепетные лани – Мелодия, элегия, эвлега... Скрипящая в трансцендентальном плане, Немазанная катится телега. На Грузию ложится мгла ночная. В Афинах полночь. В Пятигорске грозы. 1 Марков Вл. О свободе в поэзии. Спб.,1994. С. 193. 55 ... И лучше умереть, не вспоминая, Как хороши, как свежи были розы. Стихотворение построено как "центон", т.е. из фрагментов других произведений, логической связи между ними нет, но каждый влечет длинный ряд ассоциаций из истории русской поэзии, настроенных на общий "меланхоличный" тон. Приведем еще один пример: В дыму, в огне, в сиянье, в кружевах, Да – в кружевах и страусовых перьях, В сухих цветах, в бессмысленных словах И в самых грешных снах и детских суеверьях... – Так женщина смеется на балу. – Так беззаконная звезда летит во мглу. Ночь. И асфальт блестит. И дождь идет. И сыростью от Сены тянет. И вдруг покажется, что это вот Единственное, что, быть может, не обманет, Единственное, что не может обмануть... – Дай руку. Навсегда. Не позабудь... Очевидно, что прямой смысл слов не важен: первые четыре строки указывают на обстоятельство места, но без подлежащего и без сказуемого, а потом, вместо указания на действующее лицо, даются две параллели, два сравнения (с женщиной и звездой), после чего следует вывод: "и это вот" единственное, что не обманет. Что "это вот"? Наверное, интонация Блока периода "Снежной Маски", "Города", "Страшного мира", на что указывают "блоковские" детали (дым, огонь, перья страуса, беззаконная звезда) и перекличка в последней строке с финалом стихотворения Блока "Миры летят. Года летят. Пустая...": Как страшно все! Как дико! – Дай мне руку, Товарищ, друг! Забудемся опять. 56 Итак, "цитатность" стихотворений Г. Иванова помещает их в лоно русской классической поэзии. Второй прием – обнажение интонационной и даже метрической основы стиха. Так, в стихотворении "Я люблю безнадежный покой..." важна напевность трехстопного анапеста, заставляющая вспомнить романс "Я тебе ничего не скажу". Иногда повторяются почти одни и те же слова (т.е. новой информации нет), но с изменением интонации, например: Белая лошадь бредет без упряжки, Белая лошадь, куда ты бредешь? или: Даль грустна, ясна, холодна, темна, Холодна, ясна, грустна. В последнем примере повторяются слова, но пятистопный ямб сменяется трехстопным. Может быть, Г. Иванов полагал вечной и неуничтожимой некую поэтическую субстанцию (мелодию), которая вновь и вновь возрождается к жизни, сияя поверх банальных слов и безрадостных мыслей. Мелодия становится цветком, Он распускается и осыпается, Он делается ветром и песком, Летящим на огонь весенним мотыльком, Ветвями ивы в воду опускается... Проходит тысяча мгновенных лет, И перевоплощается мелодия В тяжелый взгляд, в сиянье эполет, В рейтузы, в ментик, в "Ваше благородие", В корнета гвардии – о, почему бы нет?.. Туман... Тамань... Пустыня внемлет Богу. – Как далеко до завтрашнего дня!... И Лермонтов один выходит на дорогу, Серебряными шпорами звеня. 57 58 В мире "Черной мадонны": Борис Поплавский (1903 – 1935). На пустых бульварах замерзая, Говорить о правде до рассвета, Умирать, живых благословляя, И писать о смерти без ответа Г. Иванов называл себя последним поэтом "серебряного века", донесшим до нас, сквозь все диссонансы, его музыку. Б. Поплавский принадлежал к более молодому поколению русских эмигрантов, и его лирика, яркая и самобытная, демонстрирует один из возможных путей дальнейшего развития русской поэзии. Д. Мережковский говорил: "Если эмигрантская литература дала Поплавского, то этого одного достаточно для ее оправдания на всех будущих судилищах". Такой строгий, взыскательный критик, как Г. Иванов, считал, что "в грязном, хаотическом, аморфном состоянии стих Поплавского есть проявление именно того, что единственно достойно называться поэзией в неунизительном для человека смысле. Силу "нездешней радости", которая распространяется от "Флагов", можно сравнить без всякого кощунства с впечатлением от "Симфоний" Белого и даже от "Стихов о Прекрасной Даме"." Юрий Терапиано считал Поплавского "первым и последним русским сюрреалистом"; называли его и "русским Рембо". Борис Юлианович Поплавский родился в Москве, в семье, где очень любили музыку. Отец Юлиан Игнатьевич был одним из способных учеников П.И. Чайковского, но вынужденно служил чиновником, был мягким и нежным человеком. Мать, закончившая Московскую консерваторию по классу скрипки, была, напротив, довольно сурова с детьми. До 1917 г. Борис учился во Французском лицее, увлекался музыкой и живописью. С 1921 г. семья живет а Париже. Мать зарабатывает шитьем, отец дает уроки музыки, брат становится шофером такси. Отношения Поплавского с близкими совсем испортились. Семья жила в большой нужде, а он не мог и не хотел найти постоянную работу. Большую часть дня он спал, потом писал, вечера просиживал в библиотеке. Ночи проводил с молодыми художниками и поэтами на Монпарнасе. В 1934 г. его невеста Наталья Ивановна Столярова уехала с отцом в СССР (отец был расстрелян, она репрессирована, много лет пробыла в лагерях; ее упоминают в своих произведениях В. Шаламов и А. Солженицын; умерла в Москве в 1984 г.). Борис остался совершенно одиноким, без помощи, без участия. Его романы 59 ("Аполлон Безобразов", "Домой с небес") отказывались публиковать. Вышел только один сборник стихов – "Флаги" (1931). Дневники Поплавского свидетельствуют о том отчаянии, в которое погружался поэт. Илья Зданевич утверждал, что эмиграция не только не могла ему ничего дать, но и взяла у него все, что сумела. На короткое время имя Поплавского стало популярным, благодаря его внезапной гибели от смертельной дозы наркотика. Существовали три версии: несчастный случай, самоубийство, убийство (некто Сергей Ярхо, решив покончить с собой, захотел прихватить с собой "попутчика"). После гибели Поплавского его друзья издали три сборника стихов: "Снежный час", "В венке из воска", "Дирижабль неизвестного направления". Состояние души у лирического героя Поплавского очень противоречивое, складывающееся из двух полюсов ("и отвращение от жизни, и к ней безумная любовь", если вспомнить слова Блока). Об этом Поплавский пишет в стихотворениях "Двоецарствие", "Черный и белый": Я на кладбищах двух погребен, Ухожу я под землю и в небо, И свершают две разные требы Две колдуньи, в кого я влюблен. У него есть стихотворения, наполненные радостью жизни, солнцем, сиянием. Так, ранним утром, в предчувствии жаркого дачного дня, "так радостно смеется проснувшаяся к свежести душа": Ей в лес идти, вести грибное дело, Что скрыла от гостей поваленная ель. Над ней кусты цветут и греются без дела, А облако в ручье скользит на мель. Все, кажется, понять необходимо, Идти и вспоминать, иль на реку грести, Купаться и, домой вернувшись невредимым, В ушах с собою воду принести. Еще полдня счастливый сон заметен. За чайным хаосом, читая у стола, Еще душа могла тогда ответить, 60 Как радуга, зачем она пришла. Не опуская глаз, не притворяясь, С серьезностью идя на грубый смех... Окно раскрылось, зеркалом качаясь, И сад вошел в сосновый дом для всех. И снова долгим днем, В саду, в сияньи листьев, Где шляется пчела Над лестницей, в пыли Вода горит огнем, И в бездне летних истин, Навек душе тепла Верна судьбе земли. Но гораздо чаще выражено другое состояние: "от постоянной боли душа утомлена, тиха, пуста", "сердце горя ждет", "мне мир невыносим, пощады слабым нет". Эти полюса души лирического героя реализованы в двух макрообразах: Лета и Зимы. Лето – праздник жизни ("Вскипает в полдень молоко", "Жарко дышит степной океан", "Ветер легкие тучи развеял", "Разметавшись широко у моря", "Стекло блестит огнем"). Но праздник нерадостный, солнечные забавы мучительны. Розовый час проплывал над светающим миром. Души из рая назад возвращались в тела. Ты отходила в твоем сверхъестественном мире. Солнце вставало, и гасла свеча у стола. Розовый снег опадал в высоте безмятежной. Вдруг Ты проснулась еще раз; но Ты никого не узнала, Странный Твой взгляд проскользил удивленный и нежный И утонул в полумраке высокого зала. 61 А за окном, незабвенно блистая росою, Лето цвело и сады опускались к реке. А по дороге, на солнце блистая косою, Смерть уходила и черт убегал налегке. Мир незабвенно сиял, очарованный летом. Белыми клубами в небо всходили пары. И, поднимая античные руки, атлеты Камень ломали и спали в объятьях жары. Солнце сияло в бессмертном своем обаянье. Флаги всходили, толпа начинала кричать. Что-то ужасное пряталось в этом сиянье. Броситься наземь хотелось, забыть, замолчать. Стихотворение построено на доминанте розового, утреннего, нежного; запечатлевает моменты соприкосновения земного и идеального, естественного и сверхъестественного (души из рая возвращаются в тела, уходит смерть, убегает черт). Сияющий земной шар, залитый блеском, светом, словно развеществляется, воспаряет к небу, и человек приравнивается к "Ты", т.е. божеству, чистому духу. Но в сиянии солнца чувствуется что-то ужасное. Душа лирического героя боится громкого, счастливого мира, за святым ей чудится дьявольское. Картина отшумевшего праздника рисуется в стихотворении "Черная Мадонна". Черная Мадонна Вадиму Андрееву Синевели дни, сиреневели, Темные, прекрасные, пустые, На трамваях люди соловели. Наклоняли головы святые, Головой счастливою качали. 62 Спал асфальт, где полдень наследил. И казалось, в воздухе, в печали, Поминутно поезд отходил. Загалдит народное гулянье, Фонари грошовые на нитках, И на бедной, выбитой поляне Умирать начнут кларнет и скрипка. И еще раз, перед самым гробом, Издадут, родят волшебный звук, И заплачут музыканты в оба Черным пивом из вспотевших рук. И тогда проедет безучастно, Разопрев и празднику не рада, Кавалерия, в мундирах красных, Артиллерия назад с парада. И к пыли, к одеколону, к поту, К шуму вольтовой дуги над головой Присоединится запах рвоты, Фейерверка дым пороховой. И услышит вдруг юнец надменный С необъятным клешем на штанах Счастья краткий выстрел, лет мгновенный, Лета красный месяц на волнах. Вдруг возникнет на устах тромбона Визг шаров, крутящихся во мгле. Дико вскрикнет черная Мадонна, Руки разметав в смертельном сне. 63 И сквозь жар, ночной, священный, адный, Сквозь лиловый дым, где пел кларнет, Запорхает белый, беспощадный Снег, идущий миллионы лет. Нежная нота ("И казалось, в воздухе, в печали / Поминутно поезд отходил") сменяется визгом тромбонов, короткий миг счастья влечет за собой смерть, ночной жар одновременно и "священный", и "адный". Такой оксюморонный (т.е. "соединяющий" несовместимое) образ мира, отождествляющий жизнь и смерть, святое и дьявольское, явь и фантазию, воплощен и в стихотворении "Роза смерти". Роза смерти Г. Иванову В черном парке мы весну встречали, Тихо врал копеечный смычок, Смерть спускалась на воздушном шаре, Трогала влюбленных за плечо. Розов вечер, розы носит ветер. На полях поэт рисунок чертит. Розов вечер, розы пахнут смертью, И зеленый снег идет на ветви. Темный воздух осыпает звезды, Соловьи поют, моторам вторя, И в киоске над зеленым морем. Полыхает газ туберкулезный. Корабли отходят в небе звездном, На мосту платками машут духи, И сверкая через темный воздух, Паровоз поет на виадуке. Темный город убегает в горы, 64 Ночь шумит у танцевальной залы, И солдаты, покидая город, Пьют густое пиво у вокзала. Ннзко-низко, задевая души, Лунный шар плывет над балаганом, А с бульвара под орган тщедушный, Машет карусель руками дамам. И весна, бездонно розовея, Улыбаясь, отступая в твердь, Раскрывает темно-синий веер С надписью отчетливою: смерть. Итак, мир в стихах Поплавского двулик: лето и зима, свет и тьма, сияние и чернота. Причем это не двоемирие, как у романтиков, это один мир, состоящий из противоположностей (поэтому основной принцип поэтики не контраст, а оксюморон). Может быть, лирическому герою ближе зима с ее печалью, потому что здесь мир избавлен от двойственности: "Сердцу все равно", "Ничего Тебе не надо, только все забыть", "Покинув жизнь, я возвратился в счастье", "Замирает душа, отдыхает, забывает сама о себе". Сквозной мотив в поэзии Поплавского – мотив снега. Снег, идущий миллионы лет, символизирует тот ужас, на котором зиждется обыденная жизнь бесконечно усталой и исстрадавшейся души человека. Снег – это падающие на лед человеческие жизни, это предвестие смерти, это воспоминание о прошлом, это эмблема сиротства и неприютности лирического героя: Печаль зимы сжимает сердце мне. Оно молчит в смирительной рубашке. В сердце всякой жизни страх живет. Ветви неподвижны. Небо снега ждет. Снег – знак бесплодия и безжизненности мира: Как все чисто и пусто. Как все безучастно на свете. Все застыло, как лед. Все к луне обратилось давно. 65 Розовый, белый, зеленый, алый снег падает на ветви, снег порхает даже в июньскую жару. Весь поэтический мир Поплавского построен на алогизме, т.е. на нарушении обычной логики здравого смысла. Христос спит в воздухе, "постлав газеты лист вчерашний", а "статуи играют на рояле". Роса катится "водопадом ужасным", а кузнечик "грохочет, как поезд"; с небес опускаются "большие леса", а на земле "со свистом растут исполинские травы". Как на картинах сюрреалистов (С. Дали, Р. Магрит, Х. Миро), точно воспроизведенные детали даются в невозможных сочетаниях, когда тяжелое висит в воздухе, твердое растекается, безжизненное оживает. Особенно часто Поплавский использует алогизм времени: "пустое время", летят мимо "бабочки-года", "стекает время жизни, как вода" и т.д. Римское утро Поет весна, летит синица в горы. На ипподроме лошади бегут. Легионер грустит у входа в город. Раб Эпиктет молчит в своем углу. Под зеленью акаций низкорослых Спешит вода в отверстия клоак, А в синеву глядя, где блещут звезды, Болтают духи о своих делах. По вековой дороге бледно-серой Автомобиль сенатора скользит. Блестит сирень, кричит матрос с галеры. Христос на аэроплане вдаль летит. Богиня всходит в сумерки на башню. С огромной башни тихо вьется флаг. Христос, постлав газеты лист вчерашний, Спит в воздухе с звездою в волосах. А в храме мраморном собаки лают И статуи играют на рояле. 66 Века из бани выйти не желают, Рука луны блестит на одеяле. А Эпиктет поет. Моя судьба Стирает Рим, как утро облака. Как и художники-сюрреалисты, Поплавский запечатлевает не действительный мир и не мир воображаемый, а мир вообразимый, некую промежуточную реальность, нечто, находящееся между видимым и тайным, свободное падение над миром земным. Его поэтическое пространство иррационально-глубоко, текуче, странно изменчиво, полно метаморфоз (т.е. превращений неживого в живое и наоборот). Поплавский чувствует молчаливую жизнь асфальта, тентов у магазинов, флагов, с их взлетами, трепетанием на ветру и бессильным падением. Само небо – звездный флаг над землей. Ангелы, небесные дирижабли, дева рассвета странно появляются здесь, среди городской суеты: Из дирижабля ангелы на лед Сойдя, молчат с улыбкой благосклонной. *** Смерть спускалась на воздушном шаре, Трогала влюбленных за плечо. *** Корабли отходят в небе звездном, На мосту платками машут духи. *** Видел я, как в таинственной позе любуется адом Путешественник – ангел в измятом костюме весны. *** Грязный ангел забывал свой голод... И ложился спать под флагом звездным, Постепенно покрывавшим город. Такой странный мир – это, конечно, мир онирический, представляющий собой сон или галлюцинацию. Во сне объективный предмет и субъективные образы сознания одинаково значимы, имеют один статус. В поэзии Поплавского потому и нет двоемирия, что сон становится единственной реальностью: 67 Спал асфальт, где полдень наследил. *** Воздух спал, не видя снов, как Лета. Природа спит, и сон ее глубок. *** Спящий призрак, ведь я не умею Разбудить Тебя, ведь я твой сон и т.д. Состояние лирического героя Поплавского напоминает состояние спящего человека: он и присутствует в мире (физически) и отсутствует в нем (внутренне). Сон позволяет проникнуть в сверхреальность, отталкиваясь от реальности, не порывая окончательно с ней; это длящееся состояние между жизнью и смертью, когда жаль почти покинутого земного, предметного мира, трогательного в своей грубой материальной красоте. Детство Гамлета Ирине Одоевцевой Много детей собралось в эту ночь на мосту. Синие звезды надели лимонные шляпы. Спрятала когти медведица в мягкую лапу. Мальчик надел свой новый матросский костюм. Мост этот тихо качался меж жизнью и смертью, Там, на одной стороне, был холодный рассвет. Черный фонарщик нес голову ночи на жерди, Нехотя загорался под крышами газовый свет. Зимнее утро чесалось под снежной периной. А на другой стороне был отвесный лиловый лес. Сверху курлыкал невидимый блеск соловьиный. Яркие лодки спускались сквозь листья с небес. В воздухе города желтые крыши горели. Странное синее небо темнело вдали. 68 Люди на всех этажах улыбались, блестели. Только внизу было вовсе не видно земли. Поезд красивых вагонов сквозь сон подымался. Странные люди из окон махали платками. В глетчере синем оркестр наигрывал вальсы, Кто-то с воздушных шаров говорил с облаками. Каждый был тих, и красив, и умен беспредельно. Светлый дракон их о Боге учил на горе, В городе ж снежном и сонном был понедельник. Нужно в гимназию было идти на заре. Кто-то из воздуха детям шептал над мостами. Дети молчали, они от огней отвернулись. Странный кондуктор им роздал билеты с крестами. Радостно лаял будильник на тех, кто вернулись. Если В. Ходасевич, Г. Иванов отвергали окружающий мир за его безобразие и бездушие, то Борис Поплавский сумел увидеть нечто таинственное и прекрасное здесь, в грязном парке, в каменном городе. Можно сделать такое сравнение "точек зрения", способов мировидения. В. Ходасевич в "Европейской ночи" уподобляет поэта – слепому: А на бельмах у слепого Целый мир отображен: Дом, лужок, забор, корова, Клочья неба голубого – Все, чего не видит он. Г. Иванов пишет: Должно быть, сквозь свинцовый мрак, На мир, что навсегда потерян, Глаза умерших смотрят так. Б. Поплавский никогда не снимал черные очки. Причины тому могут быть самые разные, но невольно хочется истолковать эту черту как знак, знак 69 закрытых глаз. Зрение с закрытыми глазами – это сновидческое зрение, альтернативное обыденному, "дневному" взгляду на мир. Показав действительность в неожиданном, "сюрреалистическом" ракурсе, он ломает стереотипы обыденного сознания, показывает мир как огромную площадку для духовного (а не социального, экономического, политического) эксперимента. Его творчество отражает подспудное, внутреннее становление постсимволистской культуры, еще не воплотившейся, еще находящейся в возможности. Важнейшей художественной категорией для Поплавского является Дух музыки, понимаемый как творящая сила жизни. Поплавский писал: "Дело в том, что в чистом времени кажутся нам как бы разлитые слои его, лишь самому важнейшему из коих удается воплотиться в реальности. Внутри же времени, снится нам, звучит некий свободный, активно-пророческий слой, который еще не смог воплотиться, который еще только взыскует к воплощению, то есть тот напор, центр коего направлен к будущему в более глубоких слоях своих, есть песнь будущего, есть некое вечное устремление далеко за пределы актуально реализуемого"1. В отличие от символистов, Поплавский ищет источник творческой силы ("Музыку") не в потустороннем, а в земном мире — что делает этот, потусторонний, мир загадочным, "энигматичным". В лирическом романе "Аполлон Безобразов" живопись и музыка сливаются в одной зыбкой картине: "Все, казалось, было безучастно и пусто; но, в сущности, миллионы огромных глаз наполняли воздух, и во всех направлениях руки бросали цветы и лили запах лилий из электрических ваз. Но никто не знал, где кончаются метаморфозы, и все хранили тайну, которую не понимали, а тайна тоже молчала и только иногда смеялась в отдалении протяжным, протяжным и энигматическим голосом, полным слез и решимости, но может быть, она все же говорила во сне."2 Живая ткань времени, "песнь будущего", предчувствие звука выражены в странных "автоматических стихах Поплавского 1920-х гг. Беззащитный сон глубины 1 2 Поплавский Б. Из дневников // Звезда, 1993. № 7. С. 119. Поплавский Б. Апполон Безобразов // Юность. 1991. №2. С.94. 70 Отразился в руках судьбы Бледно-желтою нитью зари Перевязаны руки царей Все готово на небесах Ждите, тише, он настает Тот внезапный трепет в часах Тот ошибочный странный звон... М.Слоним писал о музыкальности Поплавского: "Его нельзя не заслушаться: этот голос, богатый интонациями нежными и вкрадчивыми, поет так чудесно, что забываешь обо всем, кроме обольстительного напева."1 К сожалению, жизнь Поплавского трагически оборвалась. Поэтесса Любовь Столица так откликнулась на его смерть: С ночных высот они не сводят глаз, под красным солнцем крадутся, как воры, они во сне сопровождают нас – его воркующие разговоры. Чудесно колебались, что ни миг, две чаши сердца: нежность и измена. Ему друзьями черви были книг, забор и звезды, пение и пена. Любил он снежный падающий цвет, ночное завыванье парохода... Он видел то, чего на свете нет. Он стал добро: прими его, природа. Верни его зерном для голубей, сырой сиренью, сонным сердцем мака... Ты помнишь, как с узлом своих скорбей влезал он в экипаж, покрытый лаком, 1 Слоним М. Книга стихов Поплавского // Борис Поплавский в оценках и воспоминаниях современников. СПб, 1993. С.169. 71 как в лес носил видения небес он с бедными котлетами из риса... Ты листьями верни, о желтый лес, оставшимся – сияние Бориса. 72 Осмысление исторической судьбы России в произведениях писателей-эмигрантов. "История Государства Российского" в романах М. Алданова (1886-1957). Марк Александрович Алданов (Ландау), сын киевского фабриканта, окончил в 1910 г. два факультета Киевского университета (юридический и физико-математический), продолжал свое обучение в Париже, занимаясь правом и химией. Но с 1915 г., с выхода своей первой литературоведческой монографии "Толстой и Роллан", стал писателем-профессионалом. Эмигрировав после Октябрьской революции, в 1919 г. снова поселился в Париже. Это один из самых плодовитых и популярных за рубежом русских писателей (его собрание сочинений насчитывает около 40 томов). Главное в нем, по мнению Н.И. Ульянова1, то, что "это был человек, сильно любивший Россию". Но возвращение на родину, в связи с резким неприятием сталинщины, было невозможным. В начале Второй мировой войны Алданов уехал в США, стал одним из создателей "Нового журнала", заменившего парижские "Современные записки". Последние десять лет жизни писателя опять были связаны с Францией. Марк Алданов привлекал людей вежливостью и корректностью, идеальным сочетанием ума и воли, ироничностью. И. Бунин называл его "последним джентльменом русской эмиграции". 1 Николай Иванович Ульянов (1904-1985) – яркий критик "второй волны" эмиграции, его статьи ценны тем, что дают "урок внутренней свободы". Судьба Ульянова очень драматична. Родился в Петербурге, в небогатой семье, после учебы на историко-филологическом факультете Петербургского университета был оставлен при кафедре. Потом работал в Архангельском пединституте, затем старшим научным сотрудником в Академии наук в Ленинграде. В 1936 г. был арестован, отбыл пять лет в лагерях (Соловки, Норильск, Таймыр). В 1941 г., после освобождения, работал ломовым извозчиком в Ульяновске. В сентябре был взят на рытье окопов под Вязьмой, попал в немецкий плен. Сумел бежать из концлагеря и пробраться в Россию. В 1943 г. был вместе с женой отправлен на работы в Германию. В 1945 г. освобожден американскими войсками. Возвратиться в Россию было нельзя, перебрался в Марокко, где работал сварщиком на заводе. Тем не менее, продолжал творческую деятельность. Бывая в командировках в Париже, познакомился с Б. Зайцевым, М. Алдановым, Г. Ивановым, Н. Берберовой и др. С 1953 прожил в США, всего два года, т.к. не согласился сотрудничать с антисоветской радиостанцией. В 1955 г. эмигрировал в Канаду, где работал преподавателем в университете. Излюбленный жанр – эссе, дающий всегда неожиданный поворот темы. 73 М. Алданов известен как исторический романист. Шестнадцать романов и повестей, написанные им, охватывают историю России на протяжении двух столетий: от Петра III до Сталина. Его кумиром был Л. Толстой (хотя есть некоторая близость и к Анатолю Франсу). По-толстовски Алданов стремился к роману эпопейного типа, с большим числом персонажей, сочетая интерес к истории государства с интересом к частным судьбам людей. Первой его вещью в области беллетристики был небольшой роман "Святая Елена, маленький остров" (1921), сразу показавший, что исторические романы Алданова – прежде всего романы психологические (потому в них так много вымышленных лиц). Роман "Святая Елена, маленький остров" вошел позднее в качестве заключительной части в тетралогию "Мыслитель", охватывающую период Французской революции и наполеоновских войн. Другие романы, составляющие тетралогию – "Девятой термидора" (1923), "Чертов мост" (1925), и "Заговор" (1927). Заканчивается тетралогия смертью Наполеона в 1821 году. К тетралогии, как указывает Глеб Струве1, примыкает "Десятая симфония" (философский рассказ), действие которой частично происходит тоже в наполеоновскую эпоху, но захватывает и начало Третьей империи. До Второй мировой войны были написаны также "сказки" о Байроне ("Могила воина") и о Петре III ("Пуншевая водка"), кроме того, три романа о русской революции ("Ключ", "Бегство", "Пещера"), роман об истоках этой революции ("Истоки"), в центре которого – цареубийство 1 марта 1881 года и где в числе действующих лиц выступают Маркс, Бакунин, Гладстон; "Повесть о смерти", посвященная Бальзаку, и два романа о современности – "Начало конца", где показан мир накануне Второй мировой войны, и "Живи, как хочешь", где изображен уже послевоенный период. Каждый из романов самостоятелен, но их связывает между собой многое – от некоторых общих действующих лиц до сложных историко-философских нитей. В 1953 г. в книге "Ульмская ночь. Философия случая" Алданов предложил своеобразный историко-философский комментарий романам, прослеживающим "волнующую связь времен". 1 Струве Г. Русская литература в изгнании. Париж – Москва, 1996. С. 182-183. к своим 74 Философия истории, по Алданову, это философия случая. Лейтмотив его высказываний об истории: "все суета сует". Роковая ирония судьбы – непременная спутница исторических событий. Алданов весьма скептически смотрел на идею исторического прогресса. В исторических событиях всегда существует множество причинно-следственных линий, их пересечение создает кажущуюся случайность. Общество, человек могут вмешиваться в стихийных ход событий. Там, где есть разные вероятности, есть и свобода выбора. Итак, главная идея Алданова – свобода выбора, дарованная человеку. Одним из наиболее интересных нам представляется роман "Ключ" (1929), опубликованный в журнале "Дружба народов", 1989, № 3,4. Основу фабулы романа составляет детективная история. В одной из квартир, сдававшихся господам для ночных увеселений, был обнаружен труп банкира Карла Фишера. У полицейского надзирателя и сыщика возникает версия об убийстве. Дело поручено следователю по особым поручениям Николаю Петровичу Яценко. Он подозревает в убийстве некого Загряцкого, приятеля Фишера по развлечениям, близкого к жене Фишера. Помимо отвратительной, отталкивающей личности Загряцкого, против него говорит и то, что ключ от квартиры был не только у Фишера, но и у него; кроме того, через две недели истекал срок уплаты по векселю на пять тысяч. Складывается версия, что Загряцкий убил банкира с целью завладеть богатством, женившись на вдове банкира. Одновременно делом занимается шеф тайной полиции Федосьев. Он подозревает ученого, химика и философа, профессора Брауна, который недавно вернулся из-за границы и имел связи с революционерами, в частности, с дочерью Фишера. Бесспорные улики есть и против одного (Загряцкий не смог доказать свое алиби), и против другого (у Брауна был третий ключ от квартиры, он выбросил его потом в Неву). Отпечатки пальцев на бокале убитого не совпадают с отпечатками ни Загряцкого, ни Брауна. Дело до конца так и не расследовано, истина не установлена. Однако внешняя интрига – далеко не все в романе. Главный герой произведения – русская интеллигенция в канун Февральской революции. Английский майор Клервилль, отправляясь на званый вечер к адвокату Кременецкому, полагает, что видит "сливки" интеллигенции, ее передовую часть. Браун, присутствовавший на этом вечере, утверждает, в свою очередь, что Клервилль сам настоящий интеллигент, с сомнениями, исканиями, 75 "проклятыми" вопросами. Об интеллигенции спорят Браун с Федосьевым. Браун говорит, что русскую интеллигенцию обычно очень произвольно делят на два лагеря: реакционный и революционный, но ведь всю русскую цивилизацию создала интеллигенция. Федосьев возражает: "Петр, например? Правда, типичный интеллигент? А он ведь принимал участие в создании русской цивилизации..." Встает вопрос о том, что движет русскую историю: интеллигенция или государство, власть, к которой интеллигенция всегда была в оппозиции (символично, что разговор происходит в поезде, мчащемся сквозь ночь по дороге в Царское Село). Основные эпизоды разворачиваются в доме Кременецкого (званый вечер, спектакль), в ресторане (юбилей Кременецкого), в Таврическом дворце, где заседает Государственная Дума; в романе много групповых сцен, массовых диалогов, споров, речей. В результате и создается собирательный образ русской интеллигенции. Какова авторская позиция, авторская концепция сущности и роли интеллигенции в судьбе России? Алданов показывает своих персонажей разносторонне, без деления на "злодеев" и "героев". Вот, например, журналист из газеты "Заря" Певзнер Альфред Исаевич, подписывающийся псевдонимом "Дон Педро". Это худощавый человек лет сорока, с рыжей бородкой, энергичный, спортивный, ловкий в работе. Вместе с тем, он очень тщеславен (обижен, что не получил приглашения на вечер Кременецкого, пришлось пообещать адвокату дать о нем материал в газете). Он ведет свою интригу, чтобы получить место репортера в Государственной Думе. Но некоторые мелкие черты характера не отменяют главного – преданной любви к своей журналистской работе. Адвокат Семен Исидорович Кременецкий имеет передовые взгляды, он либерал, учился в Гейдельбергском университете. Адвокат богатеет и радуется новой мебели, экипажу, возможности устраивать вечера и юбилеи. У него свои интриги против адвоката Меннера, свои амбиции (огорчен, что в газете его назвали седьмым среди других адвокатов), обижается, когда его величают "видным" адвокатом, а не "известным". Но Кременецкий работал в течение десяти месяцев в году по десять часов в сутки, очень добросовестно готовился к процессам, не делая разницы между богатыми и бедными клиентами. Он талантлив, порядочен и корректен. Алданов с иронией передает адвокатское 76 красноречие Кременецкого, но все же тот искренне воодушевлен и сочувствует подзащитным. Следователь Николай Петрович Яценко, еще не старый, с приятным, умным лицом, человек либеральных взглядов. Ему неприятны сыщик Антипов, шеф тайной полиции Федосьев (т.е. представители органов, независимых от государства). Живет только на жалованье, весьма скудно, жалеет за это жену и сына Витю. Его уважают все, от Федосьева до швейцара в суде. Он способен тонко чувствовать, его трогают стихи Баратынского. Это добрый, благожелательный человек, "джентльмен суда". Выступает за гуманное ведение допросов, хотя сам не всегда может этот принцип выдержать. Но часто бывает недоволен собой (страшное для него произведение – повесть Л. Толстого "Смерть Ивана Ильича"). Яценко чувствует какие-то неувязки в деле Фишера, подозревает ошибку (и он действительно ошибался, подозревая Загряцкого). Колоритный образ — нувориш Нещеретов, разбогатевший во время войны с Германией, покупая и перепродавая предприятия. Это делец новой складки, энергичный, независимый, спортивный. Однако и его увлекала не только нажива, самая работа созданной им огромной фирмы доставляла ему подлинное наслаждение. Понимает, что в общем итоге его труды идут на пользу государству, и это по-настоящему задевало его в душе. Что бы ни утверждал сердитый революционер-литератор в никелированных очках, смешавший в их недавнем разговоре кокс с торфом, именно ему, Нещеретову, много больше, чем работавшим у него рабочим и инженерам, может быть благодарна Россия и за спички, и за химические продукты, и за рафинад, и за стаканы для шрапнели. Нещеретову присущи талант и размах. Даже второстепенные персонажи показаны неоднозначно. Тот же Загряцкий, безусловно, отвратительный тип, но он все же невиновен в убийстве, он отрицает свою связь с дамой, не желая компрометировать ее. С другой стороны, по-настоящему привлекательны Муся, дочь Кременецкого, Витя, сын Яценко: юные, чистые, красивые. С их образами в роман входит поэзия первой любви. Но Витя еще по-детски наивен, а Муся, после всех метаний и поисков, все же вполне по-буржуазному влюбляется в благополучного Клервилля. В романе представлена интеллигенция достаточно либеральных взглядов: все рады отставке Федосьева, убийству Распутина, все ратуют за войну до победного конца, все приветствуют Февральскую революцию. Но 77 автор не скрывает своей иронии по поводу свободолюбия своих героев. Так, в романтических красках видит революцию Витя: "В его памяти промелькнуло то, что он читал и помнил о революциях: жирондисты, Дантон, Дмитрий Рудин. Витя увидел себя на баррикаде, со знаменем, с обнаженной саблей. Баррикада была под окнами Муси. – Да, это был бы лучший исход. Ах, если бы, если бы революция!.. Только гроза может принести мне славу и сделать достойным ее любви!". С сарказмом передана речь "левого князя", депутата Думы Горенского, опьяненного рукоплесканиями слушателей. Князь обладал замечательной способностью произносить фразы, которые все тысячу раз читали в газетах, так, точно они только что зародились в его голове. Он говорил о войне с Германией как о борьбе Ормузда и Аримана, о народе русском, готовом совершить прыжок из царства необходимости в царство свободы, о конце мира кнута и мракобесия. Свою пламенную речь он закончил чтением "Песни о Буревестнике" М. Горького. Зал стонал от рукоплесканий. По мнению автора, не эти интеллигенты делают историю страны. Революция врывается в их жизнь помимо их воли и воспринимается ими с бытовой стороны. Многие сюжетные линии остались незавершенными: что будет с Витей? выйдет ли Муся замуж за Клервилля? Какова судьба Дон Педро? – не это интересует романиста в первую очередь. Центральное место в системе персонажей занимают двое: Браун и Федосьев. Внешне это антиподы, представители двух крайних сил, имеющих отношение к революции. Браун – член эсеровской партии, Федосьев – шеф тайной полиции, один готовил революцию, другой с ней боролся. В спорах этих людей высказываются более глубокие взгляды на происходящее в России. Парадокс заключается в том, что контраст этих героев чисто внешний, в сущности, они двойники. Браун в своем философском трактате "Ключ" изложил теорию, согласно которой существуют два мира, мир A и мир B. В мире A все кажется разумным, логически объясненным, все катится по накатанной колее и внушает оптимизм. Но вдруг неожиданно врывается мир B, мир сущности, а не видимости, мир жестокости и зла. Например, вождь революционной партии в мире A – идеалист чистейшей воды, фанатик своей идеи, покровитель всех угнетенных, страстный борец за права и достоинство человека. В мире B он – крепостник, деспот, интриган, иррациональное в жизнь человека. полумерзавец. Мир B привносит все 78 Так вот, в мире В Браун и Федосьев – двойники. Браун не верит в успех революции, Федосьев не верит в возможности государственной охранительной власти. Оба знают, что революция надвигается и все катится в бездну, оба достаточно презрительно относятся к революционерам. В разговоре с Яценко Федосьев выступает против революционного террора, анархии, разрушительства, и либерал Яценко сочувствует шефу охранки! Браун и Федосьев схоже оценивают последствия революции: к власти рано или поздно придут люди "третьего сорта", посредственности, опошлив все высокие идеи. Оба считают лучшим вариантом для России тип английской и американской демократии. Браун, присутствуя на заседании Государственной Думы и оглядывая величественный Таврический дворец, считает: "Да, это и есть наше главное окно в Европу, и отсюда могло бы прийти спасение". Он говорит: "В последние пятьдесят лет у нас почти все молодое поколение воспитывалось в идее борьбы с правительством... Я не возражаю по существу, но во имя чего ведется борьба? Во имя конституционного или республиканского строя, то есть ради того, что на западе давно осуществлено. Тургеневский Инсаров герой, но провинциал безнадежный". И Браун, и Федосьев обвиняют в надвигающейся революции бессильную государственную власть. И, главное, ни тот, ни другой не могут реально повлиять на ход событий. Федосьев отправлен в отставку, Браун разочарован в самом себе. Обоим нечем жить, в обоих чувствуется преждевременная старость и мертвенность. Такова система персонажей в романе, рисующая картину русской интеллигенции: и революционной, и либеральной, и реакционной. По мнению автора, у всех ошибочное восприятие происходящего, всех преследует подлог, провокация. Какова же роль детективной интриги? Все говорят, что убийство Фишера – символическое преступление, характерное для эпохи. Один из юристов утверждает, что "господа Фишеры и есть теперь настоящие короли" –и вот Фишер убит. Вопрос в том, кто убил, соотносится с вопросом о виновниках революции. Первый вопрос остался без ответа, убийца не найден (Загряцкий в этот момент находился у Федосьева, будучи тайным агентом охранки); не подтвердилась и версия о том, что убийца – Браун; однако обе версии и не опровергнуты). Логика бессильна, как и наука (медицинская экспертиза, 79 дактилоскопия). Точно также не ясно, кем управляется революция. Может быть, само государство стремится к саморазрушению? Или виноват слепой Рок? В финале романа нарисован разгар революционных событий. Горит здание суда. Николай Петрович Яценко спешит к месту бывшей службы, и при виде толпы его радостное возбуждение проходит, в лице солдата он замечает выражение тупое, испуганное и злобное. Итак, разочарован интеллигенция реальными ждала событиями. и приветствовала Жалко столетиями революцию, но создававшейся культуры. Восставшие освободили из тюрьмы Загряцкого, чествуют как страдальца и революционного героя – агента полиции. Браун, этот духовный отец революции, остается холоден и безжизнен. Народ в романе показан и без особой симпатии (так, плохо одетая женщина в хвосте очереди с усталым и наглым лицом смотрит на господ; во время поездки на острова баба похабной руганью отравила самую светлую минуту в жизни Муси), но и с сочувствием, так как в революции народ обманут. Роман о революции и судьбе России кончается пессимистической нотой. Само название романа по-символистски многозначно. Ключ от квартиры Фишера – главная улика против убийцы, и неизвестно, сколько же было этих ключей. "Ключ" – название книги Брауна, предполагавшей дать философский ключ к пониманию жизни, и книга не закончена автором. Браун говорит, что люди потеряли ключ, позволяющий переходить из мира А в мир В и обречены жить либо во власти иллюзий, либо во власти Рока. Наконец, "ключ" – это и ключ к освобождению России, но и свобода оказалась иллюзией, обманом. Ключ не найден ни героями, ни автором романа. 80 С верой в Россию. М. Осоргин (1878-1942) "... нет программы для России лучшей, чем солнце днем и теплый дождик в ночи" Михаил Андреевич Осоргин (Ильин) родился в Перми, через всю жизнь пронес любовь к красавице-Каме. Окончил юридический факультет Московского университета. Перед первой русской революцией сблизился с эсерами, после Декабрьского вооруженного восстания был арестован и провел полгода в одиночной камере Таганской тюрьмы. Затем эмигрировал, жил в Италии. В 1916 г. самовольно вернулся в Россию. После революции не занимал антисоветской позиции, сотрудничал в "Лавке писателей", был членом Помгола, в 1921 г. Вахтангов поставил спектакль "Принцесса Турандот" по пьесе Карла Гоцци в переводе Осоргина. В 1922 г. был выслан с большой группой интеллигенции. Впоследствии Осоргин говорил: "... первый раз с пострадал за революцию, второй раз от революции!". Жил М. Осоргин в Париже, а в предвоенные годы поселился в деревне недалеко от Парижа, и повел кампанию против современной городской цивилизации и за возврат к природе (книга очерков "Происшествия земного мира", 1938). Осоргин сторонился политики, не был членом никакой политической партии, вступил в масонскую ложу. Формально эмигрантом не был, жил с советским паспортом, мечтал вернуться на родину. Писатель признавался: "Вне России никогда не ощущал себя "дома", как бы не свыкался со страной, с народом, с языком". Если Алданов думал прежде всего о Государстве Российском и пессимистически смотрел на будущее, то взгляд Осоргина – антигосударственника полон надежды, потому что для него Россия – особая часть света, леса, горы, реки, многочисленные народы, которые не могут взять и исчезнуть. В эссе "Россия" (1924) Осоргин писал: "С тех пор верю и знаю, что нет для России программы лучшей, чем солнце днем и теплый дождик в ночи. И что раны свои она умеет лечить без аптечных снадобий и без консультаций иноземных врачей. И что не страшны ей укусы комара или хоть бы и ядовитого овода. 81 И с тех пор желаю России одного: хорошего урожая хлебов и трав. Так мыслю я о России-земле, о России-народе, а не о пятнышках-городах и математических точках-людях. И не о "декрете", который солнца не заменит и не отменит, не о "комиссаре", который десять лет рубит с плеча – все же не вырубит заметной плешины в лесах вечного обновления. Такие страны не гибнут: гибнут названия, меняются властители, перечеркиваются географические карты. Пусть плачет, кто хочет, а желающий смеется. Ту огромную землю и тот многоплеменной народ, которым я, в благодарность за рожденные чувства и за строй моих дум, за прожитое горе и радость, дал имя родины – никак и ничем у меня отнять нельзя, ни куплей, ни продажей, ни завоеванием, ни изгнанием меня – ничем, никак, никогда. Нет такой силы, и быть не может. И когда говорят: "Россия погибла, России нет", – мне жаль говорящих. Значит, для них Россия была либо царской приемной, либо амфитеатром Государственной Думы, либо своим поместьем, домиком, профессией, верой, семьей, полком, трактиром, силуэтом Кремля, знакомым говором, полицейским участком – не знаю еще чем, чем угодно, но не всей страной его культуры – от края до края, не всем народом – от русского до чукчи, от академика до кликуши и деревенского конокрада. У них погибло любимое, но Россия вовсе не "любимое". Любит ли свое дерево зеленый листок? Просто – он, лишь с ним связанный – лишь ему принадлежит. И пока связан, пока зелен, пока жив – должен верить в свое родное дерево. Иначе – во что же верить? Иначе – чем же жить!" Осоргин – очень добрый, даже сентиментальный писатель, больше всего ценивший человеческую личность, ее духовную свободу. Его книги – проповедь гуманизма; иногда реализм Осоргина называют "чувствительным реализмом". Человек – самоценность, которая выше ценности общества, науки, государства. Трагедию фашизма Осоргин видел в том, что "рабы приветствуют свое рабство". Вместе с тем, писатель полагал, что "нельзя считать человека только социальным существом, определяемым целиком обществом", человек есть часть природы и многовековой духовной культуры. Такая концепция человека отразилась в первом и лучшем романе Осоргина "Сивцев Вражек" (1929). Сюжет развивается с весны 1914 г. по 1919 г., это время первой мировой войны, революции, первых революционных лет в 82 России. В центре сюжета находится семья профессора-орнитолога, живущего в старом особняке в Москве, в Сивцевом Вражке. Роман задает этот ракурс в изображении конкретно-исторических событий уже в первом абзаце: "В беспредельности вселенной, в Солнечной системе, на Земле, в России, в Москве, в угловом дому Сивцева Вражка, в своем кабинете сидел в кресле ученый орнитолог Иван Александрович. Свет лампы, ограниченный абажуром, падал на книгу, задевая уголок чернильницы, календарь и стопку бумаги". Этот особнячок связует массу самых разных персонажей: здесь бывают и философ, член эсеровской организации Астафьев, и молодой офицер Стольников, и ученик дедушки, начинающий ученый Вася Болтановский, и музыкант Эдуард Львович, и брат прислуги Дуняши деревенский парень Андрей Колчагин, воевавший с немцами и дезертировавший с развалившегося фронта, ставший комендантом совдепа и командиром отряда Красной Армии во время гражданской войны. Но в центре внимания писателя находятся дедушка и семнадцатилетняя его внучка Танюша, т.е. выдерживается пушкинский принцип показа истории "домашним образом". Очень сильно влияние на роман и эпопеи Л. Толстого "Война и мир". В художественном мире романа Осоргина отчетливо выделяются два макрообраза: Дом и Эпоха. Дом – исходная точка отсчета, начальное состояние гармонии человека с природой и близкими людьми, мир внутреннего счастья. Осоргин использует содержательные и композиционные возможности жанра семейного романа, прослеживая драму русской интеллигенции и судьбу русской культуры. Семья предполагает естественную, любовную связь людей. Дед выбрал когда-то бабушку, тогда молодую щебетунью, как птица выбирает пару; у Танюши умерли родители, но "счастлив тот сирота, у которого живы дедушка и бабушка". Тиха и похожа на сон смерть бабушки, причем важно что "бабушка умерла любимой"; бабушкино место за чайным столом занимает Танюша; к Васе относятся как к внуку (дедушка) и брату (Танюша); Астафьев в тюремной камере мечтает о том, как Танюша его спасет и укроет, защитит. В традициях семейного романа выдержан особый ракурс изображения: интимность, выдвинутость "ближнего" плана в показе мира (часы с кукушкой и зеркало отмечают движение времени и событий). Основа сюжета – история взросления 83 Танюши, ее первой любви и замужества, вхождения в мир, разрешение ситуации выбора жизненных принципов. Дом – центр вселенной. Чудесный день и замечательная новость – прилет ласточек – открывают движение сюжета; "дом" доверчиво открывается навстречу миру: "Родилось утро – в белой сорочке румяное утро. Молочными крыльями забилось в окна. И тогда щелкнула задвижка и окно распахнулось, Танюша, щурясь, столкнулась с утром, и холодок залился за рубашку. На цыпочках, вприпрыжку, отбежала обратно к постели – еще понежиться, счастливая, что день будет сегодня хороший. Ранним утром, при окне открытом, – какие думы у девушки в шестнадцать лет? Первая – день хороший, вторая – сегодня воскресенье. Вместо третьей думы – беспричинная улыбка". Внутренний мир "дома" (хронотоп, т.е. художественное пространство и время) гармоничен, устойчив, повторяется из года в год (прилетает ласточка, отмечаются дни рожденья, собираются по вечерам привычные гости, для Эдуарда Львовича всегда припасены его любимые сухарики). Такой мир, конечно, напоминает идиллию, так он уютен: "Ступени деревянной лестницы приветливо поскрипывали под знакомыми шагами, двери открывались с ласковым гостеприимством, вешалка с вежливой выдержкой принимался пальто и шляпы..." Дедушка, уже в смутное время военного коммунизма, рассказывает: "Дом-то старый, есть ему что вспомнить. Этот дом... еще моя мать строила... По тому времени считался дом барский, большой, для хорошей семьи. Красивый был... Теперь дом стал ничей, и люди за стеной живут чужие". В этом устойчивом мире "дома" время движется хроникально, по календарю: "Вставало солнце, бесстрастно поднималось до зенита и опускалось к западу. Лето сменялось осенью, прекрасной в деревне, хмурой в городе. Зима сковывала воды, заносила дороги, погребала опавшие листья. Теплело – и опять возвращалась весна, обманывая людей надеждами, богато одаряя природу зеленой мишурой, – – часы с кукушкой считали минуты, следили за спокойным движением двух стрелок, не оставлявших никакого следа на круге, размеченном двенадцатью знаками. Уходили на вечный отдых те, кому пришло время, зарождались новые жизни <...> Текла с привычным шумом река Времени, – 84 – часы с кукушкой, старые часы профессора, тикали секунды, равнодушно и степенно разматывали пружинку, повинуясь тяжести подвешенной гири". Однако дом постепенно стареет, ветшает. Умирает бабушка, стареет дедушка, погибают Эрберг, Стольников, Астафьев. Главная сила, разрушающая "дом" – вихревая, катастрофическая эпоха, жестокая социальная действительность: "Ржавчине, медленно глодавшей железо крыши, червяку, точившему балку, крысам, строившим новые ходы для дерзких ночных набегов, сырости, плесени, миллиарду мельчайших, невидимых существ, во имя любви, размножения и права на жизнь колебавших устои особняка на Сивцевом Вражке, – очень в эти дни помогала дрожь, обуявшая Москву, воздушная дрожь от малых пуль и смеявшихся над трусостью снарядов. Вздрагивали оконные стекла, шатая подсохшую замазку, ломался малый гвоздочек, сыпались чешуйки старой краски, терял соринку кирпич..." Первая часть романа кончается символическим уходом преданного денщика Григория (после смерти Стольникова) прочь из города; от смуты и греха уносил Григорий старую крещеную Русь к местам святого упокоения. Итак, мир идиллической гармонии разрушился эпохой войн и революций. Второй макрообраз в романе – образ Эпохи. Если "дом" описывался в жизнеподобной, сугубо реалистической манере, то изображение "эпохи" дается в духе аллегории, гротеска, в принципах экспрессионизма. "Эпоха" – это мировая война, революция, красный террор, гражданская война, военный коммунизм. Способы создания этого макрообраза различны. Это, во-первых, сюжетные линии: истории Стольникова, Эрберга, Колчагина, Астафьева. Так, Саша Стольников, красивый молодой человек, хороший танцор, лихой воин, после ранения становится "обрубком" (у него ампутированы руки и ноги), беспомощным калекой и кончает жизнь, выбросившись из окна. Во-вторых, образ "эпохи" складывается из аллегорий, жутких фантасмагорий, которые содержатся в авторских лирико-публицистических отступлениях и комментариях, в главках "Lavius flavus", "De profundis", "Обезьяний городок" и др. Таков образ стального гиганта-паровоза, везущего на фронт живых солдат, а обратно – коверканные тела; таков образ мясорубки- 85 войны, рубящей вместе Ивановы мозги и Петровы сердца; таков разговор двух трупов, Ганса и Ивана, "в холоде уютной могилы". Жестокая социальная действительность противоестественна, абсурдна, т.к. брат убивает брата, человек человека – равных и в жизни, и в смерти. Через столкновение этих двух макрообразов (Дом и Эпоха) выявляется главный конфликт в романе – противостояние естественного, гуманного и бессмысленного социального. Варианты решения конфликта раскрываются через систему персонажей. Каждый из героев романа по-своему относится к социальным потрясениям. Дедушка считает, что войны и революции "только мешают внимательно читать книгу природы". Вася Болтановский, очень честный и порядочный, немного смешной, абсолютно преданный дому и Танюше, занимает позицию "над схваткой"; главное для него – возможность работать в лаборатории и счастье Танюши. Дядя Боря, самый скучный и неинтересный ранее человек на вечерах в Сивцевом Вражке, воплощенная посредственность, неожиданно поднялся наверх на гребне мутной волны смуты, стал нужным и влиятельным. Трус и эгоист, он отказался помочь Танюше спасти Астафьева из тюрьмы. Астафьев, философ по специальности, стоик по мировоззрению, считает, что в послереволюционную эпоху культура и философия не нужны никому, что с варварами сотрудничать нельзя. Он откровенно враждебен к новой власти. Его парадоксы циничны, он глумится над тем, во что сам свято верил ранее. Он зарабатывает на жизнь, выступая в рабочих клубах в роли шута, под псевдонимом "Смехачев", гаерствует, внутренне издеваясь над рабочими и над собой. Он толкнул своего соседа Завалишина на путь палача и получил возмездие: расстрелял его именно Завалишин. Танюше с Астафьевым холодно, она замечает: "Вы никого не любите". Итог размышлений Астафьева о своей жизни в ночь перед казнью: "Круглый ноль и пу-сто-та". Такая нигилистическая позиция кажется автору бесплодной. Избранником Танюши становится Протасов, инженер-энергетик, "тип опростившегося интеллигента" (в полувоенной форме и пенсне). Спокойно, без нытья и отчаяния, он пытается выдержать испытания, не поступившись личной свободой и достоинством. Только он попытался спасти Астафьева. Он спас Васю, свалившегося в тифозном жару в далекой деревне, куда он отправился 86 менять вещи на хлеб. Протасов считает, что наука – великая вещь, в ней ничто не пустяк, а вот политика – дело наносное, случайное: сегодня одни декреты на стенах, завтра другие. Он верит, что появятся еще новые люди, посильнее прежних; пройдет эпоха разрушений, и начнется новая культурная работа, снова нужны будут и инженеры, и ученые. В центре системы персонажей – Танюша, ее постепенное взросление (с 16 до 20 лет). Автор подчеркивает, что это не героиня, а обыкновенная женщина, т.е. естественный, нормальный человек, каких большинство. Она добрая (что проявляется в ее отношении к Стольникову и Астафьеву), чуткая (понимает состояние души Эдуарда Львовича), энергичная и бодрая. Совсем как Наташа Ростова, Танюша понимает, что цель жизни – в самом процессе жизни. Она играет на рояле рабочим в холодных клубах, но в отличие от Астафьева, всю душу отдает игре и верит, что музыка нужна рабочим. Какова же авторская позиция по отношению к революции? Автор "сопрягает" все сюжетные линии в романе; безличное повествование сочетается с несобственно-прямой речью, причем "голос" автора чаще всего бывает совмещен с "голосом" Танюши, значит, и с ее позицией. Кроме того, в отступлении от сюжета автор излагает свою философию истории. Жизнь народа – прекрасна и целесообразна, послушна Солнцу и природе. Но есть политики, правители, которые в бетонированных бункерах и строго охраняемых зданиях издают приказы, плетут грязные сети тайной политики (глава "Кладбища"). Это они мешают людям жить. Человеческая история (в отличие от истории природы) бывает неразумна и действует как слепой рок (старуха-история пишет свиток событий, задремала, а глупый котенок посадил кляксу, соответствующую первому разрыву снаряда в мировой войне). Осоргин полагал, что революция в России была неизбежна, но власть захватили "узколобые", верящие только в силу нагана. "Стена против стены стояли две братские армии, и у каждой была своя правда и своя честь. Правда тех, кто считал и родину, и революцию поруганным новым деспотизмом и новым, лишь в иной цвет перекрашенным насилием и правда тех, кто иначе понимал родину и иначе ценил революцию и кто видел их поругание не в похабном мире с немцами, а в обмане народных нужд. 87 Бесчестен был бы народ, если бы он не выдвинул защитников идеи родины культурной, идеи нации, держащей данное слово, идеи длительного подвига и воспитанной человечности. Бездарен был бы народ, который в момент решения векового спора не сделал бы опыта полного сокрушения старых и ненавистных идолов, полного пересоздания быта, идеологий, экономических отношений и всего социального уклада. Были герои и там, и тут; и чистые сердца тоже, и жертвы, и подвиги, и ожесточение, и высокая внекнижная человечность, и животное зверство, и страх, и разочарование, и сила, и слабость, и тупое отчаяние. Было бы слишком просто и для живых людей и для истории, если бы правда была лишь одна и билась лишь с кривдой: но были и бились между собой две правды и две чести, – и поле битвы усеяли трупами лучших и честнейших". Рядом упали убитыми сероглазый юнкер Алеша, вчерашний гимназист, и красный командир Андрей Колчагин. Осоргин рисует страшные картины террора (глава "Жмурики"), и пишет о "пятой правде" (первая правда – подлинная, добывалась под ударами бичалиня, вторая – подноготная и т.д., а пятая завелась на Лубянке), о разоренной Москве девятьсот девятнадцатого года, где первым врагом были люди, вторым – крысы, третьим – бледная, злая вошь: "В тот год ушла красота и пришла мудрость. Нет с тех пор мудрее русского человека". Но сквозной символ в творчестве Осоргина – река Времени, и она неостановима. Главными критериями в оценке социально-исторических событий выступают Природа и Музыка. Один из лейтмотивов в романе – мотив ласточки (лейтмотив, т.е. повторяющийся элемент, мотив, скрепляет воедино россыпь эпизодов, организует из хаоса гармонию, в чем заключается его музыкальная сущность). С прилета ласточки в старое гнездо под окном особнячка в Сивцевом Вражке начинается роман. Прежняя ласточка погибнет позднее, отравленная в небе войны ядовитым газом. Но в финале романа герои ожидают прилета к особнячку новой ласточки; значит, жизнь будет продолжаться. Другим лейтмотивом является образ музыки. В начале романа музыка служит атрибутом классической, интеллигентской жизни в особнячке: прекрасной 88 пианисткой была бабушка, к Танюше ходит учитель музыки Эдуард Львович (так напоминающий Лемма из "Дворянского гнезда" Тургенева). Однако прежняя гармония нарушается диссонансами, аритмией мировой войны, революционных залпов. Старый музыкант вслушивается в звуки эпохи и подозревает, что из их хаоса должна родиться новая гармония. Он пишет свой "Opus 37", странное и гениальное произведение: "... в хаосе может быть, в хаосе есть смысл! В смерти есть смысл! В безумии, в бессмыслице – смысл. Нелепость седлает контрапункт, бьет его арапником и заставляет служить себе". В развитии сюжета существенны эпизоды, связанные с музыкой, например, история о том, как конфисковали рояль Эдуарда Львовича, но потом вернули, с помощью Андрея Колчагина, коменданта совдепа. Танюша играет в рабочих клубах; затем временно отходит от музыки, но верит, что вернется к ней, что все еще впереди, все еще будет. Идеал автора – естественный и вместе с тем культурный человек, пребывающий в гармонии с миром. Доброта и вера в неодолимость жизни составляют обаяние авторской позиции. Итак, жанр семейного романа позволил Осоргину показать историю через судьбы отдельных людей. Приняв за точку отсчета гармоническое состояние человека и мира, автор обнажил разлад, диссонансы, ужас антигуманной эпохи. Вместе с тем, автор верит в конечное восстановление гармонии: погибла одна цивилизация, но пройдет эпоха разрушения – и начнется новая культурная работа. Природа, любовь, искусство, наука – те вечные ценности, которые спасут Россию. Осоргин расширил рамки семейного романа. "Сивцев Вражек" – это роман социально-политический и философский. Публицистические отступления автора ставят проблемы: народ и власть, интеллигенция и революция, историческая судьба страны, диалектика вечного и временного, природного и социального, становление человека и сложность нравственного выбора. Кроме того, роман проникнут отчетливым лиризмом: он посвящен жене, которую также зовут Татьяна, открыто звучит авторский голос в отступлениях. Чередование коротких главок (кинематографический монтаж эпизодов), смена тональности создают напряженный эмоциональный ритм повествования. Кольцевая композиция придает роману внутреннюю завершенность. 89 *** Традиции жанра семейного романа ощущаются и в большом автобиографическом повествовании "Времена" (1955, посмертная публикация в Париже). Самый факт традиционности жанра для русской литературы вводит повествование в план исторический, указывает на связь времен. Он позволяет видеть, какую историческую тенденцию прослеживает автор, что он считает главным, достойным внимания в самом ходе истории. Осоргин пишет о романе С.Т. Аксакова "Детские годы Багрова-внука" (1858), в котором упоминаются фамилии его отца и бабушки. Вспоминает свой первый давний выезд с отцом в Уфу: "И тогда и теперь в моем представлении все эти любимые отцовские места стали картинками из детских лет "Багровавнука", знакомые мне до мелочей. Каждый сам создает свой рай, и мой был создан в полном согласии со страницами Аксакова, – но с прибавкой и своего, ранее облюбованного и возведенного в святость". Задумаемся: "Багров- внук". Ведь и Танюша в первом романе Осоргина – внучка: расширяются и сближаются традиции поколений. Устоявшийся и спокойный быт семьи в "Сивцевом Вражеке" позволили автору раскрыть ту основу, на которой держится история страны. Последующие два романа "Свидетель истории" (1932) и "Книга о концах" (1935), составившие дилогию, показывают, как война, революция, эмиграция разрушают вековые устои жизни в России. Главная героиня – Наташа Калымова (прототип ее – Наталья Климова, эсерка-максималистка, участница покушения на П. Столыпина в 1906 г., приговоренная к смертной казни и бежавшая из тюрьмы, через Сибирь и Японию – в Италию, где вышла замуж, родила двух дочерей. Одна из них, Наталья Столярова, была невестой Б. Поплавского, в 1934 году вернулась в СССР, восемь лет провела в лагерях, поселилась в Москве только после 1956 г.) Детство героини романа "Свидетель истории" прошло в деревне, недалеко от Рязани, около большой реки и леса. Крепкая, румяная, голубоглазая, веселая и задорная, она так хотела жить полной жизнью! ("Жизнь дана не для того, чтобы ее экономить и расходовать по капельке", – думала она). После окончания гимназии в Рязани Наташа училась в Москве, на курсах. Тут ее и застал, захватил героический 1905 год. Наташу влекли революционные 90 подвиги, красота неравной борьбы с властью (хотя она и не понимала, почему надо жалеть "народ" – мужики в их деревне не пухли с голоду, имели весьма справное хозяйство). Во время обороны Пресни встретила удивительного человека – Оленя, руководителя эсеров-боевиков. Наверное, они могли бы полюбить друг друга, но об этом даже не думалось – готовилось дерзкое покушение на Столыпина. Во время покушения погибли исполнители, двое самоотверженных, чистых юношей, прохожие, пострадали дети министра. Это заставляет страдать Наташу. Гибнет Олень. Сама Наташа была арестована, но благодаря девушке Анюте сумела бежать из тюрьмы. Через Сибирь, Монголию, пустыню Гоби отправляется она за границу. Ей открылся огромный мир пустыни, далекий от политики и сиюминутных страстей. Будда учил освобождаться от привязанностей к преходящему. Дорожный спутник Наташи геолог Белов, видевший слишком много развалин былых культур, говорит о бесперспективности русской революции. "Книга о концах" повествует о жизни Наташи с Анютой в узком кружке политэмигрантов в Италии. Они чувствуют себя ненужными для нового поколения борцов в России, кажется, что героическое вянет и становится смешным, что романтизм умер от истощения. Наташе горько сознавать неудачность своей женской судьбы; в конце концов, она выходит замуж за Ивана Ивановича – не террориста и не героя, но бодрого и жизнелюбивого человека. Все герои этого романа умирают, ведь книга – о концах. Кончается произведение смертью на проселочной дороге отца Якова, бесприходного попа, "свидетеля истории", которому все было "любопытно". Он предвидит горькую судьбину России: "И вздрогнет русская земля и расколется великим расколом – и кто тогда спасет, и чем спаяет безрассудные трещины, и чем залечит кровоточащие раны?.." Итак, во имя революции героиня уходит из семьи, рвет связи с родными людьми. В новых условиях вместо имен и фамилий – партийные клички, вместо родного дома – явки, чужие квартиры, тюрьмы, скитания в эмиграции. Браки не регистрируются, дети лишены должной заботы и благополучия. Реальная жизнь досказала трагическую судьбу дочери героини романа. 91 Однако авторская позиция лишена абсолютного пессимизма: Россия – шестая часть света – погибнуть не может. В книге исторических миниатюр "Повесть о некоей девице" (1938) Осоргин ищет опоры для веры в будущее России, обращаясь в ее далекое прошлое. Журнал "Юность" в № 5 за 1990 год опубликовал семь рассказов из этой книги: о выборе невесты царем Алексеем Михайловичем, об Аввакуме, о разбойнике Ваньке-Каине, о карлице Катьке, игрушке царицы Анны Иоанновны, о замученном в остроге солдатском сыне Васе Рудном, изувеченном в боях поляке Воронском. В "Сивцевом Вражке" Осоргин представил историю в образе неостановимой, "текущей с привычным шумом реки Времени". Задача писателя теперь подняться от "устья" истории, от трагического 1938 года, к "верховьям", к чистым истокам. Что же интересует Осоргина в прошлом России? Не история государственности, как Алданова, не борьба Христа и Антихриста, Духа и Плоти, как Мережковского, не жития святых, как Зайцева, хотя с каждым из этих писателей его что-то сближает. Конечно, Осоргин проводил какие-то параллели между своим временем и далеким прошлым; многозначительно звучат имена царя Алексея Михайловича Тишайшего, несгибаемого протопопа Аввакума, Ваньки-Каина. В историческую стилизацию включаются размышления о современности: "Колокола никому не нужны, заместо бубенцов треплют люди языками, а про баранки рассказывают деткам в сказках, да и то на ухо", "пройдет еще сотня лет, с полсотней и четвертью, – новый сочинитель расскажет людям про то, как его предки... жгли соборне на кострах преступные книги в городах больших и славных просвещением", "сейчас шахматы объявлены игрой пролетарской" и т.д. Но не перипетии политики интересуют Осоргина. История показана им в бытовом облике. Даже монархи представлены как частные лица: царь Алексей Михайлович – "в обычном легком зипуне", Наталья Нарышкина хлопочет по хозяйству "в черевичках на босу ногу". Все герои раскрываются в аспекте их сугубо личной, интимной судьбы; все они – одинаково русские. Стремление показать "народную" историю поддерживается включением в повествование пословиц, народных легенд; сами рассказы напоминают жанр жития или исторических анекдотов. За голосом рассказчика слышится голос народного предания: "как сказывают", "дальше известно" и "единственно известно"... Каковы же основные коллизии этой "народной" 92 истории? В сюжетах рассказов сталкиваются ритуал (установленное законом и этикетом) и естественное человеческое чувство, не считающееся с предписаниями. Так, Наталья Нарышкина била избрана овдовевшим царем из полутора тысяч красавиц именно потому, что не выдержала ритуала смотрин, застыдилась, прикрылась руками – и в царе, чинно исполнявшем свой долг, ищущем не утеху, а мать будущих царских детей, вдруг проснулся "неразумный жених, не по обычаю торопливый, не по возрасту молодой". Валдайский соловей своим пением (вольным переливом "колен") тревожит сон монахов Иверского монастыря, заставляет их вздыхать и восторгаться; он же нарушил канон заутрени, неожиданно влетев в церковь и ознаменовав скорое падение патриарха Никона. Ритуалистическое и естественное противостоят друг другу как жестокое и милосердное, зло и добро. Грубо-фарсовое, почти звериное определяет жизнь шутов Анны Иоанновны. Карлица Катька похожа на жабу, на зверька, к ней относятся, как к комнатной собачке. Шуты устраивают на потеху государыне "куриное царство", дерутся из-за лакомств. В Катьке же – доброе и чувствительное сердце. Она любит родителей, плачет, тайком встречаясь с ними. Кроток, как дитя, князь Михаил Иванович Голицын, сошедший с ума после того, как его разлучили с женой – итальянкой. Нелепый кощунственный обряд – шутовская свадьба, обвенчавшая Голицына с одной из государевых "знатных уродиц", сгубила Катьку: "Таких, как Катька, во дворце много, убыль невелика". В другом рассказе – "Казнь тетрадки" – военный устав 1716 года, с его артикулами 149, 150, и казенные порядки в школе прапорщиков стали виновными в смерти парнишки Васи Рудного. Он умер от битья и допросов, и злополучная тетрадка с богопротивными записями, случайно им найденная, была сожжена по всем правилам палаческого искусства. Борьба с ритуалом, вводимым Никоном, за старинный церковный устав превратила жизнь протопопа Аввакума и его семьи в сплошные мытарства. Понапрасну загубили валдайского соловья грубые руки дюжего монаха, блюдущего церковный ритуал. Противопоставление ритуалистического и естественного предстает в произведениях Осоргина как оппозиция социального и природного. Так, Вася Рудный умер от чахотки в городском остроге в то время, когда на Архангельскую землю пришла весна, полная красоты и ласковости, когда "дышит человек свободно". Соловью захотелось из церкви на волю "от монашеского духу". В городе стал Ванька-Каин сыщиком и предателем. Важнейшие события в мире социальном – казнь и смерть; в мире природном – 93 свадьба и продолжение рода. Синонимом природы (свободы, жизни) выступает слово "дух" (дышать, воздух). Ветер, вольный воздух, разлитые в природе благовония ("белые пахучие лесные цветочки", "благоухает липа", "горьким духом цветет рябина") – это земные воплощения Святого Духа. Так издавна считал народ. В рассказах Осоргина социальное трактуется как бездушное, природное – как духовное. В "Старинных миниатюрах" отразились не только эпизоды, сохранившиеся в "народной истории" (или соответствующим образом стилизованные), но и основные представления русской народной веры. Возвращаясь к историческим истокам, писатель возвращается к основам русской религиозной этики. Наверное, это можно объяснить тем, что на Каме, где вырос Осоргин, сильны православные и старообрядческие традиции. В.Соловьев, П.Флоренский, С.Булгаков, Г.Федотов отмечали софийный характер русской религиозности, связывающий воедино божественный и природный миры. В рассказах Осоргина есть праведники и грешники; первые неизменно связаны с природным, естественным началом (например, Наталья Нарышкина), вторые – с миром социальным (как например, пьяница и вор Иван Волков, учитель в школе прапорщиков). Живая традиция святости ощущается в той жертвенности, смирении и отречении, которые сопутствуют образам мученика Аввакума, Васи Рудного, карлицы Катьки, Воронского. Может быть, поэтому рассказы о них напоминают жанр жития. Из трех основных законов народной русской этики Осоргин ставит в центр закон любви (так называемый "каритативный" закон), почти не затрагивая закон ритуалистический, требующий соблюдения церковной обрядовости. О любви – рассказ "Выбор невесты"; о любви – история карлицы Катьки; о богине Юнонии было написано в поднятой Васей тетрадке; о любви пел валдайский соловей. Высшим проявлением любви для народного религиозного сознания являлась любовь материнская, освященная страданием. И красота воспевается не страстная, соблазняющая, а светлая, умиленная, холодновато-просветленная. Такова, например, Наталья Нарышкина в изображении Осоргина: "Была Наталья очень красива: с юности рост большой, статна, бела, над черными глазами – коромысла бровей, волосы длинны и густы. Характер покладистый, вид смиренный, ласкова...". В памяти людей Наталья осталась как мать Петра I. Страдающей матерью предстает в рассказе Осоргина протопопица Настасья Марковна. В слабости иной раз спрашивала она Аввакума: "Долго ли муки сия, протопоп, будет?" и, слыша: "Марковна, до самыя смерти!", отвечала: "Добро, Петрович, ино еще побредем". Карлице 94 Катьке князь Голицын "казался маленьким, как бы ребеночком, нуждающемся в ея заботах". Еще более значим в рассказах образ матери-природы. Человек – не царь, а сын земли. В русской народной религиозности образ матери- земли нередко сливался с образом матери Божией. Мать-сыра земля – родительница, хранительница нравственного закона родовой жизни ("теллургического" закона). Припадая к ней, находит человек утешение. Оппозиция социального и природного дополнялась в сознании М. Осоргина противоположностью преходящего, временного и вечного. В одном из писем к А.В.Бахраху в 1940 г. он писал: "Я, к сожалению, вынужден читать газеты, в которые вынужден писать о "текущих событиях", а не о том, что больше меня интересует, например о прорастающих цветочных луковицах". Возвращение к истокам – это возвращение к детству, к матери-земле, к своему роду. Ванька-Каин в рассказе Осоргина проходит этот путь. Был Ванька московским вором, волжским разбойником, предал потом своих, стал сыщиком, задумал уничтожить всех разбойников дорожных, лесных, и речных (интересно, что разбойники поименованы писателем так, как называет фольклорная традиция низших демонов – духов лесных, полевых, речных, болотных). Преступление против товарищей – это преступление против рода и матери-земли. Но все травы, злаки, растения и деревья сговорились, чтобы опять одурманить и зачаровать бывалого разбойника. В соответствии с народным мировосприятием Осоргин рисует природу как родной дом человека: "В лесу его приветствуют по старому знакомству каждый куст и каждая травинка, в поле ему кланяется каждый колосок. С детской улыбкой на порочном бородатом лице он вспоминает их имена... Все травы, все кусты и все деревья знает Каин – и все они знают Каина и рады его приходу в честный лес из развратного города". Приняла мать-земля Каина, и покаялся он, стал "простым и смиренным". М.Осоргин не берет из народного религиозного сознания идею Христа карающего, идею Страшного Суда. Его концепция истории – концепция не наказания, а спасения: "Господь избиенных утешает ризами белыми, а нам дает время ко исправлению... Вечная память во веки веков!". Любовь, страдание и покаяние искупят грехи. Россия – "мать-сыра земля" не погибнет и после нового раскола, еще более страшного, чем раскол в никоновскую эпоху. Будет жива земля, значит будет жива душа народа, его нравственная основа. И, наверное, не случайно стал сквозным в "Старинных рассказах" образ реки. "Река, омывавшая в детстве тело человека, – пишет Осоргин, – определяет его характер, его нравственное лицо". Для протопопа Аввакума скованные льдом реки – символ страдания 95 непереносимого. "В 20 веке, – замечает автор, – текут реки не только воды, но и крови". Но он утверждает, что неостановимо течение великих русских рек. 96 Национальный характер в изображении И. С. Шмелева (1873 – 1950) Иван Сергеевич Шмелев – выходец из купеческого Замоскворечья. Вслед за Островским в трактовке Добролюбова мы привыкли смотреть на купечество как на "темное царство". Наверное, в этой среде было действительно много самодурства, но было много и исконно-русского, крепкого, надежного. Именно купечество обеспечило промышленный подъем России на рубеже Х1Х – ХХ в.в., развитие транспорта и торговли. Знаменитые купцы-меценаты поддерживали расцвет искусства в период "серебряного века". Семья Шмелевых была патриархальной и религиозной. Отец, подрядчикстроитель, нередко брал сына с собой на работу, поэтому у И.С. Шмелева сложилось очень домашнее, родственное отношение ко многим домам, улицам, мостам Москвы. Артельщики по преимуществу были выходцы из деревни; яркий, гибкий, самобытный разговорный язык, стихия народной речи с детства окружали будущего писателя. Москва для Шмелева – не крупнейший урбанистический центр России, а концентрированное выражение ее природной и народной жизни. Произведения Шмелева отличают две особенности: проникновенные пейзажи и мастерское использование сказа (сказовое повествование представляет собой имитацию устной народной речи). В 1910-е годы молодой Шмелев был близок к Горькому, к демократическим писателям, участвовал в сборниках "Знание". Как и большинство интеллигенции, с удовлетворением воспринял февральскую революцию, хотя никогда не был сторонником радикальных перемен. Он считал: "Глубокая социальная и политическая перестройка сразу вообще не мыслима даже в культурнейших странах, в нашей же и подавно". Неприятие войн, насилия, террора углубилось после смерти единственного сына, расстрелянного в Феодосии красными. От этой трагедии писатель никогда до конца не оправился. В 1922 году Шмелев с женой выезжают по приглашению И.А. Бунина в Берлин, затем в Париж. В эмиграции Шмелев остро тосковал по родине. Умер писатель одиноким, больным и бедным в июле 1950 г. Очень подробно прослеживает биографию И. Шмелева А.П. Черников в своей книге (см. список литературы). 97 Вершина творчества И.С. Шмелева – повесть "Лето Господне", которую называют также "поэмой о старой Москве", "романом-сказкой", "романоммифом", "романом-грезой". Здесь писатель показал, что добро и красота – вечны, а зло – временно, раскрыл народные нравственные устои, основы духа, веры и совести, глубины народной прапамяти, неискоренимые никаким деспотизмом. Но истоки такой концепции национального характера заметны уже в дооктябрьском творчестве Шмелева. Самый большой успех выпал на долю повести "Человек из ресторана" (1910), написанной в пору близости к Горькому. Критики сразу отметили верность писателя традициям реализма Х1Х века: тема "маленького человека", стремление к социальной справедливости, идея пробуждения сознания человека из народа, показ нового социального среза – жизнь официанта, прислуги. Достаточно традиционна логика сюжета: благополучная жизнь рушится под давлением несчастий, и человек внутренне прозревает, мудреет. Если в начале повести Яков Софронович, официант в большом московском ресторане, с восторгом слушает либеральные речи ораторов на банкетах, то в конце отзывается о них презрительно: "Так это, скворчит в ухе: зу-зу-зу...зу-зу-зу... Один пустой разговор". Новаторской была форма повествования: вся повесть, около 150 страниц, представляет собой сплошной сказ. Такая форма нацелена не на показ социального типизма, а на самораскрытие сознания человека из народа. Каким же предстает в повести национальный характер? Яков Софронович Скороходов служит честью и правдой официантом в ресторане. Ему присуща профессиональная гордость, он говорит о мастерстве и тонкости своего дела, особом артистизме. Это человек очень честный: вернул однажды деньги загулявшему сибирскому купцу, потерявшему кошелек, а тот даже не поблагодарил; на эти деньги Яков Софронович, утаи он их, мог осуществить свою мечту — купить домик в деревне. У него дружная и порядочная семья: жена Луша, "хлопотунья моя", сын Колюшка, дочь Наташа. Тихо, спокойно жили. Начинается же сюжетное действие с того момента, когда повзрослевший сын, принадлежавший к тем детям, которых в училище зовут "кухаркиными детьми", начинает стыдиться работы отца, его холуйской должности. Семейный лад нарушают ссоры с сыном. Затем и дочь начинает тянуться за подругами- 98 гимназистками, упрекает отца за бедность их дома, за то, что не может одеваться так, как другие. Сын знакомится с революционерами, его выгоняют из училища, потом арест, суд, побег, и, наконец, ссылка. Сломленная горем, умирает жена. Якова Софроновича выгоняют со службы, так как он, отец арестованного революционера, компрометирует роскошный центральный ресторан. Наташа становится содержанкой приказчика из магазина, бесчестной женщиной... Беды, тоска, неустроенность, старость гнетут Якова Софроновича. Однако в финале повести герой действительно испытывает просветление: "сияние открылось". Уладились бытовые обстоятельства – по требованию профсоюза его вернули на службу, согревает старое сердце внучка Юлька. Но главное – встреча со старичком, который теплыми вещами на рынке торговал. Он, Николай (как сын – и как святой угодник!), помог спастись сыну Якова Софроновича во время побега из тюрьмы. Скороходов благодарит старичка, а тот отвечает: "Без господа не проживешь". Яков Софронович возражает, говоря, что и "без добрых людей трудно". А старичок говорит: "Добрые-то люди имеют внутри себя силу от господа!" Эти слова поразили Якова Софроновича: "И вот когда осветилось для меня все. Сила от господа... Ах, как бы легко было жить, если бы все понимали это и хранили в себе". Как видим, дело не в пробуждении социального сознания человека из народа, а в нравственно-религиозной истине, открывающейся душе. Не социальным протестом, а задушевным лиризмом проникнута повесть "Росстани", рассказывающая о богатом подрядчике Даниле Степановиче Лаврухине, приехавшем провести свои последние дни в родную деревню ("росстани" – последнее свидание, прощание с отбывающим). Лаврухины – богатые московские купцы, сын Данилы Степановича приезжает в деревню на автомобиле, а внук, студент коммерческого института, на мотоцикле. Но всем им дорога Ключевая, у всех одна "порода" – "открытые лбы и носы луковицами – добрые русские носы". Красота тихой русской природы, доброжелательность и открытость людей скрашивают последние дни Данилы Степановича. Умиротворенной душой встретил он тихую, почти незаметную смерть. Идиллические картины деревенской природы чуть-чуть напоминают Обломовку: "Укрылась Ключевая в тихом углу. Со всех сторон обступили ее крутые горы, не настоящие, каменные, а мягкие, тихие русские горы, с глинистыми обрывами, в черемухе и 99 березах; а под обрывами играла по камушкам речка Соловьиха, гляделась покойными омуточками, вся в тростнике. И тихо было – ни ветров, ни гомона. Из мужиков жили только старый пастух, – звали его Хандра-Мандра, – да лавочник Мамай, тоже старый, да еще два-три старика на покое..." Итак, И.С. Шмелев исследует национальный характер в бытовом его проявлении; человек в его трактовке – это человек патриархальный. Высвечивая исконные, сущностные черты характера, отсеивая наносное, временное, Шмелев обращает свой взгляд в прошлое, что приводит к мифологизации рисуемого им образа мира. В Париже, в 1934 – 1944 гг., написал Шмелев свою автобиографическую повесть "Лето Господне", любовно воспроизводя патриархальный, гармоничный уклад купеческого Замоскворечья 70 – 80-х годов Х1Х века. Лиризм сочетается с документальностью, сохранены даже подлинные имена реально живших людей: отец Сергей Иванович, Горкин и др. Повествование ведется от лица семилетнего мальчика, все внимание которого направлено вовне, на окружающий мир. Детское мировосприятие создает атмосферу радости и беспричинного счастья бытия; все окрашено золотым – священным – цветом: "На крашеном полу и на лежанке лежат золотые окна", "золотой искрой блестит отдушник", "и сыплются золотые капли с крыши, сыплются часто-часто, вьются, как золотые нитки". С точки зрения ребенка социальное предстает как семейное. Отец Сергей Иваныч (он, а не мать – глава семьи) любим и уважаем работниками не только как хозяин, но как талантливый, энергичный и смелый человек. Все переживают болезнь отца, все радуются его выздоровлению; на именины такой крендель испекли на заказ, что несли его на резном щите пять человек. И Сергей Иваныч уважает и любит своих артельщиков. Например, на Рождество одаривает всех, кто когда-то служил у него. Шмелева интересуют не социальные отличия людей, а их душевная общность как проявление единого национального характера. Чем определяется такой добрый, открытый характер? Какова формирующая его среда? Поскольку художественный мир определен кругозором ребенка, постольку в изображении пространства преобладает ближний план. Но плоть быта (мебель, утварь, дом и двор) проникнута человеческим смыслом: кабинет отца, дом наш и т.п. Сам город – Москва – показан как родной дом, ведь мальчик часто бывал с отцом-подрядчиком на строительстве московских 100 мостов, домов, церквей. Город показан как часть природы: в Москве иного садов, даже огородов; зелены Воробьевы горы, кормилица Москва-река. Пейзажи, создающие лирическую атмосферу, расширяют перспективу, раздвигают горизонты художественного мира. Кроме того, пейзаж воплощает детский – мифологический – взгляд на единство, синкретизм природного и человеческого. Земля – мой дом, она дарит силу и здоровье (на Троицу, когда земля – именинница, мальчик в конкретном, непосредственном действии возрождает древний обряд: "День настояще летний. Я сижу высоко, ветки берез вьются у моего лица. Листочки до того сочные, что белая моя курточка обзеленилась, а на руках – как краска. Пахнет зеленой рощей. Я умываюсь листочками, тру лицо, и через свежую зелень их вижу я новый двор, новое лето вижу. Сад уже затенился, яблоки – белые от цвета..."). Вместе с тем, пейзажи пронизаны солнцем, залиты светом, и в этом сиянии все предметы как бы развеществляются, воспаряют ввысь, кажутся легендой или сказкой: "Весь Кремль – золотисто-розовый, над снежной Москва-рекой. Кажется мне, что там – святое, и нет никого людей. Стены с башнями – чтобы не смели войти враги. Святые сидят в Соборах. И спят Цари. И потому так тихо. Окна розового дворца сияют. Белый собор сияет. Золотые кресты сияют – священным светом. Все – в золотистом воздухе, в дымно-голубом свете: будто кадят там ладаном". Так "ближний" план, бытовой мир перерастают в "широкое" пространство рода, родины, вселенной. Пространство в повести простирается, свободно раскрывается, не таясь, перед Ваней. Это обжитое пространство, где человек – дома. Время также фиксируется по-детски точно, конкретно: "сегодня", "завтра". Но это время устойчивое, повторяющееся, создающее чувство прочности жизни. Мир повести – это мир идиллии. Время циклично, место едино, ядро мира – семья, основные события – рождение, именины, работа, смерть. Быт – это сама жизнь. Шмелев щедро описывает богатый праздничный стол, ведь обильная еда – знак довольства и благополучия. На всякий праздник есть свои природные, семейные и трудовые приметы. Все освящено традицией (герои повести частенько поминают прабабушку Устинью – мифологического зачинателя рода). Традиция проникла во все мелочи – вплоть до кушаний, имеющих ритуальное значение; лесенки, жаворонки из теста, кулич и т.д. Конкретное, детски точное время сочетается с "большим" временем – историей. История показана "домашним" образом, она живет в генетической памяти ребенка. Горкин говорит Ване: "Стропила у Храма Спасителя – нашей работы... во всех мы дворцах работали, и по Кремлю. Гляди, Кремль-то наш, нигде такого 101 нет. А башни-то какие, с орлами! И татары жгли, и поляки жгли, и француз жег, а наш Кремль все стоит, и до веку будет... Это – мое, я знаю. И стены, и башни, и соборы и дымные облачка над ними, и эта моя река... Я глядел из-за стен... когда? И дым пожаров, и набат, и крики – все помню! И бунты, и топоры, и плахи, и молебны... все мнится былью, моей былью – будто все во сне забытом...". Залог устойчивости и гармонии мира в повести – религия, дающая мальчику априорно соборное "мы". Вера шмелевских героев подчеркнутотрадиционна; христианство переплетено с язычеством. Время в повести движется не только по природному, но и по церковному календарю (Чистый понедельник, Великий пост, Благовещение, Пасха, Разговенье, Троица, Рождество, Святки, Крещение, Масленица). Религия одухотворяет быт (даже уборка перед праздником имеет сакральное значение), а сама воплощается в нем, нисходит в мир. "Кажется мне, что на нашем дворе Христос. И в коровнике, и в конюшнях, и на погребицах, и везде. В черном крестике от моей свечки – пришел Христос. И все – для него, что делаем. Двор чисто выметен, и все уголки подчищены, и под навесом даже, где был навоз. Необыкновенные эти дни – страстные, Христовы дни. Мне теперь ничего не страшно: прохожу темными сенями – и ничего, потому что везде Христос". Церковь – дом Божий – так же близка мальчику, как дом отчий, ведь староста – Горкин, а украшал церковь березками или фонариками отец с артелью. Церковные службы праздничны и веселы. Быт и религия для Шмелева – не две независимые друг от друга сферы жизни, а единое, органичное целое. На всем – покров – омофор Божьей Матери. Религия сближает людей, учит доброте (нельзя обидеть другого, ведь за каждый – его ангел). Наконец, мифологизации художественного мира в повести способствует позиция "исторической инверсии", занимаемой автором: "золотой век" остался в прошлом. Субъект повествования двоится: это и мальчик, сейчас, здесь переживающий мир; это и автор – писатель-эмигрант, рассказывающий о своем детстве другому ребенку: "Ты хочешь, милый мальчик, чтобы я рассказал тебе про наше Рождество. Ну, что же...". Образы мира внешнего потому так "развеществляются", тают в дымке и сиянии, что это – образы памяти, воспоминание о том, чего больше нет: "О, чудесный, далекий день! Я снова вижу его...". Символом счастливого детства и России в целом становится история с Ледяным домом. Его строительство – кульминация славы, энергии, выдумки отца, работающего не только ради денег, а также его подручных – Андрейки, 102 Горкина и других. Этот дом – как настоящий: и печка, и лавки, и окна, но он весь пронизан светом от свечей и фонариков и, главное, он – обречен, он – растаял. Авторская элегическая и скорбная интонация организует трехчастную композицию повести: "Праздники" (воспитание души в соприкосновении с традицией) – "Радости" – "Скорби". Кончается повесть смертью отца. Прощание с его телом – это прощание с детством для Вани и прощание с Родиной для Шмелева. Похоронная молитва снова вводит соборное "мы": "Святый – Безсмертный — Помилуй — Нас". Свет гаснет, все заливает черный свет. Кончается повесть, как и начиналась, Чистым понедельником, который следует сразу за Прощеным воскресеньем, когда всем (и врагам) прощаются обиды, и с которого начинается Великий пост – горестное, суровое, аскетичное время. И.А. Ильин (которому и посвящена повесть) писал: "Россия и православный строй ее души показаны силою ясновидческой любви". Средствами реалистической поэтики Шмелев рисует мифологический образ мира; по словам И.А. Ильина, "чудесную встречу – мироосвящающего православия с разверстой и отзывчиво-нежной детской душой". И Шмелев, и Ильин верят: "И все это не "было" и не "прошло". Это есть и пребудет. Это во веки так..." И особенно хочется в это верить после прочтения повести, точнее, эпопеи "Солнце мертвых" (1923), рисующей не благоприятное "лето" Господне, а зиму лютую, погибель, смерть. Если в ранее рассмотренном произведении воплощался мир абсолютный, без-условный, то "Солнце мертвых" повествует об относительном, условном, конкретно-историческом и политическом. И.С. Шмелев пережил в Крыму (в Алуште) страшные 1921 – 1922 гг: красный террор, смерть сына Сергея, белого офицера, расстрелянного в госпитале, голод, вызванный небывалой засухой. В "Солнце мертвых" не упоминаются ни жена, ни сын писателя, сам он постоянно находится вне дома. Вот это отсутствие семьи и домашнего уюта, в сочетании с эпизодами, выражающими сочувствие бежавшим контрреволюционерам, сострадание старику, у которого убили сына, доброго, наивного писателя – все это вносит отчетливый автобиографический подтекст в повесть. Сюжетное время в "Солнце мертвых" движется хроникально, по календарю: от августа до весны, через тяжелые зимние месяцы. Начинается повествование с августовского утра: "Я сорвал зеленый "кальвиль" – и вспомнил: Преображение!". Вспомним, что значило 103 Преображение для героя повести "Лето Господне". В первой части ("Праздники") есть главка "Яблочный спас", рассказывающая об этом празднике. Ваня готовится поступать в гимназию, учит "Священную Историю" Афинского, Закон Божий. Он хорошо знает "по книжке", а Горкин учит его видеть святость – вокруг себя, в плоти быта, в самой повседневной жизни. 19 августа – Праздник Света Преображения Господня. Христос в виде огня предстал перед учениками на горе Фавор, став тем же, чем является солнце во плоти для живых; явил тот Свет, который скрывается под завесой плоти. Христианское значение праздника тесно сплелось с природным календарем: Преображение совпадает с Яблочным Спасом (есть еще первый, Медовый Спас и третий, Ореховый Спас, после Успения). "Преображение Господне... Ласковый тихий свет от него в душе – доныне. Должно быть, от утреннего сада, от светлого голубого неба, от ворохов соломы, от яблочков грушовки, хоронящихся в зелени, в которой даже желтеют отдельные листочки, – зеленозолотистый, мягкий. Ясный, голубоватый день, не жарко, август". Золотистым кажется и запах яблок: "Такая свежесть, вливающаяся тонко-тонко, такая душистая сладость – крепость – со всеми запахами согревшегося сада, замятой травы, растревоженных теплых кустов черной смородины. Нежаркое уже солнце и нежное голубое небо, сияющее в ветвях, на яблочках... Прощай, лето! " Семейные, религиозные, природные приметы праздника дополняются хозяйственными: идет сбор яблок, запрягают Кривую и едут на рынок закупать яблоки на зиму. Яблоки освящаются в церкви: "В спертом горячем воздухе пахнет нынче особенным – свежими яблоками. Они везде, даже на клиросе, присунуты даже на хоругвях. Необыкновенно, весело – будто гости, и церковь – совсем не церковь. И все, кажется мне, только и думают об яблоках. И Господь здесь со всеми, и он тоже думает об яблоках: Ему-то и принесли их – посмотри, Господи, какие! А Он посмотрит и скажет всем: "Ну и хорошо, и ешьте на здоровье, детки!" Добры и люди: отец, Горкин щедро оделяют всех яблоками. Для семилетнего Вани пространство разворачивается в такой последовательности: сад – улицы Москвы – рынок – церковь – дом. Для писателя-эмигранта, любующегося прошлым, последовательность другая: дом – Москва – Россия (вспоминаются Павловск, Волга) – весь мир – Храм Божий. 104 Два голоса – мальчика и пожилого писателя – сливаются в единой тональности, славящий мир Божий, плодоносящий сад. Совсем по-другому говориться о Преображении в "Солнце мертвых". Недавно еще цветущий Крым обратился в мертвую пустыню, где царит голодная смерть. Сорвав яблоко и вспомнив, что сегодня 19 августа, повествователь тут же добавляет: "Дни теперь ни к чему, и календаря не надо". Воцарилось безвременье; одна мечта у повествователя – убить время, убить еще один день, потому что это "день-смерть". Один из важнейших композиционных приемов в повести – прием контраста: как было в нарядном, богатом, щедром Крыму и как стало. И сейчас еще городок издали красив – празднично-голубое море, роскошное, ослепительное утро, белые домики. Но это солнце обманывает. Вблизи видно, что дачки разбиты-разграблены, земля напиталась кровью, кругом ни травинки. Повествователь чувствует, что "ничего не будет", "жизнь уже кончилась". Повествователь в "Солнце мертвых" один (в отличие от "Лета Господня"), но звучат два "голоса", два стилевых потока, раскрывающих два способа восприятия действительности одним человеком. Это, во-первых, "голос" рассудка, который не может осмыслить, отказывается понять "небытие помойное", когда кошмары переходят в действительность; это голос гнева и отчаяния. Второй "голос" – тихий голос души, исполненный любви, доброты, сострадания. Первый голос звучит в пафосных публицистических монологах, проклятиях, обращенных в адрес большевиков и потакающей – или равнодушно-спокойной – Европы, куда утекает награбленное в России добро. В глазах равнодушных европейцев Шмелев видит оловянное солнце мертвых. Второй "голос" окрашивает портретные и пейзажные зарисовки, многие эпизоды сюжета. Абсурдный мир ("реальная ирреальность") показан как Апокалипсис, Ад. Глобальность трагедии подчеркивается ключевым символом: "пустыня", масштабы задают горы, море, небо. Само солнце испепеляет жизнь. Лозунг большевиков "Помести Крым железной метлой" реализовался в страшную сказку. В горах завелась Баба-Яга, злодеи ("они", что убивать ходят). Действительно, в Крыму в тот год были случаи людоедства. 105 Мир в этой повести – мир анти-нормы. Разрушены основные ценности, опоры человеческого бытия. "Дом" – свой не показан, у других – разрушенные дачки-калеки, как бельмо на глазу; доктор Михаил Васильевич сгорел в своем домишке из лучинок. "Работа" – писатель корчует пни на зимнее топливо, доктор ставит эксперимент на себе: что происходит с организмом и психикой умирающего от голода; архитектор ходит по домам, описывает "излишки"; ученый Иван Михайлович побирается. У всех одна "работа" – найти что-нибудь съестное. "Еда" – высшей мечтой становится мечта о печеном хлебе. Основное пропитание – виноградные листья, горький миндаль, сушеные груши, несколько горошин. Дети, как собачонки, грызут лошадиное копыто, девочки собирают коровьи лепешки. Жутко читать главку "Хлеб с кровью": убили на перевале в горах няниного сына, ходившего в степь за хлебом, зерно из мешка рассыпалось и пропиталось кровью – и из такого зерна пришлось печь хлеб! "Семья" – род человеческий присекся; первыми от голода умирают дети. "Свадьба" – красноармейцы забирают приглянувшихся молодух; девочка за еду продается в жены степным татарам. "Смерть" – не тихий, благостный конец, а безобразная: гроб берут напрокат (только до кладбища), по одному не хоронят, и трупы лежат в часовне, раздувшись от жары. Главка за главкой повествуют о смертях: "Конец Бубика", "Конец доктора", "Конец Тамарки", "Три конца", и, наконец, "Конец концов". Умирают дети, курочки, павлин, кони, коровы, люди. Тощее солнце, больное, мертвое, освещает кладбище, грязный камень, ребенка-"смертеныша". В этом "мире наоборот" и религия подменена. Люди даже забыли, как читается "Отче наш", им дано новое Евангелие от Дьявола. Сам повествователь говорит: "Нет у меня Храма: синее небо пусто". Но как не пытается повествователь не думать, не думать он не может. Это чисто шмелевский герой, шмелевская позиция: созерцать мозаику жизни, вбирать все, до последней мелочи. Он понимает свою роль, он – свидетель жизни мертвых. Он все еще ищет Солнце Правды, скрывшееся за завесой зла. У него нет Дома и Храма, но у него есть "келья" – Виноградная балка. Он любовно, на "ты" 106 обращается и к птицам, и к дубовому корневищу ("товарищ мой"), и к дереву грецкого ореха ("жив ли ты, молодой красавец?"). Его мучают страдания голодного павлина, коровы Тамарки, у которой от молочая вымя сочится кровью и которая жалобно мычит, вытягивая мордочку. "Я чувствую даже камни, могу говорить с пустой дорогой, – замечает повествователь, — Я так все вижу, все мои чувства остры и тонки", "скоро я сольюсь со всеми", разделив участь голодной смерти. Повествователь все еще не может не замечать красоты вечной природы: "Сентябрь отходит. Затихли ветры осеннего равноденствия – жару сбили. В эту пору погода тиха, мягка. Воздух прозрачен, тонок. И звонко все – сухо-звонко. Выгоревшие скаты скользки и жарко блещут. Кузнечишки, сухая мелочь, вспыхивают по ним серыми брызгами. Сбитое ветром перекати-поле звонко треплется по кустам. Днем и ночью зудят цикады, заводят свои пружинки. Кастель начинает золотиться. В долине, по ближним горкам, – все больше рыжих и красных пятен в подсыхающих виноградниках, по грабу и дубняку..." Повествователь видит еще праведников в этой умирающей жизни. Их совсем мало, но они есть: в них еще жив дух, еще не поддаются они всесокрушающему камню. Это Таня, праведница-подвижница. Она носит вино в степь, через перевал, рискуя жизнью – ради детей. И зеленые, и красные могут отобрать, отнять ношу, могут изнасиловать, убить. 50 верст туда, 50 верст обратно, через каждые три дня ходит она, слабенькая Таня, потому что она – мать. Это Мария Семеновна с дачи "Тихая Пристань", умудряющаяся и в засуху вырастить огород, следить за порядком, вести хозяйство (правда, козлика Бубика, кормленого последним, надежду на зиму, так и не уберегла, украли его злые люди). В главке "Жива душа" осенним дождливым вечером, когда темно и пусто, вдруг пришел к повествователю татарин, принес долг: брал когда-то рубаху, принес теперь яблоки, груши, муку, табак. Трудовое лицо его сурово, строго, но в глазах светится человеческое. "Теперь ничего не страшно, – знает повествователь, – с нами Бог! Хоть на один миг с нами". Таким образом, Шмелев видит не только мертвое Солнце – солнце равнодушия, злобы, воровства, зверства. Он верит и в живое Солнце – солнце ласки, добра, трудолюбия, отзывчивости. 107 Повествователь пережил "зиму Господню". В финале снова весенний рассвет, цветет миндаль, поет дрозд. Кольцевая композиция возвращает нас к началу, к мысли о Преображении Господнем. Христос явился в виде огненном, сделал слепых зрячими, обозначил тайну будущего века, которая откроется после гибели. Через отчаяние пробивается в повести надежда, через ад – протягивается ниточка новой жизни. Иван Ильин писал: "О. Зрелище страшное и поучительное! Русский народ утратил все это сразу, в час соблазна и потемнения; – и близость к Богу, и власть над страстями, и силу национального сопротивления, и органическое единомыслие с природой... И как утрачено все это вместе, – так вместе и восстановится". 108 "Взвихренная Русь" в изображении А.М. Ремизова (1877 – 1957). "Только создавая легенду, сказку, можно объяснить существо человека." Алексей Михайлович Ремизов самый, может быть, странный и "трудный" писатель. Если И.С. Шмелев показал национальный характер, то А. Ремизов раскрыл душу русского человека, как она сказалась в "докуке и балагурьи", в сказках и апокрифах. Его творческий метод сближают и с реализмом, и с символизмом, и с экспрессионизмом ("взвихренность" слов, гротесковость образов), и с сюрреализмом (огромное внимание к снам, которые он записывал и даже написал исследование о снах в произведениях писателей Х1Х века). И.А. Ильин писал о Ремизове: "...из страдания, жалости, вины, страха, молитвы, чуда, волшебства и сновидения слагается его художественноюродивый акт". Детство Алексея Михайловича Ремизова прошло в семье московских купцов. Трагическая судьба матери, Марии Александровны, женщины образованной, вышедшей замуж после неудачной любви за вдовца и потом вдруг ушедшей от него, вместе с пятью детьми, отразилась в первом романе Ремизова "Пруд", заставляла с особым состраданием вглядываться в женские судьбы (и в "Крестовых сестрах", и в "Соломонии", истории "бесноватой" XVI в.). Учился Ремизов на физико-математическом факультете Московского университета, слушал лекции по истории, философии, биологии. Увлекался Герценым и Чернышевским. Из Цюриха привез нелегальную литературу, но в 1896 году попал в тюрьму за участие в студенческой демонстрации. Из пензенской ссылки ездил в Москву за припрятанной литературой, пытался даже организовать в Пензе рабочий союз. Потом отбывал ссылку в Вологде, там и женился на Серафиме Павловне Довгелло, писательнице и переводчице. В мае 1903 года срок ссылки окончился, Ремизовы живут на Украине; здесь в 1904 году родилась дочь Наташа. В 1905 году Ремизов приезжает в Петербург и всецело отдается литературе. 109 Отличительная черта таланта Ремизова – необычайно яркое, образное восприятие мира, огромная сила воображения: "И мой математический мир, число и мера Пифагора – стальные формулы — запестрели цветами, а из цветов полетели бабочки и показались зверьки и зверушки – видимые и невидимые". Ремизов был прекрасным рисовальщиком и каллиграфом: несколько его рисунков хранил у себя Пикассо. Ремизов и собственную жизнь мифологизировал. В автобиографии 1920х годов он писал: "Оттого, должно быть, что родился я в Купальскую ночь (24 июня), когда в полночь цветет папоротник и вся нечисть лесная и водяная собирается в купальский хоровод и бывает особенно буйна и громка, я почувствовал в себе глаз на этих лесных и водяных духов... Назвали меня Алексеем, именем Алексея божия человека – странника римского. И вот нечаянно и негаданно судьба дала мне в руки посох, и в ранней молодости странствие выпало мне на долю...". Фамилию свою производил от калядной птицы ремиза. У этой птицы, похожей на кукушку (дочь Наташу, уезжая из России, вынуждены были оставить!), неяркое оперение, слабый голос. Сам Ремизов любил позу самоумаления (в противовес ролям "демона", "пророка", "теурга" у символистов), он говорил, что не "пишет", а "переписывает" – излагает по-своему русские сказки, апокрифы, летописи. Даже собственный почерк заменил старинным полууставом. Любил свою жизнь превращать в игру, трудно понять, где всерьез, где шутит. Вспоминают: знакомят его в гостиной у Мережковских с Андреем Белым, а он выставил руку, неожиданно сделав козу из пальцев: "А вот они – коза, коза!" Или во время философской беседы у Розанова подойдет к Вячеславу Иванову: "У Вячеслава Иваныча – нос в табаке!". В 1908 г., когда возникали политические партии, религиозные общества, кружки, учредил Ремизов свое общество – "Обезьянью Великую Вольную палату" – "ОбезВелВолПал". В уставе сказано, что это есть общество тайное, происхождение темное, цели и намерения неисповедимые, средств – никаких. Во главе стоял царь Асыка 1 и семь князей. Епископ обезьяний – Евгений Замятин, среди князей были историк литературы Венгеров, художник ПетровВодкин, кавалерами обезьяньей палаты были Блок, Кузмин, Иванов-Разумник. Считалось лестным получить от Ремизова грамоту, написанную по-старинному: талант твой отмечен. 110 После октября 1917 года Ремизов работал в театральном отделе Наркомпроса. В 1921 г., 7 августа, в день смерти Александра Блока, уехал за границу, слишком трудно было жить, слишком много жестокости вокруг. В эмиграции жил очень тяжело, особенно после смерти жены в 1943 году. Почти совсем потерял зрение, сжался и сгорбился. Но и здесь не утратил страсти к театрализации быта. Зинаида Шаховская вспоминает о встрече в Париже: "Я нажала кнопку звонка...в дверь показался маленький человечек, как-то особенно шуршащий ногами, сгорбленный и очкастый, со смешными колдовскими вихорками, словно рожками, по обеим сторонам головы (...) повел меня из маленькой передней в небольшую комнату. В ней не было светло, лампочка была малосильной, посреди стоял стол, не для работы, а для чая, а на веревочках, протянутых от стены к стене, висели всякие необычные предметы. Рыбья кость, висевшая рядом с мохнатым чертиком, меня особенно поразила, но еще больше поразил сам хозяин, его облик, его говор, хитрые его, как бы ощупывающие глаза, рассматривающие меня через большие круглые стекла очков, и ласковая, но не без лукавства улыбочка". Но стремление сделать из жизни игру, "балагурье", не означает детской ясности и гармоничности ремизовского мироощущения. Его позиция очень близка к позиции Льва Шестова, одного из предшественников экзистенциализма, осознавшего тотальность отчужденности человека от мира, обреченность на смерть, "беспочвенность" и принципиальное одиночество, "отшвырнутость". Максимилиан Волошин очень точно выразил суть мироощущения Ремизова: "Искусство его – игра. В детских играх раскрываются самые тайные, самые смутные воспоминания души, встают лики древнейших стихийных духов. Сам Ремизов напоминает своей наружностью какого-то стихийного духа... Наружностью он похож на тех чертей, которые неожиданно выскакивают из игрушечных коробочек... Нос, брови, волосы – все одним махом поднялось вверх... Маленькая сутуловатая фигура, бледное лицо, круглые близорукие глаза, темные, точно дырки, брови вразлет и маленькая складка, мучительно дрожащая над левой бровью, острая бородка по-мефистофельски, заканчивающая это круглое лицо, огромный трагический лоб... – все это 111 парадоксальное сочетание линий придает его лику нечто мучительное и притягательное... Ремизов сам надел на свое лицо маску смеха, которую он не снимает, не желая испугать окружающих тем ужасом, который постоянно против воли прорывается в его произведениях. ...Его письменный стол и полки с книгами уставлены детскими игрушками. Белая мышка-хвостатка стережет шкатулку. А в шкатулке хранится колдовской платок: "Махнешь им, а за спиной озеро встанет..." Игрушки до сих пор остались богами домашнего очага (...) Безжалостно должна была жизнь преследовать человека для того, чтобы заставить его искать покрова и защиты у этих давних загнанных богов". До эмиграции Ремизов издал 37 книг, еще потом – 45. Наиболее известны романы "Пруд", "Часы", "Крестовые сестры", книги "Посолонь" и "Лимонарь", "Взвихренная Русь", автобиографические "Подстриженными глазами" и "Иверень", "В розовом блеске". Рассказы и повести А.Ремизова 1890-1910-х годов отсылают на пласт реалистической художественной традиции ХIХ века. С очерковой точностью воссоздает писатель конкретно-историческую среду, социальные и материальные обстоятельства жизни героев. Повести "В плену" и "Эмалиоль" рассказывают о мытарствах арестантов (вспоминаются "Записки из мертвого дома" Ф.М.Достоевского, "Воскресение" Л.Толстого, "Остров Сахалин" А.Чехова). К Достоевскому восходит описание белых ночей и петербургских углов, Буркова дома, "пыли и надоедливого стука железа о камень, каким стучит подновляющийся и подстраивающийся Петербург летом" в "Крестовых сестрах". Провинция в изображении Ремизова стоит в одном ряду с Скотопригоньевском Достоевского, Ворголом Бунина, провинцией Чехова и городком Окуровым Горького: "Уж эти городишки, теплые да сытые, с кулебякою, когда благополучно все, и трусливые, когда беда стрясется. С голоду подохнешь на мостовой, под забором – палец об палец никто не стукнет". Легко узнаваем и тип героев. Это – "униженные и оскорбленные", "без вины виноватые", "погибшие и погибающие". Соня и Лизавета из романа "Преступление и наказание" узнаются в женских образах из ремизовских "Крестовых сестер". Таковы Верочка Вехорева, мать Маракулина и многие другие. Главный герой – Маракулин – герой, пытающийся осмыслить жизнь ("для чего жить"). Ненависть его вызывает генеральша – "вошь", с ее 112 беспечальной и бессмертной вошьей жизнью. Маракулина преследует концентрированный образ страданий всего живого – мучающаяся в агонии кошка Мурка (ср. образ забитой клячи из сна Раскольникова). Гуманистический пафос сострадания "бедным людям" особенно пронзителен при изображении искалеченного детства, страданий ребенка (тема, также идущая от Достоевского). Аришка, чья фигурка "чистенькая и опрятная", а "рожица" то и дело лукаво осклабляется ("В плену"), "идет только в роты, потому что малолетняя, а купца Сальникова, у которого в любовницах жила, в Сибирь сослали... вместе деньги подделывали, вместе и старуху покончили злющую". В этой же повести есть Васька, "напуганный и шершавый мальчонка", собиравшийся бежать в Америку и схваченный в Ельце; "истерзанное перепуганное его сердечко прыгает в надорванной грудке". Калека Антонина и ее брат Дениска ("Чертик") в "детской пустой с пустыми полками для книг и с двумя кроватями по углам... пищат мышами". "Чудотворная" Верушка ("Крестовые сестры") в свои пятнадцать лет изведала всю грязь и ужас (ее обманом держали в комнате гостиницы, приводя за ночь по пять человек), и впереди ее ждет то же. Дети горбачевских углов, играя в военный суд, приговорили швейцарова Ванюшку к смертной казни через повешение и приговор привели в исполнение. Дети гибнут не только физически, но и нравственно. Так, в "Царевне Мымре" мальчик Атя представлял себе сказочной царевной содержанку Клавдию Гурьяновну, считая, что раз она "содержанка", значит, в ней много содержания, т.е. чего-то значительного, ибо учитель ставит двойку за сочинение, в котором мало содержания. И вдруг правда открылась ему во всем цинизме: "...и заплакал он так, как заплачет в последний раз земля, когда с неба попадают все звезды". Такому привычному по реалистической литературе ХIХ века содержанию соответствует и жизнеподобная, "вещная" поэтика, напоминающая "натуральную школу". Герой всегда помещен в детально выписанную предметную среду, например: "Камера – нора. Побуревшие, перегоревшие в нечистотах и насекомых нары. Серая в пятнах постель. Качающийся черный столик. Качающаяся черная табуретка с чуть заметным цепляющимся гвоздиком. Обгрызанная, истертая ложка в углу за образом. Узенькое продолговатое окно, густо замалеванное белилами. За двойной рамою снаружи железный щит...". Не менее подробны описания внешности персонажей. Так, портрет Стратилатова ("Неуемный бубен") занимает почти три страницы текста. Есть предыстории героев, повествующие о том, откуда их род пошел. Сюжет 113 однонаправлен, строится как хроника событий, как история жизни героя. Таковы история крушения "неуемного бубна" Стратилатова, описание года жизни Маракулина и других обитателей Буркова дома ("Крестовые сестры"), перемещение героя из тюрьмы по этапу и на поселение ("В плену"). Поступательное движение времени (в рамках извечной смены: зима – весна – лето – осень) скрепляет, как в летописях, мозаику разных человеческих судеб. Так воссоздается плотно-реалистический быт "маленьких людей" в конкретно-историческую эпоху, с ее социальными противоречиями, удушающей, пыльной атмосферой ("воздуху дайте!"), смертью всего самого живого и чистого. Подобные "типы" в подобных "типических" обстоятельствах" не новы в русской литературе. Однако такой, условно говоря, "очерково-хроникальной" картиной жизни не ограничиваются произведения писателя. Повествование в них не объективированное, предполагающее абсолютную точку зрения вне текста, а представляет собой различные формы сказа, помещающих точку зрения на художественный мир внутрь него самого. В результате перед нами не столько рассказ о мире, сколько само переживание мира, процесс пребывания в нем. Такая импрессионистическая установка выдвигает на первый план лирическое начало. Действительно, сюжет в повестях "В плену", "Крестовые сестры" не только событийный, но и лирический. Повесть "В плену" построена как движение от тьмы к свету. В ней три части. Первая ("В секретной") состоит из двенадцати маленьких главок, двенадцати фрагментов душевного состояния героя. Отчаянно взывает он: "Белые голуби – мои надежды и мои мечты – не покидайте меня", "лес и золотые лучи – согрейте меня". Но по-зимнему горит лампа в камере, в которой когда-то повесился с тоски один гимназист. Следует далее томительное ожидание и мучительный сон. Герою "холодно и темно", ему кажется, что вся земля умирает. И время умирает, как случайно залетевшая в камеру муха. Ничего уже не хочется; вспоминается все, чем "душа болела". Завершается первая часть выходом героя "на волю" – по этапу! – и возгласом: "И я проклинал человека и, проклиная, падал перед ним". Вторая часть ("По этапу") менее дробна, в ней всего шесть главок, причем каждая имеет свое название. Эта часть наиболее эпична, в ней рассказаны истории других арестантов. Вывод из этой части: "Горько и страшно за мир, землю и душу человека". Третья часть ("В царстве полуночного солнца") воссоздает мир северной природы. Эта часть представляет собой синтез "лирической" первой и "эпи- 114 ческой" второй частей; здесь герой и окружающий его мир находятся в единстве. Произведение обнаруживает характерное для литературы начала ХХ века тяготение к взаимопроникновению лирически-субъективного и эпическиобъективного начал. Черты своего рода "поэмности" есть и в "Крестовых сестрах", сюжет которых слит с напряженной мыслью и чувством Маракулина. Бездумное радостное, почти инфантильное существование героя вдруг, по недоразумению, было оборвано. Выгнанный со службы Маракулин узнал, что "человек человеку – бревно". Как жить? Несколько этапов проходит его мысль. Сначала: "терпи", "забудь", "не думай". Но герой не может не думать. Далее, истории других обитателей Буркова дома укрепляют Маракулина в желании "убить вошь" – генеральшу Холмогорову, которая представляется воплощением причины зла. Потом идет эмоциональный подъем (жажда новой радости) и спад (разочарование в любимой девушке), внутренний бунт. Символический сон, воспоминания о матери, мечта о поездке всей компанией в Париж (ср. "В Москву, в Москву" трех сестер в пьесе Чехова) – и снова разочарование, тоска, бред, дурное предзнаменование (сломался крест) и в итоге смерть. Как видим, вехи в сюжете не столько событийные, сколько психологические (сны, предзнаменования, мечты, разочарование). В отличие от хроникального течения времени событийного, линия внутренних переживаний – ломаная, с подъемами и спадами, забеганиями вперед и возвратами. Скрепляют всю "мозаику" лирические лейтмотивы, например мотив степи. Судьбы других в этом "поэмном" уровне содержания выступают не как часть среды, а как повод к размышлениям героя, аргумент в его споре с самим собой, толчок для нового оттенка чувства. Раскрывается такой герой по-разному: иногда – в прямых восклицаниях (и тогда они часто заключены в кавычки как прямая речь), чаще – в своеобразных ритмизованных монологах, например: Светлая летняя ночь. Там созревают плоды, и зарницы, шныряя, колышат колосья. Одинокие звездочки смотрят на землю, Где-то за тюрьмою поют. Собачонка тявкает тупо. И песня уходит. 115 Как тихо, как мертвенно тихо! Слышу время, время стучит, убегает Ничего не хочу, ничего мне не надо. Слышу время, время стучит, убегает. Все подробности мира внешнего в этой импрессионистической картине только предугадываются, предполагаются, они – "где-то там", растворены в "светлой" ночи с ее созревающей жизнью и песнью, окутаны взглядом "одиноких звездочек". Постепенно все внешнее отступает, его напевная дактилическая мелодия удаляется, остается чисто субъективное ощущение уходящего времени (с нагнетанием глаголов, усиливающими повторами, отрывистым хореем). Объединяет реалии в этой картине, состоящей из россыпи подробностей, не причинно-следственная связь, а движение эмоционального тона, мелодии. Основная же форма раскрытия героя-рассказчика (предстающего то как лирический герой, то как собственно герой-рассказчик, то как некая точка зрения на события, находящаяся не вне, а внутри художественного мира) – сказ в его разновидностях. Почему именно сказ воспроизводящий социально-характерную устную речь? Герой-"рассказчик" не раскрывается как характер. Его признаки – отрицательные: нет биографии, нет семьи, нет поступков, часто даже нет определенного, личностного мироотношения, позиции. Передаются только его ощущения. (В пределе такой герой может совсем редуцироваться до некой условной точки зрения, как в "Неуемном бубне", "Чертике" и др.). Состояние героя – это состояние ребенка, которого вдруг разбудили, он ходит по кругу и все не может проснуться. Восприятия его зыбки: "где-то", "кто-то", "или", "так, что ли?", "что-то". Полной лиризации произведений потому и не происходит, что раскрытие субъективности героя не самоцель. Герой почти "прозрачен", он не последний смысл в произведении, а только знак, средство проникновения в более глубокие пласты содержания, он приоткрывает дальше смысловую перспективу: объективную (надличностную) и вместе с тем духовную в отличие от материально-вещественной среды. Именно сказ, внося нечто объективное в поток ощущений героя, позволяет избежать полного разрыва человека и мира (или их слияния в человеческой самостоятельность объективного мира). субъективности, сводящей на нет 116 Герой в произведении Ремизова, выбитый из колеи, ошеломленный, как бы продолжает дальше тот тип героя, который представлен в образе Родиона Раскольникова из эпилога. Такая "родословная" героя поддерживается и многочисленными деталями из чисто бытового, событийного уровня произведений, отсылающими читателя к творчеству Достоевского, о чем говорилось выше. Маракулин в "Крестовых сестрах" – это Раскольников в ту пору, когда на каторге, после болезни, ему открылась та правда народной души, та "почва", которая и спасет Россию. Маракулин, выгнанный со службы, заболел. "Первое, что он почувствовал, – когда после болезни переступил за порог дома и очутился на улице, – он теперь все видеть как-то стал и все слышал. И еще он почувствовал, что и сердце его раскрывается и душа живет. Одному надо предать, чтобы через предательство свое душу свою раскрыть и уже быть на свете самим собою, другому надо убить, чтобы через убийство свое душу свою раскрыть и уж, по крайней мере, умереть самим собою... и уж быть на свете и не просто каким-нибудь Маракулиным, а Маракулиным Петром Алексеевичем: видеть, слышать и чувствовать". Это герой, который "всю жизнь до травинки принял к себе в сердце", решивший, как Митя Карамазов, не убив, пойти в каторгу, пострадать за "дитё". Такой герой не столько индивидуальность, сколько некое очень чуткое сознание, открывающее своим прикосновением душу, внутренний смысл в окружающем, человеческие смыслы всех вещей, людей, событий. Герой не связан с людьми житейскими, практическими отношениями, он – сосед, свидетель, воспринимающий все без эгоистической заинтересованности, чисто человечески. Он обладает даром сочувствия и к людям (девочке, "крысе серой", затравленной другими ребятишками), и к животным ("Что сорока, мерзнешь, сорока?"), и к цветам, траве, деревьям ("Снегом заносит. Рвется в белые окна метель и стучит. А вчера еще жил василек...", "весна, изнемогая", стучит ему в окно), даже к комарам. Такой герой воплощает заветы старца Зосимы: "Любите все создание божие, и целое, и каждую песчинку. Каждый листик, каждый луг божий любите. Любите животных, любите растения, любите всякую вещь. Будешь любить всякую вещь и тайну божию постигнешь в вещах..." Деток любите особенно...". Герой Ремизова – ребенок, которого разбудили, – внимателен к изначальному смыслу вещей и слов, он и постигает ту народную "почву", на 117 которой стоит и современная историческая жизнь страны, и личные переживания отдельного человека. Слово в сказовом повествовании у Ремизова "двуголосое": и называет предмет, и имеет то значение, которое закрепилось за этим предметом в национальной, причем простонародной культуре. Такие слова, важные своим "подсловьем" (по выражению писателя), выделены в тексте курсивом. "Чужое слово" в речи героя выделял курсивом и Достоевский (например, в монологе Раскольникова после чтения письма матери: "...за делового и рационального человека изволите выходить, Авдотья Романовна, имеющего свой капитал (уже имеющего свой капитал, это солиднее, внушительнее), служащего в двух местах... и, кажется, доброго, как замечает сама Дунечка. Это кажется всего великолепнее! И эта же Дунечка за это же кажется замуж идет!.."). У Ремизова таких выражений очень много, и передают они не индивидуальную точку зрения, а общенациональный "ореол" вещи. Таковы и личные воспоминания: "И я вспоминаю, как однажды ночью в наш дом привезли Иверскую – икону. Тогда я был совсем маленький, спал с зайчиком. Я прикладывался к иконе, и зайчик прикладывался. Потом игрушку куда-то закинули... И у меня нет больше игрушки". "Тихо в тюрьме. Где-то чуть слышно читают молитву: "Отче наш"(там же). Иногда прямо воспроизводятся принятые в народе названия: радуга – " небесная бык-корова"; надзиратель – "старшой", арестанты – "кандальники" и т.п. Чаше всего переплетаются личная точка зрения с мнением, принятым в этом дворе, в этой компании людей, в этом городе: Акумовна – " божественная", "старик – молчок", "девицы – портнишки". Не только прозвища есть у каждого из жильцов Буркова дома ("Крестовые сестры"), но есть и какие-то свои легенды (о генерале Буркове, об акушеркиной шубе), какие-то свои авторитеты ("хироманты с углов", "братец из Гавани"). Через речь передается духовная субстанция "маленьких людей", отличная от официальной религии и от представлений культурных, интеллигентных людей из высшего общества. Однако именно это и есть коренная Россия. "...Бурков дом – весь Петербург!" Так любили говорить на Бурковом дворе" и "Бурков дом – сущая Вязьма!". Жильцы собрались со всех концов страны: Акумовна – из усадьбы Турий Рог; Адония Ивойловна видит во сне "родные реки – Онега-река, Двинарека, Пинега-река, Печора-река и тяжелую парчу старорусских нарядов, белый жемчуг и розовый лапландский... сказки и старины... холмогорские комолые коровы"; Вера Николаевна, с глазами бродячей Святой Руси, из Костринска, это 118 "старый город на реке Устюжине, а по звону похоронному – первый, плакун – город"; учительница Анна Степановна – из Пурховца, "Пурховец – древний город на реке Смугре, а по пению соловьиному – первый, соловей-город". Национальное звучит и в голосе Веры Вехоревой: "Южанка, но воспитывалась в Москве, и в говоре ее не было ни надоедливого южного чириканья, не было и холода северного – смиренной вольностью, но зато была крепость и особенная московская желанность". Национален и самый колокольный звон, одно из первых детских воспоминаний самого Ремизова ("Иверень"), также и в "Неуемном бубне": "Утихает вечерняя заря, все предметы колеблются, как пьяные, и доносит ветер звон со старых звониц и колоколен. Отдается, парит звон, колокол с колоколом перекликается – зазвонный, праздничный, буревой, гуд-колокол, и плывет из-за Волги крылатый и плавный лебедь-колокол. И вдруг как ударят в чугунную доску – задребезжит звонило, инда в висках треснет, и уж не колокол – божий глас, это гонят стадо с полей – разревелся бык, ржет кобылица, звякает глухарь, гремит гремок, звенят бубенцы, раззвенелись бубенчики и сквозь звяк и рев свистит на ухо птица, свистит-пересвистывает, этакая глупая!". Древней Русью веет от старин Веры Николаевны: "3ачин она клала запевом о семи турах и матери их турице, как шли семь туров златорогих подле синего моря, и поплыли за синее море, и выплыли на славный Буян остров, и на Буяне встретилась им турица – мать их. И рассказали ей туры, как случилось им идти мимо Киева, мимо Божьей церкви Воскресенской...". Девочка, уличная певичка, поет старину: "...степной ширью и морским раздольем упоена была песня". Повествование за счет "подсловья" делается очень объемным: называет предмет, выражает личностное его восприятие, намекает на национальный тип мировосприятия. Пространство становится не просто ближайшей вещной средой и не просто лиризованным пространством переживания субъекта, но и общенародной "почвой". Возникает эффект своего рода эпопейности. Вещь в таком художественном мире важна не сама по себе, как предмет, а именно как вещь, т.е. носитель духовной культуры нации (в более или менее широком ее срезе). Часто поэтому вещь не изображается, а обозначается через слово, выражающее отношение людей к этой вещи: "журавлевский самовар", "войдет старшой и объявит, и все подымутся, загудят, споря и собирая рухлядь со всевозможными тайниками для табаку и инструмента". 119 Вещь дорога связанным с нею кругом ассоциаций. Так, у Акумовны остались от сына теплые сапожки и калоши: "На вещь посмотрю, как на его самого!". У Стратилатова есть "старинная чашка в виде яйца на курьих ножках с золотым крылом вместо ручки", ее он никому не дает, "бережет пуще глаза, потому что из нее его мать чай пила", и ее разбивает распутная Наташка, коробка с "печатью" кондитера для героя повести "По этапу" – символ прежней вольной жизни и ничтожества мира, где "так высоко чтут красную печать... кондитера". Таковы и серебряные ложки для старухи и для Певцова ("Серебряные ложки"). Интерьер воспроизводит целые пласты духовного опыта людей. Особенно наглядно в этом смысле описание кухни, спальни, гостиной Стратилатова, с картинами, шкапами, необыкновенным зеркалом и книгами: "По левую руку от лежанки книжные полки с журналами – журналы перевязаны полными комплектами и расположены по их важности: "Исторический вестник", "Русская старина", "Русский архив" и в самом низу "Вестник Европы", "Русская мысль". На полках впереди книг табакерки и опять дешевые открытки соблазнительных девиц вперемежку с видами святых мест...". Или: "И если бы сама синяя страшная тетрадка, втиснутая в угол шкапа между "Скитским покаянием" и "Любовью книжкою золотою", обойдя сторонкой "Похождение Ивана Гостиного сына", "Пригожую повариху", стихотворения Нелединского-Мелецкого, Батюшкова, Подолинского, Кольцова, Некрасова и другие любимые книги и, пробравшись сквозь ненавистного ему Толстого, презираемого им Гоголя, умунепостижимого Достоевского и других подобных сочинителей, вылезла бы из шкапа, разверзнулась бы – страшная "Гаврилиада", любимая и ненавистная, заветная и проклятая...". У бабиньки Аграфены в "Чертике": "Тепло у старой, уютно. Стены в картинках; картинки шелками да бисером шиты: тут и цветочки, и лютые звери, и монастырь, и китайцы, амазоны на конях и так амазоны, лебеди, замки и опять китайцы. В углу иконы, по бокам святыня: шапочки, туфельки... На столиках шкатулки – бисерные, и кожей обделанные и разрисованные, и хрустальные...". В таких описаниях преобладает не индивидуально-лирический, а внеличностный сказ. Наиболее лиричны в произведениях Ремизова описания природы. Пейзажи выполнены в импрессионистической манере: они очень динамичны, лишены четких контуров, отдельные предметы объединены общим колоритом как бы самосветящихся красок (наблюдается характерная субстантивация 120 определений): "Там, впереди, для меня словно остров – там что-то заброшенное и утонувшее в снеге, а позади – оторванное и застывшее. Легкий ветер, чуть шелестя, доносит гулы. И чудится тоска в гулах голубой летней северной ночи". Построенные на лейтмотивах и единой ритмико-интонационной мелодии, картины природы почти сливаются с ощущениями героя: "Зеленоватая ночь, туманная, в колеблющихся тучах. Не слышно ни звуков, ни голоса. Но все живет, завеянное зеленоватым светом... Прямо через окно идет зеленоватый свет, идет и проникает в душу... медленно впитывается зеленоватый свет, медленно обволакивает душу". Такое тесное слияние объективного и субъективного в пейзаже создает основу для воплощения в картинах внешнего мира исконно славянского, народного представления об устройстве мира и о месте человека в нем. Оставаясь в рамках реалистической достоверности, автор достигает эффекта мифологизации природы исподволь, включая все стихии (небо земля, вода и огонь) в панорамный пейзаж (солнце дышит, земля пробуждается, травы растут), заканчивающийся метафорой в фольклорном духе: "Лучистое солнце неугомонно-порывисто дышит на пробуждающуюся землю. Над головою, в густой теплой сини, вереницы птиц. Под ногами ярко-зеленые нетронутые побеги первых травок. А речное царство – голубое поле, изборожденное золотисто-отливными волнами, растет с часу на час и осаждает берег, острова, подходит к лесу и, врезаясь в глубь леса, плывет бурливо среди старых, поседевших елей по хрустящим мхам и медвежьему следу. К вечеру, на ало-пурпурной заре, река займет от края и до края всю полосу, зальется в пунцовый терем солнца, под его разноцветно-облачную кровлю". Большую степень условности в пейзаж вносит включение аллегорических образов: "Это Весна шла, трубила в свой олений рог, – Весна шла вслед разыгравшемуся нежному стаду барашков, Весна с лицом Белой ночи, в венке белых цветов, лесных ягод, увитая с головы до ног пенящимся кружевом бледных мхов". Наконец, откровенно условны описания природы в сборнике "Посолонь": здесь появляются белый Водяной, Лесные человечки с вывороченными пятками, Лесные женщины, Кикимора, Лешак, а в небе – радуга, Бык-Корова небесных полей. Как известно, интерес к фольклору обострился в русской литературе именно в год первой русской революции и в основном в рамках символизма. Ал. 121 Кондратьев писал в 1907 году: "Долго дремавшие среди пожелтелых страниц толстых томов Афанасьева, Забелина, Сахарова, стали просыпаться понемногу тени древних славянских богов, полубогов, а также лесных, водяных и воздушных демонов...". А.Белый, Ф.Сологуб, А.Толстой, А.Блок, К.Бальмонт, Вяч. Иванов, С.Городецкий стремились преодолеть индивидуалистическую замкнутость, приобщившись к истокам национального мировосприятия. У истоков такого стиля, условно "преломляющего мотивы русской сказочной демонологии". Л.Гинзбург видит прозу А.Ремизова и стихи Ф.Сологуба. Так, например, блоковский цикл "Пузыри земли" посвящен Ремизову. Вместе с тем, появление мифологических образов у Ремизова всегда имеет психологическую мотивировку – детский взгляд на мир с его наивностью и верой в бабушкины сказки. Так, например, едет мальчик Атя в деревню к дедушке в гости: "С копыт пыль стоит, завивается дымом, а по полям не унылые версты, – вотские девушки в белых затканных шелками нарядах... Проехали мельницу – прогремела плотина, миновали заповедные – вещие рощи Кереметя. Да жив ли гордый бог – непокорный брат Инмара, творца неба, земли и солнца? – Жив, – шепчет роща...". Но ведь мальчику и ласточки говорят: "Атя приехал, какой за зиму он большущий стал!" и "заяц" – кролик лапку дает и "мяучит". Если же такие образы появляются и во "взрослом" восприятии мира, то это связано с детскостью лирического героя, имеет характер игры (например, "Монашек"). Нередко мифологические образы входят в сказки для дочери. Эстетизация древнего мифа наблюдается и при описании обрядов, совершаемых на пасху, на троицу, масленицу: когда-то существовавшие всерьез, обряды теперь превратились в детскую игру (например, "Кострома"). Часто Ремизов дает комически-бытовую трактовку мифов и мистерий (напр. "Легенды о царе Соломоне"). В рассказе "Змей" ("Посолонь") появление в доме Дьявола – Змия определено детской психологией Петьки и старчески-суеверным мировосприятием бабушки, принявшей за змея сначала капустные кочерыжки, спрятанные заботливым внуком ей в сундучок со смертной одеждой ("На том свете бабушке пригодится, сковородку-то лизать не больно вкусно"), а потом самого Петьку. Мальчик хотел полететь, как бумажный змей, да свалился с дерева прямо на бабку ("Пала я тогда замертво, и потоптал меня Змий лютый о семи голов ужасных"). При написании своей пьесы "Бесовское действо над неким мужем, а также смерть грешника и смерть праведника" (1907) А. Ремизов использовал 122 Киево-Печерский Патерик и труды специалистов-филологов. Пьеса имеет жанровый подзаголовок: "Представление в трех действиях с прологом и эпилогом". Характерны для мистериального хронотопа время (с вечера Прощеного воскресенья до Пасхи) и трехчастное пространство (ад – земля – рай). Ремизов стилизует пьесу под народную традицию балаганного "действа". Ничего мистического в сюжете нет, напротив, "карнавализация" позволила автору вести мифологический рассказ в сниженно-простонародном стиле. Главные персонажи – черти, Аратырь и Тимелих, из карьерных соображений пытаются совратить праведника Ивана. Они глупы и смешны. Комичен демонский маскарад. Аратырь требует, чтобы черти, наряженные ангелами (хвосты приколоты булавкой), приятно улыбались и сильнее дышали. Те старательно говорят свои реплики вместе с ремарками: "Иван, мы ангелы. Пауза. Делают жест. А вон идет к тебе Главный. Улыбаются. Торжественно. Поди и поклонись ему. С веселой миной. Одновременно." Аратырь доволен репетицией: "Отлично". Ад напоминает лавку старьевщика: разбросано разного рода тряпье, маски, кусочки парчи, позументы, кисти от гробов, несколько штук кадил и "прочая рухлядь, вынутая из гробов". Таким образом, Ремизов явно ценит "детское" как пограничное между природным и социальным (и фольклор как детство культуры народа), но понимает невозвратимость прежней гармонии отношений между людьми и природой. Действительно, и в детском, проникнутом мифологизмом мире, доброе соседствует с бессмысленно – злым: дети травят Параньку – "крысу серую"; белая ночь обманывает Маракулина, ищущего Верочку, и т.д. Кроме того, мир мифологизированной природы – недолговечен (весна гибнет под метелью) и обманчив. Так, в последней главке повести "По этапу" Весна оборачивается стариком, почти трупом, красота тронута тлением: "Цепкий плаун колючими хищными лапами ложится на темно-зеленую, пышную грудь лишаев. Суровый вереск бесстрастный, как старик, стоит в изголовье. Сохнет олений мох, грустно вздыхая, когда вся в изумрудах ползет зеленица. В медных шлемах, алея, стройно идут тучи войска кукушкина льна. А кругом пухом северных птиц бледно-зеленые мхи. 123 Из трясины змеей выползает линнея, обнимает лесных великанов и, пробираясь по старым стволам, отравляет побеги. Дорогим ковром, бледно-пурпурный, будто забрызганный кровью, по болотам растянулся мертвый мох, желанья будя подойти и уснуть навсегда... Запах прели и гнили, как паутина, покрывает черты ядовитые, полные смерти". Автор (не герой) сознает, что прежним мифам нет места в современной жизни. В рассказе "Святой вечер" герой едет на родину, к деду Корочуну (чтото вроде Деда Мороза), но поезд так и не успел его довезти к святому вечеру, а в Петербурге нельзя Корочуна кутьей потчевать – выбросишь за окно, собака съест. В Петербурге "и думать не годится, если ты хоть сколько-нибудь благоразумен и дорога тебе – не опостылела, твоя нищенская до отупения однообразная, в постоянных заботах о куске хлеба, мелочная жизнь". Наконец, прежнему не только нет места в пошлой современности, но оно и бесполезно, бессильно что-либо изменить к лучшему. Не случайно Маракулин испытывает желание выколоть "потерянные глаза бродячей Святой Руси, оробевшей, с вольным нищенством, опоясанной бедностью – боголюбским пояском, все выносящей, покорной, терпеливой Руси, которая гроба себе не построит, а только умеет сложить костер и сжечь себя на костре". Обращаясь к памятнику Петру I, Маракулин говорит: "Ваше императорское величество, русский народ настой из лошадиного навоза пьет и покоряет сердце Европы за полтора рубля с огурцами. Больше я ничего не имею сказать!". Замечательная запевка о турах златорогих и об угрозе Киеву – уникальна, и открывает она былину о Ваське Пьянице, спасающем Киев от татарских полчищ. Исследование Б.Н.Путилова доказывает, что в ряде вариантов этой былины совершенно отчетлив пародийный момент. Василий – пародийный двойник Ильи Муромца. Например, Илья исцеляется с помощью чудесного напитка, поданного каликами перехожими, Василий, к которому пришел за помощью князь Владимир, заточен не в темница, а "заточен" в кабаке. Сила богатырская возвращается к нему после троекратного опохмеления. При описании битвы с татарами патриотической героике придан оттенок несерьезности. После победы Васька ведет в боярский Киев "голей кабацких" и буйствует на городских улицах. Б.Н.Путилов делает вывод о том, что богатырство Василия одновременно и истинное, и вывернутое. "Острие пародийности направлено не на богатырство как таковое... но на традицию, замыкавшую богатырство в рамки привычных стереотипов, "регулярности". В 124 былине утверждается возможность и правомочность появления богатыря в толще низов, среди "голей кабацких", богатыря со своими – "нерегулярными" привычками и нормами поведения", – пишет исследователь. Использование Ремизовым запева о турах златорогих, звучащего серьезно-патетически, таило под собой ориентацию на пародийную, подлинно простонародную былину, не замеченную, как уверяет Б.Н.Путилов, фольклористами (т.е. научным сознанием общества). Как и сама эта былина, так и "Крестовые сестры", пародируют, "выворачивают" традицию, но и продолжают некоторые ее существенные моменты. Ремизов не возлагает надежд (в отличие от Вяч.Иванова) на возрождение древнего мифологического сознания. Оно входит в качестве элементов – наивномилых или суеверных – в структуру современного народного миропредставления, составляя его "подпочву". Отношение "древнего" – "современного" не имеет характера альтернативы: "древнее" какой-то частью входит в "современное". Трагизм настоящего положения народа осознается писателем вполне реалистически. Ремизов, продолжая традиции реализма ХIХ века, прежде всего Достоевского, углубляет понимание "среды", обусловливавшей личность: среда не только материальное окружение, не только идеологическое "поле", в котором развивается сознание человека, но и та глубинная "подпочва" мировосприятия, которая сложилась в многовековой истории культуры нации и может проявляться даже на уровне неосознаваемости. Ремизов обогащает художественные возможности слова, которое значимо в его произведениях не только прямым, предметным смыслом и не только выражает переживания героя, но и воплощает в своем "подсловье" глубинные пласты народного духа. Выход за пределы реализма связан в творчестве Ремизова не с импрессионизмом описаний, не со сказовой формой и не с включением мифологических образов. Недовольство современностью и отсутствие надежд на возрождение древнего мироотношения порождает отчаянье от безвыходности ситуации. Это заставляет писателя чувствовать наличие какойто злой, роковой силы в жизни человека. Эта сила не освоена народным сознанием, и ей нет имени. Выражается она в формулах безличного повествования. Так, в финале рассказа "Чертик", в котором сказ авторский переплетается с речевой зоной Дениски, появляется безличное повествование: "И сквозь сон, казалось, один, безымянный сторожил сон спящих. Кто он? Как его имя? Откуда он и зачем пришел? ... Длинные тонкие губы его – отвратительные, чуть улыбались. 125 Он, – бормотал Дениска. Он, – повторяла Антонина. И серел рассвет, вставал серый день там, за окном...". В "Крестовых сестрах" Маракулина изводит какой-то сосед из дома напротив, смотрящий в его окно. В начале повести отвратительный старик Гвоздев говорит, гоняя ребятишек: "Времена созрели, исполнилась чаша греха". И умирающий Маракулин в конце слышит, выбрасываясь из окна, как "кто-то сказал со дна колодца: "Времена созрели, исполнилась чаша греха, наказание близко. Вот как у нас, лежи! Одним стало меньше, больше не встанешь. Болотная голова". Однако, как представляется, такие мистические мотивы являются штрихами в общей концепции писателя и не определяют ее эстетического своеобразия. В целом в 1890-1910-е годы Ремизов остается в русле реализма с характерными для начала XX века чертами: усилением роли субъективно – лирического начала, стремлением к синтезу эпики и лирики в жанровых формах, динамизмом, повышенной экспрессивностью стиля. Сохраняя верность традиционной тематике реализма, писатель расширяет ее, включая в понятие "среды" культурный опыт нации, сложившийся в веках и вошедшей в мировосприятие современного человека. Вместе с тем, стремление воспроизвести глубинные пласты сознания ("подсловье"), не связанные непосредственно с конкретно-исторической эпохой, усиленный лиризм повествования, превращение материала – слова — в важнейший предмет изображения приводят иногда к тому, что объективная реальность "растворяется" в субъективности или становится полем для стилизации, эстетической игры. Стиль писателя в дальнейшей эволюции вел за пределы реалистических принципов изображений действительности. А. Ремизов сосредоточен на одной точке – боли. Он признавался: "Я всегда чувствовал вину свою перед обиженным и обойденным судьбой". Потому так мрачны его произведения о современности; по мнению А. Блока, "достоевщина в кубе". По закону контрапункта Ремизов пишет сказки, создавая светлый, трогательный мир. Сказки Ремизова – книжного происхождения (для "Посолони" использовал 11 книг, сборников фольклорных сказок). Но это не плагиат, так как писатель по-своему, в своей игровой манере, своим ладом передает народные сюжеты. Легендарная, "очарованная" Русь встает со страниц 126 его сказок, вольного переложения Священного писания, древнерусских житий и апокрифов (оригинальных легенд на христианской основе). Задача Ремизова – постичь духовный облик народа через образы творимой им легенды. Обращаясь к сказке, Ремизов погружается в глубины общенародной прапамяти. Древние магические обряды оживают в детских играх. Сказка начинается с игры. Сказочник должен обладать душой ребенка. Сборник "Посолонь" включает сказки-игры, расположенные по временам года ("по солнцу"): Весна-красна (Красочки, Кострома, Кошки-мышки, Гуси-лебеди), Лето красное (Калечинамалечина, Купальские огни, Праздник снопа), Осень темная (свадьбы), Зима лютая (Корочун, Медведюшка). Сверхличное, общенародное, "эпическое" сочетается в "Посолони" с глубоко личным, лирическим. Однако "Посолонь" включает в себя не только сказки, но и расказы ("Змей"), лирические миниатюры ("Монашек"), стихотворение в прозе ("Бабье лето"), свадебный плач-причитание. Вместе с тем, исследователи отмечают целостность книги – это лирический и по форме, и по содержанию1. Такое жанровое определение, может быть, и не бесспорно. Но скрепляют книгу, действительно, доминанта "детского" взглядав на мир (а значит, и игрового, мифологичсекого, языческого – вненаходимого "взрослой", академической и философской культуре большинства символистов) и задушевный лиризм. Книга начинается и заканчивается колыбельной песней и темой весны2. Но игровое, детское у Ремизова – не только предмет изображения и конструктивный принцип изображаемого мира (как показал Й. Хейзинга, игра "отменяет" обыденную жизнь, разворачивается в своем, свободном, пространстве и времени), игра – это и способ создания художественного образа. Автор разыгрывает метаморфозы: мелочи обихода по-сказочному превращаются в живые существа или волшебные предметы. Так, например, в миниатюре "Монашек" веточка вербы становится белым монашком, который в гости пришел, а может бать, это ожившей солнечный зайчик? 1 Чередникова М.П. Игра-обряд-миф в лирическом цикле А. Ремизова "Посолонь" // Проблемы взаимодействия эстетических систем реализма и модернизма. Третьи Веселовские чтения. Ульяновск, 1999. С. 19. 2 Там же. С. 20. 127 7 апреля, на Благовещение, как указывает в примечании сам Ремизов, беленький монашек – вестник солнца, ходит по домам и раздает первые зеленые ветки – символ народившейся весны. "Мне сказали, там кто-то пришел, в сенях стоит. Вышел я из комнаты, а там, гляжу – монашек стоит. – Здравствуй! – говорит и смотрит на меня пристально, словно проверяет что-то. Маленький монашек, беленький. – Здравствуй, что тебе надо? – Так, по домикам хожу. – Подает мне веточку. – Что это, монашек, никак листочки! – Листочки. – И улыбается. А я уж от радости не знаю, что и делать. Комната, рамы и вдруг эта ветка с зелеными, совсем-совсем крохотными маслеными листочками. – Хочешь, монашек, баранок турецких, у нас тут на углу пекут? – Нет. – Чего же тебе, молочка хочешь? – Нет. – Ну, яблочков? – Медку бы съел немножко. – Медку... Господи, монашек!... Я тебя где-то видел. – Монашек улыбается. Крепко держу зеленую ветку. Листочки выглядывают. Моя ветка, мои и листочки! Монашек стоит, улыбается." В главке "Красочки" Ремизов описывает правила детской игры: выбор ведущих (Ангела и Беса) с помощью считалки, разбивку на команды, начальный игровой диалог. А затем разыгрывался целый поэтический спектакль: "Вышла Незабудка, заискрились синие глазки. Принял Ангел синюю крошку, прижал к теплому белому крылышку и полетел…", "Вышла Ромашка… Пощекотал Бес вертушке желтенькое пузико, подхватил на мохнатые лапки и убежал…". 128 М.П. Чередникова проницательно замечает, что читательское восприятие постоянно колеблется: то ли это играющие дети, то ли ожившие цветы. Исследовательница пишет: "Весенний лужок, где играют дети, под пером Ремизова превращается в мифологическое пространство, на котором разыгрывается вечная борьба Добра и Зла. Ангел и Бес здесь и условные игровые роли, и персонажи вечного прения, свершающегося между миром света и тьмы. В соответствии с этим игровые персонажи приобретают мифологическую семантику: Ангел управляет стихиями, призывает на землю благодатный дождь, а затем останавливает тучку. Ангелята устраивают радугу"1. Наконец, автор сам играет словом. Его сказовое повествование вроде бы воспроизводит просторечие ("речевой примитив"), но делает его предметом художественной игры, что и обусловливает эмоциональную атмосферу мягкого юмора, детской шалости и мудрой улыбки. Обратимся к рассказу "Змей". В сюжете обыгрываются обычные житейские ситуации: бабушка рубит капусту, заготавливая ее на зиму; мальчик запускает воздушного змея. Представленная автором в рассказе "комедия положений" обусловлена столкновением в трактовке бытовых происшествий двух мировосприятий: религизоно-суеверного и наивно-реалистического. Основным средством создания образов героев является речь. Внешность и характеры их мы представляем прежде всего через называния: "бабушка", "старая", а Петька – "непоседа", "таратора", "лакома", "пострел", "гулена". Речь бабушки насыщена церковными выражениями, гладкая, закругленная, с инверсиями ("и потоптал меня Змий лютый о семи голов ужасных…"), хотя "крестное знамение", "рукописание", "батюшка-пещерник", "сонное видение" и т.п. перемешаны с просторечиями: "дубастая", "не отплюешься", "крантиком". Речь Петьки стремительная, быстро переходящая от причин к выводам и практическим следствиям: "Ворона летает, потому что у вороны крылья, ангелы летают, потому что у ангелов крылья, и всякая стрекоза и муха – все от крыла, а почему змий летает?" – "А летает змий потому, что у него дранки и хвост!" 1 Там же. С. 21. 129 Авторское слово сближено с речевой зоной бабушки, во-первых, благодаря обильному использованию несобственно-прямой речи, когда бабушкин "голос" сливается с "голосом" автора, а во-вторых, само авторское слово воспроизводит разговорное просторечие (фразеологизмы: "хлебом не корми", "свернется сурком", отступления от литературной нормы: "ровно" (точно), "не видать", "зачиклечился", "внедомек"). Однако характер интонации авторской речи напоминает скорее речь Петьки-тараторы: события развиваются стремительно (в первом абзаце – целый день описан, во втором – уже другой день), все предложения главные, логические связи заменяются тире ("Поел, помолился Богу, да и спать, – свернется сурком, только посапывает"). Текст Ремизова предназначен для чтения вслух. К. Могульский писал, что синтаксис Ремизова – запись устного рассказа, нотные знаки, отмечающие ритм и интонацию живой речи. Ремизов часто выпускает союзы, местоимения, эпитеты, использует эллипсы. Критик отмечал также в стиле Ремизова обилие интонационных знаков (…,!), слова-жесты (вот, тут, это)1. Например, в рассказе "Змей": "Какой там корове!", "И в этот-то самый сундучок…", "Вот Петька этим самым тестом – халвой и вымазался…". Взаимопроникновение речевых зон бабушки, Петьки и автора создает атмосферу близости и сочувствия. Ведь не случайно герои рассказа – бабушка и внук, заботящиеся друг о друге, стремящиеся помочь, защитить. "Старый да малый" – живая память народная, в которой хранятся древние поверья и обычаи. Слово "змей", ключевое в рассказе, многозначно: это и капустная кочерыжка, и символ Сатаны, и детская забава. 24 сентября – капустница, день, когда начинаются заготовки на зиму и шутливые вечеринки – "капустники". А 25 сентября – Артамон-змеевик, когда змеи перебираются в лес на зимовку. Образ детской игры вписан автором в природный, трудовой и мифологический круговорот. И сюжет ("змеиный"), и стилевая окраска (добрая шутка) имеют прочную мотивировку в народном миропредставлении. Рассказ "Змей" включен в раздел "Осень темная": на мрачном фоне "последнего времечка" ярко светятся образы бабушки и Петьки, овеянные добротой, весельем, мечтой. Й. Хейзинга утверждал: "…Игра превращается в серьезное, а серьезное – в игру. Игра может 1 Цит. по: Ремизов А., Зайцев Б. Проза: Книга для ученика и учителя. М., 1997. С. 597, 599. 130 подниматься до высот прекрасного и священного, где оставляет серьезное далеко позади себя"1. М. Волошин писал, что главная драгоценность "Посолони" – это ее язык: "Старинный ларец из резной кости, наполненный драгоценными камнями. Сокровища слов, собранных с глубокой любовью поэтом-коллекционером". Ремизов не просто пересказывает древние сюжеты, он выражает свои чувства и поэтому создает свои слова, в соответствии со стихией народной речи. "Я не хочу воскрешать какой-нибудь стиль, я следую природному движению русской речи и как русский с русской земли создаю свое". Ремизов ссылается на свой пример: "В тот день с утра мело, а к вечеру закуделило". Такого слова у В. Даля нет, но оно вполне отвечает "духу" русского языка. Оживляя забытые пласты языка, Ремизов возрождает подпочву народной нравственности. Мифологизм сближает его с символистами, но Ремизову был свойственен не культ Красоты, а культ Сострадания, Жалости. В эмиграции Ремизов написал книгу "Пляшущий демон", посвященную памяти старинных скоморохов и книгописцев. Какие-то черты этого древнего искусства видит писатель и в современности: в поэзии М. Кузмина, в музыке Лядова, в танце Сергея Лифаря. Ремизов рассуждает так. Танец по-русски "пляс" – плясать – плясун – пляска. В слове "пляска" слышится плеск, плескание; хлопать в ладоши и плящ или плещ – раскаленность и плющ – взвей. "Танец – пляс" значит вьющийся взлет, вскипающий под плеск – хлопанье. Душа танца – вскипь – восторг. Из взлета пляшущего вызвучало слово, и человек стал человеком... (именем "Русь" начинается пляска. "Русалия" и есть русское плясовое действо (в ночь на Ивана Купалу). Русалия то же, что сновидение, ни дневной, ограниченной "действительности", ни правды трезвого "нормального" зрения нет. Как сновидение, Русалия колдует, в ней, как в сказке, неожиданное становится как ожидаемое, а невозможное возможно... Огромное значение в выражении авторской концепции имеет в произведениях Ремизова интонационно-речевой "жест", сливающий индивидуально-авторское с глубинно-народным. В центре повести "Соломония" (1929) находится женщина, одержимая бесом. Огромную роль в концепции мира у Ремизова играет категория Рока, 1 Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. М., 1992. С. 18. 131 Судьбы. Человек не волен в своей судьбе, которая является ареной борьбы Бога и Дьявола. Акумовна в "Крестовых сестрах" говорит, что "обвиноватить никого нельзя". Сам писатель утверждал: "…в мире ходит грех. Таково народное раздумье над жизнью. Грех – сила и не знает никаких клятвенных преград, никаких законов". Соломония "чиста и непорочна", "мечтает посвятить себя служению Богу – итти путем полюбившейся ей Феодоры". Но после замужества она оказалась во власти "синего, жевластого", "мохнатого с когтями" и огромного количества мелких бесов. В повести воплощена мифологическая картина мира, в основе которой – столкновение земной и небесной сил. Власть "земли" выражена в образах бесов, лесавки, Ярославки, Сатаны, который "все создал, что есть живого, это он дал земле в ее трудах радость – любовь". "Небесные" силы воплощают св.Прокопий, св.Иоанн, Феодора, Богуславка, Богоматерь. Для каждой силы существует своя устойчивая система образов – лейтмотивов. Знаки мира "небесного" – свет, звезды, тишина; знаки мира "земного" – тьма, крик, кровь, пламень, зверь (исследователи отмечают связь с этим миром мужа Соломонии – "знатного пастуха"). Повесть рассказывает о мытарствах одержимой, поэтому шире представлен мир бесовский. Бесы приходят из болота, из леса, с речного дна, Их время – лунная ночь. Пространство их – это мир "дионисийского" экстаза, хаоса, круговерти: "они под свист кружились", "вихрем" неслись по дороге; "кружились, под свист затягивали гнусавые песни". "Синие и багровые волны", водовороты, тучи – проявления "бесовской" стихии. Картина грозы: "закручивались в тугие водовороты – жевластые, кольчатые, отвислые, перетянутые, и гладкие и мохнатые, и с бородавками и в пламенном пыху вздрыгая сам-яр голова змея – они шли, лягали и оплевывали ее – и туча-натучу плыла голубая волна, звездами мелькали серебряные ризы и хоругви и в свист и проклятия вся васильками – "Да святится имя твое!" перелетно звон кадил озеро – облака – звезды – свет –" это картина небесного боя сил божеских и сатанинских. Ремизовская "Соломония" – это пересказ древнерусского источника. А.В.Пигин отмечает, что автор использовал отдельные сюжетные детали "буслаевского" списка великоустюжской повести XVII века: история Ярославки, небольшой фрагмент мытарств Соломонии, указание на род занятий Матвея 132 (мужа). Хотя Ремизов в значительной степени отступает от житийного канона, но такие компоненты, как видения, муки, чудесное исцеление, присутствуют, создавая агиографическую окраску повести. Предельно экспрессивные в своем жутком и алогичном содержании образы, напоминающие гримасы-гротески, вполне однозначны. Это не образы-символы, а образы-эмблемы (зримая, материализованная метафора). Рельефная, пластичная форма полностью выражает вполне определенный смысл (например, жемчуга как эмблема св. Феодоры или фаллическая эмблематика сатаны). Отлична от символизации и функция образов. Ремизов не столько ведет к мистическим потусторонним мирам, сколько заставляет вглядеться в мир посюсторонний, человеческий. Он показывает не ирреальность реального, а, наоборот, реальность ирреального. Так, например, на сатанинском пиру бесы по-мещански расхваливают кушанья: "Чай, не падаль, у нас все из больших магазинов, самых первых сортов, парное и свежее". Точно так же суетятся родители Соломонии перед поповской пирушкой: ""Весь дом с ног сбился: надо было хорошенько угостить начальство и перед своими не дать маху". Кроме того, божеское и дьявольское не в полной мере совпадают с небесным и земным мирами. Если носитель абсолютного зла – сатана, а носители абсолютного добра – Богоматерь, святые Феодора и Прокопий, то образ Ярославки не столь однозначен. Она принадлежит "поддонному" миру бесов, но у нее "бледное лицо, без кровинки", а глаза ее излучают свет, прорезывающий тьму. Рот ее полон крови, но она пожалела Соломонию и дала ей совет, как вести себя на сатанинском пиру: "не ешь и не пей и ничего не отвечай, пропадешь". Она же потом научила Соломонию семидесяти демонским именам, что облегчило несколько муки "порченой". Бесы – демоны земные: речные, болотные, лесные. Лесавка – "темная – деревянная, а глаза зеленые – трава и листья". Бесы, летящие в осенней лунной ночи, почти неразличимы от птиц или листьев летящих. Однако и Богуславка является Соломонии в поле, в васильках, и глаза ее – ручьи. Бесы, как известно, трансформация древних языческих богов. Но если божественное некогда могло становиться бесовским, то возможна и обратная метаморфоза. Действительно, драка бесов повторяется в потасовке подгулявших попов, а архидиакон Галасий Рыло подобен лешему: он "одним своим личным видом нагонял такой страх, старались не смотреть, когда читает, а норовили ему в спину, а уж про голос и говорить нечего – самый большой соборный колокол сквозь него – жук", а в его зловещем возгласе "Преполовение!" слилось и человеческое, и лешее. С другой 133 стороны, в житии св. Прокопия, если не считать вскользь упомянутого чуда – он отвел каменную тучу от города – нет ничего чудесного, мистического. В повести Ремизова борются не столько земные и небесные силы, сколько добро и зло, бессердечие и сострадание. Настоящие бесы – это злые люди. Причина бед Соломонии кроется в том, что родители поступили наперекор ее желанию посвятить себя Богу, уйти в монастырь: "Но отец думал по-другому: надо было дочь устроить – и ее сосватали за пастуха. Матвей намного старше, угрюмый", а ей – всего четырнадцать лет. Когда Соломония пожаловалась на бесов мужу, он отправил ее к родителям: "а с порченой ему делать нечего – "категорически отказываюсь". Отец попрекает дочь, что на шею села, а как могла бы хорошо устроиться. Потом, после видения Феодоры, Соломонии полегчало, и в доме стало "уверенно и надежно", да соседи недовольны: "губы поджав дакали: были на пастуха зарились – завидный жених, а кроме того – разочарованы – всегда ведь занимательнее, когда человек с треском погибает, чем когда тихо поднялся". Живя в Устюге "злые дни – годы беспросветные", Соломония сделалась знаменитой бесноватой. Каждый день водили ее по церковным службам, она мучилась, а люди приезжали отовсюду, даже из Москвы, "посмотреть и послушать" – "глаз не отведешь", как кричала. А ей бы хотелось хоть бы один день без этого шума, "одной, тихо – чтобы не трогали". Одинаково непереносимы для Соломонии и бесы, и люди, любующиеся на ее страдания. Спасает Соломонию св. Прокопий. Он был богатым купцом, но все роздал нищим; у него "совестливое сердце" и "жажда правды"; он "вольно принял на себя всю беду и грех мира". Люди презрительно называли его "юрод – урод – выродок – дурак", но он помогал всякому в беде: "исцелит и утешит". Таким образом, грех, бесовское наваждение – не всесильны; злую судьбу побеждают совесть и сострадание; самая могущественная сила в мире – Добро, Любовь. Исследователи (М.О.Скрипиль, А.В.Пигин) отмечают, что Ремизов весьма нарушает канон житийного жанра, сокращая "чудесное" в пользу психологического. "Соломония" – это повесть не о сатане и Боге, а о судьбе человека, его муках и избавлении. После исцеления Соломония ощутила, "как ей легко!" и с "простым открытым сердцем посмотрела вокруг – ее глаза ручьи, светясь и светя". Святой человек прост и открыт, светел и чист, потому что в душе его – не рефлексия, не борьба, а лад, гармония. Что же открывается такому человеку? Не Бог, не небо, а родная земля. Образ родной земли нам 134 представляется главным в повести. Начинается "Соломония" с указания точных географических названий, локализующих события в исконно-русских землях Севера: Ерогоцкая волость в сорока верстах от Устюга вверх по Сухоне. Упоминаются и другие города: Новгород, Вятка, Архангельск, Москва. Пейзаж создает образ родной земли – дома Божией Матери, хранящей, лелеющей человека. На такой земле "тепло и спокойно", она близка, как мать: "каждый камушек ей встреченный и топанный: ни она так пройдет, ни он так не покатится, а лес в гуле и гуде слышишь, называет тебя – твое имя? а полем идешь, все цветы, все кочки к тебе – ты не чужой; и река – в волну ли, в затишье – идет и плещется не наперекор, а в лад с тобою, и сама земля тепла и мягка и пощадна – она молчит, а прикоснись, как забьется ее темное сердце! и звезды, вот уж, кажется, везде одни, нет, только с твоей земли – из звезд – вон она твоя!". Обобщенный образ ("сама земля") сохраняет конкретность ("каждый камушек"), объединяет чувства героини ("она", "ей") и каждого человека ("ты", "тебе"), сливает в одно целое и землю, и небо (звезды). Пейзаж овеян лиризмом, передающим тоску Ремизова-изгнанника по родине. Г.П. Федотов, исследуя народную религиозность, приходит к выводу, что сердце народа обращено не столько к солнцу, месяцу, звездам и зорям, сколько к матери-земле. Богородица, земля, мать – это ипостаси одного, материнского, начала. Религия материнства есть религия страдания, а значит, и сострадания. Самым тяжким грехом считалось преступление против рода, против матери, против земли. В повести Ремизова страдалицей выступает именно женщина; бесы на сатанинском пиру глумятся над ее несчастным материнством: "Мама!" – гудели столы: всех забавляло. И сам, взрыгнув, зевнул: "Мама!" – он был доволен. Васильки, поле с цветами, "цветами уводившее ее к звездам", воспринимается как эмблема девичьей жизни Соломонии и, шире – как эмблема родной земли. Не только концептуальное содержание повести "Соломонии" и особенности образности (эмблематичность), но и субъектно-повествовательный строй призваны выразить глубинные основы национальной души. Нарушая житийный канон, Ремизов исключает прямой рассказ Соломонии о чуде. Все повествование ведется от лица некоего сказителя, в форме неперсонифицированного сказа (для Ремизова слово – важнее носителя слова). 135 Разговорные синтаксические конструкции, характерные словечки ("статься", "проглупала", "блажь", "словили") формируют в сознании читателя образ повествователя – простого и добродушного человека из народа. Установка Ремизова на "пересказ" древнерусской повести, неперсонифицированный сказ призваны придать авторитетность ремизовской мысли о человеке, представить ее как убеждение самого народа, а не одного из писателей. Ремизов как бы имитирует выход за рамки литературы как беллетристики, писательства; он даже собственный почерк заменил старинным каллиграфическим полууставом (тенденция, прямо противоположная "литературной игре" Брюсова и Кузмина). Но анонимность, внеличностность произведений Ремизова – это тоже словесная "игра", условность, ставшая его неповторимой авторской чертой. Наиболее ярким качеством ремизовского "пересказа" представляется стилевой экспрессионизм. Образы повести сами со себе достаточно традиционны, эмблематичны. Именно их словесное воплощение создает ощущение необычности и гротесковости. Индивидуальный авторский стиль в стилизации Ремизова выражен в речевом гротеске, особенно заметном на фоне "первотекста". Михаил Безродный верно подметил: "Реноме отчаянного выдумщика Ремизовым, конечно, вполне заслужено, однако голый вымысел, кажется, несвойствен его "фантазиям". Ремизов не столько вымышляет, сколько до- и при-мысливает, он не врет, но привирает, смещает и смешивает, утрирует и передергивает". Так, например, галлюцинаторный и завораживающий эффект в описании пира у Сатаны в "Соломонии" возникает за счет пульсирующей, гримасничающей речи повествователя, состоящей из мини-абзацев, перебивающейся включением реплик бесов. Предобморочное состояние Соломонии передано через динамику пространственного рисунка: вначале очерчивается четкий круг, в центре которого – Сатана, затем волнистый контур обводит круг ("Синие, виясь, служили им"), затем еще один, внутренний круг, центр которого – героиня; с чашей обносит всех бесов по кругу Соломония; круги отжимаются, пронзают болью сердце ("пламень" прожигал до сердца), а затем, после вспышки огня, все обрывается в "тьму – бездны – темноту", "поддонные" ямы. Гримасничает не только пространство, но и его обитатели: "виясь", "взрыгнув", "поддернулись", говорят, "как рыбы, давясь воздухом". Застолье и хоровод сменяются дракой. Ощущение речевой ужимки, гримасы оставляют сочетание разнородных по стилистике элементов: "пламень", "яр" (ярый), "чаша" – и "взрыгнув", "дубасили", "мотня". Речь бесов о Сатане-отце, который "все создал, что есть живого, это он дал землю в ее трудах радость- 136 любовь" соседствует с их мещанским говорком, когда они расхваливают кушанья.. Словно кривляется разговорный синтаксис: подлежащее может оставаться без сказуемого ("И те, как рыбы, давясь воздухом: "Мама!"), сказуемые сплошь остаются без подлежащих ("Расхваливая уговаривали", "Перемигнулись, поддернулись"). Субстантивированные прилагательные нагнетаются гроздьями ("жевластые, отвислые, перетянутые и гладкие и мохнатые и с бородавками, а посреди на троне сам-яр голова змея"). Скользящий анафорический повтор ("И это заметили и недовольны", "И это обидело", "И с чашей пошла", "И каждый, кому") обрывается дробной и свистящей аллитерацией: "Под свист подхваченная мотней, Соломония скользила по сырому дну поддонных коридоров, слепую тащили ее за руки". Погружением в темные бездны, утратой контуров и центра, томительным, однообразным повторением (действий, деталей, звуков) завершается описание пира. Так пульсирующая, кружащаяся стилистика и ритмика воссоздают сатанинский мир как чудовищную пародию на мир Бога ("Да святится имя мое!" – вздрыгнул, ржа, змей"). "Демонские имена"" – непонятные, кощунственные, срамные выливающейся в – звучат стремительный страшной синтаксис и влекущей фраз с музыкой, нарастающим перечислением: "Это демонские имена – семьдесят – лешие, водяные, огневые – ядом войдя в кровь ее сердца, слились в одно имя и она ощутила его в себе, как тогда после ярой ночи: синий – голова змея – перевертывается в ней – до самого сердца. И от этой чрезмерной напоенности огнем в ее голосе клокотало; и весенний зазывный гул и стоны летней ночи и резкий осенний переклик и все захлебывалось в вое и скрежете – свинья, собака, голубь, кукушка". Стилистическая "чрезмерность" повествования в "Соломонии", "одержимость" речевым потоком и создают гротескно-экспрессионистический эффект. Клики бесноватой Соломонии завораживали слушателей; так и читатель повести Ремизова не столько представляет себе образы мира Сатаны или мира родной земли, возникающие при посредстве слов, сколько погружается в саму речевую стихию повествовании, которая не стилизует или репрезентирует, а живет самостоятельной жизнью. Мысль о России как высшей ценности в судьбе человека выражена в произведениях, создающих образ России революционных лет, мир совести народа, его противоречивой души, в которой слились тьма и свет. 137 Революционные события 1917 г. были восприняты Ремизовым неоднозначно. Главный вопрос – вопрос о судьбе России – звучал для него как вопрос о судьбе русской культуры. 24 октября 1917 г. Ремизов закончил работу над необычным лироэпическим произведением "Слово о погибели Русской земли", выдержанном в традициях фольклорных "плачей" и "слов" ("Слово о полку Игореве", "Слово о погибели Русской земли"). Писатель видит, что "ныне тьма покрывает Русь", в которой погибли религиозные и нравственные основы жизни. Ремизов отпевает погибшую Россию ("Ве-е-еч-на-ая па-а-мять"). Гибель ее рисуется как Страшный Суд": "Тьма вверху и внизу. И свилось небо, как свиток. И нету Бога". Пусто Китежское озеро – исчез град невидимый. Велик грех народа, который счастье искал и все потерял: "Одураченный, плюхнулся свиньей" в навоз". Такое апокалиптичное мироощущение соближает ремизовское "Слово…" с поэмой А. Блока "Двенадцать", с "Апокалипсисом нашего времени" В. Розанова. По канонам "слова" – древнего риторического жанра1 – строится трагическая патетика ремизовского текста. Начинает писатель с развернутого обращения к русской земле. Сложный синтаксис с обилием инверсий и повторов создает высокую, пафосную интонацию: "Широка раздольная Русь, родная моя, принявшая много нужды, много страсти, воспомянуть невозможно, вижу тебя, оставляешь свет жизни, в огне поверженная". Следующий абзац содержит сложное предложение, четко распадающееся на два более кратких, с параллелизмом однородных членов; напевность отступает перед логическим контрастом: "Были будни, труд и страда, а бывал и праздник с долгой всенощной, с обеднями, а потом с хороводьем громким, с шумом, с качелями". Далее интонация становится еще более напряженной, в коротких фразах сталкиваются антонимы, предельно заостряющие контраст. Жесткость противопоставлений подчеркивают анафоры и синтаксический параллелизм: "Был голод, было и изобилие. Были казни, была и милость. 1 См., напр.: Лихачев Д.С. Исследования по древнерусской литературе. Л., 1986. С. 226-229. 138 Был застенок, был и подвиг: в жертву приносили себя ради счастья народного". Далее риторические восклицания вычеркивают правый, положительный полюс былой антиномии: "Где нынче подвиг? Где жертва?" и назывное предложение констатирует одичание России: "Гарь и гик обезьяний". Упрощение синтаксиса фраз передает идею оскудения, вымороченности некогда раздольной Руси. А затем следует лирический всплеск: "Я кукушкой кукую в опустелом лесу твоем, где гниет палый лист: Россия моя загибла", пронизанный плачущим ассонансом звуков [у], [а]. Широкая эпичность ("степи ковылевые", "раздольная Русь", "багряница царская", "мать-пустыня") сочетается с просторечиями-неологизмами ("гик", "взбульливою"), традиционные фольклорные образы – с жутким гротеском: "Лечу в запредельности <…> Обгоняю аэропланы. Стук мотора стучит в ушах. Закукарекал бы, да головы нет: давно оттяпали!" Однако вскоре Ремизов начал работу над книгой "Взвихренная Русь" (впервые полностью опубликована в 1927 г. в Париже), где над отчаянием преобладает надежда, а в "тьме" настоящего обозначены "неугасимые огни". исследователи соотносят эту книгу Ремизова с "Несвоевременными мыслями" М. Горького, "Лицами" Е. Замятина, "Сумасшедшим кораблем" О. Ферш1. По жанру "Взвихренная Русь" – роман-хроника, роман-дневник. Но спокойно-объективного лирические описания отступления-молитвы нет. Личная придают форма повествованию повествования, напряженный лиризм. Приведем пример. "Голодная песня. Если что еще и бодрит дух мой, это скорбь. И эта скорбь связывает меня с миром. Скорбь же дает мне право быть. Мои гости – беда и несчастье. И глаза мои – к слезам, как мои уши – к стону. А сердце дышит болью. И я знаю, торжествующий и довольный никогда не постучит в мою дверь. Я знаю, ко мне придет только с бедою. 1 Чалмаев В.А. Комментарии // Ремизов А. Избранное. М., 1992. С. 407. 139 И сам я возвращаюсь с воли всегда потрясенный, с затаенной болью от встреч..." Яркие, драматичные, зрелищные события создают ощущение калейдоскопа. Лирический повествователь все подмечает: настроение толпы, меняющейся от месяца к месяцу, жесты революционных трибунов, повадки большевиков и эсеров, грязь петербургских дворов, вмерзшие в снег трупы голодных, очереди за хлебом. Помимо голоса повествователя, звучит полифония, хор народных голосов, в которых раскрывается народный взгляд на происходящее, свои "легенды" (о Керенском, о Ленине). Встречается и старая знакомая – Акумовна из "Крестовых сестер". А. Павловский видит парадокс романа в том, что мозаичная хроника частного быта, диалогов, лиц складывается в грандиозную эпопею. Великая эпоха – схватка Руси взвихренной с Русью домашней – предстает в бытовом преломлении, в низовом народном сознании. Ремизов погружается в быт, в мелочи повседневности, но вдруг резко переключает тональность повествования в самый верхний регистр, вводя мотивы древнерусской литературы (жития, плачи, скорби о погибели земли русской). Повествование передает метание авторской мысли, и завороженной революцией, и страшащейся крови, насилия. Где правда: в новой России или в старой? Автор склоняется к тому, что правда на стороне старой Руси. Главное – вернуть людям право спокойно быть. Много печали в чувствах повествователя, но внутренне он все же неунываем. Открывается роман главой "Бабушка", где нарисован и конкретно-бытовой, и глубоко символичный образ. В общем вагоне мчащегося куда-то поезда, среди сутолоки и неуюта, сумела как-то примоститься на голых досках, "обустроиться" и старушка, терпеливо выносящая все: "Бабушка костромская, мать наша, Россия!". И Шмелев, и Ремизов уповали на тайную могучую силу, которую оставила в характере и душе народа Древняя Русь. Не революции, не войны, а воскресшее народное начало возродит Родину. Для этой книги Ремизова не характерен стиль "монументального историзма" (Д. Лихачев): по-житейски просто, в форме беседы, рисуется хроника быта Петрограда в первые послереволюционные годы. Эпический масштаб общей картине придают лейтмотивные образы-символы, центральный из которых – образ огня, стихии карающей и очищающей. 140 "Огненная Россия" предстает рассказчику, словно во сне или видении, когда проясняется прошлое и становится ведомым будущее. Он верит, что спасут-таки Русь святители, чтимые русской землей: "Над Москвой-рекой, над Кремлем, выше Ивана-великого к звездам – красный звон"; "И вот – вижу – над южными дверями от Богородицы блеснули глаза, архангелы метнулись: и все застлало тонким дымом <…> И я увидел знакомые лики святителей, чтимых русской землей: в великой простоте шли они, один посох в руках. <…> Неугасимые огни горят над Россией!" Ремизов терзался тревогой о будущем русской культуры: "Огонь планул из сердца неудержимо – Войду я на гору, обращусь лицом к востоку – огонь! стану на запад – огонь! и на юге – горит! припаду я к земле – жжет! – – – –" Он обращается к опыту русской классики, к нравственому свету Гоголя, Достоевского, Блока. Посвященные им главки также являются вереницей "неугасимых огней" надежды. Самому же Ремизову российский вихрь открыл "жарчайшие чувства" и "огненное слово". Стиль его свободно сочетает пафосную риторику древней литературы, традиции высокой классики и низовую, уличную культуру, язык городского обывателя, вывески, лозунга, плаката. В печатном тексте, используя типографские средства оформления пространства страницы, он сохраняет интонацию, сбивчивый ритм, тембр и мимику живой устной речи. Все, что не умещается в слове, чувствуется в "подсловьи", обозначенном тире, междометиями, вопросительными и восклицательными знаками, разрывами и обрывами фраз, судорожной сменой абзацев, например: "Есть непробиваемая человеческая упрь! И все-таки, не-ет! и на тебя придет сила! – и станет тогда на земле легко – – – ?! – – знаю! – если бы революции "освобождали" человека, какой бы это был счастливый человек! – знаю, никакие революции не перевернут, ну скажу так: "судьбы, которую конем не объедешь!" 141 И все-таки – или это от тесноты невозможной, в которой живем мы? – когда подымается буря – –" Словесная ткань ремизовского текста создает образ "взвихренной" России, объятой "огневой жаждой воли" – "русскую жизнь, мятущуюся из комнаты в комнату, от дверей к дверям, от ворот до ворот, с улицы на улицу, русскую жизнь со всем дубоножием, шкурой, потрохом, ором и матом, Россию с великим желанным сердцем и безусловной свободной простотой". 142 "Бессмысленного нет..." Проблема русской духовности в творчестве Б. Зайцева (1882 – 1972). Борис Константинович Зайцев родился в Орле, на земле, давшей много русских писателей. Зайцев – автор очень "личных", проникновенных беллетризованных биографий Жуковского, Тургенева, Чехова. Ввели его в литературу Чехов и Л. Андреев. В 1902 году Зайцев вошел в московский литературный кружок "Среда", продолжавший реалистические традиции. К революции 1917 отнесся отстраненно. В 1919 умирает отец, арестован и расстрелян племянник. Эти потрясения обозначили перелом в душе писателя. В 1921 году избран председателем союза писателей в Москве (вице-председатели – Н. Бердяев и М. Осоргин). Вместе с А. Белым, М. Осоргиным ведет работу в книжной лавке писателей. Затем Зайцев был арестован за участие в Помголе. И, хотя его освободили, понимал, что ненадолго – только что был расстрелян Гумилев. Переболев в 1922 году сыпным тифом, уезжает за границу, в Берлин. С 1924 года живет в Париже, тоскуя по родине: "Все написанное здесь мною выросло из России, Россией и дышит". Умер в январе 1972 года, не дожив двух недель до возраста очень преклонного – 91 года. Похоронен на кладбище СентЖеневьев де Буа, рядом с Буниным, Ремизовым, Шмелевым. О. Михайлов определил творчество Б. Зайцева очень точно: "Уроки добра и тихий свет милосердия". Критики отмечали "акварельность" манеры письма Зайцева, называли "самой тонкой скрипкой" в русской литературе. Очень нежный, мягкий, деликатный писатель. Если большинство писателей начала ХХ века отражали хаос действительности, дисгармонию и трагизм жизни, то Б. Зайцев стремился к гармонии с миром и с самим собой. Позднее он скажет: "Ничто в мире зря не делается. Все имеет смысл. Страдания, несчастия, смерти только кажутся необъяснимыми. Прихотливые узоры и зигзаги жизни при ближайшем созерцании могут открыться как небесполезные. День и ночь, радость и горе, достижения и падения – всегда научают. Бессмысленного нет". Б.Зайцев – глубоко религиозный человек. На его долю выпали войны, революции, жестокость, изгнание, но он не озлобился, полагая, что все надо пережить, простить, забыть. Более того, он говорил, что "Россию святой Руси" без страданий революции и не увидел бы никогда. Зайцев дает утоление 143 скорбей, умиротворение; как писатель он значителен именно на фоне крови, ужаса, катастроф. Трудно однозначно решить вопрос о творческом методе Б. Зайцева. В.А. Келдыш отмечает, что образы Зайцева слишком живы, достоверны для мистического творчества и вместе с тем слишком отвлеченны для традиционного реализма. По словам Н.И. Ульянова, Зайцев не реалист, ибо запечатлевает "выражение нездешнего в здешнем". В исследованиях последних лет метод Зайцева определяется как неореализм, то есть реализм, вобравший в себя некоторые принципы модернизма. Начинал Б. Зайцев как писательреалист, но жанры его рассказов очень своеобразны. "Священник Кронид" (1905) – рассказ-миф, показывающий стремление человека к совершенству посредством созидания и любви. У сельского попа редкое имя (от Хронос – время). Он крепок, пышет здоровьем, а улыбкой, бровями и ласковым обращением напоминает солнце. Это труженик, по-крестьянски работающий на земле. В рассказе показана жизнь крестьянства от Пасхи до Троицы, жизнь в гармонии с природным и божественным. В рассказе "Аграфена" (1909) жизненно-убедительно передана история женщины из деревни, служившей прислугой в городе, а потом вернувшейся на родину. Типичные обстоятельства, типический характер: вся жизнь обыкновенной женщины в ее буднях. Но закон ее жизни, судьба – любовь. Первая, чистая и безответная – в 17 лет; страсть к Петру, отцу ее ребенка, жестоко ее бросившему; греховное беззаконное чувство к юноше Константину; как искупление греха – смерть дочери, утопившейся из-за несчастной любви. Аграфена – естественная, нерефлексивная натура, живет сердцем, по закону, данному женщине природой. Значительна поэтому роль пейзажа, который аккомпанирует переживаниям героини, отмечает сюжетные узлы. Вот, например, расцвет первой любви: "Краснел май, пролетая в огненных зорях, росах; кукушки медово куковали, точно окуковывали молодую жизнь. Солнце вставало пламенным и пахучим, глубокими ароматами дымились луга под ним и скаты розовели, окровавившись "зарей", медвянолипкой пурпурной травкой. Очень ранними утрами нарывала Груша ландышей, белеющих и одуряющих, и бросала тихонько в "его" окошко во флигеле; ей казалось, что с ними идет от нее особенный душевный привет. Целый день в одинокой комнате пахло белым, нежным". Но пейзаж выполняет не только психологическую функцию, но и 144 мифологизирующую. Соотнесенность чувства героини с картинами природы придает эпический масштаб переживаниям, включает в естественный крестьянский круговорот – посев, покос, созревание хлеба, осенняя жатва. Интимные чувства героини органически входят в мир как космос, как универсум. Наконец, нежная лирическая атмосфера, создаваемая пейзажем, просветляет самые трагические моменты в жизни Груши, спасает от отчаяния. Жизнь деревенской женщины прочитывается как житие праведницы. Она исполняла все, что ей было назначено свыше, любое мгновение ее жизни – правомерно. Опору в страданиях Аграфене дает вера в Богоматерь-заступницу. Испытав самое страшное – смерть дочери – она не протестует, не ропщет; принимает свой крест, идет на мученичество, обретая способность черпать утешение в скорбях своих. "Туда, без креста сверху, легла Анюта. Мать собственными руками засыпала над ней землю, вырубила из бедных берез два стволика, в белой естественной одежде, сбила крестом и водрузила. На него повесила малый венок. Затем долго ходила, ища дубовых ветвей. Нашедши, прибавила туда рябины и повесила также. Рябина алела вечной кровью на зелени дуба. Это нравилось Аграфене. И еще нравилось – старый святой обычай – насыпать зерен скромных на гребень могилы и давать ими пищу птенцам. А самой сидеть поодаль и видеть, как вечные ветры овевают это место, как заходит солнце и прощально золотит дубовый венок – лавры смерти. Так испила Аграфена последнюю чашу жизни. После долгих лет, мук любви, ревности, рождения и материнства, страха смерти и печали прохождения она узнала скорбь разлуки. Но ее душа, опрозрачневшая и закалившаяся, не была наклонна к отчаянию. Она была почти готова к последнему очищению; одна часть ее присутствовала уже не здесь". Жанр жития напоминают зачин рассказа, неторопливое безличное повествование, каноничные сюжетные ходы (вещий сон, видения, предзнаменования). По мысли автора, любая, самая незаметная жизнь – священна, исполнена духовности, которая разлита в повседневности, как некий свет. Свет земной, как нимб окружающий героиню, есть отражение света небесного. Суть характера – пантеистическая неотделимость от матери-земли. Аграфена живет естественно, без плана, без цели, без волевого усилия, как живет сама природа. 145 Рассказ "Аграфена" был написан после поражения первой русской революции. После Октябрьской был написан рассказ "Авдотья-смерть" – "житие смерти". Даже внешне Авдотья напоминала Смерть – высокая, худая, замученная нищей, тяжелой жизнью. Вся ее семья – старуха-мать и сын Мишка. Авдотья бьется, как рыба об лед, добывая еду и дрова для бабки и сына, но и жестока к ним, битьем вымещая обиду и злость на них. Но вот умерла мать, а потом и сын. С их уходом жизнь Авдотьи потеряла всякий смысл; умирает и она. Лиза, барышня из дворянской усадьбы, молится за Авдотью и видит внутренним взором: "...ложбинка, вся занесенная снегом, и белые вихри и змеи, фигура высокая, изможденная, с палкой в руке, с котомкою за плечами, отчаянно борется, месит в овраге снег, и в белом, в таком необычном свете Мишка и бабка вдруг появляются, берут под руки, все куда-то идут..." В образе Авдотьи есть что-то от древнего мифологического божества – Матери, в котором сплетены и созидание, и разрушение, и творческие силы, и злые чары. Ей противопоставляется Лиза с ее христианской любовью. В 1918 году вышла в свет повесть о русской интеллигенции 1910-х годов "Голубая звезда". Воспроизведена атмосфера декаденствующей культурной элиты (неслучайно маскарад – кульминационная сцена). Однако главный герой, Христофоров, то ли поэт, то ли художник, проходит по жизни, все наблюдая, все вбирая в себя, но натура он не страстная, а внутренне умиротворенная. В шутку знакомые зовут его "монахом", но он не спасается в монастыре, а пребывает в миру, привнося в него высший свет. Покровительница Христофорова – голубая звезда Вега. Герои говорят о возможном пути дальнейшего развития России. Христофоров же полагает, что важнее, чем внешнее, социальное устройство, внутреннее состояние человека: надо жить с ощущением высшего идеала в душе. О революции в рассказе нет речи, но позиция писателя в трагических 1917 – 1918 годах обозначена ясно. В 1921 г. Зайцев пишет лирические очерки: "Улица св. Николая" (об Арбате), "Белый свет". Нет вымысла, документально, точно воспроизведена пора военного коммунизма в голодной, нищей, холодной Москве. Авторская позиция остается прежней – он ничего и никого не проклинает. "Но есть Судьба. Тебе и мне. Хочешь, не хочешь, ее примешь. Я – уже принял. Я живу в 146 ней, в ней иду. Прохожу сквозь тебя, жизнь, и посматриваю. Печаль, веселье, трагедия, цена на молоко, очередь в булочной, новый декрет, смех, пирожные и муки голода – все вижу я". Отчетливо звучит мотив "странничества", характерный уже и для образа Христофорова. Лирический повествователь говорит о простых житейских заповедях: помни о печке, ешь, иначе не выдержишь и т.п., потому что главная задача – выдержать, пережить страшный период, чтобы не прервалась ниточка жизни. Но важно помнить, что "малая жизнь", то есть быт, еще не все в человеке, важно сохранить культуру, духовность. В очерках присутствуют образы искусства, герой обладает способностью мечтать и уноситься духом ввысь, ощущает тихую гармонию с миром. Белый свет сияет на Арбате, над Москвой -–свет от белого снежка, который посыпает "и меня, и тебя, и коммуниста, и спекулянта в соболях, и чудака с моноклем". Этот земной свет – отражение света небесного, Божьей благодати: "Белое небо, белый снег порхающий, белая жизнь, белая душа". Очерки приближаются к жанру проповеди (обращенность к слушателю: "ты", "тебе", "помни"). В эпоху классовой ненависти, вражды, Зайцев дает завет, как сохранить человечность, любовь к ближним и к миру. В эмиграции, в книгах "Афон", "Валаам" Б. Зайцев будет решать задачу: не доказать истинность православного вероучения, а показать его облик, пробудить сочувственный интерес. Летом 1935 года Зайцевы совершили поездку в Финляндию. Валаам поразил их ощущением прочности и благословенности, тишины и мира. Этот оазис русской культуры в России, несомненно, погиб бы. Жанр путевого очерка своеобразно насыщается лиризмом и глубокой религиозностью. Со стороны Ладоги монастырь на гранитном острове кажется величественным, суровым, могучим; но это внешняя, торжественная сторона Валаама. Внутренняя, духовная и поэтическая сторона, раскрывается не сразу. Постепенно показывает нам автор "приветливую и смиренную Святую Русь". Духовник монастыря отец Феодор более похож на пчеловода, чем на схиигумена; с любовью обихаживает яблони, огород, кормит знакомую чайку. Отец Николай, схимник, тихий семидесятилетний старичок, точно сошедший с картины Нестерова. Зайцы придут кормиться из его рук, ласточка сядет на рукав. Монахам присуща глубокая внутренняя воспитанность, стоицизм, подвижничество. Жизнь их – лесная, крестьянская, трудническая. И такая жизнь 147 не скорбная, а радостная. В очерках есть рассказ о посещении острова в 1819 году Александром I, который уже 18 лет был императором, символом России, победителем Наполеона. Это посещение стало его первым шагом к новой, кроткой и смиреной, жизни. Есть легенда, что он ушел потом в заволжские леса под именем старца Федора Кузьмича. Такой уклад освящен многовековой традицией. Образы монахов напоминают, что главный грех человека – гордыня. Смирение, неосуждение ближних – сознательная позиция писателя. А.М. Любомудров отмечает, что сам стиль писателя выражает такую позицию: "Стиль Зайцева лишен напористой активности, художник не ищет выражения своей личности, самости. Он никогда не подчиняет объективный мир творческой субъективной воле". Можно назвать Зайцева, считает исследователь, "иноком" в литературе. Сердцем воспринял Валаам Зайцев, этот мир гармонии земного и небесного: "А в стороне от церкви, на лужайке, окаймленной лесом, стоит бедная часовенка, совсем открытая. Огромная икона – картина "Моление о чаше" всю ее занимает. Впечатление такое, что просто среди леса икона, едва прикрытая от дождей, – типичный Валаамский уголок, божественное, окруженное природой, природа, знаменованная святыней". Зайцев восклицает: сторона "неведомая, да родная! Ведь это все мое, в моей крови, я вырос в таких именно лесах, с детства все знаю..." В 1939 г., в Финскую войну, монастырь подвергся ожесточенной бомбардировке советской авиации, и воцарилась на острове "мерзость запустения". Б. Зайцев пишет публицистическую статью, исполненную веры в неуничтожимость духовного ядра России – православия: "...Валаамские старцы являются заступниками за всех нас, русских, и за Россию. Россию, находящуюся сейчас в стихии демонической, позорящую теперь весь мир. Она на скамье подсудимых. Мученичество русского Валаама указывает, что кроме России Сталина есть и Святая Русь". Своего рода альтернативу революционному пути развития России наметил Б. Зайцев в книге "Преподобный Сергий Радонежский" (1925). Это житие – жизнеописание знаменитого русского святого XIV в., благословившего Дмитрия Донского на Куликовскую битву. Повествованию, как всегда у Зайцева, присущ глубокий лиризм, обрисовывающий образ автора, доброжелательного и верующего человека. Г. Адамович, поэт и критик 148 эмиграции, писал: "Он не резонерствует, он крайне редко заставляет своих героев рассуждать, высказывать отвлеченные мысли... Но в искусстве создавать то, что прежде было принято называть "настроением", у Зайцева едва ли найдутся соперники. Он обладает какой-то гипнотической силой внушения, и как бы порой не хотелось сопротивляться этому чуть-чуть прохладному благодушию, этой нежности и печали, в конце концов, закрывая книгу, чувствуешь, что зайцевская тончайшая паутина тебя опутала". Рассказывая о детских годах святого, автор подчеркивает скромность, послушность отрока Варфоломея, отсутствие блестящего ума, но живую, непосредственную связь с высшим миром. Пройдя через монашество и отшельничество, Сергий получил духовную закалку, внутреннюю организованность и зрелость. В отличие от Франциска Ассизского, о. Сергий учил не экстазом, а "тихим деланием", труднической жизнью. Он получил способность творить чудеса (исцелял больных, сотворил источник воды), а чудо, по Зайцеву, это "величайшая буря любви, вырывающаяся оттуда, на призыв любовный, что идет отсюда". О. Сергий ушел из монастыря, когда начались распри и зависть, через четыре года вернулся по просьбе братии, победив, таким образом, без диктата, без принуждения, одной любовью. Далекий от политики, о. Сергий жил в лесах, а не в Москве, не знакомый с жаждой власти. "Преподобный Сергий Радонежский" рисует национальный идеал. Это легенда, указующая путь в будущее. Сергий – не только строитель Лавры, но и создатель особой системы духовного воспитания человека ("плотничество духа"). Зайцев подчеркивает, что Сергий – не юродивый; это человек, у которого здоровый, чистый дух, напоминающий дух смолистой стружки в лесах Радонежа. Он дарил людям радость и надежду ("Ты победишь, " – сказал он Дмитрию). Сергий – пример ясности, света прозрачного и ровного. Уроки Сергия формулирует автор в конце произведения: "В тяжелые времена крови, насилия, свирепости, предательств, подлости неземной облик Сергия утоляет и поддерживает. Не оставив по себе писаний, Сергий будто бы ничему не учит. Но он учит именно всем обликом своим: одним он утешение и освежение, другим – немой укор. Безмолвно Сергий учит самому простому: правде, прямоте, мужественности, труду, благоговению и вере". Вот этому-то "самому простому" учит нас и Б.К. Зайцев в своих произведениях. 149 150 Проблема личности в творчестве В. Набокова (1899 – 1977) Жизнь Владимира Набокова, так любившего обнаруживать везде симметрию и тайные соответствия, делится на четыре почти равных по протяженности периода. Он родился в Петербурге 23 апреля 1899 года и первые двадцать лет прожил в России. Весной 1919 года вместе с семьей отправился в изгнание, живет в Европе. В мае 1940 года уезжает из Франции в США, спасаясь от фашизма, а в мае 1959 года возвращается в Европу, поселяется в швейцарском местечке Montrё. Этот последний период оказался немного короче – 2 июля 1977 года писатель скончался. Огромное значение для определения мироощущения В. Набокова и его жизненной позиции имело детство – "счастливейшее и совершеннейшее". Он рос в очень благополучной аристократической семье. Отец, Владимир Дмитриевич, видный юрист и деятель кадетской партии, англоман по своим пристрастиям. Мать, Елена Ивановна, урожденная Руковишникова, "нежная и веселая", принесла в семью значительное состояние, обеспечивающее широкую жизнь в особняке на Б. Морской, с лифтом, автомобилем, прекрасными учителями для детей (Владимир учился рисованию у М. Добужинского, одного из художников "Мира искусства"). Лето проводили в поместье Выра на реке Оредежь. К. Чуковский вспоминал в своем дневнике об отце Набокова: "Он знал все, что полагается знать образованному человеку, не другое что-нибудь, а только это... И была в нем еще какая-то четкость, чистота, – как в его почерке: неумном, но решительном, ровном, крупном, прямом. Он был чистый человек, добросовестнейший; жена обожала его чрезмерно <...> страдаешь, что убили такого спокойного, никому не мешающего, чистого, благожелательного барина, который умудрился остаться русским интеллигентом и при миллионном состоянии". В 1911 году Набоков был определен в Тенишевское училище, знаменитое своими демократическими традициями (так, учителя на перемене играли с Чуковский К. Дневник. // Новый мир. 1990. № 8, С. 151 – 153. 151 учениками в футбол). Набоков держался достаточно высокомерно, особняком, не желая сливаться с толпой однокашников. Оказавшись в эмиграции, Набоков никогда не жалел о потере миллионов, он утверждал: "...моя тоска по родине лишь своеобразная гипертрофия тоски по утраченному детству". Его потерянный рай – это Дом: любимые места, милые лица, знакомые предметы, краски, звуки, запахи. Став впоследствии снова богатым человеком, Набоков жил только в гостиницах, говоря, что Дом у него уже есть – там, на Б. Морской, и в любимой Выре... Осенью 1919 года он стал студентом Кембриджского университета. Хотя английский язык знал в совершенстве и вырос в семье с "английскими" пристрастиями, но тут почувствовал себя чужаком. Стихи этих лет исполнены ностальгии по оставленной родине. После окончания университета Набоков приезжает в Берлин, где жила его семья. 28 марта 1922 погиб его отец (заслонив от пули фанатика-черносотенца лидера кадетской партии Милюкова). Так трагически закончилась юность Набокова. Лучшие черты Владимира Дмитриевича будут воплощены в образе отца Федора Годунова-Чердынцева ("Дар"). Самостоятельную жизнь Набоков начал, проработав три часа в банке: был уволен за отказ сменить английский свитер на костюм. Дает уроки английского и французского, тенниса, стихосложения; сотрудничает в либеральной газете "Руль". Печатает стихи, рассказы, критические статьи и кроссворды ("крестословицы" – предмет гордости Набокова). C 1921 года печатается под псевдонимом "Сирин". Держится в стороне от кипевших в "русском" Берлине политических страстей. Из писателей Набокову были симпатичны только М. Алданов, Ю. Айхенвальд, В. Ходасевич (прототип критика Кончеева в романе "Дар"). В 1925 году был опубликован первый роман Набокова "Машенька". После женитьбы на Вере Евсеевне Слоним все свои книги Набоков посвящает только ей. Восемь романов были написаны на русском языке, восемь – на английском. Исследователи давно заметили симметрию "русских" и "американских" книг Набокова: "Машеньке" странно соответствует "Лолита", "Защите Лужина" – "Пнин", "Приглашению на казнь" – "Под знаком незаконнорожденных", "Дару" – "Истинная жизнь Себастьяна Найта". Мемуарная книга "Другие берега", написанная по-английски, вся наполнена 152 Россией, милым русским детством. Все, написанное Набоковым, объединяет общая тема: все – о творчестве и о России. Набоков не считал национальную принадлежность принципиально важной для писателя, он говорил о себе: "Я американский писатель, который был когда-то русским". Главное, по Набокову, другое – талант, дар – или бездарность. Эмигрантская произведениям критика Набокова – 1920-1930-х Сирина гг разноречиво ("хлесткий пошляк", отнеслась к "имитатор", "несравненный талант"), но единодушно отмечала "оригинальность" его таланта и "нерусскость". Набоков казался радикально непохожим на классиков литературы Х1Х в.: "Все наши традиции в нем обрываются" (Г. Адамович). Речь шла прежде всего о гуманистическом пафосе, свойственном русской литературе. Так, И. Бунин отмечал в произведениях Набокова блеск, сверкание и полное отсутствие души; Г. Струве полагал, что не только у автора, но и у персонажей его нет души. В. Ходасевич писал, что у Набокова отсутствует столь характерная для русской литературы любовь к человеку. Так ли это? Действительно ли Набоков мастеровитый, но бездушный писатель, ловко расставляющий героев-марионеток в красочных декорациях? Современники вспоминают, что сам Владимир Владимирович был добрым и деликатным человеком. Сам Набоков говорил: "Я верю, придет день, когда ктонибудь переоценит меня и скажет: нет, вовсе не легкомысленным мотыльком он был, но строгим моралистом, преследующим греховность, бичующим глупость, высмеивающим вульгарность и жестокость и одаряющим суверенной властью нежность, талант и гордость". В чем Набоков принципиально расходится с демократической русской традицией, так это в том, что для него индивидуальность важнее общества. Ему удалось на всю жизнь сохранить чувство уникальности собственного мира, данное каждому в детстве, но у большинства людей потом стирающееся. Набоков ценит только единичное, а не общее (отказываясь поэтому от доктрин политики, философии, религии – "общих мест"); его привлекают частности, детали, по-своему, неповторимо увиденные. Объективно такая установка Набокова противостояла идеологии тоталитаризма и "массового" общества. 153 Вместе с тем, за частностями в художественном мире Набокова чувствуется какой-то таинственный, призрачный и непостижимый мир. Что это за мир, остается для читателя загадкой; Набоков стремится сохранить в неприкосновенности свой мир созерцания, красоты, тишины и свободы. Павел Кузнецов назвал такую позицию писателя "утопией одиночества". Второе отличие произведений Набокова от русской классики – подчеркнутая "сделанность", артистизм художественной формы. В эссе о Н. Гоголе Набоков утверждал, что в искусстве главное не что сказано, а как сказано: "Истинная поэзия вызывает не смех и не слезы, а сияющую улыбку беспредельного удовольствия". Как если бы было найдено блестящее решение трудной шахматной задачи или головоломки. Набоковские тексты отличаются изяществом композиции, автор "играет" темами, лейтмотивами, словами. В. Вейдле полагал, что главная тема творчества Набокова – само творчество ("металитературность", то есть литература о литературе – признак модернизма). С ним солидарен В. Ходасевич, назвавший Набокова писателем приема: "Его произведения населены не только действующими лицами, но и бесчисленным множеством приемов, которые, точно эльфы или гномы, снуя между персонажами, производят огромную работу: пилят, режут, приколачивают, малюют... Они строят мир произведения и сами оказываются его неустранимо важными персонажами. Сирин их потому не прячет, что одна из главных задач его – именно показать, как живут и работают приемы". В результате Набоков-автор открыто вторгается в мир произведения, тогда как писатели-классики находились вне созданной ими действительности (позиция "вненаходимости"). Лев Николаевич Толстой не соприсутствует Наташе Ростовой или Андрею Балконскому. Даже когда в произведении создавался образ автора, это был именно образ, а не биографический автортворец произведения. Набоков же вторгается в текст как некое антропоморфное божество, управляющее судьбами героев и сюжетом. Игра приемами, узоры композиции символизируют те узоры судьбы, которые сближают прошлое и будущее, преодолевают время и утверждают то, что лежит за пределами смерти. Авторские вторжения в жизнь персонажей являются моделью метафизической связи человека с таинственной потусторонностью. В.Е. Александров, подробно Цит. по: Александров В.Е. Набоков и потусторонность. СПб., 1999. С. 68. 154 исследуя проблему набоковской философии мира и искусства, пришел к выводу, что Набоков разделял романтическую идею художника как соперника Бога, а художественные творения видел аналогиями природного мира. Весь природный мир полон узоров, восхитительных обманов (самый яркий пример – мимикрия у насекомых). Мир так искусен, что предполагает участие в его сотворении высшего сознания. Искусное и искусственное для Набокова – синонимы. Игра приемами, металитературность – это маска и модель набоковской метафизики. Исследователь пишет: "...характерные для его прозы загадки, узоры, анаграммы, скрытые аллюзии, ложные ходы, обманчивые повествователи, двойники... следует понимать как подражание фундаментальным законам природы"1. Творчество – суть мироздания, исполненного по законам красоты. Таким образом, Набоков не поверхностный фокусник-комбинатор, он выражает сложным, непрямым способом свою философию мира, свою идею "космической синхронизации" всего со всем. Главный инструмент "космической синхронизации" – творческие озарения, сон, воображение, память. Особенно важна память, этот мост в потусторонность, способ преодолеть время. Набоков испытывал отвращение к бегу времени, называл его "дьявольским", ведь оно безвозвратно уносит все дорогое. Писатель говорил: "Время без сознания – мир низших животных; время плюс сознание – человек; сознание без времени – некое еще более высокое состояние"2. Таким высшим существом является автор-творец, воссоздающий в памяти былое. Таким является и читатель, если, конечно, это читатель, способный понять автора. Произведения Набокова имеют не столько временную, сколько пространственную структуру. Мотивы повторяются в разных контекстах, сплетаются в узоры; читатель должен откладывать их в своей памяти, и наконец, достигается точка, которая освещает, объясняет и связует все. В этот момент читатель выходит за пределы сюжетного времени, постигая разом весь замысел автора. Набоков не высокомерен, он хочет и читателя приобщить к великолепному и остроумному занятию, открывающему двери тюрьмы времени. Впрочем, потусторонность все же 1 2 Александров В.Е. Набоков и потусторонность. СПб., 1999. С. 62. Цит. по: Александров В.Е. Набоков и потусторонность. СПб., 1999. С. 36. 155 непознаваема в земных категориях, и в произведениях Набокова всегда остаются тайна и недосказанность. Гораздо менее оптимистичную трактовку набоковской "драмы виртуозности" предложил Жан Бло. Анализируя излюбленную метафору Набокова – шахматную игру, критик пишет: "Набоков верит в повороты и извороты Судьбы, видит в каждой случайности хитроумную, почти что сбивающую с толка комбинацию; чувствует, что им играют, манипулируют, что он – пленник системы, которая ведет его к гибели или спасению… Он пытается ухватить Судьбу, подражая ей в своих рассказах, изобретая, чтобы поймать ее, хитроумнейшие конструкции… Эти конструкции выражают особую форму, в которую облекается здесь тревога. Действительно, мятущееся восприятие может придать значение… самому обыденному событию. Нужно уловить его, ибо оно опасно или может стать таковым… Эта онтологическая тоска, в которую погружено произведение… придает набоковской виртуозности пугающую значительность"1. Посмотрим, как воплотились набоковская концепция мира и человека, его эстетическое кредо в конкретных произведениях. Лирика В. Набокова Но воздушным мостом мое слово изогнуто Через мир, и чредой спицевидных теней Без конца по нему прохожу я инкогнито В полыхающий сумрак отчизны моей. ("Слава") Набокова обвиняли в отсутствии патриотизма, сам он демонстративно отказывался от "Литературы Больших Идей" и считал, что художник, обладатель дара, не отражает, а только имитирует жизнь и чувства. Вместе с тем известно, что Набоков обожал всякого рода мистификации, и его интервью, статьи, высказывания не всегда соответствуют его произведениям. Лирика как род 1 литературы наиболее полно Бло Жан. Набоков. СПб, 2000. С. 117. выражает внутренний мир поэта. 156 Подтверждают ли стихи Набокова тезисы о "чистом искусстве", об "искусствеигре"? Прежде всего, отметим, что лирический герой Набокова – человек добрый, даже сентиментальный. Знаешь веру мою? Слышишь иволгу в сердце моем шелестящем? Голубою весной облака я люблю, райский сахар на блюдце блестящем; и люблю я, как льются под осень дожди, и под пестрыми кленами пеструю слякоть. Есть такие закаты, что хочется плакать, а иному шептать: подожди. Если ветер ты любишь и ветки сырые, Божьи звезды и Божьих зверьков, если видишь при сладостном слове "Россия" только даль и дожди золотые, косые и в колосьях лазурь васильков, – я тебя полюблю, как люблю я могучий, пышный шорох лесов, и закаты. и тучи, и мохнатых цветных червяков; полюблю я тебя оттого, что заметишь все пылинки в луче бытия, скажешь солнцу: спасибо, что светишь. Вот вся вера моя. Характерна экстенсивная форма этого лирического признания, обнаруживающая потребность в отклике, в дружеском сочувствии. Лирический герой говорит о любви к простой земной красоте: от звезд до цветных червяков; он любит все бытие и особенно – Россию. Герой словно растворен в природе ("слышишь иволгу в сердце моем шелестящем"). Вместе с тем, его излюбленное состояние – одиночество. Не тоска одиночества, как у Лермонтова ("И скучно, и грустно..."), а, скорее, по-бунински: "Люблю я весь мир, но люблю одиноко, 157 одинокий везде и всегда". Набоковский герой пребывает в радостном одиночестве, потому что оно помогает самоуглубиться, погрузиться в себя, в свою душу – а она широко открытыми глазами смотрит на мир, поэтому одиночество становится залогом незамутненного контакта с миром. Есть в одиночестве свобода и сладость – в вымыслах благих. Звезду, снежинку, каплю меда я заключаю в стих. И, еженочно умирая, я рад воскреснуть в должный час, и новый день – росинка рая, а прошлый день – алмаз. <1921> Поэтический мир в стихах Набокова стереоскопически объемен, опятьтаки, по-бунински соткан из игры света и тени, запахов, звуков, воздуха, его теплоты и влажности. Но это мир не импрессионистически-подвижный, зыбкий, изменчивый (как у Бунина), а отчетливо-рельефный и выпуклый. Грибы У входа в парк, в узорах летних дней скамейка светит, ждет кого-то На столике железном перед ней грибы разложены для счета Малютки русого боровика – что пальчики на детской ножке. Их извлекла так бережно рука из темных люлек вдоль дорожки. И красные грибы: иголки, слизь на шапках выгнутых, дырявых№ они во мраке влажном вознеслись 158 под хвоей елочек, в канавах. И бурых подберезовиков ряд, таких родных, пахучих, мшистых, и слезы леса летнего горят на корешочках их пятнистых. А на скамейке белой – посмотри – плетеная корзинка боком лежит, и вся испачкана внутри черничным лиловатым соком 13 ноября 1922 Вспоминается А. Майков: "Мох не приподнят, не взрыт грудой кудрявых груздей..." или "мухоморов красных ряд, что карлы сказочные спят". Поэзия Майкова тоже передавала радостный, уравновешенно-разумный, чисто художнический взгляд на мир. Такова в стихах Набокова даже картина кладбища. На сельском кладбище На кладбище солнце, сирень и березки и капли дождя на блестящих крестах. Местами отлипли сквозные полоски и в трубки свернулись на светлых стволах. Люблю целовать их янтарные раны, люблю их стыдливые гладить листки… То медом повеет с соседней поляны, то тиной потянет с недальней реки. Прозрачны и влажны зеленые тени. Кузнечики тикают. Шепчут кусты, – и бледные крестики тихой сирени кропят на могилах сырые кресты. 159 Мир в стихах Набокова – мир усадебный, парковый, лесной, влажный (часто присутствуют дождь, река), солнечный и тенистый. Это древесный мир, населенный маленькими обитателями: бабочками, кузнечиками, гусеницами, птицами. Итак, Набоков рисует мир яркий и отчетливый. В стихотворении "Поэту" он говорит: "Отчетливость нужна и чистота, и сила", свой стих называет "верным". Лирический герой – человек физического и душевного здоровья, счастливый, принимающий жизнь. Неужели жизненная драма, изгнание, утрата родины не отразились на мироощущении Набокова и тональности его стихов? Казалось бы, да: Поэт Среди обугленных развалин, средь унизительных могидл – не безнадежен, не печален, но полон жизни, полон сил – с моею музою незримой так беззаботно я брожу и с радостью неизъяснимой на небо ясное гляжу. Я над собою солнце вижу и сладостные слезы лью, и никого я не обижу, и никого не полюблю. Иное счастье мне доступно, я предаюсь иной тоске, а все, что жалко иль преступно, осталось где-то вдалеке. Там занимаются пожары, там, сполохами окружен, мир сотрясается, и старый 160 переступается закон. Там опьяневшие народы ведет безумие само, – и вот на чучеле свободы бессменной пошлости клеймо. Я в стороне. Молюсь, ликую, и ничего не надо мне, когда вселенную я чую в своей душевной глубине. То я беседую с волнами, то с ветром, с птицей уношусь и со святыми небесами мечтами чистыми делюсь. 23 октября 1918 Лирический герой провозглашает позицию "над схваткой", отрешенности от злобы дня, от политики. Строки "И никого я не обижу, и никого не полюблю" полемически направлены против демократической поэзии Некрасова, утверждавшего: "То сердце не научится любить, которое устало ненавидеть" ("Замолкни, муза мести и печали"). Если для демократов поэт в России – больше, чем поэт, то для Набокова поэт – только поэт, мастер святого и чистого ремесла. Но о чем же его "иная тоска", в чем же его "иное счастье"? Может быть, как романтиков его влечет мир иной, неземной? Отчасти это так. Набокову знакома коллизия души и тела: О, как ты рвешься в путь крылатый, Безумная душа моя, Из самой солнечной палаты В больнице светлой бытия! И бредя о крутом полете, 161 Как топчешься, как бьешься ты В горячечной рубашке плоти, В тоске телесной тесноты!.. Душа крылата, ее стихия – полет. Желание выздороветь, очнуться, улететь, освободиться предполагает наличие некоей связанности, несвободы, заключенности в косную оболочку реальности. Набоковская "радость бытия" не непосредственна, а опосредована болью и страданием, это сознательно выбранная мужественная позиция. Слом судьбы не прошел бесследно; покинутая Россия мучила, и, вопреки утверждениям Набокова, ностальгия была ему знакома. В стихотворении "Россия" (1919) он восклицает: Ты – в сердце, Россия! Ты цель и подножие, Ты – в рокоте крови, в смятенье мечты! И мне ли плутать в этот век бездорожия? Мне светишь по-прежнему ты. Может быть, диалогичность многих стихотворений объясняется тем, что они обращены, пусть и неявно, к России. Родина Бессмертное счастие наше Россией зовется в веках. Мы края не видели краше, а были во многих краях. Но где бы стезя не бежала, нам русская снилась земля. Изгнание, где твое жало, чужбина, где сила твоя? Мы знаем молитвы такие, что сердцу легко по ночам; и гордые музы России незримо сопутствуют нам. Спасибо дремучему шуму лесов на равнинах родных, Набокова 162 за ими внушенную думу, за каждую песню о них. Наш дом на чужбине случайной, где мирен изгнанника сон, как ветром, как морем, как тайной, Россией всегда окружен. 1927 Романтические символы свободы и мечты – ветер, море, тайна – расшифровываются как Россия. Жизнь в изгнании случайна, подобно сновидению. Предел мечтаний для лирического героя – вернуться на родину, хотя бы там ждала смерть. Расстрел Бывают ночи: только лягу, в Россию поплывет кровать, и вот ведут меня к оврагу, ведут к оврагу убивать. … Но сердце, как бы ты хотело, чтоб вправду это было так: Россия, звезды, ночь расстрела и весь в черемухе овраг. 1927 Берлин Однако прежней России нет; в стихотворении "Видение" передан сон героя: кто-то тихо идет в метели, в снегах и в тоске, несет на плече детский гроб – "мою Россию". Почему гроб детский? Наверное, потому, что для Набокова Россия – это прежде всего детство, утраченный детский рай. От России остались только сны. Герой лирики Набокова – одинокий мечтатель, отвергает пошлую реальность c ее нарочитостью, непрочностью и банальностью и предается "полетам во сне и наяву". 163 Художественный мир во многих стихотворениях – это мир сновидения, отчетливого до галлюцинации: "всякой яви совершеннее – сон о родной стране", "только сон утешит иногда"; "сладчайший сон – мой сон был мною дорогой через тенистое село" и т.п. Звени, мой верный стих, витай, воспоминанье! Не правда ль, все – как встарь, и дом – все так же тих – стоит меж старых лип? Не правда ли, страданье, сомненье – сон пустой? Звени, мой верный стих… Пусть снова будет май, пусть небо вновь синеет. Раскрыты окна в сад. На кресло, на паркет широкой полосой янтарный льется свет, и дивной свежестью весенний воздух веет. Но чу! Вздыхает парк… Там – радость без конца, там вольные мечты сулит мне рай зеленый. Туда, скорей туда! Встречаю у крыльца старушку мирную с корзинкою плетеной. Меня приветствуя, лохматый черный пес визжит, и прыгает, и хлопает ушами… Вперед! Широкий парк душистыми листами шумит пленительно… Это стихотворение образными мотивами (дом, сад, река, лодка с девушкой, верный пес, крест церковный) напоминает стихотворение Некрасова "На Волге" ("Детство Валежникова"). Перекличка существует и на ритмическом уровне: ямб, преобладание смежной рифмовки (при наличии перекрестной), стиховые переносы, восклицание "но чу!", одинаковый интонационный зачин – обращение, восклицание, вопрос: Звени, мой верный стих, витай, воспоминанье! Не правда ль, все – как встарь... (Набоков) Не торопись, мой верный пес! Зачем на грудь ко мне скакать?.. (Некрасов) 164 Каков смысл этой скрытой отсылки к Некрасову? Очевидно, Набоков полемизирует с ним, как и в стихотворении "Поэт", но очень часто у Набокова звучит та же тревожная, даже надрывная интонация, что и у Некрасова, так же внутренне противоречив лирический герой, переживающий мучительный разлад с действительностью при острой любви к родине. Так, некрасовские строки "Надрывается сердце от муки" и "За каплю крови, общую с народом, мои вины, о родина, прости!" вспоминаются при чтении следующего стихотворения Набокова: К России Отвяжись, я тебя умоляю! Вечер страшен, гул жизни затих. Я беспомощен. Я умираю от слепых наплываний твоих. Тот, кто вольно отчизну покинул, волен выть на вершинах о ней, но теперь я спустился в долину, и теперь приближаться не смей. Навсегда я готов затаиться и без имени жить. Я готов, чтоб с тобой и во снах не сходиться, отказаться от всяческих снов; обескровить себя, искалечить, не касаться любимейших книг, променять на любое наречье все, что есть у меня, – мой язык. Но зато, о Россия, сквозь слезы, сквозь траву двух несмежных могил, сквозь дрожащие пятна березы, сквозь все то, чем я смолоду жил, 165 дорогими слепыми глазами не смотри на меня, пожалей, не ищи в этой угольной яме, не нащупывай жизни моей! Ибо годы прошли и столетья, и за горе, за муку, за стыд, – поздно, поздно! – никто не ответит, и душа никому не простит. 1939 Париж Сновидения лирического героя Набокова не всегда идилличны и прекрасны, часто это сны тревожные, под знаком смерти, с ощущением ошибки и абсурда (стих. "Кубы"). Итак, если реальная действительность кажется пошлой декорацией, а прекрасная мечта – только сон, иллюзия, то единственной надежной сферой реализации личности является творчество, суверенное и свободное. ...В волненье повседневности прекрасной, где б ни был я, одним я обуян, одно зовет и мучит ежечасно: на освещенном острове стола граненый мрак чернильницы открытой, и белый лист, и лампы свет, забытый под куполом зеленого стекла. И поперек листа полупустого Мое перо, как черная стрела, и недописанное слово... Даже смерть представляется как "полет страницы, соскользнувшей при дуновеньи со стола". Многочисленные аллюзии, скрытые цитаты из Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Блока и т.д. придают художественной реальности в стихах Набокова статус "мира искусства", "пространства" русской поэзии. В одном ряду с "Памятником" Пушкина, стихотворением "Поэт и гражданин" Некрасова стоит стихотворение Набокова "Слава" (1942). Перед лирическим героем появляется его двойник (совесть или черт?) и говорит о том, 166 что в России никогда никто не будет знать ни строчки из написанного поэтомэмигрантом, что творчество его пусто и беспочвенно. Однако герой только смеется в ответ, он абсолютно счастлив, потому что обладает такой тайной, перед которой даже разрыв с отчизной – частность. Это тайна та-та, та-та-та-та, та-та И точнее сказать я не вправе... Так что же дает опору набоковскому герою? В чем его тайна? Драматургия Набокова. Пьеса "событие" "Такое орудие дает его обладателю власть над всем миром." (В. Набоков "Изобретение Вальса") представляет собой драматическую комедию. Постановщик пьесы в парижском Русском театре Ю. Анненков говорил: "Русские писатели разучились писать незлободневно для театра. Сирин пробил брешь. Его пьеса, при замене собственных имен, может быть сыграна в любой стране и на любом языке с равным успехом. Если говорить о родственных связях "События", то здесь яснее всего чувствуется гоголевская линия. Однако еще заметнее родство "События" с гравюрами Хоггарта". Ю. Анненков отмечает жизненную правдивость пьесы. Действительно, как все произведения Набокова, "Событие" может быть воспринято на разных уровнях содержания, в разных стилевых традициях. Можно прочитать "Событие" как реалистическую пьесу в чеховском ключе. Зримость набоковского художественного мира находит воплощение в выразительных мизансценах. В центре системы персонажей – художник Трощейкин, лет под сорок, "ребячлив, нервен, переходчив" (авторская ремарка). Он и его молодая красивая жена Люба уже семь лет живут в захолустье, в провинциальном городке, где Трощейкин нарисовал, кажется, портреты уже со всех отцов семейств, дантистов, врачей. Супруги сравнивают свою жизнь с жизнью чеховских персонажей ("мы разлагаемся в провинциальной обстановке, как три сестры"; "ничего, через год уедем"). По-чеховски в пьесе нет событий, только разговоры 167 героев, в которых раскрывается их настроение, их мироощущение. О семье Туркиных из рассказа Чехова "Ионыч" напоминает такая деталь: мать Любы пишет "фантазии" из цикла "Озаренные озера" и читает их гостям, собравшимся на ее пятидесятилетие. Трощейкина зовут, как Горького, а Опояшину (мать Любы) – Антонина Павловна. Чеховских героинь напоминает Люба, глубоко неудовлетворенная жизнью, тоскующая и скучающая. Ю. Аненнков отмечал присущий пьесе "живой, типичный язык нашей теперешней, подпорченной, бесстильной, разорванной речи". Например, Антонина Павловна говорит о прислуге: "Она не в духах"; Люба зовет: "Алеша!", а он отвечает: "Я за него". Критика отмечала и еще одно проявление правдивости пьесы – смешение драмы и комедии, реального и необычайного. Но слишком явное присутствие в тексте отсылок к реалистической традиции наводит на мысль о скрытой полемике с ней. Так, Люба говорит Марфе, собравшейся уходить от хозяев, что она недостаточно реалистично играет свою роль: "Марфа: Мне у вас оставаться страшно. Я старуха слабая, а у вас в доме нехорошо. Люба: Ну, это вы недостаточно сочно сыграли. Я вам покажу, как надо. "Уж простите меня... Я старуха слабая, кволая... Боязно мне... Дурные тут ходют". Вот так. Это, в общем, очень обыкновенная роль. Марфа: Я вас боюсь, Любовь Ивановна. Вы бы доктора позвали. Люба: Дохтура, дохтура, а не "доктора". Нет, я вами недовольна. Хотела вам дать рекомендацию: годится для роли сварливой служанки, а теперь вижу, не могу дать." Итак, жизнь, показанная на сцене, это игра, театр в театре. Герои только притворяются, что живут: Трощейкин притворяется художником, Люба – любовницей Ревшина, надоевшего ей щеголя, Антонина Павловна – писательницей. Иллюзорность якобы настоящей жизни героев высвечивает главное событие пьесы, которое В. Ходасевич определил как страх (его зарождение, развитие, неожиданное исчезновение в финале). Трощейкин узнает, что из заключения вернулся Барбашин, который любил когда-то Любовь Ивановну и стрелял в Трощейкина после свадьбы. Теперь Трощейкин ждет мести. На юбилее тещи один за другим появляются гости,и каждый из них подогревает 168 его страх. Трощейкин мечется в поисках спасения: нанимает сыщика Барбошина (откровенно фарсовая фигура), ищет денег для отъезда, истерично ссорится с Любой. Под влиянием страха действительная жизнь Трощейкина помрачается, но, вместе с тем, и проясняется, то есть обнаруживается ее мнимость. В финале выясняется, что опасности нет никакой: Барбашин был в городе проездом за границу и просил кланяться общим знакомым. Барбашин – смерть для Трощейкина и несбывшееся счастье для Любы – так и не появился на сцене. Оптимистический или пессимистический характер имеет такой финал? Критики давно заметили, что сюжет "События" является вариантом, обратным подобием к сюжету гоголевского "Ревизора". Трощейкин с таким же ужасом ждет Барбашина, с каким Городничий ждет Ревизора. Но у Гоголя логика действия развивается от фарса к реальной угрозе, а у Набокова – от реальной угрозы к фарсовому финалу. Барбашин = Ревизор = смерть должен был бы уничтожить пошлую жизнь Трощейкина и его близких, но он не появляется, все остается по-прежнему. Ю. Анненков считал финал оптимистичным ("пьеса говорит о том, что самая реальная жизненная угроза, опасность, совсем не так страшна, как то представляют себе люди, причиняющие себе страстью к преувеличениям постоянные неприятности"). Но, кажется, более прав В. Ходасевич, считавший финал глубоко пессимистичным: пошлая и грязная жизнь остается неизменной. Почему так? В чем смысл пьесы? Не случайно в центре – художник. Наверное, у него когда-то был дар (увлеклась же им Люба), он ценит игру цвета, видит истинное лицо людей (рисует двойные портреты: заказные – благопристойные, для себя – злые карикатуры), он высказывает близкую Набокову мысль о том, что искусство движется всегда "против солнца". Но его дар губит его человеческая пошлость. Трощейкин – ничтожный человек (не переживает по поводу смерти сына, равнодушно относится к связи жены с Ревшиным, соглашается ради спасения взять у него деньги, поступившись Любой). Он трус. Люба говорит мужу: "Ты ничто, ты волчок, ты пустоцвет, ты пустой орех, слегка позолоченный, и ты никогда ничего не создашь, а всегда останешься тем, что ты есть, провинциальным портретистом с мечтой о какойто лазурной пещере". 169 Наконец, все, происходящее на сцене – вовсе не реальная жизнь, а вымысел, фантазия Трощейкина. Например, ремарка к третьему действию гласит: "Мышь (иллюзия мыши), пользуясь тишиной, выходит из щели...". Пьеса начинается разговором Трощейкина с женой о новой картине, изображающей сына ювелира с тремя мячами. Трощейкин сначала пишет портрет мальчика, оставляя незакрашенным место для мячей. Его интересует отблеск на фигуре мальчика от горящих яркими цветами мячей, и вот он сначала стремится запечатлеть отблеск, а потом нарисовать источник света. И в сюжете пьесы запечатлен психологический "отблеск" от приезда Барбашина (яркое переживание страха), а его источник оказался мнимым, иллюзорным. Трощейкин говорит в конце второго действия о людях, собравшихся в гостиной: "Не обращайте внимания... Это так – мираж, фигуранты, ничто. Наконец, я сам это намалевал. Скверная картина – но безвредная". И Люба подтверждает: "Мой муж написал это в очень натуральных красках. Мы одни". Итак, перед нами событие, которое не происходит, мир реалистическиправдоподобен, но, может быть, он лишь игра больного воображения. Что истинно существует – а что только видимость? Беда Трощейкина в том, что он принимает пошлую повседневность за единственную реальность. Прямо противоположный вариант творческой позиции показал Набоков в пьесе "Изобретение Вальса". Тема та же – тема влиятельного, но не всегда могущественного миража. Но тип творческого поведения запечатлен совершенно другой. Сальватор Вальс явился к министру некой выдуманной страны со своим изобретением, "телемором". Вальс говорит: "При помощи этого аппарата, который с виду столь же невинен, как, скажем, радиошкап, возможно на любом расстоянии произвести взрыв невероятной силы. Моя машина способна путем повторных взрывов уничтожить, обратить в блестящую ровную пыль целый город, целую страну, целый материк. Такое орудие дает его обладателю власть над всем миром". Министр с одиннадцатью генералами (которых зовут: Берг, Бриг, Брег, Герб, Гроб, Граб, Гриб, Горб, Груб, Бург, Бруг – последние трое представлены куклами, ничем не отличающимися от остальных генералов) уступает правление страной Вальсу. Вальс становится диктатором. Он мечтает облагодетельствовать человечество, избавив его от войн, расходов на вооружение и армию, установив простые, естественные человеческие законы. 170 Но, чтобы утвердить свою власть, ему приходится уничтожить несколько городов с неповинными людьми. Да и диктатора из Вальса не получилось, он слишком ленив, быстро запускает государственные дела, мечтает только об удовольствиях. Его обманывают его приближенные. Так, вместо тридцати юных красавиц к нему приводят двух шлюх и трех уродиц. Бывшие генералы остаются на своих местах, только Бриг стал шофером, Брег – садовником, Гриб – поваром, Горб – спортсменом и т.д. Министр по-прежнему стоит во главе правительства. Однако в финале пьесы мы вдруг узнаем, что весь этот мир – фикция, реализовавшийся бред Вальса (не случайно его помощник – Сон). Телемор – идея параноика, Вальс явно сумасшедший, и его никто не принимает всерьез. Вальс вообразил себе весь разговор с министром и последующие события еще до настоящего разговора, сидя в ожидании приема у министра. Вальс обладает даром (фантазией, воображением), но он живет только в мире фантазии (в отличии от Трощейкина, живущего только в пошлой обыденности), и он – сумасшедший. Пьеса имеет круговую композицию: конец возвращает к началу (беседа Вальса с министром), "вальс" – танец с движением по кругу. Итак, Вальс обладал даром, но не сумел правильно воспользоваться им. По мнению Ив. Толстого, мир в творчестве Набокова расколот надвое: явь и вымысел. Художник не должен жить только в первом или только во втором мире, он должен дозировать свое попеременное и одномоментное пребывание в этих двух мирах. Кроме того, в предисловии к американскому изданию пьесы Набоков подчеркивает ее глубоко психологический, человеческий смысл. Он назвал главным структурным приемом в пьесе контраст между грезами, лишенными человечности и щемящим хаосом, среди которого бродят люди. Автор размышляет о своем герое: "Что делает Вальса столь трагической фигурой? Что так ужасно расстраивает его, когда видит он на столе игрушку? Нахлынуло ли на него его детство? Какая-то горестная полоса его детства? Быть может, не собственного детства, но детства потерянного им ребенка? Какие горести помимо банальной бедности претерпел он? Что это за мрачные и таинственные воспоминания, связанные с Сибирью, так странно вызываемые в нем панихидой по каторжнику, спетой шлюхой? Кто я такой, чтобы задавать эти вопросы?" 171 Итак, главное в человеке, по Набокову, наличие способности к творчеству. Сущность дара заключается в умении жить одновременно в двух мирах (реальном и вымышленном), балансируя на грани, дозируя попеременное пребывание в них. Когда человек оказывается достоин своего дара? Набоковскую концепцию личности художника попробуем рассмотреть на материале рассказов. РАССКАЗЫ В. НАБОКОВА "Вера в призрачность моего существования давала мне право на некоторые развлечения" ("Соглядатай") Набоков был мастером рассказа, короткого, с энергичным сюжетом, новеллистически неожиданной концовкой, прекрасными пейзажами, свежими и меткими сравнениями. По-русски он написал 50 рассказов, из них 42 собраны в три книги: "Возвращение Чорба" (1925), "Соглядатай" (1928), "Весна в Фиальте"(1956). С событийно-реалистической ("житейской") точки зрения рассказы достаточно традиционны. Герой – разновидность "маленького человека", мелкий служащий, часто – полунищий эмигрант, одинокий мечтатель, существующий во враждебном ему мире пошлости, его преследует рок, ему сопутствует смерть. Герой рассказа "Пильграм" – типичный немецкий обыватель, владелец лавочки, грузный человек с равнодушными, слезящимися глазами, с вечно угрюмым выражением лица. Жену свою он презирает, детей никогда не хотел иметь. Герой одинок, потому что болеет, сколько себя помнит, страстной, неизменной, изнурительной и блаженной мечтой. Его страсть – бабочки, прелестные, хрупкие создания; его мечта – отправиться в экзотические страны, чтобы самому ловить их. Пильграм женился не по любви, а ради денег, но от тестя остались одни долги. В другой раз скопил достаточную сумму, но разразился экономический кризис, и деньги обесценились. Пильграм почти отчаялся. И вдруг судьба дарит ему последний шанс. Он выгодно продает 172 коллекцию и, тайком от жены, уже с билетом в кармане, собирает чемодан, но в последний момент его разбивает апоплексический удар. В рассказе "Облако, озеро, башня", написанном в 1937 г., под впечатлением от гитлеровской Германии, преследующий героя рок воплощается в предельно пошлую компанию немцев, совершающих увеселительную прогулку. Общество массы уничтожает неповторимую индивидуальность. Герой этого рассказа, русский эмигрант, выиграл поездку, которую должен совершить в добровольно-принудительном порядке. В поезде он читает Тютчева, созерцает синюю сырость оврага, воспоминание любви, переодетое лугом, сливающиеся в цветные строки цветы на травяном скате, по которому несется плохо выглаженная тень вагона. Но его заставляют вместе со всеми петь хоровые песни, играть в дурацкие игры. Удивительный покой и счастье испытал герой, оказавшись на берегу круглого озера, в котором отражалось круглое облако, а на берегу высились дактили башен старинного замка. Он хотел бы поселиться здесь навсегда, слившись с гармонией мира, но его насильно заставляют идти дальше, а на обратном пути в поезде зверски избивают. Но напомним, что Набоков был против "Литературы Больших Идей" и не считал жизненное содержание своих произведений главным и единственным. Он считал, что художник должен не подражать действительности, а творить заново, изобретать собственную художественную реальность. Эстетическое кредо автора раскрыто в рассказе "Пассажир". В вагоне поезда спорят двое: писатель и критик. Писатель отстаивает первенство жизни, которая всегда выше, умнее литературы. Критик же утверждает свободу художника, который может преобразить хаос жизни в совершенную и самодостаточную "вторую реальность". Критик выражает мысль, несомненно близкую самому автору: "В жизни много случайного, но и много необычайного. Слову дано высокое право из случайности создавать необычайность, необычайное делать не случайным". "Вторая реальность" (мир мечты, мир воображения, мир творчества) выше житейской реальности и никогда не должна подменять ее. В этом – ошибка героя рассказа "Возвращение Чорба". Название рассказа двусмысленно. Во-первых, оно имеет буквальное значение: Чорб ("нищий эмигрант, поэт", – по отзыву тестя) возвращается после внезапной смерти жены, коснувшейся 173 электрического провода на поваленном бурей столбе, в немецкий городок, где живут ее родители и где год назад состоялось знакомство Чорба с женой. Вовторых, название имеет психологический смысл: Чорб проделывает обратное путешествие, возвращаясь вспять по маршруту, проделанному вместе с женой, стараясь отыскать по пути все те мелочи, на которые некогда она обращала его внимание – круглый черный камешек с белым пояском среди морской гальки, особенный очерк скалы, черную ель и мостик над белым потоком. "Ему казалось, что, если он соберет все мелочи, которые они вместе заметили, если он воссоздаст это близкое прошлое, ее образ станет бессмертным и ему заменит ее навсегда". Вот он приезжает в город, где началось их знакомство: та же площадь, те же извозчики, те же газетчики, тот же пудель, ее дом – и острое воспоминание: холод чугунной решетки по рукой, освещенное окно. Но кое-что в мире и изменилось, ведь прошло время. Теперь весна, а тогда была осень (земляной, влажный, слегка фиалковый запах вялых листьев, небо в пасмурные, прелестные дни тускловато-белое, лужа, похожая на плохо промытую фотографию). "Мучительный и сладкий искус" воспоминаний подходил к концу. Осталось последнее: провести ночь в том же номере той же гостиницы, где он был с женой. Чорб приходит туда с уличной женщиной и среди ночи истошно кричит, ибо он проснулся и ему показалось, что рядом его жена. Потом он пришел в себя и облегченно вздохнул: искус кончен. В этот момент в его равнодушном взгляде и улыбке было что-то сумасшедшее. И в этот момент приходят родители жены, ничего не знающие о ее смерти. Кончается рассказ на жуткой ноте молчания. Итак, после смерти дорогого человека герой пытается силой памяти повернуть жизнь вспять. Изящная композиция рассказа сочетает прием обратного хода с приемом круга. Удалась ли герою его попытка? Финал оставляет возможность двоякого толкования. Возможно, Чорб победил время и смерть, собрал образ возлюбленной ярко и выпукло, и ему нет дела до горя родителей, мнения окружающих и т. п. Но возможно, что Набоков привел героя к краху: Чорб пытался буквально, в этой, физической реальности вернуть прошлое, и получился абсурд и даже кощунство. В том, что справедливее, скорее, второе толкование, убеждает анализ рассказа "Соглядатай". Герой рассказа – бедный эмигрант, поэт. Все события в его жизни вполне правдоподобны; вместе с тем, этих событий, может быть, не 174 было вовсе. Сначала герой служит учителем двух мальчиков в русской семье и там знакомится с пышной дамой по имени Матильда. Начинается скучная и жалкая любовная связь. Из поездки возвращается муж Матильды и зверски избивает рассказчика (возможно, этот эпизод – просто материализованная фантазия Матильды, обожавшей говорить о том, какой ревнивец ее муж). Опозоренный герой рассказа решает покончить с собой и стреляется. Насколько реальна его смерть? Вероятно, он получил только легкое ранение; но субъективно рассказчик абсолютно уверен в том, что он умер. "Посмертный разбег мысли" (живущее еще какое-то время сознание после смерти тела) делает окружающий его мир "прозрачным", а сам герой обретает свободу действий. Он становится посторонним по отношению к самому себе (личное повествование заменяется безличным), "я" теперь – это "он", "Смуров". Взгляд "со стороны" анализирует теперь внешность героя: "Признаюсь, в те первые вечера он на меня произвел довольно приятное впечатление. Был он роста небольшого". Теперь Смуров служит приказчиком в книжной лавке Вайнштока, знакомится с русской семьей, влюбляется в молодую девушку – невесту другого и т.д. Но это – как бы жизнь невсерьез, понарошку. Смурова нет, а есть только субъективный образ его в сознании других людей. Для Вайнштока Смуров – советский шпион, агент разведки; для Марианны Николаевны, родственницы сестер, он блестящий и жестокий воин, который вешал в России направо и налево, для старшей сестры он застенчивый, впечатлительный, очень молодой человек; для ее мужа, Хрущова, Смуров – вор; для дяди Паши, спутавшего Смурова с Мухиным, он жених младшей сестры; для нее самой он добрый, смешной и милый; для Романа Богдановича он "сексуальный левша". Все зависит от качеств того человека, в чьем сознании Смуров отражается. Затем происходит еще одна встреча с Кашмариным (мужем Матильды), который просит прошения и предлагает выгодную работу в автомобильной Фирме. "Кашмарин унес с собою еще один образ Смурова. Не все ли равно какой? Ведь меня нет – есть только тысячи зеркал, которые меня отражают. С каждым новым знакомством растет население призраков, похожих на меня. Меня же нет. Но Смуров будет жить долго (в памяти других людей. – Н.Б.) И все же я счастлив. Да, я счастлив. Я клянусь, клянусь, что счастлив. Я понял, что единственное счастье в этом мире – это наблюдать, соглядатайствовать, во все глаза смотреть на себя, на других, – не делать никаких выводов, – просто глазеть. Клянусь, что это счастье. И пускай сам по себе я пошловат, подловат – я счастлив тем, что могу глядеть на себя, ибо всякий человек занятен. Мир, как ни старайся, не может 175 меня оскорбить, я неуязвим". Герой спасается от грубого и плотного, материального мира действительности, ускользая в "зазеркалье", оставляя по эту сторону реальности лишь свой образ, отражение. Однако разрыв посюстороннего и потустороннего миров не абсолютен: "я" и "он", автор и герой, то расходятся, то сливаются в одном лице. Накануне самоубийства герой отделяется от своего облика: "Пошлый, несчастный, дрожащий маленький человек в котелке – таким на мгновение увидел я себя в зеркале". В финале рассказа тождество восстанавливается: "взявшись за дверную скобку, я увидел, как сбоку в зеркале поспешило ко мне мое отражение, молодой человек в котелке, с букетом. Отражение со мною слилось, я вышел на улицу". Таким образом, для героя данного произведения призрачность мира, достигаемая игрой воображения, становится средством защиты от жизни – плотной, грубой, жестокой. Вместе с тем, герой, как Нарцисс, влюблен в себя. Маниакальная страсть смотреть на себя со стороны превращает для него всех других людей в зеркала. Состояние этого человека напоминает состояние загнанного в угол героя "Записок из подполья" Достоевского. Слишком надрывно герой уверяет, что он счастлив. Созданный его воображением мир полон шаблонных ситуаций и словесных стереотипов. Смуров – плохой художник, он так и не обретает свободы и легкости (как и Герман, герой романа "Отчаяние"). В нем слишком много мелкого, эгоистичного, самодовольного. Подлинный художник не должен использовать дар во вред другим людям и не должен превращать его в средство самолюбования. Рассказ "Весна в Фиальте" показывает, насколько сложнее авторская позиция, чем позиция Смурова. Набоков нередко обозначает свое авторское присутствие в произведении, подчеркивая искусный и искусственный характер творимого мира. Сохраняя оптическую выпуклость, материальную осязаемость, мир приобретает качество художественного текста. Автор отчасти играет, как в рассказе "Королек" ("Собираются, стягиваются с разных мест вызываемые предметы... Вот овальный тополек в своей апрельской пунктирной зелени уже пришел и стал, где ему приказано – у высокой кирпичной стены – целиком выписанной из другого города. Напротив вырастает дом, большой, мрачный и грязный, и один за другим выдвигаются, как ящики, плохонькие балконы... И хотя все это только намечено и еще многое нужно доделать и дополнить, но на один из балкончиков уже выходят живые люди... Мы устроим мир так..."). Но нередко игра эта 176 овеяна грустью (тот же рассказ "Королек" повествует о человеческой жестокости). Один из самых поэтичных рассказов Набокова, углубляющих понимание его эстетической позиции, – рассказ "Весна в Фиальте" (1936). В сахаристо-серой весенней Фиальте герой-рассказчик вновь встречает ветреную, очаровательную Нину, жену известного писателя Фердинанда (писатель-модернист, венгр, пишущий по-французски). Первое знакомство состоялось еще в 1917 г. в России. Затем в течение пятнадцати лет судьба время от времени заставляет героев встречаться: "Я довольно долго не видел ее после той парижской встречи, а потом как-то прихожу домой и вижу: пьет чай с моей женой... Как-то осенью мне показали ее лицо в модном журнале. Как-то на пасху она мне прислала открытку с яйцом. Однажды, по случайному поручению зайдя к незнакомым людям, я увидел среди пальто на вешалке (у хозяев были гости) ее шубку... Вновь и вновь она впопыхах появлялась на полях моей жизни, совершенно не влияя на основной текст". При каждой встрече героя томят безотчетная нежность и грусть (никак не касаясь его абсолютно безоблачной семейной жизни). Однако последняя встреча, принеся несколько часов счастья, закончилась разлукой навсегда (Нина погибла в автомобильной катастрофе). Зерно сюжета составляет контрастное столкновение встречи и разлуки, за которым стоит более масштабное столкновение жизни и смерти. В названии содержится слово "весна", в последней фразе, завершающей рассказ, говорится, что Нина "оказалась все-таки смертной". Уже в начале рассказа встреча героев названа "последней", потом бегло сообщается, что Нина завтракала "в последний раз в жизни". Итак, сюжет показывает ненадежность и невозможность счастья. В рассказе противопоставлены два героя: сам рассказчик и Фердинанд, один – приятель, другой – муж Нины. Рассказчик живет сердцем, тогда как Фердинанд руководствуется рассудком. Герой испытывает болезненную жалость и любовь к Нине, со стороны Фердинанда – безразличие, фальшивая теплота, каторжная дружба. Герой отзывчив (с какой симпатией рисует он малыша, который ковыляет, неся три апельсина зараз, постоянно один роняя, пока не упал, и тогда мгновенно у него все отняла тремя руками девочка с тяжелым ожерельем вокруг смуглой шеи). Фердинанд везде находит повод для издевки и насмешки, например, его смешит чужая старость, девочка 177 провоцирует непристойное замечание. С ликованием он окружает себя уродливыми вещами, "как деспот окружает себя горбунами и карликами". С рассказчиком связана атмосфера доброты, с Фердинандом – смерть, зло, яд (у него "цианистые каламбуры", он "василиск счастья", чешуйчатый змей, дьявол, пародирующий Христа в "Тайной вечере"). Рассказчика окружает свет, фоном для Фердинанда служит чернота. Цветовая гамма рассказчика приглушенная (туман, прозрачность, серебристость, сиреневый, оливковый), у Фердинанда – ядовито-яркая (лиловый, желтый, синий). Мир, окружающий рассказчика, теплый и рыхлый, вещи, связанные с Фердинандом, гладкие и холодные. Рассказчик смотрит вдаль, видит глубину пространства, перед Фердинандом – зеркальная плоскость. Рассказчик и Фердинанд противопоставлены по отношению к сути творчества как писатель и сочинитель. "В совершенстве изучив природу вымысла, он особенно кичился званием сочинителя, которое ставил выше звания писателя; я же никогда не понимал, как это можно книги выдумывать, что проку в выдумке; и, не убоясь его издевательски любезного взгляда, я ему признался однажды, что будь я литератором, лишь сердцу своему позволял бы иметь воображение, да еще, пожалуй, допускал бы память, эту длинную вечернюю тень истины, но рассудка ни за что не возил бы по маскарадам". Со временем искусство Фердинанда "стало еще гаже и мертвее". Дар рассказчика заключается не в хитроумной комбинаторике разъятых символов, а в умении почувствовать жизнь, испытать "космическую синхронизацию". Посмотрим на два первых абзаца рассказа. "Весна в Фиальте облачна и скучна. Все мокро: пегие стволы платанов, можжевельник, ограды, гравий. далеко, в бледном просвете, в неровной раме синеватых домов, с трудом поднявшихся с колен и ощупью ищущих опоры (кладбищенский кипарис тянется за ними), расплывчато очерченная гора св. Георгия менее, чем когда-либо, похожа на цветные снимки с нее, которые тут же туриста ожидают (с тысяча девятьсот десятого года примерно, судя по шляпам дам и молодости извозчиков), теснясь в застывшей карусели своей стойки между оскалом камня в аметистовых кристаллах и морским рококо раковин. Ветра нет, воздух тепл, отдает гарью. Море, опоенное и опресненное дождем, тускло оливково; никак не могут вспенится неповоротливые волны. 178 Именно в один из таких дней раскрываюсь, как глаз, посреди города на крутой улице, сразу вбирая все: и прилавок с открытками, и витрину с распятиями, и объявление заезжего цирка, с углом, слизанным со стены, и совсем еще желтую апельсиновую корку на старой, сизой панели, сохранившей там и сям, как сквозь сон, странные следы мозаики. Я этот городок люблю; потому ли, что во впадине его названия мне слышится сахаристо-сырой запах мелкого, темного, самого мятого из цветов, и не в тон, хотя внятное, звучание Ялты; потому ли, что его сонная весна особенно умащивает душу, не знаю; но как я был рад очнуться в нем, и вот шлепать вверх, навстречу ручьям, без шапки, с мокрой головой, в макинтоше, надетом прямо на рубашку!". Рассказчик "раскрывается, как глаз", в центре мира, вбирая все. Первое, что нужно отметить, это обилие подробностей, в том числе – метафорически одушевленных предметов (дома поднимаются с колен, кипарис тянется за ними, далее будут упомянуты "далекое за вуалью воздуха, дух переводящее море" и "ревнивый блеск взъерошенных бутылочных осколков"). Преобладает перечислительная интонация, с обилием пауз. Вместе с тем создается единый колорит (сыро, облачно, тепло, лунный, оливковый), смягчающий дробность деталей. Затем объективного необходимо мира ("я этот подчеркнуть городок субъективность люблю..."), что восприятия проявляется в психологизации пейзажа, а также в переплетении прошлого и настоящего (упоминаются 1910 год и дореволюционная Ялта). Ассоциативность восприятия (многоплановость мышления) обнаруживается также в перекличках звука и смысла (в слове "Фиальта" – и фиалки, и Ялта, что усиливает ощущение свежести, юности и весны). Весь событийный сюжет в этом лирико-психологическом рассказе дан в субъективном переживании (чему способствует и форма перволичного повествования). Проследим, как развивается эмоциональная окрашенность текста. Начинается рассказ с ощущения счастья (люблю, умащивает душу, как рад я), затем – "веселая, добрая", "чудная окраска чувств" (в прошлом), "болезненная жалость" (в настоящем), "упадок душевных сил" в присутствии Фердинанда. Далее говорится о "мнимо легкой жизни", "делалось тревожнее", "попусту тратилось что-то милое, изящное и неповторимое". Герою "тревожно", "запас грусти" растет от "как будто беспечных, но на самом деле безнадежных встреч", "у меня разрывалось сердце". Наконец герой "с невыносимой силой" 179 пережил свое чувство к Нине, и следует признание в любви, после чего воцаряется полная безнадежность и никаких определений чувств больше нет. Драматизм сюжета подчеркивают лейтмотивы. Через весь рассказ проходит как сквозная деталь цирковая афиша (упоминаясь, как правило, в конце описательного абзаца). Именно с фургоном бродячего цирка столкнулся автомобиль Нины. Так веселое представление, беззаботный праздник оборачивается нелепым и жестоким аттракционом Судьбы. Второй сквозной мотав – мотив поезда, вагона, платформы; он связан с темой разлуки, прощания, перемены жизни. О Нине рассказчик говорит: "Как мне была знакома ее зыбкость, нерешительность, спохватки, мелкая дорожная суета! Она всегда или только что приехала, или сейчас уезжала" (554). Повадки и облик Нины напоминают бабочку: "... и ныне она на мгновение осталась стоять, полуобернувшись, натянув тень на шее, обвязанной лимонно-желтым шарфом... и вот уже вскрикнула, подняв руки, играя всеми десятью пальцами в воздухе... и зашагала рядом со мной, вися на мне, прилаживая путем прыжка и глиссады к моему шагу свой...". В образе Нины сосредоточены тепло, красота, нежность, доброта, отзывчивость, чуткость. Она как будто душа Фиальты, она ассоциируется также с музой, с сутью искусства – и она связана "каторжной дружбой" с Фердинандом. Рассказ имеет композиционную форму кольца. В начале и в конце упоминается кладбищенский кипарис, гора св. Георгия, развалины жилого дома. Вместе с тем мотивы, только намеченные в начале, реализуются в конце. Так, рассказчик упоминает "сахаристо-сырой запах мелкого, темного, самого мятого из цветов" в связи с названием городка, а в конце в руках у Нины вдруг появляется букетик фиалок. В начале рассказа отмечен блеск бутылочных осколков, и лишь в конце появляется солнце: "... и внезапно я понял то, чего, видя, не понимал дотоле, почему давеча так сверкала серебряная бумажка, почему дрожал отсвет стакана, почему мерцало море: белое небо над Фиальтой незаметно налилось солнцем, и теперь оно было солнечное сплошь". Весна в Фиальте свершилась, все сбылось (и любовь, и фиалки), и все тут же исчезло: "... и это белое сияние ширилось, ширилось, все растворялось в нем, все исчезало...". Нина словно упорхнула из этого мира, в ней всегда было что-то ускользающе-зыбкое ("Когда мы встречались, – говорит рассказчик, – скорость 180 жизни сразу менялась, атомы перемещались, и мы с ней жили в другом, менее плотном времени"). Итак, в финале рассказа все предчувствия сбываются и все исчезает. Можно по-разному трактовать смысл рассказа. Жизнь Нины, отданная Фердинанду, была основана на лжи, и ее постигло возмездие. Рассказчику не удалось победить неумолимый ход времени (он приехал в Фиальту ночным экспрессом, и он стоит на вокзале в Милане, читая в газете сообщение о смерти Нины). Нина – отголосок прежней, доэмигрантской жизни, а былое счастье бесконечно длить нельзя, начинается другая пора жизни. Наконец, можно сказать, что это рассказ о прелести настоящего, которое вечно обречено между прошлым и будущим; только память способна сохранить его от исчезновения. Во всяком случае, рассказ очень грустный и лиричный. Дело не только в биографической подоснове (как пишет Б. Носик, в рассказе отразилось мимолетное сердечное увлечение Набокова), но и в том, что герои рассказа, соперники, в чей конфликт как-то втянута Нина, оба отражают черты писателя Набокова: и Фердинанд – писатель-модернист, и рассказчик, сентиментальный, добрый, влюбленный в жизнь. Спор между разумом и сердцем, "сделанностью" в искусстве и непосредственностью решается в пользу последнего, но Муза все же ускользает на "небесную родину циркачей". Рассказчик же, чувствующий красоту жизни, все же не писатель. Этот рассказ показывает, что дар, по мнению Набокова, не должен служить злу и, главное, дар дает возможность почувствовать тайну и глубину жизни, некую "потусторонность", прекрасный узор, по канве которого развивается произведение. Положительное решение проблемы личности художника Набоков дает в маленьком рассказе "Тяжелый дым". Герой рассказа, двадцатилетний юноша, испытывает состояние предтворчества: мучительная, раздражающая душу сила, томление, теплый толчок в груди... День самый обыкновенный, не хочется двигаться. Лежа на кушетке, юноша предается праздной игре воображения: из трещин на потолке складывает картину моря и утеса с силуэтом араукарии, по звуку шагов представляет прохожих на улице. Постепенно он погружается в такое состояние, когда человек перестает ощущать свои границы, выходит за свои пределы. Двинуться ему было трудно, "ибо сейчас форма его существа совершенно лишилась отличительных примет и устойчивых границ; его рукой 181 мог быть, например, переулок по ту сторону дома, а позвоночником – хребтообразная туча через все небо с холодком звезд на востоке". И, наконец, состояние "космической синхронизации" разрешается: из-за пустяка юноша заходит в кабинет отца, видит его лицо, фигуру и вдруг понимает, что видит перед собой будущее воспоминание. И тогда рождается стихотворение: "Громадная, живая, вытягивалась и загибалась стихотворная строка; на повороте сладко и жарко зажигалась рифма, и тогда появлялась, как на стене, когда поднимаешься по лестнице со свечой, подвижная тень дальнейших строк". Герой рассказа счастлив, и в последнем абзаце местоимение "он" сменяется на "я": "я верю", "я знаю, что это счастье – лучшее, что есть на земле". Это уже не надрывный крик Смурова, заверяющего других, что он счастлив. Это и не безнадежная грусть героя "Весны в Фиальте". Герой этого рассказа – рыцарь искусства, способный на полную самоотдачу творчеству, он действительно свободен и счастлив. Искусство позволило ему претворить тяжесть реальной жизни в тему для совершенного художественного произведения и сохранить дорогие для него минуты и лица: "воображение – это форма памяти..., и память, и воображение упраздняют время". Наиболее полно концепция личности выразилось в романах Набокова. Не претендуя на сколько-нибудь полное исследование романного творчества писателя, охарактеризуем кратко некоторые произведения, этапные, на наш взгляд, в решении проблемы личности. "МАШЕНЬКА" (1926) Как известно, Набоков называл "Машеньку" той куколкой, из которой впоследствии выпорхнула бабочка его романного творчества. "Машенька" составляет первую часть "берлинского триптиха", включающего также романы "Защита Лужина" и "Дар". Эти три произведения связаны тематически и концептуально, в каждом из них тема творчества связана с темой России, с попыткой обрести вновь "утерянный рай" безоблачного детства. Способы обретения – память и творчество. В центре романа – Лев Глебович Ганин. Хотя по форме преобладает безличное повествование, но весь художественный мир дан в кругозоре одного 182 сознания, сознания главного героя. Так, глава 4 сначала повествует об утре героя (он подскочил с постели, он находил особое удовольствие бриться, он вышел, радостно улыбаясь и т. д.), потом Ганин отдается воспоминаниям ("Он был богом, воссоздающим погибший мир"), и тогда, при описании детской комнаты в усадьбе, появляется неопределенно-личная форма ("Лежишь, плывешь и думаешь о том..."). Пейзаж оттеняет настроение Ганина; часто авторское повествование представляет собой несобственно-прямую речь героя. Главка 3, рисующая берлинскую ночную улицу, сначала содержит авторское описание, затем неоформленный знаками препинания внутренний монолог Ганина, а в конце появляется "ты", объединяющее и автора, и героя, и читателя ("... вдруг, пока мчишься и безумствуешь так, вежливо остановит тебя прохожий и спросит..."). Герой, несомненно, близок автору. Посвящение жене, эпиграф ("...Воспомня прежних лет романы, / Воспомня первую любовь..."), автобиографические штрихи, подаренные герою, придают произведению определенный лиризм. Однако важна и неслиянность, дистанцированность автора от героя. Набоков объективирует свой жизненный опыт, придавая ему типичность и, кроме того, преодолевает его, вынося вне себя. Ганин тоже способен посмотреть на себя со стороны, свое прошлое он видит глазами себя сегодняшнего, отсюда к рассказу о прошлом постоянно примешивается чувство предрешенности, например, первая разлука с Машенькой – символ разлуки будущей, Ганин боится, что "узор" судьбы не сложится во второй раз. Как и во всех романах Набокова, в "Машеньке" присутствует отчетливое двоемирие. Мир реальный, повседневный – это ложный мир, чужбина, пошлость и ложь, разобщенность, призрачность. "Ганин" – фамилия героя по подложному польскому паспорту. Дом, где живут эмигранты, окружен железной дорогой и сотрясается от грохота, как карточный домик. Мебель в комнатах случайно "разбрелась" по комнатам. Хозяйка пансиона напоминала тряпичную куклу. Людмила, с которой у Ганина была связь, изображала из себя принцессу и капризную девочку. Мотивы сна, тени и киносъемки подчеркивают призрачность этой "псевдожизни", которой живут "семь русских потерянных теней", обитателей пансиона. Напротив, мир воспоминаний о России, ее речках, усадьбах, парках и перелесках, гораздо "интенсивнее", рельефнее и пластичнее, чем берлинская 183 повседневность. Сошлемся хотя бы на описание дома в главке 8. Здесь-то и развивается подлинный "роман" – и роман юного Ганина с Машенькой, и роман его жизни. Ограниченность сюжетного пространства и времени (четыре дня) обусловливают драматизм, напряженность переживаний. Как соотносятся эти две реальности? Конечно, они противопоставлены, отражая конфликт мечты и реальности (ср. историю Клары). Однако в композиции романа эти два мира перебивают друг друга, переплетаются. Ведь Ганин в реальности ожидает приезда Машеньки (теперь – жены соседа по пансиону, пошляка Алферова); кроме того, и в историю прежней любви примешивалась пошлость (подглядывающий сын сторожа, оскорбительная надпись на столе в беседке, с переездом в Петербург любовь постепенно сошла на нет и только в новой разлуке вспыхнула). Тем самым ставится под сомнение романтическая суверенность двух миров, автономия идеала от действительности. Главный герой, Ганин, находится в ситуации выбора. Внешне он напоминает романтического героя. Редкая красота Ганина дана в главке 2, в восприятии Клары. Хозяйке он кажется не похожим на других русских. Ганин – очень набоковский герой: молодой, нравственно и физически здоровый и чистоплотный, умный, волевой, добрый и порядочный – и при этом принципиальный индивидуалист. Главка 2 рисует исходное состояние героя (неприятно, противно и скучно, вял и угрюм). Его "томит тоска по новой чужбине". В этой же главке – завязка (Ганин увидел у Алферова фотографию Машеньки и узнал о ее предстоящем приезде). Ганин испытывает прилив энергии, чувство обновления, желание жить. Он порывает постыдные отношения с Людмилой, разрабатывает свой план действий, погружается в воспоминания. Сначала его еще посещают сомнения в успехе предприятия, не удается попытка поделиться сокровенными мыслями с Подтягиным; но в конце главки 5 Ганин полностью переключается в реальность воспоминаний ("я иду к ней"), и главка 6 повествует о первой встрече героев. В главке 15 содержится кульминация, момент наивысшего духовного взлета ("Завтра приезжает вся юность, вся Россия", и наступает неожиданная развязка. Рано утром Ганин едет на вокзал, чтобы встретить Машеньку и увезти ее с собой, но вместо этого он уехал один в поисках "новой чужбины". Ганин "уже чувствовал с беспощадной ясностью, что роман его с 184 Машенькой кончился навсегда. Он длился всего четыре дня, – эти четыре дня были, быть может, счастливейшей порой его жизни. Но теперь он до конца исчерпал свое воспоминанье, до конца насытился им, и образ Машеньки остался вместе с умирающим старым поэтом там, в доме теней, который сам уже стал воспоминанием. И кроме этого образа другой Машеньки нет и быть не может". Борис Аверин считает тему памяти центральной в романе1, заданной уже в эпиграфе. Воспоминание предстает как "собирание личности", восстановление ее духовного ядра. Для этого необходимо "благое одиночество", даже изгнание. Обнаруживая тайные узоры и соответствия, герой высвечивает что-то важное в прошлом и настоящем, восстанавливает единство духовной жизни своего "я". Четыре дня, прожитые в воспоминаниях, воскресили Ганина. Он чувствовал себя снова здоровым, сильным, готовым на всякую борьбу. Ганин понял, что вернуть прошлое буквально – нельзя (в этом его отличие от Чорба). Прошлое изжито, и нужно выбирать новый путь, самому строить новую судьбу. В подтексте романа постоянно звучит вопрос: "Кончено ли с Россией?". Алферов называет Россию "проклятой", говорит, что ее стерли, как губкой надпись с доски. Старый поэт Подтягин томится на чужбине, утверждает, что "Россию надо любить, без нашей любви она погибнет". Сам Ганин сознает, что вернуть Машеньку значит для него вернуть Россию. Финал содержит ответ на вопрос: с прошлым покончено, оно отошло в мир теней. В новом повороте судьбы Ганин чувствовал "прекрасную таинственность". Итак, с героем этого романа мы расстаемся в тот миг, когда от стоит на пороге новой жизни. Будет ли он счастлив в ней или счастье осталось в прошлом навсегда? Различные варианты построения жизни с опорой на самого себя, свой дар и идею "эстетического одиночества" являют герои следующих романов Набокова. "ЗАЩИТА ЛУЖИНА" (1930) 1 Аверин Б. Гений тотального воспоминания: О прозе Набокова // Звезда. 1990. № 4. 185 Герой (см. прямой смысл названия) – гениальный шахматист, уже поэтому – он – явление уникальное. Это герой одной страсти ("мономан"), и, как следствие, он одинок. Герой, находящийся вне семьи, вне друзей, вне этикета, в том числе, речевого, вне родины – он внесоциален. Наконец, дар его – таинственный, необъяснимый. Хотя есть его некоторые генетические предпосылки (дед – музыкант, отец неплохо играл в шахматы, последний замысел его, в целом, очень посредственного писателя, демонстрирует богатство воображения), но все же дар Лужина – чудо. Самому мальчику не ясно, почему так сладко и тревожно ему, когда он впервые увидел шахматы; еще не зная правил, он каким-то образом лучше понимает игру, чем школьные товарищи. Такой герой помещен в ситуацию двоемирия. Но, в отличие от романтизма, во-первых, миру пошлого буржуазного здравого смысла противопоставлен не этически более совершенный мир, а мир субъективных ассоциаций, незаинтересованная игра мысли, грезы, сны, бред. Во-вторых, два мира не только противопоставляются, но и странным образом переплетаются, обнаруживая присутствие сверхреального в обыденном, и взаимоуничтожаются. Дадим кратко характеристику этих двух миров. В первом круге композиции (до 9-й главы, когда Лужин "как будто сплющивался, сплющивался, сплющивался, и потом беззвучно рассеялся"– прообраз физической гибели в конце романа) шахматы предстают как средство защиты героя от грубого материального мира, отчуждающего истинное "Я" в человеке: "Больше всего его поразило то, что с понедельника он будет Лужиным". И далее, на протяжении всего романа, героя называют только по фамилии (даже жена), однокашники называют "Антон", никто не может впоследствии вспомнить его лица. Только в момент смерти героя звучит: "Александр Иванович! Александр Иванович!" – "Но, – завершает автор, – никакого Александра Ивановича не было". Социальный мир (первая реальность) – предельно пошлый. Сцены ревности, адюльтер сопровождают не только образы родителей, но и виртуоза-скрипача. Три лейтмотива характеризуют эту реальность. Мотив рекламы: дважды повторявшиеся картины витрины парикмахерской с завитыми головами трех восковых дам с розовыми ноздрями и немецкого курорта с глиняными бородатыми карлами между клумб, обведенных цветным гравием, пресс-папье с изумрудно-синими, перламутром оживленными видами под выпуклым стеклом в лавках близ источника, с оркестром, играющим попурри из опер. Мотив фальши: 186 псевдорусская аляповатая обстановка в доме тестя, с открытками, изображающими пригорюнившихся боярышень, с лакированными шкатулками и т.п.; теща, называющая самою себя бой-бабой или казаком, – след смутных и извращенных реминисценций из "Войны и мира"; предельно пошлый киносценарий Валентинова; после встречи с Петрищевым целый мир, полный экзотических соблазнов, оказывается обманом хлыща. Мотив механистичности (бездушности): пять куколок-марионеток в испорченном автомате на платформе, вертящиеся двери и др. Напротив, мир шахмат – вторая реальность – таинственный, прекрасный, живой. Лужин любил играть вслепую: "не нужно было иметь дело со зримыми, слышимыми, осязаемыми фигурами, которые своей вычурной резьбой, деревянной своей вещественностью всегда мешали ему, всегда ему казались грубой, земной оболочкой прелестных, незримых шахматных сил. Играя вслепую, он ощущал эти разнообразные силы в первоначальной их чистоте... отчетливо чувствовал, что тот или другой воображаемый квадрат занят определенной сосредоточенной силой, так что движение фигуры представлялось ему как разряд, как удар, как молния, – и все шахматное поле трепетало от напряжения, и над этим напряжением он властвовал, тут собирая, там освобождая электрическую силу". Этот мир подобен музыке: "нежно запела струна", "тихонько наметилась какая-то мелодия", "очаровательная, хрустально – хрупкая комбинация", "музыкальная буря охватила доску. Лужин пытался раздуть ее в громовую гармонию. Все на доске дышало жизнью". Миф о духе музыки как первооснове мира, знакомый по идеям романтиков и символистов, преломляется в сюрреалистической трактовке творческого акта. Так, Ф.Соллерс утверждает: "Внезапно сигнал дан в недрах самой материи – торжественное мгновение, вынуждающее прислушаться эти головы-антенны, темные и послушные. Мгновение вибрации, в которое весь круг поляризуется... Они должны вновь достичь и коснуться биологической точки, где происходят расходования, перемещения, потребления и переходы...". Шахматная игра в романе В.Набокова предстает как частный случай игры мировых сил. Лужин потому гениальный шахматист ("антенна" сверхреальности), что эти силы борьбы и гармонии, вибрации, переходов, напряжения и разрешения он ощущает везде. Отсюда – новизна в психологическом анализе: Набоков исследует не сознание героя (хоть есть и внутренние монологи, и косвенная речь героя), а связь внешних, чувственных восприятий со структурой сознания, т.е. субъективные условия порождения представлений, как бы "тень звука", то 187 еле уловимое, остаточное возбуждение, которое остается в материи (и мозге) после действия какой-либо силы. Сам автор так пояснял замысел одной своей книги: описать, "как одному сумасшедшему постоянно казалось, будто все детали ландшафта и движение неодушевленных предметов – это сложный код, комментарий по его поводу и вся вселенная разговаривает о нем при помощи тайных знаков". Набоков по-своему решает задачу, стоящую перед всем искусством XX века: преодолеть разрыв материального и духовного, индивидуального и всемирного, обнаружить диалектическую связь объективного и субъективного. По-своему искал решение этой проблемы символизм (вспомним "объективный лиризм" А.Блока); с позиций реализма – И.А.Бунин, пейзажи которого, при их почти физической ощутимости, пластичности, передают состояние не только природы, но и воспринимающего ее человека. Однако, если близкая к импрессионизму поэтика передает движение форм объективной реальности, то поэтика В.Набокова воплощает формы движения субъективных ассоциаций, которые одновременно есть "тайные глубины человеческой души, где проходят тени других миров", "тени, сцепляющие нашу форму бытия с другими формами и состояниями, которые мы смутно ощущаем в редкие минуты сверхсознательного восприятия". В романе много описаний. Их поэтика являет структуру "сверхреальности", которой изоморфна структура "второго", духовного мира Лужина. В пейзажах романа важны не формы предметов, не ландшафт, не прочие средства создания иллюзии объективного пространства и времени. Это – воспоминания о прежних зрительных восприятиях, отсюда такие их черты, как фрагментарность, гипертрофия отдельных подробностей, принцип коллажа (например: девочка ест зеленое яблоко, человек в крагах, белый дымок паровоза, мужик колет дрова, отец с веером билетов в руке). Важнейшее свойство описаний – динамизм как основа экспрессии, что очевидно на уровне метафор: тропинки уползли, дорога текла дальше, веранда плывет под шум сада. Траекторию движения глаза передает композиция предметов в пределах одного описания (одного абзаца), например: "Это было и впрямь облегчение... Все лето – быстрое дачное лето, состоящее из трех запахов: сирень, сенокос, сухие листья, – все лето они обсуждали вопрос, когда и как перед ним открыться, и откладывали, откладывали, дотянули до конца августа. Они ходили вокруг него, с опаской суживая круги, но, только он поднимал голову, отец с напускным интересом уже стучал по стеклу барометра, где стрелка 188 всегда стояла на шторм, а мать уплывала куда-то вглубь дома, оставляя все двери открытыми, забывая длинный, неряшливый букет колокольчиков на крышке рояля. Тучная француженка, читавшая ему вслух "Монтекристо" и прерывавшая чтение, чтобы с чувством воскликнуть: "бедный, бедный Дантес!", предлагала его родителям, что сама возьмет быка за рога, хотя быка этого смертельно боялась. Бедный, бедный Дантес не возбуждал в нем участия, и, наблюдая ее воспитательный вздох, он только щурился и терзал резинкой ватманскую бумагу, сторонясь поужаснее нарисовать выпуклость ее бюста". Здесь чередуются разные точки зрения: родителей, мальчика, француженки, снова мальчика. Присутствуют разнородные явления: лето (причем все три месяца), характеры родителей, сломанный барометр, букет на рояле, "Монтекристо" и карикатурный рисунок. Объединяет все ломаная линия, передающая движение глаза мальчика: круги, замирание, длинная линия, уходящая в перспективу, акцент (букет), рывок вперед (француженка с книгой) и ближний план (лист бумаги). В целом – не столько описание обстановки, сколько концентрация, пульсация разнонаправленных сил – знак затишья перед катастрофой (впервые мальчик не будет самим собой, будет играть какую-то социальную роль). Слишком яркие детали в описании как бы мобилизуют воспринимаемое пространство, усиливают какие-то линии, придают им экспрессию: ребенок, весь в красном, на фоне сизого катка, слишком яркие корки апельсина на снегу, комар с рубиновым брюшком на исцарапанной коленке, жук в лесу и красноватые ландышевые листья. Итак, описания не столько дают представление о внешнем, материальном мире, сколько намекают на вторую, духовную реальность (душевное состояние, спрятанные мысли, дьявольскую игру надличных сил). Остается "зазор" между внешней формой и содержанием, напряжение между ними. Этот же принцип действует и при построении сюжета. Набор случайностей, лишенный причинно-следственных связей, все же строго предопределен, должен сойтись в целостную картину, как в складной головоломке. В нелепости чередований эпизодов обнаруживается своя внутренняя логика (не воспроизводящая объективной логики "первой реальности"). Например, глядя на невесту, Лужин "совершенно некстати, но с потрясающей ясностью вспомнил лицо молодой проститутки, с голыми руками, в черных чулках, стоявшей в освещенном проеме двери, в темном переулке, в безымянном городе. И нелепым образом ему показалось, что вот это – она...". 189 Повторяющиеся детали, эпизоды, мотивы образуют прямые и обратные связи в ходе повествования, свои силовые линии, где-то сгущающиеся, где-то разряженные, но живые, пульсирующие. "Смутно любуясь и смутно ужасаясь, он прослеживал, как страшно, как изощренно, как гибко повторялись за это время, ход за ходом образы его детства (и усадьба, и огород, и петербургская тетя)... И мысль, что повторение будет вероятно, продолжаться, была так страшна, что ему хотелось остановить часы жизни...". В организации повествования действуют свои перепады точек зрения на события, переплетение разных субъектов сознания. При внешне-безличной форме повествования субъектом сознания почти постоянно выступает Лужин, и мы привыкаем к его взгляду на мир, к его болезненной логике, что, видимо, и создает ощущение "теплоты" по отношении к герою, своего рода лиризм. Но его сознание "остраняется" точками зрения на него родителей, тещи, жены; есть чисто авторское повествование. Так, один из одноклассников Лужина, "тихоня, получивший лет шесть спустя Георгиевский крест за опаснейшую разведку, а затем потерявший руку в пору гражданских войн, стараясь вспомнить, (в двадцатых годах сего века), каким был в школе Лужин, не мог себе его представить иначе, как со спины... Он старался забежать вперед, заглянуть ему в лицо, но тот особый снег забвения, снег безмолвный и обильный, сплошной белой мутью застилал воспоминания". Такое переплетение интимно-личного и внеличного взгляда на мир тоже создает свою зыбкость, свои перепады, свою геометрию временных планов видения. И сам необычный Лужин – как брошенный камень, всколыхнувший болото пошлой повседневности, порождающий волны, круги в мире "первой реальности". Однако попытка совмещения идеального и материального, субъективного и объективного не протягивает нить от самых глубин "Я" к космосу (сверхреальности) и обратно, а доказывает их несовместимость. Аналогичное взаимопереплетение реального и ирреального дает герою не чувство гармонии, а ощущение бреда, смертельной опасности. Ни дух, ни плоть не являются надежной защитой. Жизнь в мире шахмат закончилась потерей разума; второй круг композиции, раскрывающий попытку построить жизнь в плоскости "первой", социальной реальности, заканчивается тем же. Исход фатально предрешен. Ни социальная, ни духовная реальность не является совершенной. О пошлости первой мы говорили выше. Но не дает гармонии и вторая. Дар Лужина оказывается ущербным. Лужин устал, в последние годы 190 ему не везло на турнирах, возникла призрачная преграда, которая мешала быть первым. "Смерть отца явилась ему как вешка, по которой он с некоторым содроганием увидел, как медленно он последнее время шел...". Он пытается максимальным напряжением мысли идти вперед, добиться гармонии, но это ему не удается. Говорят о прозрачности и легкости лужинской мысли, а он думает тяжело, напряженно. Шахматная гармония непрочна ("валкая вещь эти шахматы" – дважды звучит в романе), вместо гармонии – спутанные фигуры валяются на доске безобразными кучками, их убирают быстро в маленький гроб, "холодно и темновато" герою. Переплетение двух реальностей ведет к раздвоению личности, к галлюцинациям, почти трагикомическому бреду, к путанице в "узком" пространстве времени (не может найти дверь, не ориентируется в городе, опаздывает на турнир) и в более широком (Германия и Россия, настоящее и далекое прошлое). Лужин – не властелин, а раб "сверхреальности": "Увидел он и мост, а на том берегу смутное нагромождение, и сперва, на один миг ему показалось, что вон там, на темном небе, знакомая треугольная крыша усадьбы, черный громоотвод. Но сразу он понял, что это какая-то тонкая уловка со стороны шахматных богов" – мост был не тот. Долго искал Лужин тот мост, перешел на другой берег, но и там все было незнакомо: "пробегали огни, скользили тени. Он знал, что усадьба где-то тут, под боком, но подходил-то он к ней с незнакомой стороны, и так это было все трудно... Ноги от пяток до бедер были плотно налиты свинцом, как налито свинцом основание шахматной фигуры...". Мозаика эпизодов дважды складывается в строго пригнанную картину. Такая композиция предполагает авторский замысел, предшествующий созданию произведения. Замысел же в свою очередь вытекает из определенной авторской позиции, не тождественной позиции героя, из авторской концепции мира и человека. Традиционная фабульная схема (рассказ о родителях, о детстве, о женитьбе, о смерти героя), легко вычленяемые завязка, кульминация, развязка заставляют искать определенный образ мира в произведении. Наконец, наличие в романе обстоятельств и характеров (портреты, речь персонажей индивидуально характерны, например: "вечерняя замшевая походка отца") соотносит это произведение с реалистической традицией (А.Чехов "Черный монах", Л.Андреев "Большой шлем" и др.), и, следовательно, побуждает читателя искать причинно-следственные связи человека и мира. Все 191 нелогичное, ирреальное в ощущениях Лужина психологически мотивировано (в первую очередь, переутомлением). Но есть и более глубокие причины. Счастья – почти "физиологического ощущения гармонии" – не дают Лужину ни "первая", ни "вторая" реальность. Но счастье, гармония с миром были у героя – в "третьей" реальности, в дошахматном детстве, о котором он вспоминает с "обморочным восторгом". Теряя рассудок, Лужин ищет в Германии ту речку, тот мост и ту усадьбу, где можно спрятаться, пересидеть, как мечтал он в детстве. "Дошкольное, дошахматное детство... оказывалось ныне удивительно безопасным местом". Детство, неразрывно связанное с Россией, предстает как третий вариант защиты героя. "Больше десяти лет он не был в русском доме", и потому в доме невесты, где "бойко подавалась цветистая Россия", ему было "так легко и уютно". В гостях у невесты, когда Лужину все представляется сновидением, он отмечает: "Но самым замечательным в этом сне было то, что кругом, по-видимому, Россия, из которой сам спящий давненько выехал. Жители сна, веселые люди, пившие чай, разговаривали порусски, и сахарница была точь-в-точь такая же, как та, из которой он черпал сахарную пудру на веранде в летний малиновый вечер много лет тому назад. Это возвращение в Россию отметил Лужин с интересом, с удовольствием". Затем новое жилище подарит ему ощущение петербургской квартиры, процедура венчания вызовет воспоминания о пасхах, праздновавшихся в детстве и т.д., причем эти картины проникнуты живым динамизмом, например: "... помнил ночные вербные возвращения со свечкой, метавшейся в руках, ошалевшей от того, что вынесли ее из теплой церкви в неизвестную ночь...". Очнувшись после болезни, Лужин видит в больничном окне повторение вида из усадьбы: "В этой голубизне блестела мелкая, желтая листва, бросая пятнистую тень на белый ствол, скрытый пониже темно-зеленой лапищей елки"; и сразу это видение наполнилось жизнью, затрепетали листья, поползли пятна света по стволу, колыхнулась "зеленая лапа". Этот динамизм переливается и в героя: "светлое колыхание осталось под веками". "Голубой блеск русской осени" живителен. Именно с детством и с Россией связаны наиболее гармоничные состояния. Не случайно природа в чужих странах либо не изображается (ее заменяют улицы, кафе или декоративная зелень), либо она мертва. Так, в момент объяснения с матерью невесты: "Был неподвижный августовский вечер, великолепный закат, как до конца выжатый, до конца истерзанный апельсин – королек". 192 Таким образом, можно предположить, что распад гармонии героя с миром связан с потерей родины, Лужин "точно заблудился в дурном сне". Трудно сказать, насколько осознанной автором была такая позиция; возможно, она возникает лишь у читателя. Сам автор признавался, что его "тоска по родине лишь своеобразная гипертрофия тоски по утраченному детству". Вместе с тем характерно, что детство – не абстрактная мифологема" естественного состояния человека, а прочно связано с Россией: "Россия моего детства". Удельный вес "третьей реальности" (детства и родины) в романе очень велик. Однако, во-первых, этот мир – невозвратим, а, во-вторых, его гармония – это гармония еще не развившихся противоречий, ибо в дошахматном детстве истинный духовный дар героя еще спал. Все три реальности оказываются не идеальными, все три не дают герою возможности существовать. В романе складывается ситуация фатальной обреченности, незащищенности и одиночества гениального человека. Лужину представляется, что лучшая защита – совсем выйти из игры. "Квадратная", "черная" ночь, ледяная бездна, распадающаяся на бледные и темные квадраты – заключительный образ произведения. Лужину не удалась "защита". Не совладав со своим даром, он оказался раздавленным собственной гениальностью. Овладеть своим даром, реализовать его в творчестве, счастливо выстроить свою жизнь удалось герою романа "Дар". Игорь Сухих даже называет это произведение самым классическим романом Набокова, полным радости, благодарности жизни.1 Правда, некоторые критики полагают, что преуспевающий в борьбе с пошлостью герой романа "Дар" сам становится пошлым и самодовольным. Наконец, далеко не все исследователи считают этот роман безоблачно-оптимистичным. "ДАР" (1937) "Дар" – это роман о романе. В.Е. Александров показывает, что Федор Годунов-Чердынцев как автор создает структуру, в которую вписывается сам как персонаж2. Дар как бы воспроизводит сам себя: как роман, где герой есть одновременно автор3. 1 Сухих И. Поэт в зеркалах // Звезда. 1990. № 4. Александров В.Е. Набоков и потусторонность. СПб., 1999. С. 145. 3 Там же. С. 156. 2 193 В романе "Дар" совмещены два композиционных принципа. Поступательное движение фабулы, стихия описательности связаны с событиями трех с половиной лет из жизни Федора Годунова-Чердынцева. Герой ощущает историю своего дара и своей любви как устремленную вперед "линию", говоря в конце романа Зине о "работе судьбы". Финал разомкнут в будущее: "продленный призрак бытия синеет за чертой страницы, как завтрашние облака, – и не кончается строка". Вместе с тем композиция самого текста не динамична, она развернута в пространственный узор и выявляет не причинно-следственную связь событий во времени, а искусно сложенную мозаику компонентов художественного мира. Не стремясь к всестороннему анализу произведения, попытаемся выявить содержательный потенциал такого композиционного противостояния времени и пространства. Главный герой – молодой поэт-романтик Федор Годунов-Чердынцев. В соответствии с традициями романтизма герой представляет собой центр художественного мира, данного в его субъективном восприятии. Форма повествования от "я", отсутствие портрета, данного со стороны (внешность героя обрисована в романе как автопортрет: Годунов-Чердынцев рассматривает свое отражение в зеркале), создают исповедальный тон произведения. Система персонажей сгруппирована по отношению к главному герою: ГодуновЧердынцев одинок, остальные герои – средство его самораскрытия, своего рода система зеркал (прямых или переворачивающих, контрастных). Сознание героя двухуровнево. В обыденной жизни он руководствуется "местным сознанием", содержание которого ничтожно (бытовые неудобства, маленькие хитрости с экономией денег на трамвайных билетах, порез во время бритья). "Главный" же и, "в сущности, единственно важный, Федор Константинович" – герой одной страсти, своего поэтического воображения. Соответственно и окружение героя (его "среда") разноуровнево: мир поэзии (природа, Россия, отец, любовь) и мир пошлой житейской прозы. Самораскрытие героя – это демонстрация богатств его дара. Федор Константинович прежде всего автор, поэт (это первое, самое явное значение названия). Собственная жизнь для него – тема для "замечательного романа". Он и о себе нередко говорит в третьем лице. Первый же абзац романа стилизован под традиционно-литературное повествование ("облачным, но светлым днем, в исходе четвертого часа, первого апреля 192…"), содержит развернутые периоды, сложный синтаксис (что создает неторопливо-описательный тон), 194 необычные метафоры (трактор с "гипертрофией задних колес и более чем откровенной анатомией", "звезда вентилятора "на лбу фургона). В первой главе даны стихотворения Годунова-Чердынцева и переживания его по поводу выхода первой книжки. Улица воспринимается им как "эпистолярный роман", так как начинается почтамтом и кончается церковью. В чемоданах у него "больше черновиков, чем белья". Стихия писательства пронизывает весь роман (стихи, вставные новеллы об отце и Н.Г.Чернышевском) вплоть до его финала (рассуждения о будущей книге, стихи). Итак, главное в герое – дар, "который он как бремя чувствовал в себе". В чем суть его дара? Первая составляющая – чувство слова, его звучания. Так, в начале романа герой размышляет: слово "признан" повлекло за собой "отчизна", "за чистый и крылатый дар" – "искры", "латы" – "римлянин". В конце романа; "на грани сознания и сна всякий словесный брак, блестя и звеня, вылез наружу; хрустальный хруст той ночи христианской под хризолитовой звездой побежала дальше рябь рифмы: и умер врач зубной Шполянский, астраханский, ханский, сломал наш Ганский" – "ад аллигаторских аллитераций", "адские кооперативы слов". Слова ассоциируются по звучанию – это принцип музыкальной поэзии его любимого Фета и символистов. Изощренность слуха, внимание к отдельным мельчайшим граням проявляются у Годунова-Чердынцева не только по отношению к словам. Вторая составляющая его дара, делающая его жизнерадостным и многоцветным, как радуга, – свежесть (детскость) и утонченность чувства живой жизни. В этом смысле его дар родствен опять же Фету и, в большей степени, И.А.Бунину, его лирической прозе 90-х годов. Бунин – живописец искал в красках природы "любовь и радость бытия". О стихах Годунова-Чердынцева воображаемый рецензент (то есть авторецензент) пишет, что "живопись, а не литература с детства обещалась ему". Федор Годунов посвящает краскам стихотворение ("Фарфоровые соты синий, зеленый, красный мед хранят"), разговаривает о цветных карандашах, доставлявших такое удовольствие в детстве, с Зиной. Акварельны пейзажи: сад, "извне отороченный папоротником, снутри пышно подбитый жимолостью и жасмином, там омраченный хвоей елей, тут озаренный листвой берез, громадный, густой и многодорожный, он весь держался на равновесии солнца и тени, которые от ночи до ночи образовали переменную, но в своей переменности одному ему принадлежащую гармонию. Если на аллее, под ногами, колебались кольца горячего света, то вдалеке непременно протягивалась поперек толстая бархатная полоса, за ней опять – оранжевое 195 решето, а уж дальше, в самой глуби, густела живая чернота, которая при передаче удовлетворяла глаз акварелиста лишь покуда краски были еще мокры, так что приходилось накладывать слой за слоем, чтобы удержать красоту, – тут же умиравшую". Годунов-Чердынцев передает неповторимый миг жизни, игру света и тени, блики, оттенки-то, что сохраняют картины импрессионистов. Зрение и слух слиты ("омраченный хвоей елей", "озаренный берез", "оранжевое решето", "если на аллее"). Сам герой говорит о присущем ему цветном слухе, синестезии. Однако в этой тонкости ощущений есть что-то болезненное: "картинная ясность подозрительна, как яркость снов в неурочное время дня или после снотворного". Близка мироощущению Годунова-Чердынцева живопись художника Романова – "странная, прекрасная, а все же ядовитая". Игра воображения "несбыточно ярка". В детстве у героя был случай ясновидения – после тяжелой болезни. Вообще для дара благоприятны состояния грезы, сна, "первосонья", то есть выключенности из обыденной жизни с ее здравым смыслом. Дар кажется болезненным для обыденного сознания, для сознания же поэтического он – "высший предел человеческого здоровья". Дар внерассудочен, интуитивен. Засыпая, Годунов-Чердынцев чувствовал, что стихи в нем "дергались жадной жизнью", "завладели им, заполонили голову божественным жужжаньем", и он "предался" всем требованиям вдохновения. Родился стих, и только потом, перечитав его, поэт понял, что в нем есть какой-то смысл, "с интересом проследил его и одобрил". Интуитивность дара не означает его аморфности. Напротив, он подчинен строгой дисциплине мысли, но не однолинейной, "условно-понятной связи обыкновенных дней", а многоплановой: "смотришь на человека и видишь его так хрустально ясно, словно сам только что выдул его, а вместе с тем нисколько ясности не мешая, замечаешь побочную мелочь – как похожа тень телефонной трубки на огромного, слегка подмятого муравья и (все это одновременно) загибается третья мысль – воспоминание о каком-нибудь солнечном вечере на русском полустанке, то есть о чем-то не имеющем никакого разумного отношения к разговору, который ведешь, обегая снаружи каждое свое слово, а снутри – каждое слово собеседника". Здесь сосуществуют одновременно, "загибаются" в пространственный узор самые разнородные явления. (Многоплановость ассоциативного мышления отдельной личности контрастно подчеркнута эпиграфом с его общепринятой однозначностью определений.) 196 Объединяет явления не логика действительности, а субъективное видение, нащупывающее внутренний ритм жизни. Чувство пространственного ритма – третья составляющая дара Годунова-Чердынцева. Не случайно его увлечение шахматной композицией, позволяющей овладеть ритмом силовых линий поля. Герой выводит "роение ритма", "средний ритм для улиц данного города". На ритмичном чередовании света и тени держится гармония сада. "Ритм пушкинского века" мешается с "ритмом жизни отца", а "прозрачный ритм "Арзрума" с ритмом его прозы; "Да, я мечтал произвести такую прозу, где бы "мысль и музыка сошлись, как во сне складки жизни". Что дает герою это чувство ритма? Оно позволяет ему преодолеть "гибельное несовершенство мира", уйти от него в сферу искусства или в некий прамир" – "дивный, хотя и не совсем понятный, но благожелательный". Это мир "недовоплотившихся теней", "обратное ничто", "мир вещих предсказаний, предчувствий, таинственных комбинаций". Ощущение странности человеческой жизни объясняется тем, что она – "не что иное, как изнанка великолепной ткани, с постепенным ростом и оживлением невидимых образов на ее лицевой стороне". Чувство ритма, объединяющее здешний мир с миром высшим, дает перспективу плоской действительности: "я домогаюсь далей, я ищу за рогатками (слов, чувств, мира) бесконечность, где сходится все, все", что подчеркнуто контрастом с эпиграфом, ибо "определение есть предел" (там же). Причем этот "прамир", это "что-то", что "скрывается за всем" земным, благожелательно к герою, дает ему радость, дает жизнь, за которую хочется благодарить (там же). Такое ощущение мира здешнего как "изнанки" прамира свойственно романтикам от В.Жуковского ("Невыразимое") до Вл.Соловьева ("Милый друг, иль ты не видишь") и символистов. Образец внутренней свободы и артистизма для Федора Годунова-Чердынцева – его отец: "его живая мужественность, непреклонность и независимость, холод и жар его личности, власть над всем, за что он ни брался". Повествование об отце – вторая книга Федора Годунова, написанная в "ритмах пушкинской прозы". Первая его книга – стихи, отчасти напоминающая "золотой век русской поэзии". А. Долинин обратил внимание на то, что стихотворение "Благодарю тебя, отчизна" из первой главы "Дара" соответствует 45 строфе из VI главы "Евгения Онегина" ("Так, полдень мой настал…"). Заметны переклички на лексическом, синтаксическом, интонационном уровнях. Это лирическое отступление Пушкина следует сразу после рассказа о гибели Ленского; 197 стихотворение Федора – после рассказа о гибели Яши Чернышевского. Пушкин прощается с молодостью и собственной ранней поэзией ("Лета к суровой прозе клонят"), а Федор завершает ранний этап своего художнического развития1. Отец – человек разносторонне одаренный, с "вольной сноровкой" во всем: энтомологии, спорте, политике, с ровным характером, выдержкой, сильной волей, ярким юмором (там же). Главное же – та "дымка, тайна, загадочная недоговоренность", которая чувствовалась за его ясной и прямой силой. С отцом Годунов-Чердынцев внутренне сливается, когда представляет себе далекие экспедиции в поисках редких бабочек. Отец – это тот идеал, к которому стремится сын. Из теперешнего окружения Годунова-Чердынцева особо ценимы им только Кончеев и Зина, первый – за поэтический талант, вторая – за независимость характера и тонкость восприятий, "гибчайшую память". Менее полно отражают личность главного героя другие персонажи, находящиеся на периферии его окружения. Так, Александра Яковлевна Чернышевская способна испытать своего рода восторг, вдохновение, "живительную страсть", когда вспоминает умершего сына. Сам Яша оттеняет главного героя какой-то странной, неплотской страстью к душе друга и т.д. В целом же Годунов-Чердынцев одинок и ценит свое одиночество, так как оно дает "чудный благотворительный контраст" между его "внутренним обыкновением и страшно холодным миром вокруг". В такой романтической отгороженности от реальности есть свои положительные стороны. Молодой поэт отторгает пошлость немецкого уклада жизни: макет крематория в витрине похоронного бюро, выполненный с "немецкой соблазнительностью", кукольный механизм проституток на вечерней, уродливые тела отдыхающих на берегу озера в Груневальде. Федор Константинович отчетливо знал, за что ненавидит немца: "за низкий лоб, за эти бледные глаза, за любовь к частоколу, ряду, заурядности; за культ конторы, за то, что если прислушаться, что у него говорится внутри (или к любому разговору на улице), неизбежно услышишь цифры, деньги; за дубовый юмор и пипифаксовый смех, за толщину задов у обоего пола, за отсутствие брезгливости, за видимость чистоты – блеск кастрюльных днищ на кухне и варварскую грязь ванных комнат; за склонность к мелким гадостям, за жестокость во всем". Не менее оскорбительна для героя и пошлость его соотечественников, писателей-эмигрантов, Щеголева и т.п. 1 Долинин А. Три заметки о романе Владимира Набокова "Дар". // Владимир 198 Равнодушие к политике, позиция неучастия в ней дают герою иммунитет против фашизма, милитаризма, диктатуры (и его отец во время первой мировой войны не поддался шовинистическому угару, не пошел добровольцем на фронт, но ездил тайно в Швейцарию для встречи с такими же энтузиастамиэнтомологами, как он). Для Годунова-Чердынцева политика – это "дурацкое чередование пактов, конфликтов, обострений, трений, расхождений, падений, перерождений". Его идеал общественного устройства представляет собой романтический "мир, где каждый сам по себе, и нет равенства, и нет властей". Он не приемлет государственный праздник в Берлине, но уравнивает его с тем, что происходит и в СССР: "Вдруг он представил себе казенные фестивали в России, долгополых солдат, культ скул, исполинский плакат с орущим общим местом в пиджачке и кепке, и среди грома глупости, литавров скуки, рабьих великолепий, – маленький ярмарочный писк грошовой истины". Для героя это – "повторение Ходынки, с гостинцами – во какими, и прекрасно организованным увозом трупов" (там же). Истоки трагедии России Годунов-Чердынцев видит в деятельности революционеров-демократов 60-х годов XIX века. Контрастом к повествованию об отце дана книга о Н.Г.Чернышевском. Поводом к написанию книги послужило для героя совпадение фамилий шестидесятника и одного из эмигрантов либеральной складки, Александра Яковлевича. Затем ему попался этюд Чернышевского в шахматном журнале. Более глубокая причина – "опасное желание" "в чем-то признаться" России и "в чем-то ее убедить. Годунов-Чердынцев не стремится воспроизвести жизненно – правдивый образ Н.Г.Чернышевского, книга задумана им "на краю пародии". Он пробирается по "узкому хребту между своей правдой и карикатурой на нее". Важнее всего для героя эстетическая задача: "очистить мое яблоко одной полосой, не отнимая ножа" (там же). Не историческая правда, а какая-то своя, личная правда Годунова-Чердынцева должна была выразиться в жизнеописании, имеющем форму кольца". Образ Чернышевского, созданный Годуновым-Чердынцевым, попадая в систему персонажей романа, организованную как ряд зеркал, выявляет сущность самого пишущего. Традиционный образ искусства – зеркала имеет у героя подчеркнуто субъективный смысл: однажды Федор Константинович увидел, как из фургона выгружали "зеркальный шкап, по которому, как по Набоков: Pro et contra. СПб., 1997. 199 экрану, прошло безупречно ясное отражение ветвей, скользя и качаясь не подревесному, а с человеческим колебанием, обусловленным природой тех, кто нес это небо, эти ветви, этот скользящий фасад". Книга о Чернышевском, при "ясности" фактов, дает их произвольное истолкование и сочетание, обусловленное "природой" автора. Жизнеописание Чернышевского оттеняет уже знакомые черты ГодуноваЧердынцева. Так, если Чернышевский – разночинец-демократ, то ГодуновЧердынцев – дворянин по роду и по духу (с гордостью повествует он о своих предках). В отличие от материалиста Чернышевского, Федор Константинович устремлен к миру идеальному. Герой романа, вопреки тезису Чернышевского об определяющем значении среды, отстаивает активность субъекта, его автономию от пошлой действительности. Рационализму Чернышевского противостоит интуитивизм романтика, целеустремленности просветителя-демократа – не заинтересованная в житейской пользе игра воображения поэта. Этика "разумного эгоизма" ("одинокого индивидуалиста-художника. счастья Особую нет") неприязнь отвергается позицией Годунова-Чердынцева вызывает эстетика Чернышевского. (Его политическую деятельность как оппозиционную режиму он склонен признать: такие люди, как Чернышевский, "были действительными героями в своей борьбе с государственным порядком вещей, еще более тлетворным и пошлым, чем их литературно – критические домыслы, либералы или славянофилы, рисковавшие меньшим, стоили тем самым меньше этих железных забияк"). Примату Чернышевского содержания (мысли) Годунов-Чердынцев над формой противопоставляет в произведениях изысканную и отточенную композицию своей книги. Эта форма дорога автору, так как именно через нее выявляется его собственная личность. (Иронически относясь к рецензиям на свою книгу, обвинявшим его в искажении фактов, равнодушии к тревогам современности, в антиисторизме, в дешевом либерализме, антисоветизме, Годунов-Чердынцев обсуждает в воображаемой беседе с Кончеевым именно эстетические достоинства и недостатки книги.) Содержание книги намеренно неоднозначно. Как писал Анучин, профессор Пражского университета, у автора нет определенных партийных идей, его точка зрения – "всюду и нигде". Кончеев обратил внимание на то, что пародия в книге становится иногда настоящей серьезной мыслью. Однажды Годунов-Чердынцев объяснил свое намерение писать книгу о Чернышевском "упражнением в стрельбе", на что один из собеседников заметил: "Ответ по меньшей мере загадочный" (там же). Если 200 учитывать важность формы жизнеописания, то можно увидеть в этом ответе не только прямой смысл (сатира на Чернышевского), но и смысл, возникающий из сопоставления с эпизодом, открывающим главу об отце (глава 2-я). Федор Константинович вспоминает столб с доской в их усадьбе с сохранившимися следами пуль: это отец "мгновенно-быстро" семью выстрелами из браунинга выбил ровное К. Так и в композиции "Жизни Чернышевского" как бы отпечаталась частица ее автора. Ломка привычного взгляда на жизнь Чернышевского заключается не в нападках на идеи революционера-демократа и не в снижении его личности (такое было еще в XIX веке, например, со стороны либералов). Годунов-Чердынцев кольцевой композицией книги отвергает представление о жизненном подвиге Чернышевского как имеющем огромное значение для развития революционной мысли в России. В книге Годунова-Чердынцева на первом плане оказывается тема развеянных иллюзий, тема рокового обмана судьбы. Чернышевский достиг совсем не того, к чему стремился. Он оказался выключенным из Чернышевский не активной принял общественной нового, жизни, "пролетарского", был забыт, этапа в отстал. развитии освободительного движения (из страниц "Капитала" Маркса делает кораблики – эта деталь почти символ), но и его не приняли новые борцы (на похоронах Чернышевского рабочие бьют студентов, думая, что эти духовные дети шестидесятников – шпики). Еще более извращены идеи Н.Г.Чернышевского у эмигрантов, считающих себя его преемниками (не случайна та же фамилия). Тема обманутости постоянно сопутствует образу Н.Г.Чернышевского в книге: обманут женой, другом (Добролюбовым), обманут в надеждах на сына, обманута мысль (его кропотливый перевод энциклопедии неверен и запоздал). Очевидно, эта тема близка Годунову-Чердынцеву: здесь "пародия" переходит в серьезную мысль. По поводу сумасшествия своего знакомого, эмигранта Александра Яковлевича, Федор Константинович "тревожно думал о том, что несчастье Чернышевских является как бы издевательской вариацией на тему его собственного, пронзенного надеждой горя", – и лишь гораздо позднее (после написания книги?) "он понял – всю безупречную композиционную стройность, с которой включалось в его жизнь это побочное звучание" (там же). Книга о Н.Г.Чернышевском – главное дело Годунова-Чердынцева за те три с лишним года, о которых идет речь в романе. Это тот поступок, в котором реализовался его дар. Поэтому тема обманутости судьбой характеризует и личность самого Годунова-Чердынцева. 201 Повествование о жизни Н.Г.Чернышевского, помещенное в центр романа и композиционно состыкованное с рассказом об отце, а затем – о счастливом завершении отношений с Зиной, акцентирует и в этих частях тему обманутости. Выше мы отмечали, что дар Годунова-Чердынцева связан с четырьмя сферами: природа, Россия, любовь, память об отце. Книга об отце осталась ненаписанной. Надежда матери и сына на то, что отец жив – мираж, самообман. Отец возвращается, но только во сне Федора Константиновича. Рассказ об отце начинается с воспоминания о радуге (может быть, только воображенной, а не виденной реально в детстве), миражной и быстротечной ("она уже бледнела"). В радуге однажды на мгновение очутился отец во время одной из экспедиций. И сейчас он на какой-то миг ожил в "цветном воздухе" памяти сына. "Я вижу", "так я это вижу" (то есть воображаю) – сопровождает отца незримый подростоксын. Соответственно меняется форма повествования: "он" – "мы" – "я". Сын отождествляется с отцом. И как бесследно исчезает радуга, как хрупка красота бабочки, так бесследно пропал и отец, что бросает тревожный отсвет на судьбу сына. Обман, мираж царят в природе. Большая часть пейзажей – воспоминания, а не непосредственное восприятие природы героем, и поэтому возникает ощущение их призрачности. Оно усиливается композиционной спаянностью с пошлой берлинской действительностью, своего рода композиционным алогизмом. Так, во 2-й главе: летний, залитый солнцем сад превращается в зимний, а затем – в слякоть берлинской мостовой. Очень "вещно", с научной точностью описанная природа – сама по себе обманщица: "ничего нет более обворожительно-божественного в природе, чем ее вспыхивающий в неожиданнейших местах остроумный обман"; "Все самое очаровательное в природе и в искусстве основано на обмане". Отец однажды видел в пустыне мираж такой правдоподобный, что в кажущемся озере отражались настоящие скалы. Годунову-Чердынцеву представляется, что он победил обманчивость жизни, овладел ее ритмами и побочными ходами. Он научился видеть их в природе, воспроизводить их в своих шахматных и литературных композициях. Он счастлив в любви. Крепнет его дар. Все это – преддверие счастливого будущего, залог возвращения в Россию. К финалу романа элегический настрой героя сменяется более мажорным, оптимистическим. Однако в самом конце, в момент почти осуществившегося счастья героя, читатель узнает, что ГодуновЧердынцев обманывается: у влюбленных нет ключей от квартиры. Тема ключей 202 задана в 1-й главе романа ("Да захватил ли я ключи?" – вдруг подумал Федор Константинович, остановившись и опустив руку в карман макинтоша"; "Отыскав свой подъезд, он достал ключи. Ни один из них двери не отпер") и завершает его ("Мне-то, конечно, легче, чем другому, жить вне России, потому что я наверняка знаю, что вернусь, – во-первых, потому что увез с собой от нее ключи"); "а ключи Федора Константиновича неизвестно где разгуливали". Федор Константинович ждет, что ключи принесет Зина (там же), а она, в свою очередь, уверена, что дверь откроет Годунов-Чердынцев. Композиционное кольцо в данном случае подчеркивает тему бездомности и тему неисполнимости желаний. Такая ситуация – близость счастья и его недостижимость – знакома нам по эмигрантским новеллам И.А.Бунина (например, "В Париже"). Финал высвечивает черты миражности жизни героя, которые ранее казались побочными, второстепенными. Так, ясность воображаемых картин до мелочей, до сосновой иголочки, сочетается с зыбкостью реальных ощущений: Федор Константинович то ли пишет письмо матери, то ли мысленно беседует с ней; послал письмо сестре Тане, но не уверен, что правильно написал адрес. (Вспоминается герой чеховского "Черного монаха", Андрей Коврин, талант которого был обратной стороной больного воображения и который перед смертью, в Крыму, "звал Таню, звал большой сад с роскошными цветами, обрызганными росой, свою молодость, смелость, радость, звал жизнь, которая была так прекрасна".) С темой изгнания в романе связаны образы Н.Г.Чернышевского, Герцена, теперешних эмигрантов. Наконец, трагизм человеческой жизни подчеркивается темой гибели: исчезает отец, умирает Н.Г.Чернышевский, гибнет Яша, сын Александра Яковлевича Чернышевского, который также затем умирает. Эта тема заявлена в эпиграфе: "Дуб – дерево. Роза – цветок. Олень – животное. Воробей – птица. Россия – наше отечество. Смерть неизбежна. П.Смирновский. Учебник русской грамматики". Финал романа возвращает к его началу. Так, в конце Федор Константинович говорит Зине о замысле своего романа, а в начале 1-й главы: "Вот как бы по старинке начать какую-нибудь толстую штуку, – подумалось мельком с беспечной иронией – совершенно, впрочем, излишнею, потому что кто-то внутри него, за него, помимо него, все это уже принял, записал и припрятал". Здесь несколько смыслов; во-первых, Годунов-Чердынцев как романтик верит, что "воплощение замысла существует уже в некоем другом мире"; во-вторых, автор (В.Набоков) отделяется от героя; наконец, если 203 Годунов-Чердынцев уверен, что его вела судьба вперед, то автор круговой композицией показывает, что судьба кружила героя – круг его жизни замкнулся. Роман уже написан. Возникает ощущение самозамкнутости: так Федор Константинович воспринимал свою первую книгу стихов ("...нынешний обман не исключал завтрашней или послезавтрашней награды, но каким-то образом он пресытился мечтой, и теперь книга лежала на столе, вся в себе заключенная, собою ограниченная и законченная и уже не изливалась могучими, радостными лучами, как прежде"). Кольцо возврата, означающее, как известно, Вечность у символистов (например, 3-я симфония А.Белого "Возврат") и заимствованная, в свою очередь, у Ницше, воплощает в данном случае не бесконечный ход времени, а его отсутствие, полную статику. Выше отмечалось, что ГодуновЧердынцев тонко чувствует ритм – но не во времени, а в пространстве. При последней встрече с матерью Федор Константинович чувствует, как "прошлый свет догнал настоящее, пропитал его до насыщения, и все стало таким, каким бывало в этом же Берлине три года назад, как бывало когда-то в России, как бывало и будет всегда". "Наиболее заманчивое для меня мнение, – формулирует герой, – что времени нет, что все есть некое настоящее, которое, как сияние, находится вне нашей слепоты". Так в романе фабульное содержание (герой устремлен в будущее) ставится под сомнение тем смыслом, который воплощает круговая композиция. Вероятно, роман допускает несколько трактовок. Конечно, мы видим, что дар Федора Годунова крепнет, вобрав в себя лучшие достижения классической русской литературы; герой обретает и личное счастье. Прав и В. Александров, подчеркивая способность Федора к "космической синхронизации", позволяющую ему проникнуть в тайное измерение мира, обнаружить за частностями – всеохватывающее единство. И все же некоторая тревога не исчезает. Джейн Грейсон сообщает о содержании черновых набросков автора к окончанию "Дара". Предполагаемый финал весьма мрачен: Зина погибает в автомобильной катастрофе, Федор уезжает на Ривьеру, переживает чувство личного тупика. Это чувство личного краха усугубляется политической трагедией Второй мировой войны1. Происходит тот процесс, который Л.С.Выготский назвал "эффектом противочувствования", когда "форма воюет с содержанием, уничтожает его". 1 Грейсон Дж. Метфморфозы "Дара". // Владимир Набоков: Pro et contra. С. 590635. 204 Всеведущий автор отделяется от героя и неожиданно вносится трезво-реалистическая и трагическая нота; жизнь оказывается "выше" искусства, дар на чужбине вынужден питаться самим собой и иссякнуть. Однако как только мы сознаем присутствие автора – В.Набокова, мы снова соотносим его с героем, то есть соотносим реальность художественную с реальностью действительной жизни (размыкаем рамки романа в жизнь). Что сближает В.Набокова и Годунова-Чердынцева? Оба – поэты, оба эмигранты, живущие в презираемом ими Берлине, оба вынуждены давать уроки английского языка. В книге В.Набокова "Другие берега" есть подробности, прямо совпадающие с жизнью героя его романа, например, ненависть к тупому ученику, пренебрежение политикой и партиями, любовь к отцу, к шахматам и т.д. Свое увлечение бабочками В.Набоков в романе передает отцу героя. Дар самого автора также очень живописен, он наслаждается красками и отмечает особые свойства белого карандаша (как и Годунов-Чердынцев). Набоков говорит о своем пространственном (а не динамичном) восприятии мира: "высшее для меня наслаждение – вне дьявольского времени, но очень даже внутри божественного пространства"; "я должен осознать план местности и как бы отпечатать себя в нем". "План", "узор" – тот пространственный ритм, который дает ему в "литературном сочинительстве "чувство" равновесия и взаимной гармонии". Набокову, как и Федору Годунову-Чердынцеву, умение уловить соразмерность частей (в пейзаже, в романе, в жизни) позволяет установить единство эмпирической действительности с более общими сферами: искомый синтез "идеи личности" и "идеи общности" – через новое, не причинно-следственное, соотношение личности и среды. Однако, как и Годунов-Чердынцев, В.Набоков осознает, что сила его дара – в силе воскрешающей памяти, в умении вообразить: "Меня лично пленяли миражи и обманы, доведенные до дьявольской тонкости" (там же). Полнокровность его ретроспективного художественного мира достигается только при том условии, что в жертву будет принесено время, то есть при условии отказа от будущего: "Ощущение предельной беззаботности, благоденствия, густого летнего тепла затопляет память и образует такую сверкающую действительность. Зеркало насыщено июльским днем. Лиственная тень играет по белой с голубыми мельницами печке. Влетевший шмель, как шар на резинке, ударяется во все лепные углы 205 потолка и удачно отскакивает обратно в окно. Все так, как должно быть, ничто никогда не изменится, никто никогда не умрет". Подобно Бунину, автор стремится в слове сохранить прелесть ушедшей жизни и дарит личные воспоминания своим литературным героям. И все же автор знает, что все изменилось и все умерли. Изящные композиции, игра, дававшие прежде ощущение силы, не могут скрыть того огромного мира, который остается за окружностью произведений, и тогда В.Набоков испытывает то же чувство, что и читатель в финале романа: все "вдруг перестает быть забавным и обдает душу волной ужаса". В.Набоков осознает модель своей жизни как "спираль" – "одухотворение круга": "в ней, разомкнувшись и высвободившись из плоскости, круг перестает быть порочным". Модель жизни его героя именно порочный круг. И все же Набоков более трагичен, чем только начинающий жизнь Годунов-Чердынцев. В.Набоков сознает, что в Россию никогда не вернется: "Я промотал мечту разглядыванием мучительных миниатюр, мелким шрифтом, двойным светом, я безнадежно испортил себе внутреннее зрение". Сосуществование личной и безличной форм повествования в "Даре" приобретает, с этой точки зрения, иной смысл: не герой, как автор ("я" – "он"), а сам автор так же потерял ключи, как герой ("он" – "я"). В романе (эпическом жанре) создается насыщенная атмосфера лиризма. С линейной структурой сочетается структура музыкальная, построенная на лейтмотивах, на ритмическом соотнесении эпизодов и фрагментов текста. Роман приобретает черты стихотворения в прозе. Несмотря на романтические черты в главном герое и близкую к символистской многозначность образов, проблема человека вне родины решается исторически-конкретно. Проблема автора в "Парижской поэме" В. Набокова Поэма была написана в 1943 г., в Америке, когда В. Набоков твердо решил стать англоязычным писателем и уже начал работу над романом "Bend Sinister". Однако смена языка давалась писателю не без труда. Временным возвратом к русской поэзии явилась "Парижская поэма". Автор русской биографии Набокова Б. Носик полагает, что в этом произведении выразилась ностальгия по оставленному Парижу1. 1 Носик Б. Мир и дар Набокова. – М., 1995. С. 420. 206 Действительно, нарисованная в поэме картина ночного Парижа очень напоминает поэтический мир "русских парижан": "чуть-чуть моросит", "на улице черной без звездинки муругая муть", "черная вода", "мертвый месяц". Ср.: Течет река, скользя меж берегами, Как злая мутно-серая змея. (Ю. Терапиано); Снег идет над голой эспландой. Как деревьям холодно нагим. (Б. Поплавский); Ночь. И асфальт блестит. И дождь идет. И сыростью от Сены тянет. (Г. Иванов); Герою поэмы Набокова "некуда идти": … По ночам он гулял. Не любил он ходить к человеку, а хорошего зверя не знал. Это такой же "лишний человек", как любой из молодых поэтовэмигрантов, которых, вслед за В. Варшавским, называют "незамеченным поколением". Комплекс отверженности был знаком и многим более старшим поэтам, напр.: Вот вылезаю, как зверь из берлоги я В холод Парижа, сутулый, больной… "Бедные люди" – пример тавтологии: Кем это сказано? Может быть, мной. (Г. Иванов) Сострадание к человеку – последней ценности перед лицом пустоты1 – важнейшее качество поэзии "парижской ноты". Поэма Набокова также начинается с монолога героя (воображаемого письма к ангелам небесным), в котором выражена жалость к "бывшим" русским. Как и поэты "парижской 1 Иванов Г. Собр. соч. В 3-х т.т. Т. I. – М., 1994. С. 431. 207 ноты", набоковский герой размышляет о Боге, о судьбе, о неизбежности смерти; переживает ощущение полета, парения над скорбной землей: От кочующих, праздно плутающих уползаю, и вот привстаю, и уже я лечу, и на тающих рифмы нет в моем новом раю. Бытовое окружение героя "Парижской поэмы" – шоферские кафе, гулянье по ночному Парижу, драки и даже писсуары – знакомо читателю по мемуарам В. Яновского, роману Б. Поплавского "Аполлон Безобразов", стихам Б. Божнева. Чуден ночью Париж сухопарый. Чу! Под сводами черных аркад. где стена, как скала, писсуары за щитами своими журчат. Есть судьба и альпийское нечто в этом плеске пустынном… Наконец, в поэму включена "эмблема" всей поэзии "парижской ноты": … раздался где-то в дальнем предместье паровозный щемящий свисток. Ср.: И казалось, в воздухе, в печали, Поминутно поезд отходил. (Б. Поплавский); Очень ясно, с двойным перерывом, Вдалеке просвистал паровоз. (Н. Оцуп) Однако вряд ли пафос поэмы Набокова одномерно-ностальгический. Поэзия "парижской ноты" (а не сам по себе Париж) воспроизводятся с явной иронией. Герой поэмы живет на улице ("рю Пьер Лоти"), где когда-то производились казни путем обезглавливания. Этот герой явно "не в себе": Стул. На стуле он сам. На постели снова – он. В бездне зеркала – он. Он – в углу, он – в полу, он – у цели, он в себе, он в себе, он спасен. 208 Его подпись в письме к ангелам гласит: "…остаюсь с привидением", и подпись эта "неразборчива". Герой "силится" подписаться "кривоклювым почтамтским пером", но "последняя капля России уже высохла" (не помогут и реминисценции из Пушкина, Гоголя, Некрасова, Блока). Лира его "безграмотна", русский язык – "полузабыт". Вдохновение облекается в формы гротеска: Лист бумаги, громадный и чистый, стал вытаскивать он из себя; лист был больше него и неистовствовал, завиваясь в трубу и скрипя…, хотя через секунду это просто "измятый листок", валяющийся на грязной панели. Комический эффект, при общей невозмутимой серьезности тона, дает состыковка высокого (Бог, судьба) и "низкого" (писсуары), помещение осколков цитат из хрестоматийных, классических произведений в неподобающий контекст ("Чуден ночью Париж сухопарый!", где "трясогузками бродят блудницы"). Поводом для пародии Набокова на поэзию "парижской ноты" мог послужить конфликт между Сириным и Г. Адамовичем. Кроме того, Набоков "остраннял" чуждую ему эстетическую позицию поэтов "русского Монпарнаса": трагически-экзистенциальный пафос, аскетизм поэтики. Среди эмигрантов разгорелся спор о "пушкинском" (ясном, гармоничном, жизнеутверждающем) и "лермонтовском" (трагедийном и мистическом) направлении в поэзии. Набоков, в отличие от поэтов "парижской ноты", примкнул к "пушкинской" партии. (Может быть, еще и поэтому начало "Парижской поэмы" композиционно повторяет начало "Евгения Онегина" – внутренний монолог героя и авторский комментарий: "Так он думал без воли, без веса, / сам в себя, как наследник, летя…"). Но главное, вероятно, нежелание Набокова оказаться одним из "незамеченного поколения", утонуть в "лоне ностальгических неразберих". Последняя строфа резко отделена от темной сцены с героем-марионеткой. Подлинный мир автора декларируется как полный света и жизни. Исчезают реминисценции ("кандалы традиций"). Уникальная личность автора-творца данной поэмы оказывается главной темой произведения. В этой жизни, богатой узорами (неповторной, поскольку она 209 по-другому, с другими актерами, будет в новом театре дана), я почел бы за лучшее счастье так сложить ее дивный ковер, чтоб пришелся узор настоящего на былое, на прежний узор; чтоб опять очутиться мне – о, не в общем месте хотений таких, не на карте России, не в лоне ностальгических неразберих, – но, с далеким найдя соответствие, очутиться в начале пути, наклониться – и в собственном детстве кончик спутанной нити найти. И распутать себя осторожно, как подарок, как чудо, и стать серединою многодорожного громогласного мира опять. И по яркому гомону птичьему, по ликующим липам в окне, по их зелени преувеличенной и по солнцу на мне и во мне, и по белым гигантам в лазури, что стремятся ко мне напрямик, по сверканью, по мощи, прищуриться и узнать свой сегодняшний миг. Однако функция пародии в поэме Набокова заключается не только в преодолении стилевого канона поэзии "парижской ноты". Композиция поэмы подчинена, помимо принципа контраста ("они" – "я"), не менее значимому принципу обратного круга, когда конец произведения представляет собой зеркальное (т.е. обращенное, вывернутое) отражение начала. Поэма начинается с попытки героя найти себя ("он в себе, он в себе, он спасен"), в конце – автор говорит о желании "распутать" себя, совпасть с самим собой. Автор и герой поэмы – двойники в ряде существенных моментов, ибо 210 переживают сходное ощущение предтворчества, когда душа выходит за пределы телесной оболочки. (В рассказе "Тяжелый дым" герой, погруженный в томление предтворчества, чувствует, что его рукой мог быть переулок по ту сторону дома, а позвоночником – хребтообразная туча через все небо). Моментом творческого озарения, по Набокову, становится тот миг, который вдруг осознается как будущее воспоминание. Такая философия "кругизма" ("Bend sinister") призвана упразднить "дьявольское" время и утвердить "божественное" пространство, в котором все вечно живы и молоды. Герой поэмы – ипостась автора, его "ролевой герой", что подтверждается субъектной организацией произведения. Авторское "я" и "я" героя постоянно меняются местами, играют в перевертыши. Первая и вторая строфы содержат прямую речь героя, в третьей строфе субъект речи – повествователь ("Так он думал…"), но субъект сознания – герой. В четвертой строфе субъект речи – "мы" ("А теперь мы начнем…"), условное множественное число, обозначающее автора. Герой теперь – объективированный персонаж ("мой приятель") и одновременно – сам автор, погруженный в саморефлексию, глядящий на себя со стороны. То же совпадение "я" и "он" наблюдается в пятой строфе, в которой "мы" – русские поэты-эмигранты, каковым был и Набоков. Переутомленное от "черновой стихотворной работы" сознание героя выражается и в способе оформления авторского повествования – усталое "заговаривание", тавтологическая рифма, вновь и вновь бормочущая слова "муть" и "черной". Шестая строфа содержит "мы" – собирательный образ поэтов-эмигрантов, герой здесь – "ты" для автора, также бродящего по Парижу. В седьмой строфе эпическая дистанция вненаходимости автора-творца герою произведения окончательно исчезает ("он" – это и есть "я"). Заключительная, восьмая строфа устраняет образ героя, выражает лирическое "я" автора, черпающее вдохновение только в самом себе. Почему, чтобы выразить самого себя, Набокову понадобился геройавтокарикатура, тень, прихоть ("привидение"), марионетка? Набокову важно подчеркнуть сконструированность темного, вымороченного мира, по которому бродит герой. Ночной Париж –камера обскура, а герой – тень, перевернутое изображение истинного авторского "я", проникающего в этот "черный ящик", как ослепительный луч из совсем другого мира. К такой же "игровой" отмене чудовищной, бесчеловечной реальности Набоков прибегает и в романе "Bend sinister". Примерно в это же время был написан и рассказ "Что как-то раз в Алеппо", художественный мир в котором тоже колеблется в статусе между 211 явью и вымыслом. Трамплин пародии нужен был Набокову, чтобы сказать о тоскливом мире "русских парижан": "Ничего этого никогда не было, это лишь прихоть моего воображения". Однако пародия распространяется не только на поэтов "парижской ноты", но и на образ самого автора. Набоков показывает, каким он не хотел бы быть и каким он быть мечтает (центром солнечного, многодорожного мира). Автора, существующего сейчас, в поэме нет ("В зале автора нет, господи). Есть только отблеск, отсвет от него – и на герое-недотепе, и на богоподобном поэте из финала. "Свой сегодняшний миг" автор только хотел бы разглядеть, "прищурясь". В "Парижской поэме" автор задан как проблема. Стоя на распутье, Набоков прощается с русской литературой, "играя" цитатами из Пушкина, Гоголя, Некрасова, Блока. Задаче самопреодоления себя сегодняшнего и служит автопародийная подсветка образа автора, который, присутствуя, – отсутствует. В пьесе "Событие" (1938) провинциальный портретист-"пустоцвет" Трощейкин рисует сына местного ювелира с пятью мячами. Сначала он оставляет мячи незакрашенными, потому что его интересует их отблеск на лице мальчика, а источник света он изобразит потом. В романе "Камера обскура" (1930) талантливый, но жестокий карикатурист Горн наблюдает за страданиями Кречмара, им же спровоцированными, как за увлекательным мюзик-холлом, игрой на сцене. Директор жестокого шоу "был существом трудноуловимым, двойственным, тройственным, отражающимся в самом себе, –переливчатым магическим призраком, тенью разноцветных шаров, тенью жонглера на театрально освещенной сцене"1. По Набокову, искусство всегда движется против солнца, отменяет очевидность действительного. В "Парижской поэме", созданной на переломе творческой судьбы, Набоков, подобно А. Блоку в "Балаганчике", иронизирует над собой. Однако к игровой, романтической иронии, возвышающей художника, примешивается оттенок иронии трагической, говорящей о сомнении и внутреннем смятении. А. Белый писал: "В судьбах отдельных выдающихся личностей, как в камер-обскуре, отражаются судьбы целых эпох, наконец, судьбы всемирноисторические. Отдельные лица все чаще становятся актерами, а потом, может быть, и деятелями событий. Надетая маска прирастает к лицу. Такие лица часто 1 Набоков В. Камера обскура. – СПб., 1997. С. 114. 212 оказываются точками приложения и пересечения всемирно-исторических сил. Это – окна, через которые дует на нас ветер будущего"1. Может быть, поэтому Набоков в 1943 г. так настойчиво оборачивался в прошлое, смыкая свой сегодняшний день, требующий смены родного языка на "чужое наречье", с далеким русским детством, закрывая тем самым "окно" в угрожающее будущее, не подлежащее игровой отмене? "BEND SINISTER" ("ПОД ЗНАКОМ НЕЗАКОННОРОЖДЕННЫХ") (1945-1946) Особенно ярко историческая и политическая конкретность содержания обнаруживается в романе "Bend Sinister" ("Под знаком незаконнорожденных", 1945-1946). Сквозной для творчества Набокова романтический конфликт яркой личности с пошлой толпой реализуется в романе как столкновение аристократа духа, философа Адама Круга, с полицейским государством – диктатурой Падука. Набоков рассматривает фашизм в отвлечении от национальных особенностей. Для него гитлеризм и большевизм – одинаково "идиотические и жалкие режимы", "миры терзательств и тирании"; в одно целое слагаются "куски ленинских речей, ломти советской конституций и ломти нацистской лжерасторопности". Для писателя фашизм ненавистен как комплекс, сложившийся в психологии толпы. Феномен фюрерства определен не только жаждой власти одного, но и жаждой рабского подчинения остальных. Плебейская масса, ведомая пошлым "здравым смыслом тех, которые существуют, потому что не мыслят", сбивается в общество-стадо, надеясь таким образом выжить в дисгармоничной, жестокой действительности. Даже ницшеанская идея сверхчеловека утилизуется толпой. Так, один из псевдоперсонажей романа, некий профессор, дает интерпретацию "Гамлета" Шекспира: истинный герой, способный спасти государство, не Гамлет, а Фортинбрас, цветущий юный рыцарь, прекрасный и твердый до мозга костей. С Божьего соизволения этот славный нордический юноша перенимает власть над жалкой Данией, которой столь дурно управляли дегенеративный король и жидо-латинянин Клавдий. Концепция набоковского романа строится на противопоставлении трех 1 Белый А. Символизм как миропонимание. – М., 1994. С. 203. 213 типов семьи. Первый тип – общество-семья, где люди подчинены раздувшемуся государственному аппарату и обожествленному диктатору. "Мы любим наше корпоративное тело, которому принадлежим в большей степени, нежели самим себе, но еще сильнее мы любим нашего Правителя, олицетворившего это тело в понятиях нашего времени". В стране одна партия – Партия Среднего Человека. Абсолютное духовное тождество индивидов декларируется государственной доктриной – философией эквилизма, предполагающей равенство мыслительных способностей. Образец для подражания – карикатурный г. Этермон (Заурядов) с супругой. Их семейная жизнь (жизнь неандертальской четы, замечает автор) была наполнена маленькими радостями: поход в киношку, прибавка к жалованью, что-нибудь вкуснюсенькое на обед. Потребительские идеалы обывателя диктатор сделал политическими лозунгами. Однако тирания извращает все признаки семьи. Отношения людей строятся не на любви, а на садизме или утрированной похоти. Один за другим меняются женихи Линды, даже не любовники, а "подельники" (все они – агенты спецслужбы). Дьявольская пародия на семью – санатория, где бывшие уголовники сливаются в коллектив, занимаясь избиением несчастной жертвы "субчика", "сиротки". Люди Падука используют жестокий метод психологического давления – "рукоятку любви" (захватив ребенка Адама Круга, они могут покорить независимого философа). В атмосфере "духовного людоедства" человек утрачивает свое "Я". Падук обещает подданным безликое счастье; "вы обретете его, о юноши, когда растворите личности ваши в мужественном единении с государством. Ваши бредущие ощупью личности станут взаимосменяемыми, и вместо того, чтобы корчиться в тюремной камере беззаконного эго, ваша нагая душа соприкоснется с душою каждого из людей – вы уже не будете знать, кто вы, Петр или Иоанн – так плотно сомкнут вас объятия Государства". Люди, лишенные своего "я" – это манекены, марионетки, сериями возникающие вокруг главного героя. Так сменяют друг друга женихи Линды, так следуют одна за другой сестры Бахофен; легко заменяемы фигуры солдат и чиновников. В бесконечной множественности этих псевдолюдей есть что-то демоническое и ирреальное. Например, доктор Александер (тайный агент), привезший Круга в университет, вдруг как-то опережает поднимавшихся по лестнице профессоров и распахивает перед ними дверь. Подданные Падука – 214 лжепретенденты-симулякры (по выражению Ж.Делеза), это призрачные подобия людей, фантазмы, гнусные подделки. Маску, личину противопоставлял Лику П.А.Флоренский: "Злое и нечистое вообще лишено подлинной реальности, потому что реально только благо и все им действуемое. Если дьявола называла средневековая мысль "обезьяной Бога", а искуситель прельщал первых людей замыслом "быть как боги", т.е. не богами по существу, а лишь обманчивой видимостью их, то можно вообще говорить о грехе как об обезьяне, о маске, о видимости реальности, лишенной ее силы и существа". Лживая маска, по мысли философа, издавна получила значение астрального трупа, "пустого" – inanis, бессубстанционального клише, т.е. темной, безличной вампирической силы, ищущей себе для поддержки сил и оживления свежей крови и живого лица, которое эта астральная маска могла бы облечь, присосавшись". Сам Падук (его в детстве звали просто "Жаба") был "скучен, зауряден и нестерпимо подл". Его отец изобрел прибор – падограф, подражавший чьему-либо индивидуальному почерку. Впоследствии падограф стал эквилистским символом, ибо мог механически воспроизводить личность. Симулякры обожают лицедейство, костюмы, декорации. Агент у дверей университета одет итальянским попрошайкой в картинных лохмотьях, но он малость перемудрил – проделал жалостливую дыру там, где ее никто не делает – в донышке шляпы. Шпионка на лестнице дома наряжена маленькой эскизной Кармен. Няня, взятая для сына Круга (тоже шпионка), играет роль вульгарной Офелии. Солдаты – эквилисты – "пригожии молодые люди в опереточной форме". Сам Падук является в тюремную камеру, чтобы шантажировать Круга – в рыжеватом парике и старинном костюме бродяги. Круг думает: "Ад полон этих фигляров". Затем появляются стражники в масках, с японскими фонариками и пиками. Внешняя маска и декорация призваны скрыть демоническое отсутствие сущности, абсолютное духовное ничто. Так, уже в детстве Падук напоминал воскового школяра – манекена из портновской витрины. У него было странное лицо: все черты на должном месте, но какие-то расплывчатые, словно мальчика подвергли пластической операции. В самом конце романа лицо Падука тускнеет, расплывается, тает от страха. Другой тип семьи – семья Адама Круга. Он и его жена Ольга – красивые, яркие, сильные люди. Директор школы, где учился Круг, решил развивать у 215 старшеклассников политическое сознание. Ребята должны были объединяться в партии, вести дискуссии. Один лишь Круг чувствовал себя свободным от социальных и экономических инстинктов, остался нонконформистом. Круг живет в своем особом, перцептуальном пространстве и времени; в своем интимном мире любви, чистоты, высокой мысли. Здесь вещи не имеют утилитарной ценности, но окружены ореолом духовной значимости; заветный шарик сына, фарфоровый совенок Ольги, выступ и впадина в камне парапета, впервые нащупанные пальцами Круга в ту ночь, когда умерла жена. Мир Круга – это мир, ощутимый на вкус и цвет, весь проникнутый дорогими и неповторимыми воспоминаниями и ассоциациями. Это мир его и только его семьи. Набоков утверждал что его роман вовсе не о полицейском государстве, а о "биении любящего сердца Круга, муке напряженной нежности", и вся книга написана ради страниц, посвященных Давиду и его отцу. Леона Тоукер даже полагает, что "нарратив изобилует моментами, метафорически напоминающими систолически – диастолический ритм", например: движение лица няни и ее речь описываются в пульсирующем ритме, деревья пульсируют "бесчисленными огненными вспышками" и т.д.. Но знаменитый философ, презирающий Падука, включен в круг смерти. В начале романа умирает Ольга, в конце гибнут Давид и сам Круг. Круг пытается бороться со смертью; он хотел бы остановить время, чтобы дать жизни передышку. Казалось бы, любовь к сыну побеждает время: Круг видит Давида ставшим старше на год, видит его юношей-студентом, видит его двухлетним, видит его сорокалетним мужчиной. По мнению Круга, нечего бояться будущей смерти, ибо мы уже не существовали (до рождения) и ужасов там не нашли, а вечность предстоящая – лишь вывернутая наизнанку вечность прошлая. Но вот пропал Давид, и отец в смятении, он уже бессилен над временем: "Прошло четыре года. Потом разрозненные части столетия. Ошметки драного времени. Скажем, всего двадцать два года" (речь идет о нескольких часах ожидания). Так реальность ломает сознание героя. Круг и его семья – заложники, спасения нет; автор – из сострадания – дарит своему герою безумие и смерть. В финале романа появляется еще одна семья, еще один мир – самого В.Набокова. Семья Круга "отрицала" диктаторский режим, но "отри-цалась" (уничтожалась) этим режимом. Семья автора – творца текста "отрицает" это "отрицание отрицания". Уютный кабинет писателя – маленький рай нежности и доброты, где "смерть – 216 лишь вопрос стиля" – принципиально вненаходим мирам терзательств и тирании. Но вмешательство автора нарушает позицию эпической вненаходимости и не вносит катарсиса. Напротив, отчаяние грозит стать тотальным, ибо агрессия симулякров выходит за пределы художественного мира в жизненное пространство автора. Автор узурпирует себе статус "антропоморфного божества", даря смерть герою. Но эта третья в романе смерть – лишь логическое завершение череды смертей (Ольги и Давида). Кроме того, своеобразие субъектной организации романа заключается в том, что главный герой – соподлежащее, со-субъект автора, его "Ты". Автор старательно подчеркивает свою сопричастность миру Круга. Субъект сознания и повествования в тексте лишен жестких очертаний, он мерцает, двоится. Так, первый пейзаж (лужа в больничном дворе) дан в восприятии Круга ("моя жена умрет", "мне, вероятно, никогда не забыть"). Затем начинается зона безличного повествования, когда автор со стороны глядит на своего героя ("У него были толстые (дайте подумать), неловкие (вот!) пальцы…"). Но тут же мы узнаем, что Круг способен видеть себя как бы в третьем лице; одно его "я" наблюдает за жизнью другого его "я". Может быть, безличный повествователь в этом фрагменте – это второе "я" Круга, о котором он говорит: "Мой спаситель. Мой свидетель." Так же построена сцена беседы Круга с Эмбером [26, С.384], эпизод встречи Круга с Падуком. Лужа, которую видел Круг, видна и Набокову из окна кабинет, она – "прореха" в мире Круга, "невнятно намекающая ему о моей с ним связи", – признается автор. Светлая душа Ольги, символически представленная в 9 главе в виде бабочки, бьется в мокром мраке об окно комнаты Набокова, пишущего роман. Итак, Круг -"Ты" для автора, такое "Не-Я", которое одновременно есть "Я". Поэтому все, свершившееся с героем, бросает скорбную тень и на судьбу автора. Создается ситуация порочного круга: автор отражается в герое, а герой – лишь порождение автора. Отсутствует некое "Мы", некая сила, способная противостоять фашизму. Набоков по-романтически противопоставляет миру зла свой мир искусства. Он даже заявляет, что его интересует только "личное удовлетворение автора, артистически проводящего сквозь текст "скрытое щебетание лейтмотивов". Но это игра – на краю пропасти. Отсутствие "Мы" означает невозможность жизнетворчества и оставляет единственную возможность – творчество сугубо художественное. Не случайно автор 217 вынужден отделять свое "Я" от близкого ему "Я" героя (свое "Ты") в финале романа, чтобы вырваться из мира симулякров. Звук пули, сразившей Круга, совпадает с треском бумаги, выдернутой автором из пишущей машинки. "ЛОЛИТА" (1955; 1967) Позиция эстетического одиночества особенно отчетливо обнаруживает несостоятельность в истории жизни Гумберта Гумберта, героя роман "Лолита". Л. Я. Гинзбург считала "Лолиту" нежной и сентиментальной книгой о любви; М. Н. Липовецкий полагает, что главный пафос этого романа – возвращение к человеческим, душевным, а не эстетически-игровым отношениям между людьми. В 1959 г. Набоков написал стихотворение: Какое сделал я дурное дело, и я ли развратитель и злодей, я, заставляющий мечтать мир целый о бедной девочке моей? О, знаю я, меня боятся люди, и жгут таких, как я, за волшебство, и, как от яда в полом изумруде, мрут от искусства моего. Но как забавно, что в конце абзаца, корректору и веку вопреки, тень русской ветки будет колебаться на мраморе моей руки. По собственному признанию, Набоков больше всего ценил роман "Приглашение на казнь", но привязан был более всего к "Лолите". 218 До "Лолиты" Набоков написал значительную часть своих произведений, но, по выражению В. Ерофеева, был лишь "широко известен в узких кругах". Только роман "Лолита" принес ему мировую известность, спровоцированную скандалом. Сначала четыре крупнейших американских издательства отказались печатать роман. Опубликован он был в Париже в издательстве, печатавшем и порнографическую литературу. Но известный английский писатель Грэм Грин назвал "Лолиту" одной из трех лучших книг 1955 года, что и вызвало шумиху в прессе. Как и все произведения Набокова, этот роман можно причитывать поразному, с разной степенью глубины. Так, событийно-сюжетный уровень произведения имеет отчетливую нравственную направленность. В центре романа – характерный набоковский герой, Гумберт Гумберт, романтик, мечтатель, изгой. Он стоит вне обычной морали, вне обычных социальных связей, живет в своем, субъективном мире ("... моя взрослая жизнь в Европе была чудовищно двойственна", "мой мир был расщеплен"). В Гумберте противоречиво сочетаются порочность и совестливость, сила и нежность, животное и утонченно-интеллигентское начало (его профессия – история английской литературы). Даже во внешности его соединяются брутальная мужественность и болезненная хрупкость, изящество. Такому герою противопоставлен мир пошлости: американские провинциальные городки, мотели, летние лагеря, школы. Все это грязно, плоско, примитивно. Отвращение Гумберта вызывают первая жена, Валерия ("большая, дебелая, коротконогая, грудастая и совершенно безмозглая баба"), ее любовник, белогвардейский полковник Максимович (такой деликатный, что стеснялся спускать воду в уборной), вторая жена, мать Лолиты, Шарлотта. С горечью видит Гумберт первобытную убогость мира подростков: комиксы, кино, молочный бар, каток. Критика восприняла "Лолиту" как антиамериканский роман. Мир Гумберта складывается из мучительной страсти и нежности, испытываемой к нимфеткам – девочкам-подросткам "с нимфической (т.е. демонской)" присутствует, сущностью. наряду В с этих "маленьких детскостью, смертоносных странная грация, демонах" неуловимая, переменчивая, душеубийственная вкрадчивая прелесть. Отличить нимфетку от 219 других сверстниц, полагает Гумберт, может только художник или сумасшедший (сам Гумберт – и писатель, и сумасшедший, лечившийся два раза до встречи с Лолитой и один раз после). Сам герой объясняет свою страсть неудовлетворенной (по вине все опошляющих взрослых) любовью к Анабелле, когда телесное и душевное сливались воедино. Вскоре Анабелла умерла от тифа. Потом для Гумберта началась мучительная полоса взросления, и наконец, произошла его встреча с Лолитой – Долорес Гейз. Любовь к ней сулила возвращение в детский рай, где все вечно и никогда не стареет. Тоненькая, загорелая, со светло-русыми волосами, вся в яблочно-зеленом сиянии сада – такой увидел ее впервые Гумберт. Мотив яблока – символ женственности, связанный с солнечной Евой – постоянно сопровождает Лолиту (яблочный аромат, яблока в руках в "сцене с тахтой", розовое платье с яблоками). Но она и лунная Лилит – согласно древним преданиям, это первая жена Адама; будучи отверженной от рая, она превратилась в блудницу, ведьму, опасное ночное привидение. История отношений Гумберта с Лолитой развивает тему искалеченного, убитого детства. Приехавший на летний отдых в городок Рамздэль Гумберт встречает Лолиту. Чтобы быть ближе к ней, женится на ее матери. После гибели Шарлотты (прочитавшей дневник Гумберта и попавшей под машину), Гумберт забирает Лолиту и в течение года скитается с ней по дорогам и мотелям. Затем одну зиму девочка в Бердслее ходит в школу, а затем они снова отправляются в путь, уже по просьбе Лолиты. Лолита мечтает стать кинозвездой и бежит к драматургу Клэру Куильти, однако не выдерживает в его вертепе и, покинув виллу, опускается до нищей жизни. Выходит замуж за полуглухого и нищего Дика, ждет от него ребенка. Во время последней встречи Гумберт узнает имя соперника и убивает Куильти. Лолита вскоре уезжает в Аляску и умирает во время родов, разрешившись мертвой девочкой. Сам Гумберт заключен в тюрьму, где и пишет этот роман – воспоминание. Образ Лолиты изменяется по ходу развития действия. Если в начале в преобладает Лилит, вульгарная, непосредственная ("смесь нежной ней развращенная, мечтательной хотя и хрупкая, детскости и какой-то жутковатой вульгарности"), то во время последней встречи она напоминает "Венеру" кисти Боттичелли. В романе две части: в первой преобладает страсть 220 Гумберта, во второй постепенно усиливаются чувства вины, беды, человеческой (а не демонической) любви. По словам Лолиты, Куильти разбил ее сердце, а Гумберт разбил ее жизнь. В сознании Гумберта, мечущегося в поисках бежавшей Лолиты, всплывают "полузадушенные воспоминания" о выражении сиротства и страдания на лице Лолиты ("словно я сидел рядом с маленькой тенью кого-то, убитого мной"). "Моя бедная, замученная девочка", – сокрушается Гумберт. В самом конце своей исповеди Гумберт вспоминает, как, стоя на горе, смотрел на городок внизу: яркие и мечтательные цвета, трепетание соборных звуков – звон голосов играющих детей, величественных и миниатюрных, отрешенных и волшебно-близких, прямодушных и дивнозагадочных. И тогда Гумберту стало ясно, что "пронзительно-безнадежный ужас состоит не в том, что Лолиты нет рядом со мной, а в том, что голоса ее нет в этом хоре". Таким образом, Гумберт и свой детский рай не вернул и отнял его у Лолиты. Но такое психологически-этическое прочтение романа не без иронии и пародии излагает в предисловии вымышленный издатель романа Гумберта доктор философии Джон Рэй. Роман допускает и метафорически-экзистенциальное прочтение. Так, Виктор Ерофеев полагает, что эротика в этом романе представляет собой метафору красоты, гибнущей в пошлой обыденности. Главная тема романа – разлад между человеком и миром, экзистенциальная драма отчуждения. Этическая и эстетическая катастрофа, воплощенная в сюжете, есть объективация (проекция) субъективного сознания героя, балансирующего на грани сумасшествия. Действительно, пред нами – исповедь героя, и все описываемое преломлено в его сознании. Гумберт ведет своеобразный поединок с роком, пытается проследить за "гирляндой судьбы". Многие события можно объяснить как объективацию субъективных желаний героя. Так, по приезде в Рамздэль Гумберт должен был поселиться в доме Мак-Ку, но дом сгорел дотла в день его приезда – "может быть вследствие одновременного пожара, пылавшего у меня всю ночь в жилах". Шарлотта прочитала дневник Гумберта – и тут же попала под машину (Лолита говорит, что Гумберт "зарезал" маму). Сцена убийства Куильти несколько смазанная, отдающая пародией; до нее дан эпизод из ковбойского фильма, а еще раньше Гумберт видел сон, в котором убийство не 221 могло состояться. Преследующая Гумберта с Лолитой машина Куильти кажется герою галлюцинацией, порождением мании преследования. Сам Куильти похож на швейцарского кузена отца, дядю Густава и т. д. Гумберт не забывает подчеркнуть, что все события – эпизоды из его романа ("написал уже более ста страниц, начинаю путаться"). Таким образом, есть основания для трактовки содержания "Лолиты" как драмы самосознания. Наконец, возможно и "эстетическое" прочтение романа как самодостаточного художественного текста, организованного по правилам изящной игры. Сам автор говорил, что "Лолита" не буксир, который тащит барку морали. Главное качество произведения – способность доставлять эстетическое наслаждение, т. е. особое состояние, при котором ощущается связь с иными, высшими формами бытия, где искусство (любознательность, нежность, доброта, стройность, восторг) есть норма. В финале Гумберт провозглашает, что единственное спасение для него и Лолиты – в искусстве. Гумберт стремится "выиграть гонку между вымыслом и действительностью". Гумберт – автор теории "перцепционального времени", согласно которой в сознании человека могут совпасть прошлое и будущее. Роман состоит из двух частей ("кругов"), которые во многом совпадают друг с другом по "узору" эпизодов и деталей. Гумберт оговаривает свое чувство пространственного ритма (отсюда его любовь к шахматам и теннису). Очень часто используется в композиции романа принцип каламбура. Гумберт должен был жить в доме Мак-Ку; Лолита проводит лето в лагере "Кувшинки" – "Ку, Ку-Ку". Имя соперника начинается с этого слога. Лолита дважды играет с собакой и оба раза оставляет ее. Повторяется ритм жестов, особенности мимики (напр., гримаса отвращения). Когда, в конце второй части, Лолита назвала имя Куильти, Гумберт признается: "... теперь я не испытал ни боли, ни удивления. Спокойно произошло слияние, все попало на свое место, и получился, как на составной картине-загадке, тот узор ветвей, который я постепенно складывал с самого начала моей повести с таким расчетом, чтобы в нужный момент упал созревший плод". Когда-то Шарлотта предлагала Гумберту поехать осенью в гостиницу "Привал Зачарованных Охотников", где она была с покойным мужем. В этой гостинице остановились Гумберт с Лолитой, причем номер их комнаты (342) 222 совпал с номером дома в Рамздэле. В этой же гостинице была первая встреча с Куильти. Пьесу под таким же названием ставят в бердслейской школе, автор пьесы – Клэр Куильти. Сюжет пьесы таков: шесть охотников (банкир, водопроводчик, полицейский, гробовщик, страховщик, беглый каторжник), попав в Доллин Дол (имя Лолиты), внутренне переменились и помнят свою настоящую жизнь как дурной сон, от которого их разбудила маленькая нимфа (ее должна была играть Лолита). Но седьмой охотник, Молодой Поэт, стал доказывать, что все, в том числе и нимфа, все лишь его произведение, игра его фантазии. На самом же деле нимфа была дочерью фермера, вообразившей себя дриадой. Чтобы доказать Поэту, что она – не вымысел, она приводит его на отцовскую ферму и там целует его. Так и не выясняется в пьесе, чьи чары над кем довлеют: поэта над девушкой или девушки над поэтом? Автор – творец или один из героев пьесы? Весь сюжет романа представляет собой отражение сюжета пьесы, автор которой – Куильти. С другой стороны, пьеса Куильти – лишь эпизод в романе Гумберта. Получаются как бы два зеркала, взаимно отражающие друг друга, и текст замыкается на самом себе, рождая ощущение завершенности и совершенства. Поэтика отражений погружает нас в бесконечное и безначальное настоящее, художественное произведение побеждает время и смерть. Кроме того, Куильти – своеобразный двойник Гумберта, он воплощает его худшие, низменные качества. Однако Куильти написал пьесу в соавторстве с Вивиан Дамор-Блок, а это имя является анаграммой имени Владимира Набокова. Так выстраивается цепочка авторов-рассказчиков: Набоков – Джон Рэй – Гумберт – Куильти, каждый из которых отражается в других. Учитывая все эти наблюдения, можно сказать, что "Лолита" – роман о творчестве; о красоте, которая гибнет в жестокой реальности, но, претворенная в художественное произведение, живет в сознании будущих поколений, и это – единственное бессмертие. Этими словами заканчивается роман. Рекомендуемая литература Дальние берега: Портреты писателей эмиграции: Мемуары. М., 1994. Культурное наследие российской эмиграции. 1917-1940: В 2-х кн. М., 1994. Литература русского зарубежья: Антология. Т.I, кн.1 (1920-1925). М., 1990. 223 О муза русская, покинувшая дом... Поэзия русского зарубежья. Каталог. СПб., 1998. Русское зарубежье: Золотая книга эмиграции. Первая треть ХХ в.: Биографический и библиографический словарь. М., 1997. Русское литературное зарубежье: Сб. обзоров и материалов. М.: РАН ИНИОН. 1993. Белобровцева И.З. Культура русского зарубежья: ее разнообразные и сообщающиеся тенденции. // Русская литература первой трети XX века в контексте мировой культуры / М-лы I Международной летней филологической школы. Екатеринбург, 1998. Костиков В. "Не будем проклинать изгнанье...": Пути и судьбы русской эмиграции. М., 1990. Михайлов О.М. Литература русского зарубежья. М., 1995. Мышалова Д. Очерки по литературе русского зарубежья. Новосибирск, 1995. Раев М. Россия за рубежом: История культуры русской эмиграции. 1919-1939. М., 1994. Соколов А.Г. Судьбы русской литературной эмиграции 1920-х годов. М., 1991. Струве Г.П. Русская литература в изгнании. М., 1996. Павловский А.И. К характеристике автобиографической прозы русского зарубежья (Бунин, Осоргин, Набоков) // Русская литература. 1993. №3. Пискунов В.М. Чистый ритм Мнемозины. (О мемуарах Серебряного века и русского зарубежья). М., 1992. Федоров Ф.П. Поэзия первой русской эмиграции: младшее поколение. // Русская литература первой трети XX века в контексте мировой культуры / М-лы I Международной летней филологической школы. Екатеринбург, 1998. *** Русское зарубежье: Хрестоматия по литературе, Пермь, 1995. Ковчег: Поэзия первой эмиграции / Сост. В.Крейд. М., 1991. "Вернуться в Россию — стихами...": 200 поэтов эмиграции: Антология / Сост. В.Крейд. М., 1995. "Мы жили тогда на планете другой...": Антология поэзии русского зарубежья. 1920-1990: В 4-х книгах / Сост. Е.Витковский. М., 1995. Русское литературное зарубежье. Омск, 1994. Изгнание: Поэзия русского зарубежья. Ростов-на-Дону, 1999. 224 *** Федотов Г.П. О парижской поэзии // Вопросы литературы. 1990. №2. Еремина Л. Рыцарь культуры (о Н.Оцупе) // Лит. обозрение. 1996. №2. Богомолов Н. Жизнь и поэзия Владислава Ходасевича // Русская литература. 1988. №3. Богомолов Н. Г.Иванов и В.Ходасевич // Русская литература. 1990. №3. Вейдле В.В. Поэзия Ходасевича // Русская литература. 1989. №2. Боровиков С. Разумная душа: Литературно-критические статьи. Саратов, 1988. Вознесенский А. Небесный муравей // Огонек, 1986. №48. Гинзбург Л. Литература в поисках реальности. Л., 1987. (87-113). Берберова Н. Курсив мой // Вопросы литературы. 1988. №9, с.184-243. №10, с.233-286. №11, с.219-265. Фомин С. С раздвоенного острия // Вопросы литературы. 1997. Июль-август. Набоков В. Вл.Ходасевич // Набоков В. Рассказы. Приглашение на казнь. Эссе, интервью, рецензии. М., 1989. Крейд В. Петербургский период Георгия Иванова. Эрмитаж, 1989. Арьев А. Сквозь мировое уродство. О лирике Георгия Иванова // Звезда. 1991. №9. Смирнов С.В. "Туман... Тамань... Пустыня внемлет Богу..." О творчестве Г.Иванова // Лит. в школе. 1998. №6. Угамбрина И.А. "Вернуться в Россию стихами..." // Лит. в школе. 1998. №6. Миллер Л. "И другое, другое, другое..." // Вопросы литературы. 1995. № VI. Витковский Е.В. "Жизнь, которая мне снилась" // Иванов Георгий. Собр. соч.: В 3-х т. Т.I. М., 1994. Богомолов Н. Талант двойного зрения // Вопросы литературы. 1989. №2. Борис Поплавский в оценках и воспоминаниях современников. СПб., 1993. Азов А. Проблема теоретического моделирования самосозния художника в изгнании. Ярославль, 1996. Богословский А. "Домой с небес": Памяти Б.Поплавского и Н.Столяровой // Русская мысль. 1984. №3804, 3805. 1,8 дек. С.8-9, 10-11. Менегальдо Е. Воображаемая вселенная Б.Поплавского // Лит. обозрение. 1996. №2. Аллен Л. Судьба поэта // Поплавский Б. Под флагом звездным. СПб., 1993. Бобрецов В.Ю. Борис Поплавский // Русская литература. 1991. №2. 225 Барковская Н.В. Поэзия "парижской ноты" // Филологический класс. 1998. №3. *** Чернышев А. Свободный в выборе. (О М.Алданове) // Лит. газета. 1989. 19 июня. №29. С.5, Ульянов Н.И. Памяти М.А.Алданова // Русская литература. 1991. №2. Осоргин М. Литературные размышления // Вопросы литературы. 1991 Ноябрьдекабрь. Михаил Осоргин: Страницы жизни и творчества. Пермь, 1994. Химич В.В. Идея "самостояния человека" в произведениях М.Осоргина // Урал в прошлом и настоящем / М-лы научной конференции. Ч.II. Екатеринбург, 1998. Шмелев И. Лето Господне: Книга для ученика и учителя. М., 1996. Ефимов Е.С. Священное, древнее, вечное... Мифологический мир "Лета Господня" // Литература в школе. 1992. №3-4. Попова Н.А. Становление русской души. (По повести И.Шмелева "Лето Господне") // Литература в школе. 1992. №3-4. Павловский А.И. Две России и единая Русь. (Художественно-философская концепция России -Руси в романах А.Ремизова и И.Шмелева эмигрантского периода) // Русская литература. 1995. №2. Черников А.П. Проза И.С.Шмелева: Концепция мира и человека. Калуга, 1995. Чалмаев В.А. Власть судьбы. Творческий путь и "взвихренное слово" Алексея Ремизова // Литература в школе. 1993. №3. Алексей Ремизов: Исследования и материалы. СПб., 1994. Обатнина Е. "Обезьянья Великая и Вольная Палата": игра и ее парадигмы // Новое литературное обозрение. 1996. №17. Михайлов А.И. Сказочная Русь Алексея Ремизова // Русская литература. 1995. №4. Мильков Д. "Прошу всех примите мое!" Памяти А.М.Ремизова // Звезда. 1998. №7. Новое литературное обозрение. №19 (1996) — подборка материалов о Ремизове. Тырышкина Е.В. Ремизов и идейно-художественные поиски символистов // Русская литература ХХ века: направления и течения. Вып.1. Екатеринбург, 1992. Козьменко М.В. Мир и герой А.Ремизова // Филологические науки. 1982. №1. 226 Дипилевский А.А. Ремизов и Лев Шестов // Ученые записки Тартуского ун-та. В.883, 1990. А.Ремизов. Б.Зайцев. Проза: Книга для ученика и учителя. М., 1997. Айхенвальд Ю. Борис Зайцев // Силуэты русских писателей. М., 1994. Воропаева Е. "Афон" Бориса Зайцева // Лит. учеба. 1190. №4. Воропаева Е. Всепрощающая даль // Лит. обозрение. 1989. №12. Михайлов О. Борис Зайцев // Лит. в школе. 1990. №6. Прокопов Т. Художник, которого мы узнаем // Дон. 1989. №9. Любомудров А.М. Книга Б.Зайцева "Преподобный Сергий Радонежский" // Русская литература. 1991. №3. Ульянов Н.И. Б.К.Зайцев // Русская литература. 1991. №2. Набоков В. Лекции по русской литературе. В.В.Набоков: Pro et contra. Личность и творчество Владимира Набокова в оценке русских и зарубежных мыслителей и исследователей: Антология. СПб., 1997. Носик Б. Мир и дар Владимира Набокова. М., 1995. Ерофеев В. Русский метароман Набокова // Вопросы литературы. 1988. №10. Липовецкий М. "Беззвучный взрыв любви": Заметки о Набокове // Урал. 1992. №4. Липовецкий М. Эпилог русского модернизма. (Художественная философия творчества в "Даре" Набокова) // Вопросы литературы. 1994. № III. Паперно И. Как сделан "Дар" Набокова // Новое лит. обозрение. №5. (1993). Долинин А. Цветная спираль Набокова // Набоков В. Рассказы. Приглашение на казнь. Эссе, интервью, рецензии. М., 1989. С.438-469. Кузнецов П. Утопия одиночества // Новый мир. 1992. №10. Набоков В. Искусство литературы и здравый смысл // Звезда. 1996. №11. Александров В.Е. Набоков и потусторонность. СПб., 1999. Аверин Б. Гений тотального воспоминания: О прозе Набокова // Звезда. 1999. №4. Арьев А. И сны, и явь. (О смысле литературно-философской позиции В.В.Набокова) // Звезда. 1999. №4. Сухих И. Поэт в зеркалах (1937-1938. "Дар" В.Набокова) // Звезда. 1999. №4. Классик без ретуши: Литературный мир о творчестве Владимира Набокова. М., 2000. 227 Бло Жан. Набоков. СПб., 2000. 228 СОДЕРЖАНИЕ "ЧЕМ ТАЛАНТЛИВЕЕ ЧЕЛОВЕК, ТЕМ ТРУДНЕЕ ЕМУ БЕЗ РОССИИ..." (А. КУПРИН). .............................8 СУДЬБЫ РУССКОЙ ПОЭЗИИ ЯМБ КАК ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ: ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ (1886-1939)...................................25 ТРАГИЧЕСКАЯ ИРОНИЯ Г. ИВАНОВА (1894–1958) ...........................................................................35 В МИРЕ "ЧЕРНОЙ МАДОННЫ": БОРИС ПОПЛАВСКИЙ (1903 – 1935). ...............................................58 ОСМЫСЛЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ СУДЬБЫ РОССИИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПИСАТЕЛЕЙ-ЭМИГРАНТОВ "ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО" В РОМАНАХ М. АЛДАНОВА (1886-1957)......................72 С ВЕРОЙ В РОССИЮ. М. ОСОРГИН (1878-1942) ...............................................................................80 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ И. С. ШМЕЛЕВА (1873 – 1950) ............................96 "ВЗВИХРЕННАЯ РУСЬ" В ИЗОБРАЖЕНИИ А.М. РЕМИЗОВА (1877 – 1957). .....................................108 "БЕССМЫСЛЕННОГО НЕТ..." ПРОБЛЕМА РУССКОЙ ДУХОВНОСТИ В ТВОРЧЕСТВЕ Б. ЗАЙЦЕВА (1882 – 1972)................................................................................................................................................142 ПРОБЛЕМА ЛИЧНОСТИ В ТВОРЧЕСТВЕ В. НАБОКОВА (1899 – 1977) ЛИРИКА В. НАБОКОВА ....................................................................................................................155 ДРАМАТУРГИЯ НАБОКОВА. .............................................................................................................166 РАССКАЗЫ В. НАБОКОВА ................................................................................................................171 "МАШЕНЬКА" (1926)...................................................................................................................181 "ЗАЩИТА ЛУЖИНА" (1930).......................................................................................................184 "ДАР" (1937) ..................................................................................................................................192 ПРОБЛЕМА АВТОРА В "ПАРИЖСКОЙ ПОЭМЕ" В. НАБОКОВА ..........................................................205 "BEND SINISTER" ("ПОД ЗНАКОМ НЕЗАКОННОРОЖДЕННЫХ") (1945-1946)................212 "ЛОЛИТА" (1955; 1967)................................................................................................................217 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ...........................................................................................................222