антропологический подход к изучению русского средневековья
advertisement
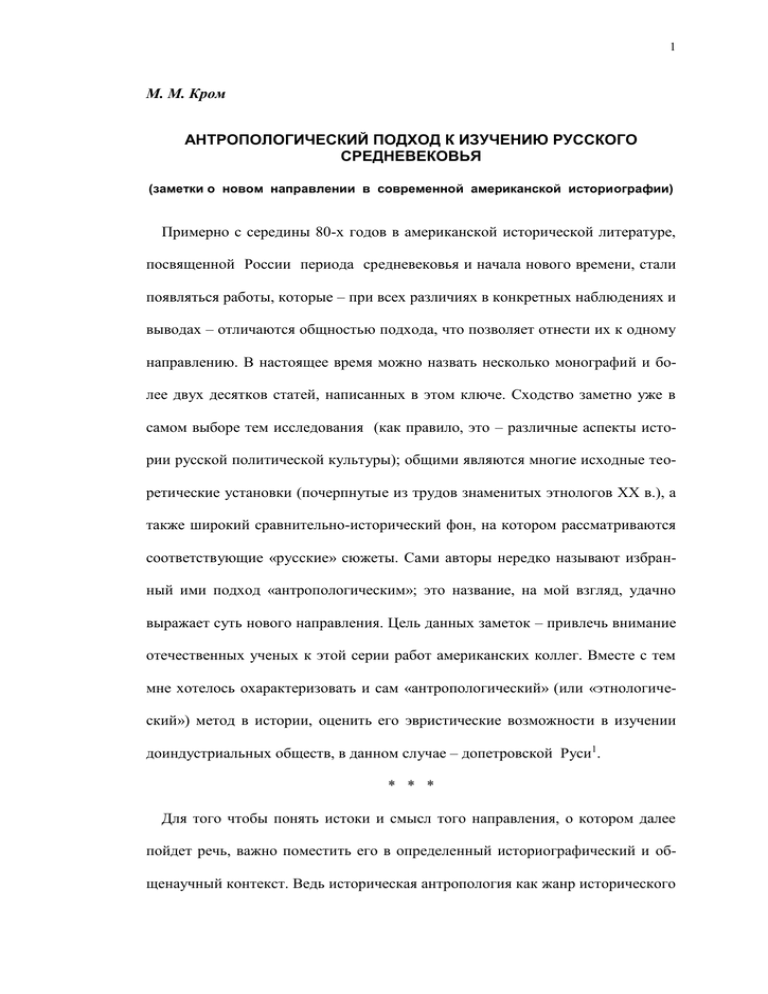
1 М. М. Кром АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ РУССКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (заметки о новом направлении в современной американской историографии) Примерно с середины 80-х годов в американской исторической литературе, посвященной России периода средневековья и начала нового времени, стали появляться работы, которые – при всех различиях в конкретных наблюдениях и выводах – отличаются общностью подхода, что позволяет отнести их к одному направлению. В настоящее время можно назвать несколько монографий и более двух десятков статей, написанных в этом ключе. Сходство заметно уже в самом выборе тем исследования (как правило, это – различные аспекты истории русской политической культуры); общими являются многие исходные теоретические установки (почерпнутые из трудов знаменитых этнологов XX в.), а также широкий сравнительно-исторический фон, на котором рассматриваются соответствующие «русские» сюжеты. Сами авторы нередко называют избранный ими подход «антропологическим»; это название, на мой взгляд, удачно выражает суть нового направления. Цель данных заметок – привлечь внимание отечественных ученых к этой серии работ американских коллег. Вместе с тем мне хотелось охарактеризовать и сам «антропологический» (или «этнологический») метод в истории, оценить его эвристические возможности в изучении доиндустриальных обществ, в данном случае – допетровской Руси1. * * * Для того чтобы понять истоки и смысл того направления, о котором далее пойдет речь, важно поместить его в определенный историографический и общенаучный контекст. Ведь историческая антропология как жанр исторического 2 исследования сформировалась сначала на материале средневековой Европы, и произошло это лет на десять раньше, чем были сделаны первые попытки распространить ту же исследовательскую парадигму на Московскую Русь. Разумеется, у каждого научного направления есть свои предтечи. Интерес к «структурам повседневности» (термин Ф. Броделя), народным поверьям и обычаям историки проявляли уже давно. Так, Андре Бюргьер в статье об исторической антропологии, написанной для справочника «Новая историческая наука» (1978) называет в этой связи работы Л. д’Осси, Ж. Мишле и книгу Марка Блока «Короли-чудотворцы», вышедшую впервые в 1924 г2. Переиздавая тот же труд М. Блока в 1983 г., Ж. Ле Гофф в своем предисловии назвал этого выдающегося ученого «основоположником исторической антропологии»3. Примечательно, однако, что, как отметил Ле Гофф в том же предисловии, именно «в последние несколько лет», т.е. на рубеже 70 – 80-х годов, значение этого пионерского исследования было в полной мере осознано4. То же можно сказать и о работе Э.Канторовича «Два тела короля», первое издание которой в 1957 г. в США осталось почти незамеченным5. И уж совсем не могла вписаться в современный ей историографический контекст замечательная книга Б.А.Романова «Люди и нравы Древней Руси», появившаяся в сталинском Советском Союзе в 1947 г. во время набиравшей обороты кампании по борьбе с «космополитизмом»6. Все перечисленные выше новаторские работы были востребованы и оценены по достоинству лишь сравнительно недавно, уже после смерти их авторов. Понадобился решительный поворот в ориентации мировой исторической науки, смена ряда исследовательских парадигм, чтобы историческая антропология из подвижнических усилий отдельных ученых-энтузиастов превратилась 3 в широкое общепризнанное течение исторической мысли, вобравшее в себя целый спектр смежных подходов и направлений. Этот поворот пришелся главным образом на 60-е годы, когда, по признанию Ж. Дюби, французские историки испытали «разочарование в возможностях экономической истории» и обратились к изучению ментальности; с другой стороны, именно тогда на волне деколонизации этнология переживала бурный расцвет. Знакомство с трудами этнологов-африканистов, успехи социальной антропологии (в лице, прежде всего, К. Леви-Строса) показали медиевистам необходимость постижения иных систем ценностей и форм мышления, отличных от тех, что присущи европейцам Нового времени; необходимость детального изучения семьи, структур родства, без чего, как подчеркивает Дюби, «невозможно понять жизнь феодального общества»7. То воздействие этнологии на выработку новых подходов в исторической науке, о котором поведал мэтр французской медиевистики, испытали и историки других стран. В итоге в 70-е годы сложилось влиятельное международное научное направление – историческая антропология (само название было сконструировано по образцу структурной антропологии Леви-Строса и американской культурной антропологии). Свой вклад в ее развитие внесли (называю только некоторые, самые известные имена) Э. Леруа Ладюри, Ф.Арьес, М.Вовель во Франции, Н.З.Дэвис и Р.Дарнтон в США, К. Томас, А.Макфарлейн и П.Берк в Великобритании, К.Гинзбург и Дж. Леви в Италии, А.Я.Гуревич в России… Завоевав мировое признание, новое направление получило вместе с тем весьма расплывчатые очертания, включив в себя самую разнообразную тематику: народную культуру и политическую антропологию, историю семьи и ис- 4 торию питания, восприятие сновидений и отношение к смерти, историю частной жизни и т.п. Если в Германии под исторической антропологией прежде всего понимается история повседневности, то во Франции особый акцент делается на истории различных социальных практик8. Если одни исследователи, подобно А. Бюргьеру или А.Я.Гуревичу, придерживаются предельно широкого взгляда на историческую антропологию и ее задачи, по существу отождествляя ее с современным состоянием исторической науки вообще 9; то другие оценивают это направление более критически, указывая не только на его сильные стороны, но и на возможные границы применения историко- антропологического подхода10. Неудивительно поэтому, что какого-то «определения» направления, о котором идет речь, не существует. Можно, однако, попытаться выделить ряд особенностей, присущих исследованиям этого рода. Удачная, на мой взгляд, попытка такой характеристики содержится в книге английского историка Питера Берка «Историческая антропология Италии начала нового времени». П. Берк называет пять отличительных черт исторической антропологии. Вопервых, она – в отличие от многих работ по социальной истории, занятых описанием общих тенденций на основании количественных данных, - «намеренно качественна и фокусирует внимание на особых случаях». Во-вторых, авторы историко-антропологических исследований избирают предметом своего изучения не судьбы миллионов людей, а подчас малые сообщества (вроде деревни Монтайю, описанной в известной книге Э. Леруа Ладюри). Такая «микроскопичность» нужна для придания исследованию «большей глубины, большей красочности и жизненности». В-третьих, вместо каузальных объяснений на основе долговременных тенденций – объяснений, которые современники не по- 5 няли бы, и тенденций, о существовании которых они не подозревали, - историки-антропологи прибегают к тому, что известный этнолог К. Гирц назвал «плотным, насыщенным описанием (thick description)», т.е., поясняет Берк, к «интерпретации социального взаимодействия в данном обществе в терминах норм и категорий самого этого общества». В-четвертых, историки антропологического направления уделяют большое внимание символизму повседневной жизни: обыденным ритуалам, рутине, манере одеваться, есть, общаться друг с другом, жестам и т.д. Наконец, в-пятых, теоретические истоки: если социальная история вдохновляется (прямо или косвенно) теориями Маркса и Вебера, то для историков-антропологов их «великая традиция» идет от Эмиля Дюркгейма и Арнольда ван Геннепа к Марселю Моссу и далее к таким современным фигурам, как Клиффорд Гирц, Виктор Тернер и Пьер Бурдье.11 Здесь, пожалуй, необходим ряд пояснений. Из предыдущего изложения видно, что историческая антропология, так сказать, - «дитя» междисциплинарности; она многое заимствовала из социальных наук и, прежде всего, - из этнологии. Но в каком смысле можно в данном случае говорить о заимствовании? Одно дело – использование в работах историков конкретных наблюдений, сделанных этнографами и антропологами в разных частях света (так, в трудах И.Я.Фроянова и его учеников содержатся многочисленные ссылки на «Золотую ветвь» Д. Фрэзера и исследования советских этнографов)12. Другое дело – перенос в другую область знания некоторых важнейших принципов, приемов наблюдения и интерпретации полученных данных. В случае исторической антропологии имеет место именно второй вариант «заимствования». Ключевое понятие, которое разделяют историки этого направления с современными антропологами, — “инаковость” чужой культуры, ее непохо- 6 жесть на ту, к которой принадлежит сам исследователь. Процесс исследования становится при таком подходе диалогом культур, разделенных в пространстве и (если речь идет о европейском средневековье или другой эпохе «старого порядка») во времени13. Акцент делается на выявлении особенностей изучаемой культуры, ее «странностей» (на взгляд стороннего наблюдателя). По словам Клиффорда Гирца, американского этнолога, чьи работы особенно часто цитируются историками, «задача этнографии… заключается на самом деле в создании (наряду с искусством и историей) таких описаний, которые позволяли бы перенастраивать наше внимание». И далее он продолжает: «Формирование представлений о различиях (имеется в виду не изобретение новых, а обнаружение реальных различий) остается наукой, в которой мы все нуждаемся»14. Таким образом, вместо поиска типического, построения генерализирующих объяснений, общемировых моделей развития, - т.е. той парадигмы, которая господствовала в науках о человеке в XIX и большей части XX в., - ученым предлагается теперь присмотреться к локальным особенностям и вариантам, осознать фундаментальное многообразие культурно-исторического процесса в разных уголках земного шара. Кроме того, появилась потребность вернуть истории «человеческое измерение», оценить возможности проявления свободной человеческой воли среди безличных структур и различных детерминирующих тенденций. Желаемый эффект подобной «перенастройки внимания» – проверка на прочность ряда предложенных ранее макроисторических теорий и концепций и внесение в них необходимых коррективов. Эти исходные установки определяют и изменение масштаба анализа – отсюда то ограничение исследовательского поля во времени и в пространстве, которое П. Берк в приведенной выше характеристике отметил как отличительную 7 черту исторической антропологии. Это роднит данное направление с микроисторией - течением, также заявившим о себе в 70-е годы и тоже испытавшим на себе влияние этнологии15. Примечательно, что такие широко известные книги, как «Монтайю» Леруа Ладюри (1975) и «Возвращение Мартена Герра» Натали Земон Дэвис (1983), могут быть с равным основанием причислены к обоим направлениям: и к исторической антропологии, и к микроистории. Но дело не только в масштабе наблюдения. Влияние этнологии заметно и в самой исследовательской процедуре: основные усилия направляются на постижение смысла изучаемой культуры, которая понимается семиотически, т.е. как система знаков. Для этого тщательно фиксируются и анализируются малозначительные на первый взгляд слова, жесты, поступки участников «социальной драмы»; их поведение «прочитывается» как некий текст. Затем добытые исследователем «кристаллы» смысла соединяются им воедино с учетом изученных отношений между элементами системы: так создается обобщенная характеристика данной культуры. Подобный анализ конкретного события, ритуала, мифа и т.д. – это и есть thick description Клиффорда Гирца, т.е. «плот- ное», насыщенное интерпретациями, описание16. Сам американский этнолог подчеркивал гипотетичность реконструируемой таким путем картины17. Риск произвольного толкования и попадания в замкнутый герменевтический круг здесь действительно велик: на это не раз указывали критики Гирца18. Тем не менее, как мы вскоре увидим, данная исследовательская парадигма охотно используется современными историками – в частности, применительно к российской истории. Наконец, нельзя не сказать об отношении приверженцев исторической антропологии к источникам. Они исходят из того, что всякая социальная реаль- 8 ность «непрозрачна», она словно маскируется, и поэтому исследователь с недоверием должен относиться к тому, что изучаемое им общество прямо заявляет о себе. Предпочтение отдается косвенным свидетельствам, «проговоркам», а также таким массовым источникам, которые не содержат какого-то привнесенного осознанного представления о действительности (в качестве примера часто приводятся прейскуранты цен или приходские книги). С их помощью исследователь может понять традиционные для данной культуры образ мышления и способы поведения, которые ее носители в силу привычки подчас уже не замечают. Так за видимой реальностью проступают скрытые механизмы и логика19. Охарактеризовав в общих чертах антропологическое направление в истории, мы теперь можем перейти к критическому анализу работ американских исследователей допетровской Руси, выполненных в том же ключе. * * * Пожалуй, стоит начать этот обзор со статьи профессора Гарвардского университета Эдварда Кинана, известного российским коллегам прежде всего своей сенсационной попыткой (вызвавшей продолжительную дискуссию) оспорить подлинность знаменитой переписки Грозного и Курбского 20. В 1986 г. в журнале «Русское обозрение» (Russian Review) Э.Кинан опубликовал большое эссе под названием «Традиционные пути московской политики»21. Несмотря на то, что этот очерк не имел научного аппарата и был написан в остро полемическом, публицистическом стиле (а, возможно, именно поэтому!), он получил широкий резонанс в американских научных кругах. Уже в следующем году тот же журнал опубликовал ряд критических откликов на статью Кинана22. Популярности данного сочинения немало способствовало и то, что (как отмечается в 9 авторском предисловии) на протяжении десяти лет, предшествовавших его публикации, Кинан знакомил своих студентов и коллег с ранними версиями этого концептуального труда. И хотя автор не употребляет самого термина «историко-антропологический подход», его работа дала импульс развитию именно этого направления в американской русистике. Теоретическая основа концепции Кинана весьма эклектична: автор явно черпал вдохновение в социологии, бихевиористской психологии и культурной антропологии. Влияние последней проявилось уже в выборе им ключевого понятия – политическая культура23. Под этим термином автор понимает «комплекс верований, практик и ожиданий, который – в умах русских – придавал порядок и значение политической жизни и… позволял его носителям создавать как основополагающие модели их политического поведения, так и формы и символы, в которых оно выражалось»24. Соответственно, Э. Кинан поставил своей задачей описать «фундаментальные черты русской политической культуры» и проследить ее развитие на протяжении пяти столетий – с середины XV до 50 – 60-х годов XX века. Основная мысль, проходящая красной нитью через всю статью американского историка, – тезис о континуитете, преемственности политической культуры со времен Московской Руси и вплоть до советского режима. В свете его теории генеральный секретарь и Политбюро оказываются «законными наследниками» московских царей и их бояр. Но прежде чем рассматривать основные положения концепции Кинана, нужно упомянуть о его весьма оригинальном (мягко говоря) подходе к источникам по русской истории. Выше уже говорилось о свойственном антропологам представлении о закрытости, «непрозрачности» любого изучаемого ими общества; вследствие чего 10 прямые высказывания носителей данной культуры считаются частью мифологии. Исследователю ничего другого не остается, как только пробиваться окольными путями к потаенному смыслу, скрытому за поверхностью общественных явлений. Подобный «разоблачительный» подход доведен Э. Кинаном до крайности. Московская политическая жизнь, утверждает американский исследователь, на протяжении столетий была окружена плотной завесой тайны, за которую не могли проникнуть «непосвященные»: к ним Кинан относит не только иностранных послов, но и церковников, в руках которых находилось летописное дело. Сами же члены правящей элиты – царь и его бояре – хранили заговор молчания по поводу того, что происходило в кремлевских палатах. Как следствие, ни русские, ни иностранные источники не содержат адекватного описания московской политической системы25. Отказывая столь решительно в доверии всем источникам по политической истории допетровской Руси, Э. Кинан получает простор для самых смелых (и произвольных!) построений. Так, он утверждает, что самодержавие, постоянно декларируемое всемогущество царя – всего лишь миф, что-то вроде «защитного экрана», скрывавшего суть политической системы. На самом же деле эта система представляла собой олигархию, а великие князья и цари, будучи ее центральным звеном, являлись «заложниками олигархии боярских кланов»26. Мало того: оказывается, Россия и в дальнейшем тяготела к коллективной и олигархической форме правления, и ее система власти «функционировала наилучшим образом, когда номинальный автократ был на деле политически слабым»27. Не менее интригующим выглядит тезис Э. Кинана о существовании внутри московской политической культуры трех «глубоких структур», трех вариантов 11 (их можно назвать «субкультурами»): «культуры деревенской», «бюрократической» и «придворной». При этом бюрократию (дьячество) в Московии он считает структурой необходимой, даже незаменимой, но стоявшей вне политики, не имевшей собственных политических интересов и реальной власти. Основное же внимание уделяется двум другим структурам – деревенскому миру и государеву двору – между которыми, по Кинану, существовало принципиальное внутреннее сходство. Подобно тому, как основная жизненная стратегия русской деревни была направлена на выживание в суровых природноклиматических условиях, и это диктовало необходимость коллективных решений, подчинения индивида групповым интересам, так и придворная элита, объединенная вокруг великого князя (царя), ради проведения эффективной политики (централизации, территориальной экспансии и т.д.) и сохранения контроля над ресурсами страны стремилась избежать «политического хаоса» и потому должна была поддерживать стабильность, предотвращая вспышки борьбы между боярскими кланами28. Все эти остроумные, но по существу ничем не обоснованные гипотезы вызывают целый ряд вопросов. Многие из них уже прозвучали в ходе упомянутой выше дискуссии 1987 г. вокруг статьи Кинана на страницах «Русского обозрения». Можно, например, вслед за Робертом Крамми спросить: почему (в отличие от современных ей европейских стран) внутренняя жизнь Московии была столь засекречена? И если реальная власть на самом деле принадлежала боярам, то что заставляло их это скрывать? Что давало им поддержание мифа о царе-самодержце для сохранения своей олигархической власти? На все эти вопросы Э. Кинан не дает ясного ответа29. А главное, остается загадкой, каким 12 образом, благодаря каким процедурам черпает он информацию из источников, которые сам же объявляет вначале не заслуживающими доверия. Однако, ценность «Традиционных путей московской политики» заключается, на мой взгляд, не в конкретных утверждениях автора, большинство из которых легко можно оспорить, а в предложенном им оригинальном подходе к анализу политической системы Московии. Вместо традиционного институционального подхода, т.е. истории учреждений (Боярской думы, приказов и т.д.), Кинан демонстрирует антропологический подход, при котором основное внимание сосредотачивается на личных (в первую очередь, родственных) отношениях внутри правящей элиты. При этом исследователь затрагивает действительно важную проблему, когда подчеркивает «неформальный» характер московской политической системы: там не существовало необходимой связи между реальной властью того или иного лица и административной должностью или функцией; степень влияния определялась близостью к особе царя – отсюда значение родства с правящей династией и государевых свадеб для придворной элиты. «Политика в Московии была политикой статуса, а не функции, - резюмирует Кинан,- и была, следовательно, игрой, разыгрываемой исключительно великими родами, которые формировали двор великого князя»30. Сам автор, судя по его собственному признанию, и не стремился к доказательности выдвигаемых им положений; опубликованный им текст явился скорее некой «интеллектуальной провокацией», призванной стимулировать дальнейший научный поиск31. И надо признать, что это Кинану удалось. Свидетельством тому может служить не только полемика с ним в «Русском обозрении» в 1987 г., но и опубликованная в том же году монография его ученицы Нанси Шилдс Коллман «Родство и политика: Формирование московской поли- 13 тической системы, 1345 – 1547», в которой развиваются многие положения концепции гарвардского профессора. Публикации книги Н.Ш. Коллман предшествовало появление нескольких ее статей, в которых обсуждались отдельные сюжеты и аспекты избранной темы32. Выход самой книги стал заметным событием в зарубежной русистике: многие ведущие научные журналы Европы и Америки поместили рецензии на это издание33. В России откликов на работу Н.Ш. Коллман почти не последовало, если не считать кратких критических замечаний в книге Р.Г.Скрынникова и в недавней статье автора этих строк34. Нижеследующие заметки призваны в какой-то мере восполнить этот пробел. Свое исследование Н. Ш. Коллман называет «антропологическим анализом политики», поскольку оно «фокусирует внимание на отношениях между индивидами и группировками, а не на классах или политических институтах»35. Во введении к книге исследовательница именует избранный ею подход «патримониальным» (по М. Веберу); своими предшественниками в этом направлении она считает А.Е.Преснякова, С.Б.Веселовского и Э. Кинана. В основе этого подхода (в интерпретации Коллман) лежит предположение о том, что политические отношения в средневековых обществах ( в том числе в Московии) не были формализованы и институционализированы; они определялись традицией и строились на личных связях – родстве, дружбе, зависимости. Свой подход Н.Ш. Коллман противопоставляет «рационалистическому» подходу, свойственному большинству российских историков XIX – XX вв., изображавших московскую политическую жизнь в виде отношений абстрактных общностей – государства и сословий (аристократии, дворянства), причем отношения эти мыслились как антагонистические. Американская исследовательница отстаива- 14 ет в своей книге (вслед за Э. Кинаном) противоположный взгляд, утверждая, что политический строй Московии характеризовался не столько конфликтностью, сколько внутренней сплоченностью и целостностью36. Московская политическая система, как утверждает Н.Ш.Коллман, сложилась в XIV столетии и по крайней мере в течение двух последующих веков сохраняла почти в неизменном виде присущие ей «от рождения» черты. Ядро этой системы составляли великий князь и его бояре. В XIV в. они представляли собой, по мнению американского историка, сплоченную военную дружину во главе со своим вождем – московским князем; отношения внутри нее строились на основе личной преданности, покровительства и взаимозависимости. Административная система оставалась весьма примитивной. Князь управлял своим княжеством – вотчиной совместно с боярами, с которыми делил и доходы, собираемые с его территории (система кормлений). Эпоха Ивана III, считает Коллман, не внесла принципиальных изменений в эту систему. И в XVI в. реальная власть принадлежала лишь благородным воинам – боярам; все остальные социальные группы – купцы, дьяки, церковные иерархи – в силу сложившихся традиций были исключены из процесса принятия решений37. Предложенная схема страдает, на мой взгляд, излишней статичностью; в ней не учитывается эволюция системы управления и роли в ней боярства на протяжении двух изучаемых столетий. Нельзя не замечать, например, возрастания сложности управления в конце XV – XVI вв., появления тенденции к его специализации и в связи с этим – роста роли и значения дьяческого аппарата. С другой стороны, и бояр XVI века едва ли верно считать все той же княжеской дружиной, этакими рыцарями, полагавшими зазорным для себя заниматься чем-то иным, кроме военной службы. Напротив, в ту эпоху они предпочитали 15 находиться в Москве, при государеве дворе, покидая столицу лишь во время крупных военных кампаний, дабы возглавить полки. В обычный же период, как показывают разряды, «большие воеводы» – бояре появлялись на берегу Оки (передовом рубеже обороны от крымцев) лишь в летнее, наиболее опасное время, после чего возвращались в Москву38. Мало того, мы располагаем свидетельствами о том, что отправка на службу боярина иной раз могла быть признаком опалы или потери им влияния при дворе39. Да и служба могла быть почетной не только военная: бояре нередко назначались главами важных дипломатических миссий. В одном из сборников XVI в. сохранилась грамота новгородского архиепископа Феодосия, адресованная боярину В.Г. Морозову (около 1542 г.): в ней он благодарит Василия Григорьевича за письмо, удивляясь таланту автора и восхищаясь «изяществом языка», а также поздравляет боярина с успешным завершением его посольства в Литву40. Так что можно предположить, что в боярской среде XVI в. ценилась не только воинская доблесть, но и дипломатические способности, и даже литературный дар. Процитированный документ интересен и в другом отношении: он проливает свет на тесные связи между придворной верхушкой и иерархами церкви. В той же грамоте Феодосия В.Г.Морозову упоминаются, между прочим, некие взаимные услуги участников переписки: Василий Григорьевич хлопотал о месте в Софийском соборе для «своего» священника Григория, а архиепископ, пообещав «устроить» его туда, как только «даст Бог, место церковное будет», просил, в свою очередь, боярина о получении великокняжеской грамоты в деле уплаты церковной дани холмогорскими попами41. Известно и другое послание Феодосия некоему боярину, написанное в конце 40-х или начале 50-х годов 16 XVI в., в котором владыка благодарит за выхлопотанное для него освобождение софийских детей боярских от участия в очередном казанском походе42. Но контакты церковных и светских властей отнюдь не ограничивались оказанием подобных услуг. В сохранившихся посланиях ряда авторитетных духовных лиц первой половины XVI в. (Иосифа Волоцкого, Максима Грека, Зиновия Отенского, того же Феодосия и др.) обсуждаются не только богословские вопросы, но и проблемы государственного управления43. Участие митрополита в совещаниях государя с боярами по важнейшим вопросам в 30-50-х годах XVI в. следует считать скорее правилом, чем исключением. Хорошо известен вклад Макария в разработку реформ 50-х годов44. Исследователями давно отмечено влияние духовенства на определение восточного направления русской внешней политики (прежде всего, наступления на Казанское ханство) 45. Поэтому тезис Кинана – Коллман об отсутствии у церкви собственных политических интересов, о неучастии духовенства в выработке государственных решений следует, на мой взгляд, признать ошибочным. То же можно сказать о недооценке этими американскими учеными роли дьячества и управленческого аппарата в целом в XVI в. Источники же свидетельствуют о другом. Не выходя за верхнюю хронологическую грань книги Коллман (1547 г.), можно сослаться, например, на полученную в сентябре 1534 г. литовскими властями информацию о том, кто «на Москве всякии дела справують»: в этом списке было только двое бояр, вслед за которыми шли имена двух дворецких и пятерых самых влиятельных дьяков46. Еще не в полной мере оценено исследователями значение для политической истории такого источника, как духовные грамоты. Между тем, они дают ясное представление о социальной среде, к которой принадлежал завещатель. Так, боярин кн. 17 М.В.Горбатый в духовной грамоте (около 1535 г.) назначил своими душеприказчиками бояр кн. В.В.Шуйского и кн. И.Ф.Оболенского, а также дворецкого И.Ю.Шигону Поджегина и дьяка Третьяка Ракова47. В свою очередь Шигона Поджегин в завещании (1541 г.) в качестве душеприказчиков назвал боярина кн. А.Д.Ростовского, казначея И.И.Третьякова и дьяка И.Н.Одинца- Дубенского48. Налицо, таким образом, прочные связи бояр с дьяками, дворецкими, казначеями. Все они входили в придворную элиту. Поэтому сводить политическую систему Московии XVI в. к одним только боярам совершенно нет оснований. Состав конкретных лиц, допущенных к принятию важнейших решений, конечно, менялся с течением времени, но там всегда находилось место, помимо обладателей думских чинов, и для виднейших представителей нарождающейся бюрократии. Прислушивался этот синклит и к голосу иерархов церкви. Наряду с некоторыми спорными, недостаточно аргументированными положениями монография Н.Ш.Коллман содержит и ряд ценных наблюдений. Наибольший интерес, на мой взгляд, представляют те главы книги, где детально анализируется вопрос о том, как происходило пожалование в бояре. Несмотря на то, что данная проблема давно и плодотворно исследуется историками (достаточно назвать имена В.О.Ключевского, С.Б.Веселовского, А.А.Зимина, Г.Алефа, А.Клеймолы, Р.Крамми), Коллман удалось внести свой вклад в ее изучение. Традиционно считается, что пожалование боярством зависело от трех факторов: службы, государевой милости и происхождения. Н.Ш.Коллман показывает, и вполне убедительно, что в изученный ею период служба не имела сколько-нибудь важного значения для получения боярского (или окольничего) чина: 18 выслужить его в ту эпоху было невозможно; сам чин имел скорее статусное значение, чем был наградой за заслуги. Определяющее же значение имело происхождение: в ряде семейств на протяжении многих поколений боярский чин был наследственным. Коллман показывает, в какой очередности получали боярство члены рода, входившего в узкий круг особо приближенных ко двору семей (братья в порядке старшинства, потом сыновья старшего из них и т.д.). Для этого также требовалось достижение «подходящего» возраста (около 30 лет от роду, не менее); чем могущественнее была та или иная семья, тем в более молодом возрасте ее член мог стать боярином, конкретное же время пожалования определялось придворной политикой 49 . «В принципе, люди станови- лись боярами потому, что они родились в наследственных боярских семьях и дожили до унаследования этого придворного чина», - так резюмирует свои наблюдения исследовательница50. Соглашаясь в принципе с этим выводом, нельзя, однако, пройти мимо вопроса, заданного одним из рецензентов книги – Ричардом Хелли: как возникла эта система в XIV в. и как позднее впервые получали боярство лица из небоярских семей?51 На этот вопрос Коллман не дает убедительного ответа. По ее мнению, пожалование какому-либо лицу боярства, допущение новых семей во «внутренний круг» осуществлялось великим князем с согласия всех бояр; такое согласие требовалось якобы и для наложения опалы на кого-либо из обладателей думского чина52. Это, однако, лишь произвольное предположение, которое не может быть подкреплено конкретным материалом. Ссылка на события эпохи «боярского правления» 1530 – 1540-х годов, к которой прибегает Коллман, в данном случае некорректна, поскольку юный Иван IV был тогда фактически недееспособен и бояре сами распоряжались раздачей думских чинов. 19 Недооценка роли монарха в придворной политике связана с неоднократно повторяемым тезисом (уже знакомым нам по статье Кинана) о том, что самодержавие было лишь «фасадом», за которым великий князь делил власть со своими боярами53. Коллман совершенно права, когда говорит о том, что «рост московского самодержавия, это история не только власти государя, но его взаимодействия с боярами и бояр друг с другом»; и ее предложение «взглянуть на самодержавие изнутри, с точки зрения людей, которые правили Московией…»54, – заслуживает всяческой поддержки. Однако это «взаимодействие» государя со своими советниками (и не только боярами, но и митрополитом, дьяками, дворецкими и т.д.) могло, очевидно, приобретать различные формы, варьируя в широком диапазоне: от боярской олигархии во время малолетства Грозного до ничем не прикрытого деспотизма эпохи опричнины. В этом ряду умеренная автократия Ивана III, Василия III или Бориса Годунова займет как раз «среднее» положение, соответствуя, возможно, наиболее типичному, «нормальному» состоянию московской политической системы. Оценивая книгу Коллман в целом, нужно подчеркнуть, что она явилась первой монографией по политической антропологии Московской Руси. Акцент на личных, неформальных отношениях внутри правящей элиты (родстве, патронате и клиентеле), который делает исследовательница, для той эпохи (до середины XVI в.), когда государственные учреждения еще только зарождались, представляется мне вполне оправданным. Что же касается отмеченных выше слабых мест предложенной концепции (статичность, некоторый схематизм, игнорирование тех источников, которые противоречат сконструированной историком модели), то, на мой взгляд, они объясняются не недостатками самого антропологического подхода как такового, а, напротив, несоблюдением неко- 20 торых «канонов» этого направления, выработанных к 80-м годам нашего столетия на материалах западноевропейской истории. Так, как уже говорилось выше, историческая антропология отдает предпочтение микроанализу, суживая поле исследования хронологически и географически. Между тем проанализированные выше работы Кинана и Коллман предлагают широкие объяснительные модели – в одном случае для пятисот лет, а в другом – для двух столетий российской истории. Антропологический подход предполагает повышенное внимание к категориям и понятиям изучаемой культуры, в то время как в изображении названных авторов общество допетровской Руси выглядит чересчур светским и политизированным: бояре представляются искусными стратегами, планирующими сложные комбинации; любая великокняжеская свадьба (какого бы происхождения ни была невеста) объявляется плодом далеко идущей боярской политики55. Уместно напомнить здесь, что сам термин политика был неизвестен на Руси (по крайней мере до 60-х годов XVII в., когда его употребил Юрий Крижанич), а представления о власти и ее носителе-государе были окрашены преимущественно в религиозно- нравственные тона56. Вероятно, исследователям при реконструкции политической системы определенной эпохи следовало бы полнее учитывать свойственный людям того времени менталитет. Примечательно, что по мере того, как антропологический подход завоевывал все большее признание среди американских историков России, работы, выполненные в этом ключе, всё больше соответствовали отмеченным выше характерным признакам данного направления. В этой связи прежде всего следует упомянуть исследование Валери Кивельсон, которое можно считать удачным опытом применения методов политической антропологии к истории России 21 XVII в. Отдельные главы этой работы были опубликованы в 1993 – 1994 гг. в виде статей (в том числе и по-русски)57, а в 1996 г. вышла большая монография того же автора под названием «Самодержавие в провинциях: Московское дворянство и политическая культура в XVII веке»58. Книга была задумана как региональное исследование: в центре внимания автора находятся судьбы провинциального дворянства пяти городов Центральной России (Владимир, Суздаль, Шуя, Лух и Юрьев Польский) от Смуты до кануна петровских реформ. Но ограничение масштаба исследования рамками одного региона не мешает историку ставить в своей работе ключевые проблемы, имеющие существенное значение для понимания развития всей страны в XVII в. Для того, чтобы понять московскую политическую систему как единое целое, считает В.Кивельсон, необходимо перенести внимание со столицы на провинцию и посмотреть, как самодержавие действовало за пределами Москвы. Через изучение уездного дворянства и его взаимодействия с государством автор надеется найти ответ на вопрос: как царская власть при постоянной нехватке управленческих кадров справлялась с управлением огромной территорией? Это было возможно только при участии местного служилого люда59. В начальных главах книги рассматриваются различные аспекты жизни владимиро-суздальского дворянства: служба, землевладение, семейно- родственные связи. На основе обширного архивного материала автор прослеживает историю ряда местных служилых родов (Голенкиных, Обуховых, Козловых и др.) на протяжении шести–семи поколений, с конца XVI до конца XVII в., и приходит к важному выводу о тяготении провинциального дворянства к родным местам. При этом в отличие от английских джентри (с которыми, по мнению Кивельсон, дети боярские вполне сравнимы) служилые люди 22 обнаруживали привязанность не к конкретному клочку земли (семейные владения в результате разделов постоянно дробились), а к определенному региону в целом. Их заботы и интересы также носили локальный и частный характер: материальное обеспечение своей семьи, удачная выдача дочерей замуж, земельные приобретения, упрочение личного и семейного статуса в местном обществе. Причем, как отмечает историк, в тех случаях, когда законы ограничивали права родителей позаботиться о будущем своей дочери или умирающего – обеспечить свою вдову, отцы и мужья – дворяне просто игнорировали закон. А местный воевода и его аппарат привычно одобряли и регистрировали подобные сделки, противоречившие закону. Самодержавие прекрасно функционировало в провинциях в значительной мере потому – делает вывод исследовательница – что оно сумело предоставить местной дворянской элите сферу автономной деятельности. С другой стороны, сосредоточение основных интересов служилых людей в тесных уездных рамках делало их по большей части равнодушными к «большой политике» общероссийского масштаба60. В следующих главах автор наглядно показывает, почему на местах не могло возникнуть какой-либо дворянской оппозиции центральной власти. «Сотрудничество» администрации с верхушкой уездного общества было выгодно обеим сторонам. Присылаемый из Москвы воевода, даже если он не имел родственников во вверенном его попечению уезде (а по меньшей мере четверть от общего числа воевод, сменившихся между 1609 и 1700 гг. в изученном Кивельсон регионе, их имела), вскоре обзаводился там полезными связями: как иначе он мог бы управлять при крайне малочисленном штате, находившемся в его распоряжении! С другой стороны, получение государственной должности от- 23 крывало для местных служилых людей возможности обогащения (губной староста) или повышения престижа (окладчик, выборный дворянин)61. В рамках избранного В. Кивельсон подхода получают убедительное объяснение такие черты московской политической системы, ставшие притчей во языцех уже у современников, как протекционизм, взяточничество, кумовство. Личные, неформальные связи в политике компенсировали многочисленные изъяны еще во многом «недоцентрализованного» государства. Мало того, эти привычные связи являлись формой адаптации общества к новому явлению – бюрократии, прораставшей в «расщелинах» (interstices) патриархальновотчинного режима. Сын боярский из провинции, прибыв в столицу, прежде всего искал влиятельного покровителя и обращался со своим делом в тот приказ, где служил его родственник, земляк или хороший знакомый. В то же время на суде он не упускал случая обвинить своего противника в том, что тот действовал «по дружбе» или «недружбе», по родству и иным подобным запрещенным законом мотивам. Этот двойной стандарт отражал противоречия, свойственные политической культуре переходной эпохи: необходимость законности, нелицеприятного правосудия уже хорошо осознавались, но в то же время власть и управление по-прежнему мыслились в категориях неформальных отношений: милости, заступничества, покровительства62. Интересен и сравнительно-исторический аспект проблемы: В. Кивельсон утверждает, ссылаясь на новейшие исследования по истории Англии и Франции XVII в. (Ш. Кеттеринг, В. Бейка, М. Кишланского, Д. Бьена и др.), что сходная с Московией картина государственного управления наблюдалась и в тогдашних западноевропейских монархиях; и там тоже личные связи, родство и покровительство «дополняли» собой недостаточно развитую бюрократию. 24 Отличия же коренились в политическом дискурсе: в Европе XVII в., сколь бы много ни значили милость монарха или покровительство какого-либо знатного лица, существовала идея о примате публичных интересов над частными, об «общественном благе», «естественном законе» и т.п.; сама система государственных институтов была общепризнанна. В Московии же при первых Романовых «риторика власти» все еще была сильно персонифицированной, а более формализованные и безличные методы управления оставались до конца столетия как бы в тени63. Книгу «Самодержавие в провинциях» можно считать удачным образцом историко-антропологического исследования, выполненного на материале допетровской Руси. Выбранный автором масштаб позволил ей словно под увеличительным стеклом рассмотреть будни провинциальной жизни Московии, управленческую рутину в столице и на местах. И исследовательский подход, и характер использованных документов (судебные дела, служебная и личная переписка и т.д.) сближают монографию Кивельсон с аналогичными работами по истории Европы начала нового времени, которые, несомненно, повлияли на выработку авторской концепции. В американской же русистике ее книга продолжает линию, начатую более ранними работами Кинана и Коллман. Впрочем, среди сторонников антропологического подхода к изучению русского средневековья можно увидеть некоторые различия в оценках и выводах, которые сами эти ученые, похоже, склонны пока не замечать. Так, Н.Ш.Коллман считает Московию типично средневековым государством, не похожим на европейские монархии начала нового времени; управление Россией в XVI в. напоминает ей Франкское государство эпохи Каролингов (среди российских ученых сходной точки зрения придерживается С.М.Каштанов64). И 25 в XVII в., по мнению Коллман, московский политический строй принципиально не изменился65. Кивельсон же, как мы видели, ставит Московию XVII в. в один ряд с современными ей западноевропейскими государствами, хотя и отмечает важные особенности, отличавшие русскую политическую культуру от французской или английской. Хотя обе исследовательницы не вступают в полемику друг с другом, различия в понимании ими московской политической системы налицо: Н.Ш.Коллман делает акцент на архаичности и инертности этого «патримониального» (по ее словам) строя, а В.Кивельсон подчеркивает его эволюцию в XVI – XVII вв., переплетение в нем старого и нового накануне петровских реформ. Второй подход кажется мне более соответствующим исторической действительности. К настоящему времени историко-антропологическое направление получило широкое распространение среди американских русистов: новые работы, выполненные в этом ключе, появляются каждый год. Охарактеризовать их все в рамках одной статьи не представляется возможным. Поэтому ниже я ограничусь кратким обзором подобных исследований, сгруппировав их по основным темам. Понятию чести в допетровской Руси посвятила цикл своих работ Нанси Коллман; в этот цикл входят несколько статей и только что вышедшая из печати монография66. Источниковую базу исследования составили (наряду с законодательными актами) архивные и опубликованные документы, описывающие более 600 судебных тяжб по делам об оскорблении чести. Хронологические рамки работы – от 1560-х годов до начала XVIII века. В отечественной историографии изучением эволюции правовых норм, регламентировавших возмещение за «бесчестье», занимался Б.Н. Флоря. По его 26 мнению, эта эволюция, прослеживаемая по юридическим памятникам, отражает «правовое обособление феодалов от основной массы населения», формирование сословной структуры общества, что выразилось в появлении соответствующей шкалы денежных компенсаций за нанесенное оскорбление – в зависимости от социального статуса данного лица. В XVI – XVII вв., как отметил тот же исследователь, законодательно был закреплен принцип возмещения за «бесчестье» служилого человека в соответствии с его жалованьем, что подчеркивало его зависимость от государства67. Н.Ш.Коллман оспаривает приведенную трактовку. При этом основное внимание (судя по опубликованным частям исследования) она уделяет не размеру возмещения, а социальному составу тех, кто его получал, и выяснению того, что считалось «бесчестьем». Примерно одну треть всех изученных ею случаев о защите чести составляли дела, в которых истцами выступали крестьяне, холопы, посадские и даже гулящие люди. Большинство тяжб (331) велось между равными по статусу людьми, но нередко подобные конфликты возникали и между выше- и нижестоящими. Ситуация, когда человек с более высоким статусом требовал удовлетворения за нанесенное ему оскорбление от лица, находившегося внизу социальной лестницы, кажется вполне «естественной» в иерархическом обществе (148 учтенных случаев), но, оказывается, бывало и обратное, когда иск о возмещении за «бесчестье» вчинялся вышестоящему лицу (120 случаев). На основании этих наблюдений Коллман делает вывод о том, что система защиты чести охватывала все население Московии и рассматривалась прежде всего как охрана личного достоинства, а не как орудие социального контроля или угнетения68. (Замечу в скобках, что наблюдения Коллман не снимают вопроса о социальной иерархии, отраженной в статьях о «бесчестье» 27 юридических памятников, и о важной роли государства в урегулировании подобных конфликтов в XVI – XVII вв., о чем и шла речь в упомянутой выше статье Б.Н. Флори). Наибольший интерес, на мой взгляд, представляет попытка Н.Ш. Коллман выяснить, что вкладывали жители Московии в понятие честь и что они считали порочащим репутацию доброго человека (в противоположность лихим людям). В первую очередь хорошая репутация предполагала законопослушное поведение (назвать кого-либо вором, разбойником, душегубцем или тем более изменником означало тяжкое оскорбление), соблюдение моральных норм (включая надлежащее сексуальное поведение), а также благочестие. Однако иски о «бесчестье» предъявлялись не только в защиту личного достоинства человека, но и в защиту его социального статуса (семейного, служебного и т.д.). Московский стольник или стряпчий чувствовал себя оскорбленным, когда его называли страдником и мужичьим сыном; выражения типа «худой князишка», «полуполковник», «детишки боярские» и т.п. влекли за собой подачу иска со стороны потерпевших. Наконец, понятия чести и бесчестья распространялись и на сферу власти и управления: ошибки в написании царского титула наносили, как считалось, ущерб государевой чести; неповиновение должностному лицу и, наоборот, злоупотребление им своим положением рассматривались как бесчестье (в последнем случае человек, пострадавший от произвола воеводы или дьяка, имел право требовать возмещения вреда)69. Таким образом, «понятие чести в Московии, – резюмирует Н.Ш. Коллман свои наблюдения, – по сути символизировало социальный и политический строй… Оно определяло в идеальных терминах стандарты поведения и формы отношений, которые считались приемлемыми в обществе. В теории и даже на 28 практике оно стабилизировало социальный порядок, карая продажных чиновников, защищая достоинство каждой социальной группы, связывая воедино всё общество, от царя до холопа…»70. Традиционной темой исторической антропологии является колдовство и ведовские процессы, захлестнувшие в начале нового времени всю Европу. Применительно к России той же эпохи эти сюжеты стали недавно предметом рассмотрения В.Кивельсон. В работе, основанной на архивных материалах 1650-х годов (из фонда Разрядного приказа в РГАДА), исследовательница попыталась выяснить условия и причины «охоты на ведьм» в России середины XVII в. В тогдашней Московии наблюдались многие сходные с Европой процессы: рост государственного и церковного аппарата, усиление социального контроля и т.п. Однако, в отличие от западных стран, в России обвинения в колдовстве чаще предъявлялись мужчинам, чем женщинам. Чем это можно объяснить? Жертвами подобных обвинений становились главным образом бродяги, социальные отщепенцы, а среди них преобладали мужчины. Женщины были сильнее привязаны к дому, к семье. Социальная маргинальность и привычные стереотипы (образ колдуна) являлись, по мнению американского историка, основными факторами, определявшими направленность обвинений в колдовстве71. В другой статье В.Кивельсон привлекает внимание исследователей к феномену придворной, «политической» магии в России XVI века. В условиях, когда властные отношения были лишь в очень слабой степени институционализированы, огромное значение придавалось влиянию на государя его советников: «добрых» или «злых»72. Соответственно, «злой советник» вполне мог быть обвинен в применении колдовских чар для достижения своих целей (как это и 29 произошло на процессе против Максима Грека в 1531 г.). В этой связи В.Кивельсон справедливо подчеркивает необходимость серьезно учитывать духовное, религиозное содержание московской политической жизни73. Особенности историко-антропологического подхода становятся особенно наглядными, когда появляется возможность сравнить результаты его применения к изучению конкретной темы с исследованиями по той же проблематике, выполненными в рамках иных исторических направлений. В качестве примера можно взять такую популярную в последние десятилетия тему, как положение женщин в том или ином обществе определенной эпохи. Эта проблема лежит на пересечении нескольких научных направлений: феминистских / гендерных исследований, исторической демографии (история семьи) и, наконец, антропологии. Авторы «женской истории», как правило, сосредотачивают основное внимание на изучении юридического статуса, материального положения и социальной роли представительниц прекрасного пола в определенной стране на протяжении продолжительного исторического периода (здесь можно сослаться на работы Н.Л.Пушкаревой в России и Е.Левиной в США74). Иной подход демонстрирует Н.Ш.Коллман в своей ранней статье о затворничестве знатных женщин в Московии. Этот сюжет интересует исследовательницу не сам по себе; он вписывается в те представления о политической культуре допетровской Руси, которые были изложены ею в проанализированной выше монографии «Родство и политика». Поскольку, по мнению Коллман, браки в московской придворной среде служили целям боярской политики и при их помощи заключались важные альянсы между кланами, затворничество женщин давало возможность знатным семьям распоряжаться по своему усмот- 30 рению этим «политическим капиталом». А усиление контроля за поведением женской половины царских и боярских палат в XVII в. объясняется возросшими трудностями проведения подобной брачной политики в условиях резкого расширения придворной элиты в указанном столетии75. Предложенное объяснение, на мой взгляд, выглядит скорее остроумным, чем убедительным. Вероятно, могут быть предложены иные версии происхождения феномена теремного затворничества в Московии (например, его можно связать со свойственным патриархальному обществу недоверием к женщине и со стремлением знатных родов оградить таким образом семейную честь). Но гипотеза Коллман интересна тем, что она представляет собой попытку взглянуть на ту же проблему под углом зрения политической антропологии. В настоящее время все больше исследователей обращается к антропологии для объяснения тех или иных явлений русского средневековья. Так, Брайан Дэвис в недавно вышедшей статье о системе кормлений в России конца XV – начала XVIII вв. предлагает рассматривать этот институт не только как способ вознаграждения местной администрации (наместников, позднее воевод) в условиях хронической нехватки у государства средств на выплату им жалованья, но и как вид символического обмена (тут следует ссылка на труды Марселя Мосса и его продолжателей о даре), с помощью которого местные миры «привязывали» кормленщика к себе, включали его в локальную сеть взаимных обязательств и отношений76. Для сравнения можно указать на работы современного российского исследователя Г.П.Енина, который в том же институте кормлений видит «форму феодальной ренты»77. Одно из ведущих направлений современной исторической антропологии – изучение ритуалов, празднеств, процессий и других форм символического по- 31 ведения. Вслед за этнологами (М.Глакманом, В.Тернером, К.Гирцем и др.) историки пытаются обнаружить скрытые за этими театрализованными действиями социокультурные нормы, идеалы и системы ценностей. Среди американских исследователей, впервые обратившихся к изучению этих сюжетов на материале русской истории, вновь нужно назвать имя Нанси Коллман. В основу опубликованной ею в 1986 г. статьи положен описанный Г.Котошихиным в его известном сочинении о России времен царя Алексея Михайловича эпизод «выдачи головою» боярина или обладателя другого придворного чина, проигравшего местнический спор, счастливому победителю78. Анализируя этот ритуал, Коллман использует термин «социальная драма», предложенный британским антропологом Виктором Тернером для описания процесса преодоления конфликта между индивидом и неким сообществом через утверждение (в символической форме) принятых в этом сообществе правил и норм поведения. Эффект драматизации позволяет разрядить конфликт, и «бунтарь», пройдя через положенную в таких случаях церемонию, примиряется с навязанным ему коллективным решением. Именно в этом видит Н.Ш.Коллман смысл ритуала «выдачи головой», а некоторые странности (на первый взгляд) в рассказе Котошихина – «великодушие» победителя и «непокорность» проигравшего, который во время всей церемонии продолжает поносить своего обидчика, – объясняются как раз логикой этой «социальной драмы»: проигравшему позволяют «спасти лицо». Историк приходит к выводу, что описанный ритуал способствовал преодолению конфликтов внутри придворной элиты и утверждал сложившийся в Московии политический строй и социальную иерархию79. 32 Придворные ритуалы рассматриваются историками под разными углами зрения. Так, Даниел Кайзер подробно проанализировал свадебные церемонии Ивана Грозного и пришел к выводу, что символика этих празднеств лишь в слабой степени определялась христианским вероучением, а главным образом она отражала древние, дохристианские свадебные обычаи80. Чаще, однако, исследователи обращаются к различным церемониям с участием государя с целью изучения семиотического аспекта власти и способов ее воздействия на сознание подданных. Майкл Флиер избрал предметом своего исследования церемонию «шествия на осляти» в Вербное воскресенье, за неделю до Пасхи. В этой процессии глава церкви (митрополит, позднее патриарх) восседал на коне, а царь смиренно шел пешком, держа в руке повод. Не было ли это нарушением привычного образа самодержца? М.Флиер полагает, что нет: царь демонстрировал смирение перед Христом, а не перед владыкой (вся сцена служила напоминанием о входе Иисуса в Иерусалим); кроме того, ведение государем коня священнослужителя символизировало, – в соответствии с давней имперской традицией, перенесенной сначала в Новгород, а в середине XVI в. в Москву, – его покровительство («водительство») церкви81. Другая подобная религиозная церемония, освящение воды в день Богоявления (6 января), в которой также участвовали царь и его свита, стала объектом изучения в статье П. Бушковича82. В изучении «символики власти» историки в значительной мере вдохновляются работами этнолога Клиффорда Гирца, который и ввел в широкое употребление сам этот термин. Он обратил особое внимание на церемонии, «посредством которых короли вступают в символическое владение своим государ- 33 ством»; в число этих церемоний входит не только коронация, но и передвижения царственных особ, их путешествия по стране, во время которых они, подобно некоторым хищникам, как бы «метят» свою территорию83. Влияние этой работы Гирца, несомненно, присутствует в написанном Н.Ш.Коллман специальном исследовании о поездках русских государей по стране (в первую очередь – на богомолье) в XVI столетии. На основе летописных сообщений (а они регулярно отмечают выезды великого князя из Москвы с начала XVI в.) она выясняет хронологию и географию таких поездок. Государь и его свита посещали наиболее почитаемые обители (прежде всего – Троице-Сергиев монастырь) не реже одного раза в год, а порой и чаще; при этом маршруты этих поездок редко выходили за пределы исторического ядра Русского государства. Во время подобных путешествий по стране население имело возможность лицезреть своего государя живым и здоровым (что было особенно актуально во время малолетства Ивана IV, который начал «выезжать» с шестилетнего возраста) и убедиться в его истинном благочестии. Важное символическое значение, по мнению Коллман, имел въезд государя в покоренный город: эта церемония и следовавшее за ней торжественное богослужение закрепляли военную победу и означали вступление великого князя или царя во владение новой территорией. Так было в Новгороде (1478 ), в Твери (1485), Смоленске (1514) и Казани (1552)84. На фоне многочисленных работ по истории политической культуры Московии, придворных церемоний, процессий и ритуалов85 несколько особняком стоит вышедшая в минувшем году статья Маршалла По, посвященная изучению знаменитой ритуальной формулы обращения подданного к царю: государю (титул)… бьет челом холоп твой (имярек). Тем самым исследователь пред- 34 лагает спуститься с «политического олимпа» и присмотреться к символике повседневной жизни и общения жителей Московии. М.По задается целью выяснить, когда возникла упомянутая формула приветствия и что она впоследствии значила для русских людей в их повседневном быту. Отдельные элементы этой формулы появились в разное время: древнейшим из них является термин «холоп»; выражение «бить челом» известно с начала XIV в. и является калькой аналогичного тюркского термина; слово «государь» стало частью титула великого князя Московского с середины XV в. Все эти элементы сложились воедино, образовав устойчивое сочетание, при Иване III (первое известное подобное обращение–челобитье к государю датируется 1489 г.). Тогда упомянутое приветствие действительно имело патримониальный смысл (вся Русская земля – «вотчина» государя, а подданные – его «холопы»). Кроме того, здесь могло сказаться влияние византийского или монгольского образцов. Впоследствии, однако, по мнению М.По, значение пресловутой формулы изменилось: она со временем рутинизировалась, приобрела этикетный характер. Переписка людей XVII в. не оставляет сомнений в том, что «государь» не отождествлялся с холоповладельцем (государем в письме можно было назвать собственного брата), а «челобитье» составляло непременную часть любой вежливой просьбы к кому бы то ни было. Тем не менее старая формула обращения к царю сохранила не буквальное, но символическое значение: царь мыслился как милостивый хозяин, глава большой патриархальной «семьи», а его «холопы»–подданные имели право на его защиту и покровительство86. Анализ упомянутой приветственной формулы с точки зрения ее эволюции представляется мне совершенно правильным, аргументы По выглядят вполне 35 убедительно. Некоторая неясность сохраняется в отношении того, как понимали современники это выражение в момент его появления (т.е. в конце XV в.), и с какого именно времени оно сменило буквальный смысл на метафорический. В заключение остается отметить, что изучение русской политической культуры и символики власти уже перешагнуло рамки допетровской Руси. Статья Р.Уортмана о поездках Александра II по России и вышедшая несколько лет назад книга того же автора о церемониях при императорском дворе в XVIII – первой половине XIX вв.87 свидетельствуют о том, что антропологический подход успешно «осваивает» всё новые периоды отечественной истории. * * * Приведенный выше обзор исследований американских ученых позволяет, на мой взгляд, говорить о перспективности антропологического подхода применительно к истории России. Конечно, он не может заменить других, уже давно используемых методов (генеалогических, статистических – там, где это необходимо, – просопографического подхода, историко-юридического анализа и т.д.), и, разумеется, самый новаторский подход не избавляет исследователя от необходимости критически анализировать источники. Но при всех необходимых оговорках плодотворность нового направления не вызывает у меня сомнений. Во-первых, открывается перспектива существенного обновления и расширения проблематики исследований. Антропологический подход отвечает давно ощущаемой историками потребности обратиться к изучению повседневности, жизненной практики в различных ее формах, дополнить историю учреждений, законоположений и больших социальных групп «человеческим измерением». Политическая культура и народная религиозность – вот лишь два возможных 36 перспективных направления в изучении истории России, где новый подход может с успехом найти применение. Во-вторых, взгляд на события прошлого под новым углом зрения позволяет вовлечь в научный оборот и новые источники, на которые до сих пор историки обращали недостаточное внимание (например, описания различных церемоний, формулярные сборники церковного содержания и т.п.). Наконец, в-третьих, антропологический подход способен возродить интерес к компаративистским исследованиям, по-новому ставя «вечный» вопрос о соотношении исторического пути России и Европы. 37 Примечания 1 Пользуясь случаем, выражаю искреннюю признательность профессору Стэндфордского университета Н.Ш.Коллман за присланные ею по моей просьбе материалы, использованные при написании этой статьи. 2 Burguière A. L’Anthropologie historique // La nouvelle histoire. Sous la dir. de J. Le Goff, R. Charter, J. Revel. Paris, 1978. Цит. по: История ментальностей, историческая антропология. Зарубежные исследования в обзорах и рефератах. М., 1996. С. 30 – 33. 3 Ле Гофф Ж. Предисловие // Блок М. Короли-чудотворцы: Очерк представ- лений о сверхъестественном характере королевской власти, распространенных преимущественно во Франции и в Англии / Пер. с фр. В.А.Мильчиной. М., 1998. С. 12. 4 Там же. («Предисловие» написано Ж. Ле Гоффом в 1982 г.). 5 См.: История ментальностей, историческая антропология. С. 142. 6 Романов Б.А. Люди и нравы Древней Руси. Л., 1947. О судьбе книги и ее автора, подвергшегося в связи с ее выходом идеологической «проработке», см.: Панеях В.М. «Люди и нравы древней Руси» Бориса Александровича Романова: судьба книги // Труды Отдела древнерусской литературы. СПб., 1996. Т. 50. С. 825 – 839. 7 Дюби Ж. Развитие исторических исследований во Франции после 1950 года // Одиссей. Человек в Истории. 1991. М., 1991. С. 53 – 55. 8 См. обзоры и рефераты в кн.: История ментальностей, историческая антро- пология. (Там же библиография: с. 240 – 250). 38 9 Там же. С. 33; Гуревич А.Я. Историческая наука и историческая антрополо- гия // Вопросы философии. 1988. № 1. С. 62 , 67. 10 См.: Стоун Л. Будущее истории // THESIS: Теория и история экономиче- ских и социальных институтов и систем. Т. II. Вып. 4. 1994. С. 165, 174. 11 Burke P. The Historical Anthropology of Early Modern Italy. Cambridge, 1987 (reprint 1994). P. 3 – 4. 12 См., напр.: Фроянов И.Я. Киевская Русь. Очерки социально-политической истории. Л., 1980. С. 23, 70, 138 – 140, 143 – 145; его же. Древняя Русь. Опыт исследования истории социальной и политической борьбы. М. – СПб., 1995. C. 56 – 57, 64 – 65, 68, 75, 84, 127 – 128, 170 и др.; Дворниченко А.Ю. Русские земли Великого княжества Литовского (до начала XVI в.). СПб., 1993. С. 115, 148, 190, 237. 13 См.: Гуревич А.Я. Историческая наука и историческая антропология. С. 58 – 60. А.Я.Гуревич ссылается здесь, в частности, на работы М.М.Бахтина, разрабатывавшего сходное учение о культурном диалоге. 14 Герц К. Польза разнообразия // THESIS: Теория и история экономических и социальных институтов и систем. Т. I. Вып. 3. 1993. С. 181, 182. 15 Levi G. On Microhistory // New Perspectives on Historical Writing / Ed. by Pe- ter Burke. University Park (Pennsylvania), 1992. P. 93 – 111. Подчеркивая тесные связи микроистории с антропологией, Дж. Леви в то же время отмечает ряд методологических расхождений между этими дисциплинами (ibid. P. 98 – 105). О микроистории см. также: Ревель Ж. Микроисторический анализ и конструирование социального // Одиссей. Человек в истории. 1996. М., 1996. С. 110 – 127. 39 16 Geertz C. Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture // idem. The Interpretation of Cultures. London: Fontana Press, 1993. P. 3 – 30. (1-st ed. – New York, 1973). 17 Ibid. P. 15 – 16, 20. 18 См.: Levi G. On Microhistory. P. 98 ff.; Лепти Б. Общество как единое целое // Одиссей. Человек в истории. 1996. М., 1996. С. 156 – 157. 19 См.: Гуревич А.Я. Историческая наука и историческая антропология. С. 68; Бюргьер А. Историческая антропология (реферат) // История ментальностей, историческая антропология. С. 32 – 33. 20 Keenan E.L. Kurbskii – Groznyi Apocrypha: The Seventeenth-Century Genesis of the “Correspondence” Attributed to Prince A.M.Kurbskii and Tsar Ivan IV. Cambridge (Mass.), 1971; Скрынников Р.Г. Переписка Грозного и Курбского: Парадоксы Эдварда Кинана. Л., 1973. См. также библиографию к статьям об Иване IV и А.М.Курбском в кн.: Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып.2 (вторая половина XIV – XVI в.). Ч. 1. Л., 1988. С. 383 – 384, 502 – 503. Новый этап дискуссии связан с публикацией Б.Н.Морозовым древнейшего списка Первого послания Курбского, см.: Морозов Б.Н. Первое послание Курбского Ивану Грозному в сборнике конца XVI – начала XVII в. // Археографический ежегодник за 1986 год. М., 1987. С. 277 – 287. 21 Keenan E.L. Muscovite Political Folkways // The Russian Review. Vol. 45. 1986. P. 115 – 181. 22 Hellie R. Edward Keenan’s Scholarly Ways // The Russian Review. Vol. 46. 1987. P. 137 – 150; Crummey R.O. The Silence of Muscovy // Ibid. P. 157 – 164; Daniels R.V. Russian Political Culture and the Post-Revolutionary Impasse // Ibid. P. 165 – 176; etc. 40 23 То, что в антропологическом подходе ключевым понятием является «куль- тура» (в то время как в социологическом – «общество»), специально подчеркивает П.Берк, см.: Берк П. Антропология итальянского Возрождения // Одиссей. Человек в истории. 1993. М., 1994. С. 272. 24 Keenan E.L. Muscovite Political Folkways. P. 115 – 116, note 1. 25 Ibid. P. 119 – 120, 129, 142 – 143, 145 – 146, 158. 26 Ibid. P. 132 (цитата), 142, 145 – 147, 156. 27 Ibid. P. 118. 28 Ibid. P. 117, 121 – 131, 135 – 137, 150, 156 – 157. 29 Crummey R.O. The Silence of Muscovy. P. 158, 162. Р. Крамми резонно за- мечает, что «молчание Московии», постулируемое Кинаном, позволяет ему игнорировать те источники, которые противоречат его концепции. Он также критикует автора за отрицание роли церкви в политике и в целом признает большинство его доводов неубедительными (ibid. P. 158 – 159, 163). 30 Keenan E.L. Muscovite Political Folkways. P. 138 – 140, 144 – 145, 170 (цита- та: p. 138). 31 “…it was from the outset meant to stimulate and provoke, rather than to con- vince” (ibid. P. 115). 32 Kollmann N.S. The Boyar Clan and Court Politics: The Founding of the Musco- vite Political System // Cahiers du monde russe et sovietique. Vol. 23. 1982. N 1. P. 5 – 31; idem. Consensus Politics: The Dynastic Crisis of the 1490s Reconsidered // The Russian Review. Vol. 45. 1986. N 3. P. 235 – 267; idem. The Grand Prince in Muscovite Politics: The Problem of Genre in Sources on Ivan’s Minority // Russian History. Vol. 14. 1987. N 1 – 4. P. 293 – 313. 33 Myles E. // Revue Canadienne des Slavistes. Vol. 29. 1987. N 2 – 3. P. 293 - 294; Crummey R.O.// Slavic Review. Vol. 47. N 1. 1988. P. 111 – 112; Hughes L. // 41 The Slavonic and East European Review. Vol. 66. N 4. (October 1988). P. 652 – 653; Noonan T.S.// Histoire sociale – Social History. Vol. 21. 1988. P. 183 – 185; Kaiser D. // American Historical Review. Vol. 93. 1988. N 2. P. 460 – 461; Hellie R. // Journal of Modern History. Vol. 61. 1989. N 2. P. 429 – 432; etc. 34 Скрынников Р.Г. Царство террора. СПб., 1992. С. 75 – 76; Кром М.М. Поли- тический кризис 30 – 40-х годов XVI века (Постановка проблемы) // Отечественная история. 1998. № 5. С. 6. 35 Kollmann N.S. Kinship and Politics: The Making of the Muscovite Political Sys- tem, 1345 – 1547. Stanford, 1987. P. 181. 36 Ibid. P. 3, 9 ff., 14 – 18. 37 Ibid. Chap. 1. См. особенно: p. 26, 29 – 31, 36, 44 – 45, 48 – 54. 38 См., напр.: Разрядная книга 1475 – 1598 гг. М., 1966. С. 77, 81, 88, 95, 100 – 101 и др. 39 Так, летом 1534 г. осведомленный наблюдатель, польский жолнер Войтех, бежавший из русского плена, рассказывая в Литве о положении при московском дворе, противопоставил пяти «старшим воеводам», «которыи з Москвы не мают николи зъехати», троих князей (Д.Ф.Бельского, И.Ф.Оболенского и Ф.М.Мстиславского), которые, будучи тоже «старшими», «ничого не справуют, только мают их з людьми посылати, где будет потреба…» (Акты, относящиеся к истории Западной России… [далее – АЗР]. Т. 2. СПб., 1848. № 179. С. 331). Позднее Иван Грозный, вспоминая об эпохе «боярского правления», писал в послании Курбскому, что, не желая-де «подо властию рабскою быти», он «князя Ивана Васильевича Шуйскаго от себя отслал на службу…» (Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским / Текст подгот. Я.С.Лурье и Ю.Д.Рыков. Л., 1979. С. 77). 42 РНБ. ОР. Q. XVII. 50. Л. 129 – 131. Опубликован другой список этого по- 40 слания (из того же сборника), в котором имя адресата опущено («имярек»), см.: Древняя Российская Вивлиофика… Изд. 2-е. Ч. XIV. М., 1790. С. 240 – 244. 41 РНБ. ОР. Q. XVII. 50. Л. 131. 42 Дополнения к Актам историческим… Т. 1. СПб., 1846. № 42. С. 56 – 57. 43 См., напр.: Послания Иосифа Волоцкого / Подг. А.А.Зимин и Я.С.Лурье. М.– Л., 1959. С. 235 – 236 (удельному князю Юрию Дмитровскому – о необходимости помощи голодающим и об ограничении цен на хлеб); Клибанов А.И., Корецкий В.И. Послание Зиновия Отенского дьяку Я.В.Шишкину // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. XVII. М.–Л., 1961. С. 219 – 224 (о правосудии); и др. 44 См. Филюшкин А.И. История одной мистификации: Иван Грозный и «Из- бранная Рада». М., 1998. С. 52, 60 – 64, 264. 45 См.: Pelensky J. Russia and Kazan: Conquest and Imperial Ideology. The Hague, 1974, esp. chap. 9; Амелькин А.О. Роль духовного сословия в формировании внешней политики Российского государства в первой половине XVI века // Сословия и государственная власть в России. XV – середина XIX вв. Междунар. конф. – Чтения памяти акад. Л.В.Черепнина. Тезисы докладов. М., 1994. Ч. I. С. 5 – 13. 46 АЗР. Т. 2. № 179. С. 333. 47 Акты Суздальского Спасо-Евфимьева монастыря 1506 – 1608 гг. М., 1998. № 35. С. 93. 48 Маштафаров А.В. Духовная Ивана Юрьевича Поджогина 1541 г. // Рус- ский дипломатарий. Вып.. 1. М., 1997. С. 37. 43 49 Kollmann N.S. Kinship and Politics. Chaps. 2 – 3, pp. 56, 59 ff., 71–72, 78, 92 – 94, 97, 100. 50 Ibid. P. 56, cf. p. 19. 51 Hellie R. // Journal of Modern History. Vol. 61. 1989. N 2. P. 429 – 430. 52 Kollmann N.S. Kinship and Politics. P. 72 – 74. 53 Ibid. P. 1, 9, 19, 43, 44, etc. 54 Ibid. P. 2. 55 Уязвимость такой интерпретации всех без исключения государевых свадеб справедливо подчеркнута в рецензии Р.Хелли на книгу Н.Ш.Коллман. См.: Hellie R. Op. cit. P. 431. 56 Это удачно отмечено П.Бушковичем: Bushkovitch P. The Formation of a Na- tional Consciousness in Early Modern Russia // Harvard Ukrainian Studies. Vol. 10. 1986. N 3 – 4. P. 364. Cм. также: Кром М.М. Научная терминология, язык эпохи и политические реалии XVI в. // Политические институты и социальные страты России (XVI – XVIII вв.): Тезисы междунар. конф. М., 1998. С. 65 – 66. 57 Kivelson V. “The Devil Stole His Mind”: The Tsar and the 1648 Moscow Upris- ing // American Historical Review. Vol. 98. 1993. P. 733 – 764; idem. The Effects of Partible Inheritance: Gentry Families and the State in Muscovy // The Russian Review. Vol. 53. 1994. P. 197 – 212; Кивельсон В. Родственные связи и покровительство в провинциальной политике XVII века // Сословия и государственная власть в России. XV – середина XIX вв. Междунар. конф. – Чтения памяти акад. Л.В.Черепнина. Тезисы докладов. М., 1994. Ч. II. С. 242 – 252. Позднее тот же текст перепечатан (без научного аппарата), см.: Кивельсон В. Не подмажешь – не поедешь… // Родина. 1994. № 11. С. 56 – 59. 44 58 Kivelson V. Autocracy in the Provinces: The Muscovite Gentry and Political Culture in the Seventeenth Century. Stanford, 1996. 59 Ibid. P. 2, 3. 60 Ibid. Chaps. 1 – 3, pp. 38 – 39, 59, 115, 126 – 128. 61 Ibid. Chaps. 4, 6, pp. 133 – 137, 141 – 143, 149, 152 – 153, 181 – 185, 198 – 200, 208 – 209. 62 Ibid. Chap. 5, pp. 155 – 156, 161, 175, 179; Кивельсон В. Родственные связи и покровительство… С. 243, 245, 249 – 250. 63 Kivelson V. Autocracy in the Provinces. P. 145, 151 – 155, 178, 276 – 278. 64 Каштанов С.М. О типе Русского государства в XIV – XVI вв. // Чтения памяти В.Б.Кобрина: Проблемы отечественной истории и культуры периода феодализма. Тезисы докладов и сообщений. М., 1992. С. 85 – 92. 65 Kollmann N.S. Kinship and Politics. P. 1, 29, 183, 186 – 187; idem. Muscovite Russia 1450 – 1598 // Russia: A History / Ed. by G. Freeze. New York, 1997. P. 45. 66 Kollmann N.S. Was There Honor in Kiev Rus? // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. N.F. Bd. 36. 1988. H. 4. S. 481 – 492; idem. Women’s Honor in Early Modern Russia // Russia’s Women: Accommodation, Resistance, Transformation / Ed. by B.E. Clements, a.o. Berkeley & Los Angeles, 1991. P. 60 – 73; idem. Honor and Dishonor in Early Modern Russia // Forschungen zur osteuropäischen Geschichte. Bd. 46. Berlin, 1992. S. 131 – 146; idem.By Honor Bound: State and Society in Early Modern Russia. Ithaca & London, 1999. 67 Флоря Б.Н. Формирование сословного статуса господствующего класса Древней Руси (На материале статей о возмещении за «бесчестье») // История СССР. 1983. № 1. С. 61 – 74. 68 Kollmann N.S. Honor and Dishonor… P. 135 – 138, 146. 45 69 Ibid. P. 138 – 145. 70 Ibid. P. 145. 71 Kivelson V. Through the Prism of Witchcraft: Gender and Social Change in Seventeenth–Сentury Muscovy // Russia’s Women: Accommodation, Resistance, Transformation / Ed. by B.E. Clements, a.o. Berkeley–Los Angeles, 1991. P. 74 – 94. 72 Значение «совета» в московской политике и идеологии хорошо показано Д.Роулендом: Rowland D. The Problem of Advice in Muscovite Tales about the Time of Troubles // Russian History. Vol. 6. 1979. Pt. 2. P. 259 – 283. Та же категория явилась недавно предметом изучения И.П. Кулаковой, но статья Д. Роуленда осталась, к сожалению, ей неизвестной. См.: Кулакова И.П. Взаимоотношения государства и сословий в России второй половины XVI – начала XVII века (терминологические заметки) // Мировосприятие и самосознание русского общества (XI – XX вв.). Сборник статей. М., 1994. С. 59 – 75 (о «совете» – с. 60–68). 73 Kivelson V. Political Sorcery in Sixteenth–Century Muscovy // Culture and Identity in Muscovy, 1359 – 1584 / Ed. by A.M. Kleimola & G.D. Lenhoff. Moscow, 1997. P. 267 – 283. 74 Пушкарева Н.Л. Женщины древней Руси. М., 1989; Levin E. Sex and Society in the World of the Orthodox Slavs, 900 – 1700. Ithaca, 1989; и др. 75 Kollmann N.S. The Seclusion of Elite Muscovite Women // Russian History. Vol. 10. Pt. 2. 1983. P. 170 – 187, especially pp. 178 – 183. 76 Davies B. The Politics of Give and Take: Kormlenie as Service Remuneration and Generalized Exchange, 1488 – 1726 // Culture and Identity in Muscovy, 1359 – 1584. Moscow, 1997. P. 39 – 67. 46 77 Енин Г.П. Древнерусское кормление в воеводской практике XVII – XVIII вв. // Сословия и государственная власть в России. XV – середина XIX вв. Междунар. конф. – Чтения памяти акад. Л.В.Черепнина. Тезисы докладов. М., 1994. Ч. 1. С. 77. Енин рассматривает систему кормлений как один из архаических видов эксплуатации населения, просуществовавший по меньшей мере до середины XVIII в. (там же. С. 75 – 83; его же. Воеводское праздничное кормление в начале 60-х годов XVIII в. // Вспомогательные исторические дисциплины. Т. 25. СПб., 1994. С. 103 – 116). 78 См.: Котошихин Г. О Московском государстве в середине XVII столетия // Русское историческое повествование XVI – XVII веков. М., 1984. С. 201 – 202. 79 Kollmann N.S. Ritual and Social Drama at the Muscovite Court // Slavic Re- view. Vol. 45. N 3. 1986. P. 486 – 502. Остается только пожалеть, что исследовательница не привела каких-либо случаев из реальной местнической практики XVI – XVII вв., конкретизирующих нарисованную Котошихиным обобщенную картину этого ритуала. 80 Kaiser D.H. Symbol and Ritual in the Marriages of Ivan IV // Russian History. Vol. 14. 1987. P. 247 – 262. 81 Flier M.S. Breaking the Code: The Image of the Tsar in the Muscovite Palm Sunday Ritual // Medieval Russian Culture. Vol. II. / Ed. by M.S. Flier & D. Rowland. Berkeley, 1994. P. 213 – 242. 82 Bushkovitch P. The Epiphany Ceremony of the Russian Court in the Sixteenth and Seventeenth Centuries //The Russian Review. Vol. 49. N 1. 1990. (К сожалению, эта статья осталась мне недоступной). 47 83 Geertz C. Centers, Kings, and Charisma: Reflections on the Symbolics of Power // idem. Local Knowledge: Further Essays in Interpretative Anthropology. Fontana Press, London, 1993 (1-st ed. – 1983). P. 121 – 146, цитата – p. 125. 84 Kollmann N.S. Pilgrimage, Procession and Symbolic Space in Sixteenth- Century Russian Politics // Medieval Russian Culture. Vol. 2. P. 163 – 181. 85 К названным выше следует еще добавить статьи Р.Крамми и Д.Роуленда, см.: Crummey R.O. Court Spectacles in Seventeenth Century Russia // Essays in Honor of A.A.Zimin / Ed. by D.C. Waugh. Columbus, 1985. P. 130 – 158; Rowland D. Biblical Military Imagery in the Political Culture of Early Modern Russia // Medieval Russian Culture. Vol. II. P. 182 – 212. 86 Poe M. What Did Russians Mean When They Called Themselves “Slaves of the Tsar”? // Slavic Review. Vol. 57. N 3. 1998. P. 585 – 608. 87 Wortman R.S. Rule by Sentiment: Alexander II’s Journeys through the Russian Empire // American Historical Review. Vol. 95. N 3. 1990. P. 745 – 777; idem. Scenarios of Power: Myth and Ceremony in Russian Monarchy. Vol. 1. From Peter the Great to the Death of Nicholas I. Princeton, 1995.