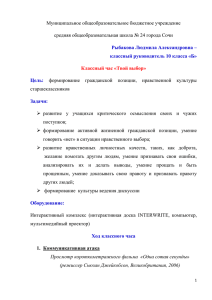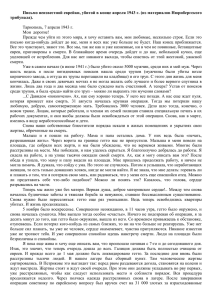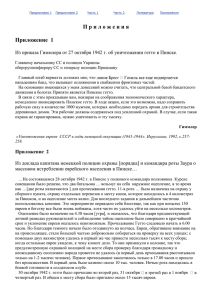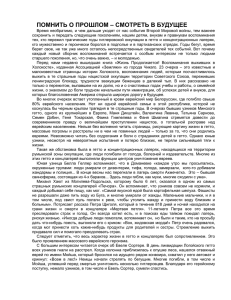НАЧАЛОСЬ
advertisement
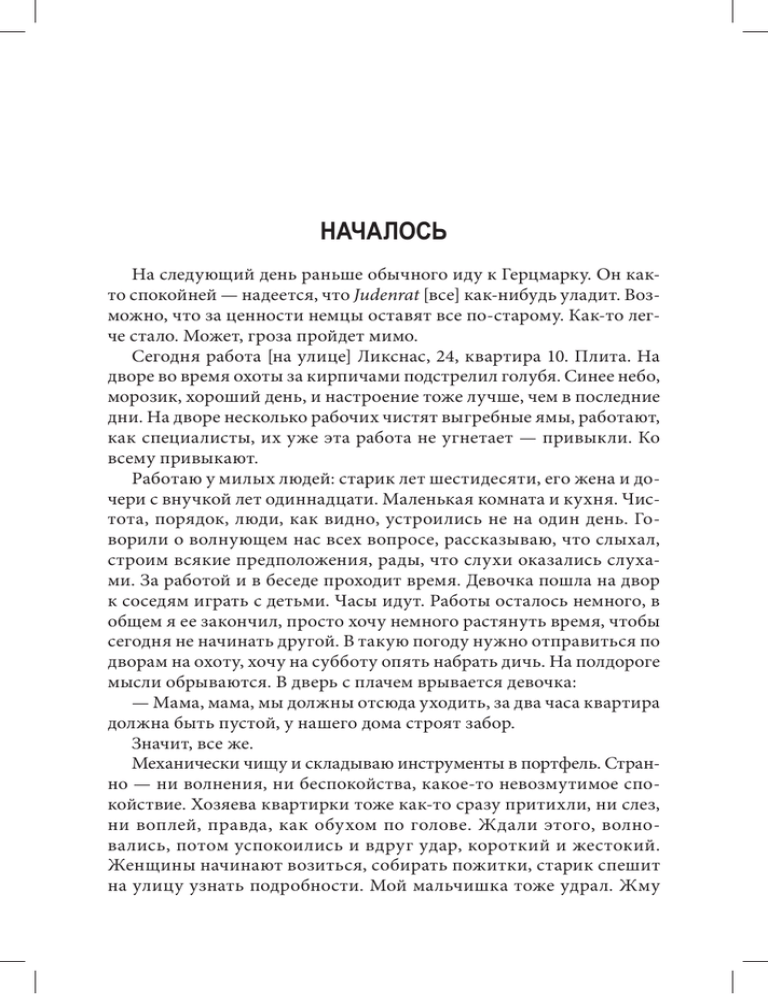
ɈȻɒȻɆɉɌɗ На следующий день раньше обычного иду к Герцмарку. Он както спокойней — надеется, что Judenrat [все] как-нибудь уладит. Возможно, что за ценности немцы оставят все по-старому. Как-то легче стало. Может, гроза пройдет мимо. Сегодня работа [на улице] Ликснас, 24, квартира 10. Плита. На дворе во время охоты за кирпичами подстрелил голубя. Синее небо, морозик, хороший день, и настроение тоже лучше, чем в последние дни. На дворе несколько рабочих чистят выгребные ямы, работают, как специалисты, их уже эта работа не угнетает — привыкли. Ко всему привыкают. Работаю у милых людей: старик лет шестидесяти, его жена и дочери с внучкой лет одиннадцати. Маленькая комната и кухня. Чистота, порядок, люди, как видно, устроились не на один день. Говорили о волнующем нас всех вопросе, рассказываю, что слыхал, строим всякие предположения, рады, что слухи оказались слухами. За работой и в беседе проходит время. Девочка пошла на двор к соседям играть с детьми. Часы идут. Работы осталось немного, в общем я ее закончил, просто хочу немного растянуть время, чтобы сегодня не начинать другой. В такую погоду нужно отправиться по дворам на охоту, хочу на субботу опять набрать дичь. На полдороге мысли обрываются. В дверь с плачем врывается девочка: — Мама, мама, мы должны отсюда уходить, за два часа квартира должна быть пустой, у нашего дома строят забор. Значит, все же. Механически чищу и складываю инструменты в портфель. Странно — ни волнения, ни беспокойства, какое-то невозмутимое спокойствие. Хозяева квартирки тоже как-то сразу притихли, ни слез, ни воплей, правда, как обухом по голове. Ждали этого, волновались, потом успокоились и вдруг удар, короткий и жестокий. Женщины начинают возиться, собирать пожитки, старик спешит на улицу узнать подробности. Мой мальчишка тоже удрал. Жму 248 ɗɥɶɦɚɪɊɢɜɨɲɁȺɉɂɋɄɂ Дом на улице Ликснас, 24. Современный вид руки женщинам, может, слишком сильно, говорю успокаивающие слова, не понимая их смысла: — Не падайте духом, надейтесь и верьте: все кончится хорошо. С напускным спокойствием, с фальшивой улыбкой и с тоской в душе прощаюсь. Насколько лучше корове, барану. Их кормят, гонят на бойню, общество покровителей животных следит за тем, чтобы их не мучили понапрасну, на бойне их принимает специалист, их глушат и ловкой рукой перерезают горло. Кровь, [а] с нею жизнь истекает из тела, остается мясо. Нас, перед тем как перебить, кидают из стороны в сторону, лишают самых примитивных прав человека, прав животного и то нам не оставляют. Постепенно тупым ножом режут душу, оставляя вопрос о том, когда нам перережут глотку, открытым. По обе стороны [улицы] Ликснас лихорадочно строят забор. У каждого столба — человек. С конца [улицы], у Большой Горной, уже натягивают проволоку. По одну сторону — евреи, на другой копают ямы «арийцы». Немцы следят за темпом работы. Чего они так торопятся? Никто не убежит. У некоторых домов стоят саночки, уже складывают пожитки. На углу [улиц] Лудзас и Ликснас — плакат, кругом куча женщин. Прочитавшие с тихим плачем проби- ɇȺɑȺɅɈɋɖ ваются через толпу и спешат к себе. Большинство не знает содержания, знает, что что-то скверное. Проталкиваюсь и громким голосом, чтобы все услыхали, читаю: «Все жители района — [от улицы] Ликснас до Лудзас, по Лудзас до Лаувас (конец гетто) должны в течение двух часов переселиться в общее гетто. [Они] имеют право забрать все свое добро, за исключением кроватей, кушеток и т. д. В течение этих двух часов следить за порядком будет еврейская полиция». После короткого молчания толпа тает, все спешат. У всех первый вопрос — куда? И правда, куда деться семье из нескольких человек? В гетто так уже все уплотнено, что яблоку негде упасть. Но и это не драма, при «наших оборотах» это роли не играет. Нас, как видно, из человеколюбия хотят поставить в такие условия, чтобы [мы] смотрели на последний акт как на избавление. Тоже точка зрения. *** Дома у нас хаос. Сарайчик и кухня завалены всякими тюками — Ната Б[екер] лихорадочно перетаскивает свое добро. Вещи она собирается оставить у нас, а сама будет жить у родственников. Раньше плакала, что у нее нет припасов, теперь вдруг оказалось слишком много. На столе у нас десятифунтовая банка меду, и Дима ложкой в ней ковыряет, он так этим занят, ему так нравится такой вкусный и душистый мед, что [он] даже не замечает общего волнения. Мимо наших окон тянутся саночки, детские коляски с тюками. Иные на спине тащат непосильную поклажу. Пара ребятишек тянут саночки с дровами, сложенными в детскую ванночку. С минуты на минуту ждем следующего приказа. То, что он будет, всем ясно. Промелькнуло слово «акция». Оно прошло как-то мимо нас, и мы его не поняли. Скоро это слово нам станет слишком знакомым, от этого слова кровь будет стынуть. Ждать пришлось недолго. Появились даже два приказа. Приказ номер один: 28 ноября (точно числа не помню)1 в семь часов утра на Садовниковской улице должны выстроиться колоннами все мужчины начиная с семнадцати лет до [шестидесяти]. Приказ номер два: все неработоспособные мужчины и женщины с детьми должны 1 В действительности 29 ноября 1941 года. 250 ɗɥɶɦɚɪɊɢɜɨɲɁȺɉɂɋɄɂ приготовиться к переселению в лагерь. Каждый переселяемый имеет право забрать сверток до 20 килограммов. О дне и часе переселения будет извещено особо. Точка. Приказ номер один отступил как-то на задний план. Остался как будто только второй. Приняли эти приказы по-разному, в зависимости от характера людей. Все старики без исключения поняли свой смертный приговор, для них было ясно, что из лагеря они не вернутся. Тяжело было их видеть — все смертники, не знающие за собой вины. У нас Алина тетка София Осиповна, очень сдержанная старушка. Сидит как будто спокойно, только слезы текут. У нее, кроме сына в Америке, больше никого нет. Просит меня и Алю передать ему когда-нибудь привет, но не говорить, как она кончила жизнь. И в эту минуту мать одержала верх над человеком: зачем лишние огорчения сыну? О том, что собираются предпринять с мужчинами, не знаем, но и не волнуемся, что может случиться. Если наших жен и детей отправляют в лагерь в неизвестном направлении, то какая разница, куда нас отправят? Все женщины занялись шитьем мешков в виде рюкзаков. Вышивают фамилии — может, смилостивятся и повезут вещи на телегах. За мной пришла соседка, живущая над Магариком, — Каплан. Ее муж совсем растерялся и только плачет, она просит меня повлиять на него. Прихожу. Каплан полулежит на столе, голову обхватив руками. У него истерика, рыдает навзрыд. Его сынишка лет семи стоит рядом с беспомощным видом. — Каплан, брось, не распускайся, возьми себя в руки. Чего ты с ума сходишь? Ну, отправят нас на работы, жена твоя молодая, здоровая, тоже выдержит это время. Все проходит, наступит и для нас час освобождения, сильные доживут, погибнут только те, кто сами потеряют себя. — Говорю это и сам верю своим словам. Вместо сердца нужно себе создать камень, и кто сможет убить свое сердце — тот должен выдержать. Постепенно Каплан успокаивается. Он знает, что у меня любимая жена, двое детей, [что] я не со стороны говорю, а тоже действующее лицо этой драмы. Переходим к обсуждению технической стороны: что забрать, как уложить и т. д. Уславливаемся утром пойти группой, чтобы быть среди знакомых. У меня узкие ботинки и мерзнут ноги. Теперь «мое» и «твое» потеряло значение. У Капла- ɇȺɑȺɅɈɋɖ Гершон Магарик. Фото 1920 года на пара запасных «танков», они мне впору. Я их беру без «спасибо». У нас, кроме своих и себя, нет ничего ценного. Omnia mea mecum porto2. Все соседи друг друга снабжают чем могут. Теплые вещи, обувь, продукты — все стало как будто общим. Как мало бы ни было всякого добра, сегодня его слишком много, сегодня все широки и щедры. Как жаль, что только в такой момент нужда стала чем-то общим, «моего» и «твоего» больше нет, есть только «наше». Сегодня это так, но больше этого не будет, после этих дней я такого отношения больше не увижу. Будет опять только «я» и «мое». По дороге к себе захожу к Магарику. Его теща сегодня не заговаривается. Клин вышибают клином. Она сегодня, как все, — нормальная. Или, может, мы все сошли с ума? Магарик сидит у печки, держит на коленях сынишку и спокоен (он всегда спокоен) — сильный, плотный парень, его так легко не уничтожить. С [его] женой целуемся, как сестра с братом. Мне все женщины стали дорогими и любимыми, мне их так жаль, и они так геройски себя держат. Женщина лучше переносит серьезные страдания — в этом я смог убедиться за эти несколько часов. Большинство мужчин сдали, и женщины их подбадривают и внушают надежду. Дети как-то инстинктивно чувствуют свою погибель, они тихи и пришибленны — 2 Все мое ношу с собой (латин.). 252 ɗɥɶɦɚɪɊɢɜɨɲɁȺɉɂɋɄɂ ни капризов, ни слез, ни суеты. Мои тоже, как мышки, куда-то забились. Мама движется с окаменелым лицом, такого лица я на ней никогда не видал. Лицо — камень, маска. Аля отбирает для меня теплые вещи. Теперь вечер, завтра чуть свет уходить. Вернусь ли, увижу ли когда-нибудь моих дорогих? Я уже раз уходил почти на верную смерть, но тогда эта возможность меня не пугала, я шел с воодушевлением и желанием борьбы. Теперь мы идем, как бараны, это и больно, и пугает. *** Аля поджарила шпик с яйцами. Чай с сахаром, мед, варенье. Пир во время чумы. Дети уже спят. Мама, Аля и я. Полумрак. Аля говорит: — Рыжий, я чувствую и знаю, что с нами хотят покончить, бежим, заберем детей и бежим. — Я согласен, но бежать мы можем только с Димкой, я беру его. Девочку мы взять не сможем, побег с девочкой у тебя на руках — это безумие. — Ты прав, но оставить ее не могу, если так, погибну с ней. — Мама, Аля… вы вправе решать. Хотите умереть все вместе? Как это произойдет, мое дело, никто не увидит смерти другого. Если согласны пусть одна из вас последует за мной. Мама и Аля знают — это не слова. Они в этот момент переживают ужас, я — мгновения убийцы, убийцы своих, самых дорогих и близких. В моем уме с холодной рассудительностью проходит такая картина: мама идет за мной в сарай, у меня острый плотницкий топор, я им рубить умею — один сильный удар в висок. Аля выходит за мной во двор, и опять то же самое. Потом дети, за ними я в петле. Все так просто, так ясно. Мама: — Я подчиняюсь Алиному решению, она имеет право решать о детях, я [сама] согласна. Минута тянется, как вечность. Ног своих не чувствую, может, через момент картина, вставшая передо мной, станет реальностью. Я этого хочу для них, может, для себя тоже. Будущие страдания кажутся настоящими и ненужными, но быть убийцей против воли убитых не могу. У меня хватит сил выполнить решение, исполнить желание моей Али, но мое желание не есть закон над жизнью и смертью мне близких. ɇȺɑȺɅɈɋɖ Ревека Ривош — мать автора. Фото 1928 года — Рыженький, не смейся надо мной, но я верю в Бога, я согласна все перенести, годами страдать, но не могу [допустить], чтобы ты стал убийцей своих детей. Поклянись, что ты этого не сделаешь. Как и что с нами будет, зависит от Бога, поцелуй меня. Жребий брошен, выпьем чашу до дна. *** Мы знаем, что это наша последняя ночь вместе. Увижу ли [еще] Алю — вопрос, то, что с мамой больше никогда не проведу ночи под одной крышей — это факт. Мы устали, но уйти в сон боимся, это конец нашей близости, после сна — прощание. С мамой вечно ссорился, любил [ее] последние годы, кажется, только жалея. За день она стала опять моей любимой, бедной мамой. Как тяжело напускать на себя «мужественность» и силу духа, когда душа разрывается, когда плачешь ни для кого не заметными слезами. Девочка, если погибнет, то, как травка, как цветок, без моральных мук, без страданий. Она маленькая и глупая. О Диме больно думать. Он для своих лет очень развит, у него уже внутренняя жизнь, он страдает уже не только как зверек, он маленький человек со всеми чувствами. Единственное, чего он не может понять, — это за что. Сидим молча у стола. У каждого свои думы, у всех — одна. За перегородкой у мамы свет. Она не спит. Лежим рядом — Аля и я. У ног — Чарли. Дети мирно спят. Ночь. Тихо. Что будет завтра? 254 ɗɥɶɦɚɪɊɢɜɨɲɁȺɉɂɋɄɂ Я чувствую рядом Алю, но своего тела не ощущаю, как будто его нет. Мы не спим, но боимся шелохнуться. Неужели это факт, неужели завтра этих женщин с детьми выгонят на улицу и, как скот, куда-то погонят? Неужели это не кошмар, а действительно жизнь? Почему, для чего? Мы же изолированы, никому вредить не можем. Кому помешает, что в этом домике будут жить эти люди? Аля лежит с широко открытыми глазами, ни слезы, ни стона. Тоже маска, каменная маска. У меня, наверно, тоже. Мерно тикает будильник. Стрелка безжалостно совершает свою дорогу. Часы проходят. За перегородкой мама сажает сонную Лидию на горшочек. Она во сне что-то бормочет. Слышно журчание струйки, потом опять все тихо. Не могу больше молчать: — Ленушка, послушай, ты же храбрая женщина, пусть мы будем в разлуке, но пусть наша любовь нам будет порукой, что мы не падем духом, будем бороться до конца за жизнь для нашей встречи. — Если бы ты знал, сколько во мне душевных сил, ты был бы спокоен, боюсь только, что физически не выдержу, я же стала совсем слабой, потом дети — как, куда нас посадят голых, зимой, без вещей и еды. Нас же просто физически уничтожат, но обещаю тебе до последнего все переносить. Обними, я хочу несколько часов поспать у тебя на плече, как девочка. На плече у меня ее голова, рубашка в этом месте становится мокрой. Слезы, тяжелые беззвучные слезы. Что происходит в этой женской душе, в тысячах таких душ — этого никто не знает, потому что этого словами нельзя описать. Я чувствую, что она переживает, но и себе не могу этого рассказать, для этого нет слов. Будильник все тикает. Скоро конец этой ночи. Чарли попросится на двор. Скоро мама затопит плиту. Скоро настанет утро. *** На дворе еще ночь, но будильник говорит, что уже утро. Чарли вернулся со двора, Цапкин пришел с ночной охоты. Вода на плите кипит. Еще хоть минуту почувствовать рядом с собой Алю. *** На дворе уже суетятся люди. Стоят кучками, маленькими группами. Темно, лиц не видно, может быть, это хорошо. Иду к Капла- ɇȺɑȺɅɈɋɖ ну и Магарику. Квартиры сразу потеряли свой обычный вид. О порядке все позабыли. Видно, что отыскивали наиболее целесообразную одежду, другая, ненужная, валяется на полу. Она потеряла свою ценность, теперь по ней можно ходить. Каплан сидит в пальто и шапке, он уже свыкся с мыслью и спокоен. Со вчерашнего дня за одну ночь все как-то постарели. Жена Каплана, вчера еще молодая женщина, сегодня кажется пожилой, усталой еврейкой. Вместе с Капланом спускаемся за Магариком. Он тоже готов и ждет нас. Странный человек, такого невозмутимого спокойствия [я] не встречал. Я знаю, что он любит свою жену, [да] и трудно ее не любить — очаровательная, красивая молодая женщина, и ребенка он любит, но все это так великолепно скрыто, что он производит впечатление человека, испытывающего полное безразличие ко всем и ко всему. M-me Каплан умоляет нас не покидать ее мужа, быть ему поддержкой. На лестнице встречаем Фридмана. Он перед уходом еще должен побывать во всех квартирах, предупредить женщин, чтобы они в течение дня не выходили на улицу. Только что были из полиции и передали это распоряжение. *** Улица уже полна народу. Все направляются на Лудзас, там выстраиваются в нечто вроде колонны, и колонны текут к Садовниковской. Стало светлей, мелькают серые лица с глазами загнанных зверей. Многие с мешками на спине. Это глупо. Логика говорит за то, что нас или еще отпустят на короткое время домой, или расстреляют. Как в одном, так и в другом случае мешки на спине — лишние. По мере приближения к Садовниковской ряды в колоннах становятся все длиннее и гуще. У Даугавпилсской улицы так запружено народом, что останавливаемся. Стало совсем светло, и в толпе мелькают знакомые лица. Выхожу из ряда, взбираюсь на крыльцо дома — хочу посмотреть, какой длины колонна. Почти вся Садовниковская черна. По тротуару проходят группы «ленточных»3. Всего, по грубому подсчету, нас должно быть не больше шести-восьми тысяч, но впечатление, что [нас] десятки [тысяч]. Странное впечатле3 «Ленточные» (идиш бендлдике — люди с повязками, «повязочники») — латышская вспомогательная полиция и внешняя охрана гетто, одетые в гражданскую одежду либо в обноски формы бывшей латвийской армии или айзсаргов с зелеными нарукавными повязками. 256 ɗɥɶɦɚɪɊɢɜɨɲɁȺɉɂɋɄɂ Ивановская церковь в Риге. Современный вид с территории бывшего гетто ние оставляет такое шествие. Будто грандиозные похороны. Многих стариков ведут под руку молодые. Колонна медленно ползет вперед, пока на Садовниковской не останавливается совсем. Тротуары очищают от людей, всех сгоняют на мостовую. Из подворотен, из-за прикрытых ворот и калиток высовываются пугливые женские лица, но скоро это прекращается, появляется слишком много «ленточных» патриотов. Как видно, опасаются «восстания рабов», на каждом шагу группы из четырех-пяти до зубов вооруженных борцов за справедливость. Солнце давно уже высоко, все им залито. Блестят кресты на церквах. Издалека они как будто кажутся символом смерти. Лютый мороз, и, чтобы не замерзнуть, большинство делает какие-нибудь «pas»4. Если не глядеть на лица, забыть про суть, а смотреть только на ноги, можно подумать, что людям весело. Стоим уже больше трех часов и все еще не знаем зачем. Кроме «ленточных» никого не видать, а «ленточные» — холуи немцев, они сами ничего не могут решать. Многие слабые старики расселись на тротуаре, иные — на своих мешках. Постепенно колонна теряет свой вид, она превраща4 Па (фр.), т. е. танцевальное движение. ɇȺɑȺɅɈɋɖ ется в большую, длинную толпу. Люди меняют свои места, разыскивают знакомых. Встречаю архитектора Г[енриха] Розенберга (отца Сильвы Будо5). Знаю его давно, много с ним и для него работал. Человек он с изумительным юмором, стопроцентный оптимист и в то же самое время, как это ни странно, скептик. Он в жизни остался совсем один и чувствует себя беспечным и свободным. Что ему могут сделать? Что нам вообще могут сделать? Распорядиться нашей жизнью и смертью — это все. Америка как будто не то уже выступила против Германии, не то на днях выступит. Советы с каждым часом становятся сильнее, Германии и ее идее все равно крышка, а мы — ну, это роли не играет! Издали вижу Григория Яковлевича [Рамма]. Стоит он, опираясь на палку с рукояткой из слоновой кости. Кажется, что палка — его единственная поддержка, что это все, что его поддерживает. Подхожу к нему. Его глаза от слез и мороза распухли и остались еле заметные щелочки. Усы уже не черные, а рыжевато-серые. [При] виде меня губы его начинают дрожать, и он долго не может вымолвить слова. Держит только мою руку и судорожно, урывками пожимает. Генрих Розенберг. Фото 1920 года Сильва Будо. Фото 1927 года 5 Сильва Будо (урожд. Розенберг) — известная до и после войны в Риге танцовщица и хореограф. 258 ɗɥɶɦɚɪɊɢɜɨɲɁȺɉɂɋɄɂ — Прощай, Элик, последний раз тебя вижу. Тяжело знать, что скоро, как старая, никому не нужная тряпка, буду уничтожен, [как] и Фанни, и мы все, старики. Смотри, не падай духом, ты еще молод, ты до многого можешь дожить, вспоминай иногда своего старого учителя и друга. Дай, я тебя разок на прощанье поцелую. Как будто по заказу, в этот момент подходит еврейский полицейский, выкрикивающий распоряжение о том, что все инвалиды и перевалившие за шестьдесят лет могут отправляться домой. Без единого слова — да и что я могу сказать? — обнимаю и прощаюсь с Григорием Яковлевичем. Неуверенной стариковской походкой он исчезает в толпе. Почему-то нигде не могу найти Алиного старичка [Самуила Львовича]. Видно, с ним мне не удастся проститься, да и к чему? Толпа вдруг ожила и зажужжала. Вдали слышна команда и громкие немецкие голоса. Все поспешили занять свои места, старики постепенно смываются. По рядам проносится шепот: «Идут!» Быстрым шагом по тротуару приближаются Станке, Тухель и К°. Лица этих мерзавцев выражают только безразличие и презрение, была бы хоть ненависть! Еврейской полиции поручают разбить колонны на группы. Все служащие и технический персонал Judenrat’а — вперед. Работающие у немцев, на частных предприятиях вне гетто, «безработные» и т. д. — все в отдельных колоннах с определенным промежутком должны выстроиться на смотр. Для такой расстановки улица оказывается слишком короткой, и нам как первым приходится завернуть и выстроиться на одной из боковых улиц. Опять ждем и мерзнем. Курить опасно, но имеющие — все курят; если дым пускать в спину соседу, то он распыляется, и облачка не видать. Скоро час дня, а мы все еще стоим. Что это — тренировка? К двум часам наша колонна опять оживает. Мы выстраиваемся, рядом со мной Герцмарк и мой мальчишка Фридман — представители «цеха печников». Наш фронт, как на параде, обходит его величество Станке. Речь его и приказ лаконичны: — Теперь два часа, бегом к себе домой, забрать свои пожитки и к двум тридцати собраться у ворот «маленького гетто». Марш! Тридцать минут — времени не слишком много, терять его нельзя, к тому же неплохо после этого ожидания пробежаться. С Герцмарком уславливаюсь встретиться на углу [улиц] Маза Кална и Лудзас, а теперь — бегом. ɇȺɑȺɅɈɋɖ Улица, как муравейник, все торопятся, бегут, не хотят терять драгоценных минут. Человек не из гетто, наверно, подумал бы, что эта улица [полна] безумных. Ни разговоров, ни криков, одна лишь дикая спешка. Запыхавшись, вваливаюсь в дом. Десять минут третьего. Через двадцать минут нужно быть у ворот. Необходимые вещи летят в чемодан, инструменты — в мешок; одеяло, подушка — в узел. Десять минут могу посидеть «спокойно». Узнаю новость: Лиза Р[акузина] родила ребенка, были очень тяжелые роды, но и она, и ребенок «вне опасности». Ой ли? Уславливаемся с Алей, что куда бы нас ни послали, что бы с нами ни было, при первой возможности дать знать о себе. Я сообщаю в Зассенгоф, а Аля — кроме Зассенгофа еще Л[юсе]. Таким образом мы всегда сможем друг друга найти. С мамой этого уговора нет, он лишний. У мамы губы холодные, лицо все еще каменное. Сердце, как видно, уже умерло. У Али губы еще теплые, податливые, но в них нет уже жизни. Девочка спит, лежа на животике, вылезает розовая пяточка из-под одеяла. Пяточке щекотно от усов, и она исчезает под одеяло. Диму слишком прижал, но он не крикнул. Что с ними будет, куда их денут? Зачем, для чего и за что? Ненависть, отчаяние и надежда сплелись в один ком. Этот ком нельзя проглотить, он давит и сжимает горло. Самые сильные страдания причиняет не наше личное горе, а горе наших близких и наших любимых. *** У ворот «маленького гетто» уже толпа. С чемоданами, мешками, тюками, некоторые даже на саночках привезли ворох «добра». Многие еще и теперь сохранили манию спасения вещей. Миновавшие ворота пускаются бегом захватить лучшие места. У ворот стража следит за порядком, иногда работают прикладом. В некоторых случаях не совсем неуместно. Люди в толпе, в желании как можно лучше устроить драгоценное тело, потеряли снова человеческий облик, стали толпой, а толпа имеет свои законы, свою психологию. У ворот, как статуя, стоит красавец офицер, офицер бывшей латвийской армии, новый помощник коменданта гетто. Я узнаю его с первого взгляда, его не узнать нельзя. Я его помню лейтенантом, взводным командиром. В 1937 году я проходил повторное обучение инструкторов-резервистов в Саласпилсе, всего один месяц. Служил я в третьем взводе, он командовал вторым. Лейтенант 260 ɗɥɶɦɚɪɊɢɜɨɲɁȺɉɂɋɄɂ Альберт Данцкоп. Фото 1931 года Данцкоп6. Среди профессиональных военных у нас в армии было достаточно сволочей, но лейтенант Данцкоп и среди них занимал почетное место. Злой садист по натуре. Злой для развлечения, вместо папироски — он не курит. Неевреев он третировал с удовольствием, евреев — с наслаждением. Он красавец в том смысле, что принято считать красотой. Такие глаза встречаются редко. Видел их только у латышей и эстонцев, но говорят, что и у финнов они встречаются. Я бы назвал их вообще не глазами, человеческими глазами, а просто органом зрения. Эти глаза, как светлое прозрачное стекло, как мертвый красивый камень. В них нет ни злобы, ни скуки, нет ни любви, ни ненависти, они видят, но ничего не выражают. Искать жалости, пощады в этих глазах так же безнадежно, как заставить их засмеяться. Хороший помощник коменданта, слов нет. 6 Альберт Данцкоп (1911—?) — бывший лейтенант латвийской армии, учился на медицинском факультете Латвийского университета (поступил в 1931, восстановился в 1943 году). С 1 октября 1941 года добровольно находился на службе в латышском полицейском батальоне, начальник внешней охраны Рижского гетто (окончательно утвержден в этой должности 16 февраля 1942 года). С 12 мая 1942 года по 13 ноября 1943 года находился на фронте, где 17 октября 1942 года был ранен под Ленинградом, но остался в части. В конце войны бежал с гитлеровцами. По некоторым сведениям, умер в 90-е годы в Канаде. ɇȺɑȺɅɈɋɖ *** Герцмарк встретил своего знакомого — С. Финкельштейна. Жил он на Ликснас, 26, и собирается попасть опять в свою квартиру. Финкельштейн хочет там устроиться с нами. Торопимся, чтобы быть там одними из первых. Протолкнувшись через ворота, становимся составной частью той же дикой толпы. Толкаем, наступаем на ноги, бежим с нашими пожитками за Финкельштейном. Хорошо, что дом еще пуст и не приходится брать угол с бою, но нельзя терять лишней минуты, за нами уже мчатся другие. Двухэтажный деревянный дом, квартира на втором этаже. Небольшая кухня, очень большая комната, в конце нее — дверь, ведущая в крохотную комнатушку. Вот в эту комнатку мы и устремляемся. В ней имеется одна кушетка, а нас трое. Герцмарк остается оберегать место, а Финкельштейн и я бежим в поисках тахты или дивана. В квартире этажом ниже чуть не дерутся, толкают друг друга и ругаются. Мы этим пользуемся и вытаскиваем матрац и узенькую тахту. Кражу замечают, когда мы уже на лестнице, без драки мы добычу все равно не выпустим, нам вслед летят проклятия, но до рукопашной не доходит. Потные и возбужденные вволакиваем Дом на улице Ликснас, 26. Современный вид 262 ɗɥɶɦɚɪɊɢɜɨɲɁȺɉɂɋɄɂ добычу к себе, закрываем дверь. Один шаг в борьбе за существование совершен. Герцмарк страшно хозяйственный дядя. Ему хочется иметь «комфорт и удобства». Теперь он отправляется на охоту за «обстановкой». Через несколько минут он является с маленьким туалетным столиком, [далее] следуют стулья, разные хозяйственные принадлежности — метла, горшки, банки, сковорода и т. д. В этой самой квартире еще вчера Финкельштейн жил со всей семьей. Ему лет тридцать пять, высокий, красивый, нервный брюнет. У него жена и двухлетняя дочь. [Он] представитель так называемой «денежной интеллигенции». Ему в данную минуту труднее, чем нам: мы в чужом месте и не можем так сконцентрироваться на всем происходящим, как он. Для него каждая дверь, бумага на окнах, лампа, даже метла тут же вызывают образ его жены и девочки. Ведет он себя вообще странно. Минутами напускает [на себя] нечто вроде удали, предлагает звать друг друга по имени и на «ты», жить, как в походе или на военной службе, жить, ни о чем не думая, кроме как о часе мести и расправы и т. д. Тут опять на него находит волна отчаяния, он кидается навзничь и трясется от рыданий. Слов успокоения у нас для него нет, где мы их найдем? Нам так же тяжело, но мы просто это иначе проявляем или скрываем. В дверь то и дело врываются, но при виде нас в такой тесноте покушения на жилплощадь не происходит. Большая комната уже заселена разношерстным народом. Там еще шум и гам, возня и споры, там еще не пришли в себя и заняты устройством своего места. Уже смеркается, скоро вечер. Завтра всем нужно собраться на улице Виляну для работы. Что сегодня происходит в «большом гетто»? Что будет ночью? Что будет с ними? Vernichtungsaktion7. Что значит это слово? Звучит так «культурно» — что за этим кроется? Ночь. Несмотря на горе и муки, от волнений, после стояния на морозе и борьбы за место все «маленькое гетто» спит мертвым сном. Никто не слышит револьверных выстрелов, никто не слышит окриков пьяных патриотов. Ночь, как черная губка, впитала в себя все. 7 Акция уничтожения (нем.). ɇȺɑȺɅɈɋɖ Улица Виляну. Современный вид *** Улица Виляну между Большой Горной и Лудзас. Улица короткая, но очень широкая, как длинная площадь. У Большой Горной новые ворота, ведущие из гетто на «волю». Вся улица полна народу. В некоторых местах строятся колонны. Ходят немцы и набирают себе людей. Некоторые [из них] стоят спокойно и от поры до времени выкрикивают: «Luftwaffe!»8, «SSP!» и т. п. Слышны и латышские голоса: «Lopkautuve»9 и т. д. Я в первый раз на рынке рабов и не знаю значения всего этого. Есть и другие наборщики [рабов]. Они просто хватают за шиворот и тащат. Места работы не объявляют, поставив своего «Jud’а» в колонну, под надзор другого ловчего, продолжают это дело, пока не набрано нужное количество. Место работы [у] таких господ имеет плохой привкус. Там дают «банки»10, поэтому им приходится тащить людей силком. В это утро я и этого не знал и стал в колонну, без того чтобы меня ловили, — какая 8 9 10 вать. Военно-воздушные силы (нем.). Скотобойня (латыш.). Банка (жарг.) — удар кулаком; ставить (давать) банки — бить, изби- 264 ɗɥɶɦɚɪɊɢɜɨɲɁȺɉɂɋɄɂ разница? Колонна моя носит красивое название «Кабель». В каждой такой рабочей колонне имеется свой Oberjude11. Если он сволочь, то ему относительно хорошо. Не знаю, для меня это по сей день загадка, становятся ли они сволочью, чтобы стать Oberjude, или становятся Oberjude, потому что сволочи. Некоторые из моих товарищей по несчастью, знающие уже этот «Кабель», ищут случая улизнуть. В темноте это некоторым удается, и немцу трудно набрать 120 человек, при подсчете всегда не хватает, дойдя до 119, это число пересчитывается раз пять. Наконец колонна готова — 120 человек. Не понимаю, как в нашем положении могут из-за неприятного места работы огорчаться. Мне трижды наплевать, куда погонят и какая работа. Набьют морду — тоже не беда. Единственное — заранее себе внушить не отвечать ударом на удар. Один ответный удар может стоить жизни очень многим. Это нужно помнить и никогда не забывать. Выходим за ворота и быстрым шагом направляемся наверх по Горной. Вот мы на Московской, мимо проходит трамвай номер 5. Там, наверно, сидят бывшие фабричные знакомые, как недавно я ездил этим трамваем на «Кузнецовку». С Московской сворачиваем на узенькую улицу, ведущую мимо фабрики Брауна. Выходим на Двину. На острове лесопильный завод, а остров соединен с берегом дамбой. Вот на этой дамбе и прокладывают этот знаменитый кабель. Место работы зимой, правда, неуютное — ветер так и свищет, а мороз не мелкий. Дамба длиной метров 200—250. На второй [ее] половине видны следы начатой работы. Чем ближе подходим к лесопилке, тем глубже ямы. У конца дамбы часть ям уже готова. В колонне со мной имеются несколько типичных «буржуйчиков», для которых один вид этих ям и песка является чем-то чуждым и враждебным. Проскальзывает мысль, что при других условиях, если бы их заставили покопать землю — не как евреев, а «буржуйчиков», презирающих работу и любящих легкий хлеб, заработанный чужими руками, то было бы невредно недельку-другую их поучить. Теперь мне их жаль, теперь они страдают, не зная за что. У фабричной конторы навес, под ним — кирки, лопаты, ломы. Все по очереди подходят и берут лопату и лом или кирку. По одну сторону дорожки уже вырытые ямы, по другую стоит немец и наблюдает. [Лишь] только колонна пришла в обратное движение и 11 Старший еврей (нем.). ɇȺɑȺɅɈɋɖ растянулась гуськом, как ноги этого господина заработали, как у футболиста, стараясь проходящим всадить удар в место пониже спины. Неудивительно: мороз, у него тоже мерзнут ноги, нужно же согреться. На всех нас у него не хватает выдержки или он уже согрелся — я пробегаю, не удостоившись этой чести. Ямы для прокладки кабеля копают вот так: летом, когда земля мягкая, роют просто канаву 120—150 сантиметров глубиной. Зимою же немного иначе. Намечается направление, в котором роют отдельные ямы длиною в человеческий рост с соответствующей человеческим плечам шириной и глубиной 120—150 [сантиметров]. Роют их на расстоянии примерно трех с половиной метров друг от друга, потом дно ям соединяют туннелем. Прокопать его можно только лежа на боку или на животе. Самое неприятное и трудное — добраться до мягкого песка. Если не знать земляных работ и не уметь обращаться с мерзлой землей, это так же трудно, как вырыть яму в камне. Мне часто приходилось зимой вкапывать у себя заборные столбы, да и на военной службе копал землю, так что меня это не пугает. Нужно, правда, вначале приложить некоторое усилие, зато потом легко. Слабому человеку, конечно, эта работа не под силу, и для него это мука. Имеются у нас три начальника. Главный — инженер-немец. Крупный субъект с обветренным красным лицом, с крошечными холодными глазками, узкими губами и широким подбородком. Ходит без палки. Говорят, в молодости был любителем бокса и предпочитает пользоваться кулаками, иногда — ногами. Зеленое пальто, такая же шляпа, высокие резиновые сапоги. Это руководитель всех работ, и мы его называем «эр» (он). Его ближайший помощник — парень лет двадцати пяти, брюнет с безвольным испитым лицом. Ходит с палкой. Пускает ее иногда в ход. Довольно часто играет в футбол. Это — «шейгец» (нееврейский хлопец). Третий — просто надсмотрщик, «погонщик скота», неопределенного вида поляк, ходит с палкой, но только для фасона. Евреям продает папиросы — 50 пфеннигов штука. Следит он за работой только тогда, когда вблизи «он» или «шейгец». Его просто зовут «пауэр» (мужик). Работаем по двое над одной ямой. Один из нас откалывает ломом куски мерзлой земли, другой ее отбрасывает в сторону. Самим хочется скорее влезть в землю, чтобы хоть немного спрятаться от режущего ветра. На голодный желудок, не работая, страшно мерзнешь, мороз — наш самый лучший погонщик. Когда издали 266 ɗɥɶɦɚɪɊɢɜɨɲɁȺɉɂɋɄɂ появляется «он», весь ряд лихорадочно и быстро начинает копошиться. «Ему» доставляет изысканное удовольствие наступать стоящим в уже довольно глубоких ямах на плечи, делает «он» это будто вминает в землю, со стороны, во всяком случае, создается такое впечатление. «Шейгеца» работа не интересует, он только от поры до времени пропускает палочкой по спине какого-нибудь ярко выраженного семита. Меня он не замечает, чему я только рад. Часов в одиннадцать приходят наш Oberjude Гликсман и «шейгец». У последнего в руках две зарезанные курицы. Гликсман оживленно с ним о чем-то беседует, он не работает, разгуливает в шикарном полушубке и теперь, как видно, отправляется с «шейгецом» заказывать обед. Мы тоже имеем обед. [На] 30 минут имеем право собраться кучей и считать, что и мы пообедали. В помещение нас не пускают — там рабочие завода, а мы с ними не имеем права разговаривать. Отдельные рабочие уходят с завода на обед домой. Среди двух уходящих рабочих узнаю хорошего знакомого по фабрике А. Были мы с ним большие друзья, работали с ним в разных комиссиях и МОПРе12. Незаметно для других сталкиваюсь с ним на дорожке, и несколько минут идем рядом. [Он] сует мне в карман горсть папирос. — Фронт уже приближается, не жди, пока вас всех перебьют, тикай, вот мой адрес… — Еще рано, но, может, уже скоро. Незаметно крепко пожимаем друг другу руку. В общем, странное наше положение. Животное, чтобы оно работало, кормят. Мы должны работать, и нас не только не кормят, но еще и лупят. В жизни, даже самой скверной, есть своя логика, тут ее никак не найду. Хорошо, что работу тут кончают рано, в четыре часа, до гетто всего минут десять, так что еще засветло будем «дома». Вторая половина дня проходит так же, как первая, только трудней работать — очень холодно, и сильно есть охота. С нетерпением поглядываем на берег у мола — не идут ли наши провожатые, наши «йеки» (так евреи называют немцев). Наша яма уже сантиметров семьдесят глубиной. Мы сидим в ней, защищая себя этим от ветра и холода, пока не видно погонщиков. Увидев их, вскакиваем и опять работаем. Наконец в начале мола появляются две фигуры в 12 МОПР — Международная организация помощи борцам революции (была создана в 1922 году и действовала до Второй мировой войны, в том числе и в Латвии; до 1940 года — нелегально). ɇȺɑȺɅɈɋɖ длинных шинелях. Бежим опять к навесу, аккуратно ставим наши лопаты и ломы и выстраиваемся колонной. Немцы нас наскоро подсчитывают, и мы трогаемся. Мы так голодны, что скорее хотим быть дома, идем быстро, вот уже забор гетто, уже видны ворота. Немцы что-то рассказывают Гликсману. Через мгновение по колонне проносится слово «акция». В гетто была акция! Какая? *** Забыт голод, мороза не чувствуешь. Скорее бы узнать, в чем дело. Последние несколько десятков метров мы не шагаем, а бежим. Стража в воротах нас не пересчитывает, обыска нет. Часовой глядит мимо нас. Неужели, неужели у него зашевелилась совесть? Наша колонна одна из первых, другие приходят много позже, и гетто почти пустое. На бегу узнаю, что часть гетто этой ночью увели, было много убитых, весь день работали рабочие команды по уборке трупов. Теперь из «маленького гетто» пускают в «большое». Бегу к воротам. Там наш «префект» еврейской полиции Ванд13, у ворот — латышская стража. Постовой, повернувшись к нам спиной, смотрит кудато мимо, теперь никто из них не смотрит нам в глаза. Мимо меня проходят несколько евреев с лопатами. Их пальто в песке, рукава и полы замазаны кровью. Лица ничего не выражают, кроме усталости. Наконец я за воротами, я в «большом гетто». Улицы пусты, ставни домов закрыты, бумага на многих окнах спущена. Вспоминаю, что вчера еще местами был нестоптанный белый снег, теперь как-то все умято, на краю тротуара следы подков, конский помет и — лужи крови. Лужи, пятна, полоски, отдельные капли. Видно, что улицу уже убирали, но местами встречаются втоптанные в снег перчатки, детские калоши, разные мелочи. И опять лужи красной крови. То и дело наступаешь на маленькие медные трубочки — гильзы револьверных патронов. Мысли где-то далеко, не замечаю, как ногой попадаю в кровь. Странно — мороз, но она еще липкая. На ней, видно, лежал убитый, согревая ее остывающим телом, его, наверно, недавно забрали — проносится в мозгу. Чувствуешь, как внутри что-то оборвалось, еще каким-то чувством стало меньше, ты уже спокоен, ты уже привык, акция стала понятной и простой. Навстречу 13 Макс Ванд эмигрировал в Латвию из Германии в 30-е годы. 268 ɗɥɶɦɚɪɊɢɜɨɲɁȺɉɂɋɄɂ попадаются отдельные евреи с мешками и чемоданами. Переносят из своих уже пустых квартир продукты, уже там ненужные, к себе. По тротуару проходят двое полицейских-«ленточных», слышны обрывки разговора, мелькнуло слово «slepkavība»14. У нас на дворе ничего не изменилось, только пусто. Еще светло, но окна в нашем домике затемнены. Чтобы не испугать, стучу два раза в окно — это [условный] знак Самуила Львовича. Открывают мне Аля и мама вместе. На них лица нет. — Рыжий, это ты, я так испугалась, думала, папа в такое необычное время. В квартире непривычный беспорядок, посуда не мыта со вчера, постели не заправлены. Всю ночь не спали, сидели, не раздеваясь, и ждали, что придут. Дети спали одетыми. Узнали уже вечером, что на Католической, Садовниковской и Московской уже началось. До утра не понимали стрельбы. Только утром, когда Аля хотела выйти на улицу, ее задержал Фридман, сказав, чтобы лучше не шла — улица усеяна трупами стариков. Стариков, мол, не хотят понапрасну кормить в лагере и для экономии и удобства уже в самом гетто расстреляли. Аля говорит, что был еврейский полицейский, заявивший, что акция прервана и, может, вообще второй не будет, во всяком случае, в ближайшую неделю можно быть спокойными и постараться жить по-старому, только без мужчин. Как утопающий хватается за соломинку, так и мы ухватились за этот кусочек надежды, но внутри что-то говорит, что надежда безнадежна. В эту ночь многие покончили с собой, в том числе несколько врачей. Алина кузина Леля Бордо себе и [своему] Жоржику (сын пяти лет) перерезала на руках артерии. Ее утром нашли в кровати с Жоржиком на руках, залитых кровью. Жоржик был уже мертв, она же теперь в больнице, ей сделали переливание крови, и она выживет. Врачебная совесть и этика бывает преступней самого гнусного убийства. Зачем спасать Лелю? Прочитав или услыхав слова «Леля перерезала артерии себе и Жоржику», они доходят до слуха, до поверхностного сознания, но постарайтесь вдуматься, постарайтесь на момент понять и почувствовать, что должно происходить в душе такой Лели, когда она бритвой перерезает артерии на ручках своего обожаемого маленького Жоржика. И эту Лелю спасают. Неужели не понимают, что этим заставляют ее еще раз пережить весь 14 Убийство (латыш.). ɇȺɑȺɅɈɋɖ Елизавета (Леля) Бордо. Фото 1927 года ужас, неужели не понимают, что она должна будет вторично себя убивать — это ее единственное спасение. Леля, слабая избалованная женщина, оказалась сильнее, чем можно было ожидать, и — кто знает — может быть, умнее нас. *** Многих знакомых и родных уже нет, дошли уже до двадцатых номеров по Лудзас. Гутманы и старики живут в 35-м номере, нескольких домов не хватило. Мария Ивановна, Баги, Данцигеры и много-много других уже где-то, в каком-то, может быть, вообще мифическом лагере. Может, вообще нет никакого лагеря. Глупые мысли. Пришел Изя Фридман, спрашивает, не хочу ли [я] пойти за табаком или папиросами. В оставленных квартирах уже многие побывали и нашли, ему одному неуютно, а зная, что мне нечего курить, [он] думает, не пойду ли [я] с ним. Нужно торопиться, а то скоро ничего не найдем. В первый момент мелькает мысль: это мародерство, ее сменяет другая: почему [бы] нет? Если не мы, то заберут немцы или «ленточные». — Конечно, подожди только, пока я поем, я сегодня еще ничего не ел. Где-то в сознании мелькает мысль: неужели я ощущаю голод, могу думать о табаке, неужели мы так отупели, так озверели? ɗɥɶɦɚɪɊɢɜɨɲɁȺɉɂɋɄɂ Дом на улице Лудзас, 35. Современный вид Ната Б[екер] поселилась у своих родственников на Католической [улице], значит, ее тоже уже нет. Большая часть ее съестных припасов осталась у нас, их теперь можно уничтожать, не жалея. Аля мне делает яичницу на три яйца. Несколько сотен лежат в ящике — недаром Ната у себя на Садовой разводила кур. Еще стакан настоящего чаю опять-таки с Натиным медом, и я готов, можем отправляться. В людях скрыто непонятное чувство. Помню, много лет тому назад в Риге шел фильм «Западный фронт» (не по Ремарку)15. Показывал он очень реалистично и художественно войну на Западе. Кончался он сценой в лазарете, где врач сходит с ума — жуткая картина. Кроме неприятных ощущений, этот фильм не вызывал ничего, но пользовался большим успехом, и были любители, посещавшие его по два раза. Я с Изькой иду за табаком, но в то же самое время ловлю себя на мысли, что нужно побывать в квартирах после разгрома, нужно увидать следы драмы. Знаю, что, кроме страшных и отвратительных картин, ничего не увижу, но что-то влечет. 15 Имеется в виду фильм немецкого режиссера Георга Вильгельма Пабста «Западный фронт, 1918» (1930 год), носивший пацифистский характер и шедший вразрез с общим направлением немецкого кино в годы, предшествовавшие приходу к власти нацистов. ɇȺɑȺɅɈɋɖ Квартира в Рижском гетто после акции уничтожения. Декабрь 1941 года Лужи крови стали чем-то неизбежным, на Лудзас они за один день стали обычным явлением. Мы проходим мимо них или просто попадаем ногой и не ужасаемся. На углу Даугавпилсской и Лудзас заходим в небольшой дом. Первое, что бросается в глаза, — разбитая входная дверь, грубая работа топора. Дверь первой квартиры — настежь. Кровати разрыты, на полу — подушки, одежда, хаос всяких вещей. На столе — всякие объедки, недопитый чай. Видно, что люди были выгнаны неожиданно и в спешке. Кто-то забыл паспорт, сую его в карман — отдам в «секретариат» «маленького гетто». Совсем забыл, за чем шел сюда, передо мной проходят картины, [которые] видела эта квартира. У кровати — ночной столик, на нем — нечто вроде пепельницы с окурками, они напоминают деловую сторону экспедиции. Открываю ящик. Фотографии каких-то людей в купальных костюмах, за свадебным столом, какие-то ребятишки, какието пилюли, какое-то лекарство, очки и три папиросы «Rīga». Все очень обыденно, нет ничего «ужасного», но для новичка тягостно, все думаешь, как будет выглядеть у тебя через [неизвестное число] дней, что переживали эти люди, кто они? Изька в шкафу нашел пачку «Спорта», ему больше везет. В кладовой среди всяких припасов Изька нашел баночку с маринованными боровичками, суем себе несколько штук в рот и идем дальше, в другую квартиру. ɗɥɶɦɚɪɊɢɜɨɲɁȺɉɂɋɄɂ Всякое начало трудно, скоро мы станем специалистами по мародерству. В следующей квартире общий вид такой же, папирос и табака нет, мы не задерживаемся, идем на второй этаж. В квартире налево дверь полуоткрыта, сильный сквозняк. Проходим через кухню в комнату, там разбито окно и гуляет холод. Пол, стол, как всюду, только кровать по-другому: она не разбросана, в порядке и на ней кто-то лежит. Подходим и вглядываемся в лицо покойника. Старик, небольшая серая бородка, глаза стеклянным взором упираются в потолок. Отбрасываю одеяло, хочу посмотреть, нет ли на теле раны. Ее нет — видно, разрыв сердца или удар. Как-то, не зная для чего, прикрываю его опять, даже слежу, чтобы не было щелей — окно ведь выбито. В ящике стола нахожу начатую пачку табака «Brinkman». Темнеет, надо спешить. Для первого впечатления достаточно, еще насмотримся на такие квартиры. По дороге захожу домой. Впуская меня, мама делает знак, чтобы не шумел — Аля заснула. В неубранной комнате на неряшливой кровати, прикрывшись пальто, спит Аля. Дети тоже уснули, хотя всего только семь часов. Зачем мне [их] будить, пусть спят, сон — это единственная «радость». Мама уговаривает забрать кое-что из съестного и осеннее пальто. Пальто можно забрать, может, правда пригодится, съестное пусть остается, мы ведь надеемся, что акции уже больше не будет. Детей и Алю вместо меня поцелует мама, нужно торопиться: до восьми часов все обязаны быть на месте. *** Надежда и сомнения. Те, кто лишился своих, чьи семьи уже угнали, уверены, что и остальных выселят, они больше не надеются и смотрят на вещи ясно, они убиты, но трезвы. Мы, у кого родные еще на местах, живем надеждой, мы чуть ли не верим, что сбудется то, чего в [этот] момент сильнее всего желаем, мы еще слепы, мы не понимаем всей последовательности, всей системы акций. *** Наша квартира в «маленьком гетто». Новый, еще не виданный мир. Пир во время чумы. Люди помешались на еде, все едят, у всех такой аппетит, что диву даешься. Из оставленных квартир натас- ɇȺɑȺɅɈɋɖ кали продуктов все, кто успел побывать в «большом гетто». В кухне спорят из-за места для сковороды, пекут блины из картошки. Первая от нашей комнаты кровать — Аронсона. Он специалист по окраске тканей на какой-то фабрике. За ним специально посылают провожатого, и он имеет близкий контакт с неевреями. Забрал из «большого гетто» сына, мальчика пятнадцати лет, к себе. Сидят на кровати и уписывают коробочку бычков, он и сын [этим] так увлечены, что не замечают того, что рядом на кровати человек, потерявший прошлой ночью свою семью, трясется от судорожного плача. В нашей комнате Герцмарк объясняет какому-то еврею положение на фронте. Тот уверяет, что взята Старая Русса16 и что немцы скоро покинут Ригу. Герцмарк по памяти рисует карту и доказывает несостоятельность таких слухов, еврей на него за это явно обижен. Зять Герцмарка, [еврейский] полицейский, остался с семьей. Вообще все семейные полицейские остаются со своими. С первой акцией ушел Judenrat и часть полиции. Сказали, что в лагере [они] будут исполнять свои обязанности и следить за порядком. Хоть маленькое утешение, что [там] будут свои мужчины. Откуда-то пришло известие, что первых выселенных поместили в Саласпилсе, в бывшем военном лагере. Разместили будто бы на койках, будто бы там тепло и даже имеется электрическое освещение. Сведения эти, как всегда, кто-то узнал от кого-то. Двое из нашей квартиры работали по уборке и зарыванию трупов. Убитых в пределах гетто было не то 500, не то 800 человек17. Как правило, стреляли только старых и больных, случайно, может быть, убили несколько молодых и детей. Стреляли в голову — знаменитый «Kopfschuss»18. Все это так непонятно, так невероятно, что перестало быть ужасным. После известного предела как холод, так и жар перестают чувствовать. Рассказывают о работе на кладбище, как о чем-то почти естественном, тут зарывают кабель, там — трупы. Финкельштейн как ушел, так и не вернулся, остался с женой и дочкой. Вместо него в нашей каморке устроился Изька Фридман 16 17 Старя Русса — город, в то время в Ленинградской области. В ходе первой акции уничтожения узников Рижского гетто 30 ноября 1941 года на улицах гетто остались около 800 убитых. 18 Выстрел в голову (нем.). ɗɥɶɦɚɪɊɢɜɨɲɁȺɉɂɋɄɂ с приятелем Моткой. Спят они на кровати Финкельштейна. Мотка — занятный веселый малый, несмотря на наше положение и на акцию, он не падает духом, сыплет шуточками и прибаутками, в общем все похабными, чем приводит в ужас Герцмарка. В первый же вечер вытащил из кармана колоду карт и собрал компанию [для игры] в очко. Утром, чуть свет, собираемся на месте сборища рабов. Начинается та же картина. Работал день в гавани, грузил уголь. Был опять на «Кабеле», жутко промерз там, но, как ни странно, опять не удостоился побоев. В «[большое] гетто» к семьям нас эти дни не пускают, но наши полицейские уверяют, что там все спокойно и есть надежда, почти уверенность, что первая акция останется единственной и уцелевшие смогут спокойно оставаться на своих местах. О том, что стало с первой партией выселенных, ничего не знаем. Самые разнообразные слухи, среди них есть даже совсем фантастический, будто вообще ни в какой лагерь [никого] не отправляли, а партиями направили в ближайшие леса и всех без исключения перестреляли из пулеметов. Этому, конечно, никто не верит и считает плодом больной фантазии. Допускаем возможность, что часть слабых и больных по дороге в лагерь расстреляли, но к этому мы уже привыкли. У нас в «маленьком гетто» опять образовались всякие общественные начинания, как-то: амбулатория, община, технический отдел и вновь организованная [еврейская] полиция. Герцмарк меня обещался устроить при техническом отделе в качестве печника, столяра и вообще по всяким ремонтным работам. Так как связь с внешним миром меня в данный момент не слишком интересует, то мне это по многим причинам улыбается. В полиции нам обещали, что сможем раз-два в неделю навещать семьи. На фронте дела немцев неважные, и мы надеемся, что в любой день может начаться повторение наполеоновского похода. Уже последние числа ноября, и скоро наступит настоящая русская зима, на фронте появилась новая сибирская армия, немцы к такому холоду не подготовлены, и после жертв, крови и унижения над нами скоро-скоро взойдет опять «солнце свободы». ɇȺɑȺɅɈɋɖ *** Сегодня, придя с работы, узнал, что пускают в «большое гетто» — шесть дней, как не видел своих. В наших условиях шесть дней — это вечность. Не заходя к себе, побежал к воротам. Часовой, греясь у костра, не интересуется никем, и я беспрепятственно выхожу на Лудзас. За эти дни выпал свежий снег, и улица со своими лужами крови покрыта белым ковром, спрятавшим все следы последней трагедии. Бросается в глаза пустота. Из этого района ведь никого не выселяли, дома битком набиты народом, а какая безлюдная улица! Скорей бы увидеть Алю, маму и детей. Спешу, чтобы не потерять драгоценных минут. Наш двор весь занесен снегом, только узкие тропочки ведут от дома к дому. Наш «особняк» как будто утопает в снегу, он стал еще ниже, а мне вдруг почему-то — близким и дорогим. *** Аля в доме навела опять порядок, и стало опять уютно. Они как будто успокоились и тоже надеются, что их судьба милует. Мы почти не разговариваем, сидим прижавшись и гладим друг другу руки. О чем говорить? Сегодня мы живы, а что будет завтра, никто не знает. Нарубил на неделю дров, вычистил трубу в плите, покушал картошки с солью — теперь опять нужно экономить, — и вот уже опять нужно прощаться. Кто знает, когда снова дадут свидание. Только бы не выселили. Если на днях пришлось бы уходить, Аля не выдержит, у нее как раз сегодня появились гости (менструация), и она очень слаба. Сколько раз мы уже прощались как будто навсегда, но пока везло. Сегодня ухожу тоже, как, может быть, навсегда. Прощай, мама, детки, прощай моя родная Ленушка, может, через неделю опять приду. Что бы ни было, как бы ни было, мы должны вытерпеть и все перенести, любовь и вера в победу нас должны поддержать. Не плачь, Ленушка, перемелется мýка — мукá будет. За мной закрылась дверь. На небе первые звезды. Под ногами скрипит снег. Хочется вдыхать полной грудью этот зимний воздух, но что-то неведомое сжимает грудь. Маза Кална, Лудзас уже за мной, вот часовой у костра. Ворота, опять «маленькое гетто». ɗɥɶɦɚɪɊɢɜɨɲɁȺɉɂɋɄɂ Улица Маза Кална. Современный вид *** За то время, что меня не было, население нашей квартиры увеличилось. Появились несколько совсем старых. Они старательно побрили бороды, даже головы, чтобы не было видно седых волос. Хотят казаться молодыми и работоспособными. Среди нашей публики явно чувствуется два лагеря. Один — чьи семьи угнали, другой — у кого они остались. Первые не скрывают своей зависти и на нас, «счастливых», как будто бы в претензии. Утешают они себя тем, что и наших скоро постигнет та же участь. Как будто бы чужое горе может облегчить свое, но такова уж натура людей. Пришел к нам бывший главный артист еврейского театра и рассказывал анекдоты из закулисной жизни. Он любит преклонение и старается даже здесь произвести «впечатление». Возбужденно-грустно проходит вечер. Понемногу начинают укладываться на покой. С иной кровати уже раздается посапывание, а иногда и стон. В наших комнатах темно, слышно перешептыванье, отдельные слова, затем наступает гнетущая тишина. Мотка и Изька спят. На тахте рядом со мной Герцмарк. Мы не спим, и у каждого свои мысли, а мысли об одном. Светящаяся стрелка будильника Герцмарка показывает 11.30 — скоро уже полночь. Мысли начинают сбивать- ɇȺɑȺɅɈɋɖ ся, я, наверно, сейчас усну. Но что это? Как будто где-то стучат, совсем близко, и вдруг ночную тишину разрывает дикий окрик: — Aufmachen. Schweinehunde, oder wir schiessen!19 Мигом мы на ногах и у окна. Осторожно отодвигаем бумагу, выглядываем на улицу. Благодаря снегу и кусочку луны все ясно видно. Напротив наших окон у двухэтажного дома группа вооруженных людей стучит в дверь, вдоль нашего заграждения — усиленная охрана из солдат. Мигом по квартире проносится слово «акция». По ту сторону улицы — «большое гетто», в этом доме уже только женщины и дети, а мы, мужчины и их защитники, через щель бумаги видим и в бессильной ненависти кусаем губы. Никто из жильцов, видно, не решается пойти к дверям, и это приводит в бешенство банду героев. Крик и ругань становится все сильнее, раздается выстрел. В темноте виден блеск топора, и ставни в погребной квартире разлетаются. В погребе свет, в окне исчезает солдат, и через несколько минут парадные двери открыты. Мимо открытого окна в погребе промелькнула женщина с дорожным мешком на спине. На мешке ярко выделяется желтая звезда. Со стороны «большого гетто» слышны отдельные выстрелы, там происходит то же самое. [Знаю], в этот момент мою Алю с детьми тоже выгоняют в ночь, в неизвестность. Из дома напротив начинают выходить согнутые фигуры. Их выстраивают по двое в ряд. У некоторых женщин к спине привязан мешок, а на руках или в колясочке ребенок. Взад и вперед шагает солдат с папиросой в зубах. Дом номер 9, хоть двухэтажный, но длинный, жильцов много, колонна все растет. На дворе мороз, а женщины с детьми стоят и стоят. Скоро час ночи. Банда героев, как видно, не торопится покинуть дом, они там подкрепляются, готовясь к благородному занятию. Наконец, уже после половины второго ночи, банда выходит, раздается команда, и под веселый говор и брань героев колонна задвигалась по направлению к Лудзас. Перед нашими окнами оказался опустевший дом номер 9. Двери открыты, в погребе через открытую ставню и выбитое окно видна разгромленная квартирка, лампочку никто не потушил. Все чаще и чаще раздаются выстрелы. Каждый выстрел — это точка над чьей-либо жизнью. Теперь, когда мы ничего не видим, [а] только слышим, начинает работать фантазия. Каждый себе рисует картину происходящего с его семьей, с его родными и близкими. 19 Встать, собачьи свиньи, или будем стрелять! (нем.) ɗɥɶɦɚɪɊɢɜɨɲɁȺɉɂɋɄɂ Некоторые из большой комнаты громко рыдают, большинство молчит и окаменело. Лежу на кровати, тела не чувствую и души не чувствую — как деревянный. У меня опять уже знакомое чувство — просто не могу понять, не могу постигнуть. Знаю, что маму, Алю, Диму, дочку выгнали, куда-то погнали, но не могу осознать, это на моей поверхности, это просто не доходит. Почему, за что? Кому это нужно? Это неправда, это мне снится. В доме уже движение. Утро, но на дворе темно. Я сегодня на работу не пойду, я должен знать, как прошла акция. Чтобы не быть схваченным охотниками за рабами, иду с Герцмарком в технический отдел. Там уже все известно. Этой ночью угнали все остальное население «большого гетто». Приказ пришел неожиданно, даже в sardze20 ничего заранее не знали. Вся еврейская полиция «большого гетто» тоже ушла. На улицах большой беспорядок, и часам к девяти должна собраться рабочая команда для уборки. Технический отдел должен предоставить группу рабочих для работы на… кладбище. Примыкаю к последней, хочу видеть самую жуткую сторону драмы. Это не любопытство, а как будто бы из желания искупить хоть отчасти свое существование. Скоро станет светло, тогда пойдем. Из склада вытаскиваем лопаты, кирки, ломы. На дворе перед амбарами собрались люди с санками и тележками. Как видно, ночью постарались, и работы хватит. На всех лицах видны следы бессонной ночи. Все серы и молчаливы. Все теперь равны — нет больше «счастливых», теперь все несчастные. Нет больше зависти — некому завидовать. Солнце взошло, и как-то незаметно настало светлое утро. Улиц в «большом гетто» не узнать. Где вчерашний снег? Он как будто исчез, умят, придавлен и загажен. Улица после погрома. Я видел улицы после отступления армии, с разбитыми телегами и оружием, с трупами лошадей и людей, с всевозможным военным хламом, но то были следы боя, а тут — следы бойни. Улица, залитая кровью, белый снег, ставший за одну ночь серым с красными узорами. Трупы — все старики и женщины. Помятые колясочки, детские саночки, сумочки, перчатки и калоши, мешочки с продовольствием, бутылочка с соской, в ней замерзший тум, детский ботик. И по сторонам трупы. Они еще теплые, мягкие, лица залиты кровью, глаза открыты. Трупы относятся к [задаче] моей группы — кладбищенской, нужно их свезти на кладбище. По два человека на санки или телегу. Ху20 Стража, охрана (латыш.). ɇȺɑȺɅɈɋɖ Стена Старого еврейского кладбища в Риге. Фото 30-х годов дые трупы уже окоченели, и их удобно взять и погрузить, толстые же женщины еще совсем мягкие, и их никак не ухватить, никак не поднять, они как-то выскальзывают из рук. Все время кажется, что эти толстые женщины еще живы и вот-вот завопят. Когда везем их на тележке, то они колышутся, как живые, а кровь комьями падает на белый снег. На них так много надето, что они долго еще будут теплыми, теплыми же [их] и зароют. Мы возим трупы пока только за ворота кладбища 21, там складываем отдельно рядами мужчин и женщин. Члены общины заби21 Речь идет о Старом еврейском кладбище, существовавшем с 1725 года и находившемся в Московском форштадте между улицами Самарина (ныне Ломоносова) и Маскавас. В 1883 году были возведены кладбищенские ворота, а годом позднее территория кладбища была обнесена кирпичной стеной. В 1903 году на кладбище была построена молельня, а в 1905 году — покойницкая (архитектор П. Мандельштам). 4 июля 1941 года были сожжены все имевшиеся на кладбище строения. На протяжении существования гетто оно было одним из мест казни «провинившихся». Вместе с убитыми на улицах гетто и по пути к местам массовых расстрелов в Румбуле под Ригой 30 ноября и 8 декабря 1941 года, а также участниками действовавшей в гетто группы Сопротивления (31 октября 1942 года) на нем захоронены около 2000 узников Рижского гетто (кладбище входило в его черту). Кладбище не сохранилось: в 1960 году надгробия на нем были снесены и на его месте устроен Парк коммунистических бригад. В 1994 году там был установлен памятный камень и восстановлено название «Старое еврейское кладбище». 280 ɗɥɶɦɚɪɊɢɜɨɲɁȺɉɂɋɄɂ Руины молельни на Старом еврейском кладбище в Риге, сожженной 4 июля 1941 года. Фото 40-х годов рают у них документы, а [тех], у кого [их] нет, стараются опознать. Привезли мальчика лет двенадцати. Чудный, красивый ребенок в серой шубке с меховым воротничком, в новых сапожках. Лежал он на спине с широко открытыми голубыми глазами на восковом личике. Револьверная пуля попала в затылок, и только часть воротничка была залита кровью. Лежал он, как кукла, и как-то не верилось, что он еще недавно был живым и, может, веселым ребенком. Нас сменили другие, а мы идем теперь копать могилы. Пока никого из близких не видел среди убитых, но уверен, что Алины старики будут среди них. Копаем яму у сожженной синагоги кладбища22. Рядом деревья, и придется еще бороться с корнями. Земля так замерзла, что приходится откалывать куски, как от камня. Тяжелая физическая работа — спасение. Не замечаешь, как из губы течет кровь, и не чувствуешь боли. Слишком болит сердце, но и оно скоро перестанет ощущать что бы то ни было. Нет ясных мыслей, все какие-то обрывки. Внешне спокоен, закуриваю, сплевываю кровь и, не замечая того, продолжаю кусать губы. Наконец мы пробили замерзший слой земли, вырубаем корни, и яма заметно начинает углубляться. Могила большая, приблизи22 Имеется в виду кладбищенская молельня, сожженная вместе с людьми 4 июля 1941 года. ɇȺɑȺɅɈɋɖ тельно два на пять метров. Посредине что-то твердое. Начинаю долбить лопатой. Песок сыпучий, и трудно разглядеть, что это. Ударяю сильнее и выбрасываю песок, с песком — кусок материи с мясом. Это еще осенняя жертва. Оставляем труп на месте и продолжаем углублять яму вокруг него, получается, как остров. Мы уже по грудь в земле, еще метр и начнем хоронить. Часть трупов уже перенесли к нам. Их пока положили у уцелевших стен синагоги, некоторые прислонили в полусидячем положении. Какой жуткий контраст между чистым, ясным небом и этими кровью залитыми лицами. Приходит к нам наш полицейский предупредить, чтобы теперь никто не выходил с кладбища и не подходил к ограде. Оказывается, что некоторые улицы — крайние — не успели за ночь «очистить», На Старом еврейском кладбище. Рисунок Артура Ритова 282 ɗɥɶɦɚɪɊɢɜɨɲɁȺɉɂɋɄɂ Домик с мансардой у ворот Старого еврейского кладбища. Современный вид и теперь пройдет последняя колонна. [Полицейский] говорит, что всех любопытных будут расстреливать. В правдивости его слов сомневаться не приходится. Работа как-то осеклась, прислушиваемся и ждем. Ждать недолго, скоро слышим знакомые окрики. Над оградой появляются головы и плечи конных патриотов, за оградой — шарканье многих ног. Перед нами ворота кладбища, они сплошные железные, но отстают от земли на 25—30 сантиметров. Стоя в яме, видишь бесконечное количество ног. Ноги движутся осторожно, мелкими шажками, боясь поскользнуться. Все почти женские, иногда мелькают маленькие ножки детей. Изредка — палка, ощупывающая дорогу, тут же — игривые конские копыта. На Žīdu ielā23 в маленьком домике, в мансардной комнате, отодвинута занавеска и видны лица нескольких женщин. На них — ужас, немой упрек 23 Улица Жиду (латыш.). Эта улица, проходящая вдоль Старого еврейского кладбища и с 1868/69 года носившая название Еврейской (Ebreju), в 1923 году была переименована в Žīdu (Жидовскую). С 1942 года она носила еще три названия. В 1990 году восстановлено историческое название — Ebreju. ɇȺɑȺɅɈɋɖ и сочувствие — жители Московского района 24. Сохраняется культурность и гуманность: не стреляют — из домов вне гетто могут увидеть, а это — лишнее. Ноги [узников] и головы всадников. Как много они говорят, как много горя в этих ногах и какая наглость и удовлетворенность сквозит из этих голов и плеч. У нас нет оружия, есть только ненависть и жажда мести — этим горю не помочь. За оградой удивительно тихо, изредка слышен детский плач или окрик погонщиков. Все проходит на свете, прошла и последняя колонна. Ног больше не видать, всадники медленно удаляются. Одна из женщин в окне подносит к глазам платок. Занавеска опускается. Перед нами спокойно лежат и полусидят трупы. Их лица не изменились. Мы тоже уже почти трупы, только еще живые. Внутри что-то оборвалось, стало как-то совсем пусто и почти легко. Не могу отделаться от чувства, которое испытываешь, когда видишь, как гонят на бойню стадо овец, — тоже много-много ног, тоже беззащитные и не знающие, куда их гонят, запуганные существа. Старое еврейское кладбище, разоренное нацистами. Фото 40-х годов 24 дах. Название нынешнего Латгальского предместья Риги в 1941—1991 го- 284 ɗɥɶɦɚɪɊɢɜɨɲɁȺɉɂɋɄɂ Наша яма готова, но хоронить будет другая смена, она уже явилась, и мы можем пойти отдохнуть. Почему-то снимаю с руки обручальное кольцо и зарываю на дне могилы. С ним я хороню прошлое и надежду. Ясно чувствую, что это конец — так можно гнать людей только на смерть, а не на жизнь. Это чувство в душе, разум его еще не признает. Разум говорит: этого быть не может. Идем к первым воротам, хочется взглянуть на новопривезенные трупы — может, среди них свои. Идем по узкой снежной дорожке среди старых могил. Солнце уже низко и бросает длинную неровную тень. На этом кладбище где-то похоронен папа, не помню где. Кладбище старое, на нем уже много лет никого не хоронили. Не ждало оно такого наплыва покойников. У ворот ряды трупов не уменьшаются, только теперь это уже другие. Хожу и приглядываюсь. Несколько знакомых лиц — старики. За кустами, в метрах семидесяти слева от ворот могила готова, и туда спешно несут трупы. Просят и нас помочь. Дорожки среди могил узкие, и на саночках [везти] нельзя, несем на носилках. Они как будто выкрашены в красный цвет — [так] обильно пропитаны кровью. Пальцы моей левой руки все разжимаются, с трудом могу держать ручку носилок. Труп довольно тяжелый, а дорожка неровная. Почему-то боишься уронить мертвеца и напрягаешь все силы. Наша ноша — одна из последних, могила уже почти полна. С одной стороны — женщины, с другой — мужчины. Складывают, как дрова, стараются поплотней, чтобы сэкономить место. При случае становятся на нижний ряд, обряд похорон забыт. Кто-то ведет счет — 82 уже есть, но до ста не дотянуть — уже мало места. Кое-как укладывают еще четырех, больше никак нельзя, и так уж слишком много. Последние носилки проносят дальше — к другой могиле. Могил еще много. Солнце все ниже, надо торопиться с работой. Яма быстро заполняется мерзлым песком. Вырастает большой светло-желтый бугор. Все тихо, только за оградой движение, слышно поскрипывание саней и тележек, держащих путь на кладбище. И вот, человек сорокпятьдесят евреев, как будто по молчаливому уговору, становятся полукругом лицом к востоку у могилы. Вперед выходят несколько человек, они только что похоронили кто свою мать, кто — отца. В тишине над могилой раздается Кадиш25. Хором повторяют: аминь. 25 Кадиш («священный») — славословие Богу и Его могуществу, читаемое также как поминальная молитва. ɇȺɑȺɅɈɋɖ Когда появляется нож и вышедшие вперед, надрезав одежду, ее безжалостно разрывают26, что-то разрывается в толпе, и начинается общая восточная молитва. Я не молюсь — не умею и не считаю нужным уметь, но стою, как завороженный, не чувствуя тела, только сердце хочет выскочить из груди, какой-то ком в горле, по затылку ползут мурашки. Мне раньше часто приходилось бывать на похоронах — еврейских, русских и других. Я неделями работал на кладбищах, устанавливая памятники. Кроме неприятного, иногда даже смешного, [другого] впечатления они не оставляли. Видел, как у кантора или попа слезы в голосе и глазах росли прямо пропорционально богатству покойника. Видел, как кантор27 рыдающим голосом отпевал богача и, спеша, торопливо бормотал молитву над могилой бедняка. Не любил и презирал эту комедию. Сегодняшняя молитва ничего общего с теми не имела, она была сильнее понимания и разума. Я слов [ее] не понял, и смысл мне непонятен, знаю только, что этой молитвы никогда не забуду, знаю, что эта картина каленым железом выжжена в моей памяти. *** Наша группа небольшой колонной тянется в «маленькое гетто». Уже сумерки. Улица, по которой мы проходим, почему-то еще не убрана, нет только трупов, на их месте остались красные пятна. Их много. Они больше не производят впечатления. Привыкли. Чувствуешь усталость и голод, внутри — пустоту и спокойствие. Все кажется почти не действительностью, а мы сами — какими-то действующими лицами, но тоже полувымышленными. В нашей квартире уже полно народу, в лицо ударил дым от подгорелых картофельных блинов, пар и приятное тепло. Изька и Мотка работали в группе по уборке улиц, и им разрешили взять из покинутых квартир съестное. Принесли небольшой чемоданчик с сыром, масло, солонину и консервы. О происшедшем стараемся не говорить, по крайней мере, сейчас. Герцмарк взялся за кулинарию. 26 Разрывание (надрывание) на себе одежды — один из атрибутов иудейского траурного ритуала, что выражает боль от утраты, которую переживает скорбящий. 27 Кантор (латин. «певец»; др.-евр. хазан) — лицо, ведущее иудейское богослужение. 286 ɗɥɶɦɚɪɊɢɜɨɲɁȺɉɂɋɄɂ Мотка сегодня тих. Он забежал в квартиру сестры и нашел на лестнице ее паспорт. Теперь ломает себе голову, что это может означать. Изька в свою и мою квартиру попасть не мог, так как работал в другом конце гетто. Кроме продуктов, он ухитрился обзавестись часиками и портсигаром, появились папиросы и табак. Все както увлеклись этими богатствами, и это отодвинуло из сознания акцию. Покушав и напившись чаю, прилег и сейчас же заснул. Проспал несколько часов как убитый без снов и кошмаров. Проснулся только часам к десяти. Медленно прихожу в себя. Напротив, на тахте сидит Герцмарк, сжав голову руками. Глаза его полны слез, но лицо сухое. Губы его только повторяют без конца: «Бедные, бедные». Как ножом полоснуло по сердцу. Мигом все предстало в живых и ярких красках. Пролетело видением все. Я увидел, как в моем маленьком домике разлетаются двери, как в него врываются [люди] с зелеными повязками. Как Аля наспех закутывает Диму, выхватывает из кроватки сонную девочку. Как мама дрожащими руками помогает. Как Чарли с перепугу забился в угол, а пьяные бандиты понукают и отпускают шуточки. Видел, как Аля с мешком на плечах толкает колясочку с девочкой, мама с мешком на спине ведет за руку Диму. Как они становятся в колонну. Ждут, мерзнут, ждут. Что у них было на душе, что они переживали и пережили в гетто и дальше, не дано нам знать, эту тайну они забрали с собой. Куда? Этого я еще не знаю. С нами иногда происходят необъяснимые вещи. Вот и со мной тоже. Как-то не думая, беру карандаш и бумагу и пишу — пишу стихотворение. «Акция». Перед глазами картина, рифма приходит сама собой. Странно, я стихов не пишу. В большой комнате публика разная. Проявление горя тоже различное. Некоторые лежат и стеклянным взглядом уперлись в потолок. Иные громко призывают Бога. Некоторые судорожно рыдают. Один маленький человек, похожий на японца, строит планы мести и захлебываясь купается в воображаемой крови врагов. Он никого не пожалеет — женщин, детей, все равно, он будет резать их ножом, как кур. Он в экстазе. Его почти никто не слушает: слишком сильно настоящее, чтобы в мыслях улетать в будущее. Поздно, но никто не укладывается на ночь, чего-то как будто ждут. Не верится, что нас оставят в покое. Все как-то уверены, что в любой момент нас тоже могут погнать в какой-то лагерь. ɇȺɑȺɅɈɋɖ Резко открывается дверь, все невольно вскакивают, появляется еврейский полицейский с блокнотом в руках. Приказ коменданта гетто28: к шести часам утра предъявить точный подсчет всех евреев. К восьми часам все без исключения должны собраться на [улице] Виляну. [Полицейский] предупреждает, чтобы никто не оставался дома, так как проверять будут немцы и «ленточные», кого найдут — угостят пулей. Как они щедры насчет этих пуль! О сне, конечно, больше никто не думает. Строятся всякие предположения. Все без исключения пессимистические, радужных перспектив как-то нет. Считаемся с возможной акцией, но она нас, вернее, большинство, не слишком волнует. Мы уже ко всему привыкли, [да] и что с нами вообще может случиться! Многие, в том числе и я, думаем, что это просто для распределения рабочих рук, [чтобы] навести немецкий порядок и употребить нас с максимальной [для немцев] пользой. Это кажется логичным и наиболее вероятным. Поживем — увидим, а теперь все же нужно лечь, силы во всяком случае будут нужны. Герцмарк, оказывается, меня уже сегодня внес в список работающих при техническом отделе. Технический отдел выстроится, конечно, особо, это «аристократия» гетто — самые нужные люди. Антоколь (начальник отдела) требует работы усердной, но отстаивать интересы своих подчиненных тоже умеет, это мы еще помним со времен «большого гетто». Мы все еще думаем и надеемся, что семьи наши в лагере, и это увеличивает цену нашей жизни, и хочется ее по мере возможности сохранить подольше. За Антоколем она как будто бы в меньшей опасности: уж слишком он, даже будучи в гетто, сознает свою силу. В семь часов утра приходим в технический отдел. Помещается он рядом с нами в большой жилищной казарме номер 24. Всего одна комната, у самых дверей плита. Квартира пролетариев. Народу там еще мало. Бывший директор еврейского техникума29 инженер [Мендель] Заславский греет на плите воду. Когда-то он носил красивую 28 До акций уничтожения узников Рижского гетто 30 ноября и 8 декабря 1941 года управляющий гетто Фридрих Браш был подотчетен аппарату обер-бургомистра Риги Хуго Витрока. Однако фактически гетто контролировала не «гражданская» администрация, а оберштурмфюрер (старший лейтенант) СС Курт Краузе, который 10 декабря объявил себя комендантом гетто, каковым он являлся до января 1943 года. 29 Имеется в виду Еврейское ремесленное училище (находилось на улице Абренес, 2). 288 ɗɥɶɦɚɪɊɢɜɨɲɁȺɉɂɋɄɂ Мендель Заславский. Фото 1935 года окладистую седую бороду, теперь для моложавости ее сбрил, и его трудно узнать. Миша Лат, бывший учитель гимназии, ведет «бухгалтерию». Вот уж не похож на семита. Высокий светлый блондин с голубыми глазами, правильные черты лица, говорит с московским произношением — тип северной расы. Рассказывает, что видел Ванда («префекта»), от которого узнал, что в гетто 4400 с чем-то евреев, узнал, что, как мы и предполагали, будет распределение рабочей силы вне гетто. Постепенно начинает прибывать публика, и в комнате становится все тесней. Около восьми является сам Антоколь и заявляет, что технический отдел и амбулатория как необходимые в самом гетто на «парад» не пойдут. И то хлеб. Стоим с Герцмарком у окна и смотрим на вымершее гетто. Еще позавчера к небу поднимались столбы дыма, сегодня все мертво, только кое-где по покрытому снегом двору прошмыгивает покинутая кошка, да пролетит стайка голодных голубей. Мы на третьем этаже, напротив, в «большом гетто», почти все дома маленькие, и видно далеко. Все мертво, никого. Напротив нашего окна — улица Ликснас, номер 5. Вдоль улицы — высокий дощатый забор, дома нет. За забором — большой двор. Посреди черная покосившаяся одноэтажная постройка — бывшая столярная мастерская. В глубине старый «газетный киоск» — одинокая уборная, два-три деревца — это все. ɇȺɑȺɅɈɋɖ К величайшему удивлению, замечаем над трубой хибарки тонкую, еле заметную струйку дыма. Странно, дом вчера должен был опустеть. Но, видно, не заметили и пропустили. «Что там происходит? Кто они, забытые, и что с ними будет?» — проносится в мыслях. От дома к уборной через глубокий снег видны следы. Двери дома как-то осторожно открываются, и неуверенной походкой выходит пожилая женщина. Стараясь попасть ногами в старые следы, она направляется к одинокой будочке. Пока она там, из дома выходит еще одна женщина — молодая и совершает тот же путь. Потом они стоят у порога своего жилья и, видно, что-то обсуждают. Они очень волнуются — на это указывает нам их хождение по следам через двор. То и дело одна из них торопится к «киоску». Видно, за сутки их нервы перетянуты. Молодая подходит к воротам, через щель смотрит на улицу, но опять возвращается к дому. Снова чтото обсуждают. Теперь к воротам идет старуха, мы видим, как нажимается ручка калитки, но женщина не решается ее открыть. Снова путешествие через весь двор. Теперь, видно, нервы окончательно сдали — обе идут к воротам. Калитка робко приоткрывается. Высовывается бледное лицо, и рука делает знак часовому подойти. Не Двор на улице Ликснас, 5. Современный вид ɗɥɶɦɚɪɊɢɜɨɲɁȺɉɂɋɄɂ торопясь, солдат подходит. Ему что-то объясняют. Взглянув на номер дома, он вразвалку уходит. Не выдержали страха и неизвестности. Сами позвали смерть. Как в немом фильме, перед нашими глазами разыгрывается печальная трагедия, мы с напряжением и ужасом ждем развязки. Недолго. Минут через десять подходят бодрым шагом двое молодцов в повязках, без винтовок, на ремне только невинные пистолеты. Они исчезают за воротами, затем в домике. Выходят они оттуда уже в сопровождении старухи и, наверно, [ее] дочери, у молодой на руках ребенок. Вещей никаких, даже сумочек, — зачем? Что им сказали, что они думают, мы не знаем. Не могут они так спокойно и послушно идти на смерть! До кладбища минут десять, не больше. Мы не выдерживаем и открываем первые рамы, прикладываем ухо к стеклу и, затаив дыхание, прислушиваемся. Десять минут тянутся бесконечно долго. Ясно слышны револьверные выстрелы — один, два, три и почему-то еще четвертый. Один выстрел, видно, не удался. Драма окончилась просто и скоро. Сейчас начнется новая, другая. Стоим у окна, все еще находясь под впечатлением только что пронесшейся перед нашими глазами картины. Возвращает нас к действительности резкий толчок в дверь. — Скорей, скорей, на Виляну, все без исключения, технический отдел тоже! Крикнувший это — наш еврейский полицейский. Через секунду дверь захлопывается, и его уж нет. Антоколь куда-то вышел, и мы, как стадо овец без барана, не знаем, что предпринять. Некоторые не хотят без него двинуться с места, другие торопят с выходом. Все споры разрешает приход Антоколя. Он заметно чем-то взволнован, красен, как бурак, даже речь его немного быстрее обычного. Ни в какие обсуждения он не пускается, но предупреждает не становиться в другие ряды и строго слушаться его. Спустившись вниз, мы на дворе застаем еще человек пятнадцать рабочих технического отдела. Выстраиваемся в колонну по двое и быстрым ходом спешим к [улице] Виляну. Улицами в «маленьком гетто» не пользуются, в заборах всех дворов вырваны доски, и весь квартал — один сообщающийся сосуд. «Маленькое гетто» уже как вымершее, все уже на Виляну. Приходим последними. Ванд указывает Антоколю место, что-то загадочно говорит, отведя его в сторону. Ванд по приказанию немцев, если даже он что-то знает, тоже будет молчать, [как и] Антоколь, и винить их за это нельзя. ɇȺɑȺɅɈɋɖ На [улице] Виляну евреи выстроены, как войска на присяге — в каре30. На беглый взгляд, человек две — две с половиной тысячи. Остальные — на работе в немецких войсковых частях. На углу Лудзас — группа немцев и «ленточных». У немецкого офицера полиции в руках какая-то бумажка, и он что-то объясняет нашему «милому» Данцкопу. То, что сегодня присутствует последний, ничего хорошего не предвещает. Раз появился Данцкоп, значит пахнет кровью. Нет дыма без огня. В такую изумительную погоду, как сегодня, к тому же утром, когда так светло, что от сверкающего на солнце снега глазам больно, всякая акция или тому подобное кажется особенно мерзкой, даже как будто невозможной. Такой день дан, чтобы жить, дышать и радоваться солнцу и свету. Может, другие это не так замечают, но мне в такую погоду и при таком солнце не верится в возможность смерти. Вообще умирать нужно вечером, ночью или в дурную погоду. Мысль о возможной акции умело прогонят. Акции существуют только в нашей фантазии. Сейчас нас опять обманут, и мы этого не заметим. Разницы, конечно, большой нет, [но] все же удобнее и спокойнее нас бить, если мы заранее этого не знаем. Немцы — народ «культурный». Можно делать все, лишь бы «культурно». На зов немца подбегает Ванд и его помощник Кельман31. [Немец] что-то им говорит, приказывает, и опять наступает ожидание. По каре разносится «радостная» весть: набирают рабочих для постоянной работы. Как будто в подтверждение этому, к углу Лудзас и Виляну подкатывают голубые автобусы. Когда-то они поддерживали сообщение в Риге, во время военных действий пропали, теперь [мы] впервые [их] опять увидели. Как-то даже не верится, что с таким комфортом нас повезут на работу, но других пассажиров, кроме нас, им здесь не набрать, а напрасно тратить бензин они не будут. 30 Каре (фр. сarré — квадрат) — боевой порядок пехоты в виде квадрата (прямоугольника) каждую сторону которого составлял развернутый вовне строй. 31 Артур (Арон) Кельман (1887—1944/45) — предприниматель, общественный деятель. Родился в Митаве (ныне Елгава). С 1925 года член правления обществ здравоохранения «Бикур-Холим» и ОЗЕ (Общество здравоохранения евреев) в Риге. С 1926 года руководил спортивным обществом «Маккаби» в Латвии. В Рижском гетто входил в еврейскую полицию, являлся старостой «малого гетто». Погиб в концлагере Бухенвальд (Германия). ɗɥɶɦɚɪɊɢɜɨɲɁȺɉɂɋɄɂ Артур (Арон) Кельман. Фото 30-х годов Добровольцев ездить на работу в автобусах найдется хоть отбавляй, расчет правильный. Не будь Данцкопа со своими «ленточными», ни у кого не было бы сомнения в правильности этих слов, а так… Наконец немец в сопровождении Станке и Тухеля покидает латышей и направляется, все еще держа в руке бумажку, к нам. Все разговоры и всякое движение сразу замирает, и все с напряжением ждут. — Внимание! В первую очередь мне нужны ремесленники — портные, сапожники, заготовщики32, механики и т. д. Кто хочет на работу — выходи! Желающих ремесленников много, но немец очень скромен и берет по два-три человека из каждой категории. Выстроив их в колонну, велит «ленточному» вести к автобусу. Некоторые просят разрешения забежать к себе за инструментами для работы. «Ленточный» только отмахивается. Первый автобус уже кажется подозрительным. Евреи уместились внутри, а вся площадь занята «ленточными». Странная поездка на работу. Как-то сразу спокойствие и медлительность сменились спешкой. Отсчитывая по 20—30 человек, сажают в машины. Теперь многие стараются от этой работы увильнуть, но немцы и патриоты зорко следят. К нашей группе подхо32 По всей вероятности, имеется в виду сапожное ремесло, где заготовщик выкраивает и сшивает верхнюю часть обуви. ɇȺɑȺɅɈɋɖ дит Станке и начинает отсчитывать. Ну, что же, поедем и мы. В это мгновение Антоколь снова проявляет себя львом. И так уже красный, он буквально налился кровью. Став перед нами, как курица перед своим выводком, он просто заявляет, что не даст ни одного человека, что без нас, хотя бы [без] одного человека, он не сможет отвечать за санитарные условия в гетто, что мы необходимы и что, если [Станке] хочет [кого-то] взять, то пусть [забирает] всех, но тогда в гетто не сегодня-завтра начнутся эпидемии и зараза. Этим он попал в точку, этого больше всего боятся наши «культуртрегеры»33. Какая разница для Станке? Ему нужен счет, а не люди. Хорошо, что ему не захотелось показать свой авторитет и упрямство. Даже не ответив Антоколю, он переходит к группе рядом. Десять, пятнадцать, двадцать — марш к автобусам. Находятся среди нас и недовольные Антоколем, говорят, что [он] должен был узнать, нет ли среди нас желающих работать вне гетто, а не разыгрывать роль диктатора. Антоколь даже не реагирует на это. Его мясистое лицо ничего не выражает, кроме презрения к этим господам. Немец смотрит на свою бумажку и кричит, что ему нужен еще 51 человек. Видно, ведет точную бухгалтерию. С отправкой последней партии [рабочих] на автобусах всякая «культурность» сразу исчезает. В опустевшем гетто раздаются выстрелы. Оставшихся на [улице] Виляну разбивают на группы и ведут работать в «большое гетто». То и дело пускают в ход палки и ноги. Патриотам тоже разрешили действовать, и они стараются вовсю угодить освободителям человечества. По чердакам и подвалам, не говоря о квартирах, ведется азартная охота за не явившимися на смотр. Пока подробностей не знаем, слышим только стрельбу и крики. Среди всей этой шумихи проносится луч надежды. В дом на Лудзас, кажется, номер 60, привезли из города еврейских женщин34. 33 Культуртрегер (нем. Kulturträger — носитель культуры) — ироничное название завоевателей, прикрывающих порабощение захваченных ими стран насаждением более высокой культуры. 34 29 ноября 1941 года во второй половине дня в гетто был вывешен плакат, сообщавший, что женщинам, у которых есть навыки швеи, следует зарегистрироваться в «юденрате». Записались около 300 женщин. Вечером их перевели в Срочную тюрьму у железнодорожной станции Браса в Риге. Примерно 2—3 декабря к ним присоединились еще около 200 женщин. В тюрьме они оставались около двух недель, и 5 декабря их привезли обратно в гетто и поместили в двух строениях через улицу от «малого гетто», на улице Лудзас, 66/68—70. В дальнейшем это место стало известно как «женское гетто». ɗɥɶɦɚɪɊɢɜɨɲɁȺɉɂɋɄɂ Дом на улице Лудзас, 66/68. Современный вид Немецкие воинские части, узнав заранее о готовящейся акции, задержали занятых у них на работе евреек и несколько суток не отпускали в гетто. Теперь, заручившись обещанием их не трогать, привезли их. У меня лично надежд, конечно, нет, так как никто из моих у немцев не работал, несмотря на это [испытываю] радость за уцелевших. Нашей группе технического отдела поручено в кратчайший срок, привести в порядок предназначенный [для женщин] дом. Известие о наличии нескольких сотен женщин всех как-то заставило забыть происходящее кругом, все только жаждут поскорей узнать, кто они, у многих надежда, у части она оправдается. Несколько сотен женщин спасены, надолго ли? Нам думать некогда, скорей за инструментами и за работу. Пробегая в технический отдел, мы на дворе натыкаемся на труп. Его, как видно, только что пристрелили, так как кровь еще не сошла и продолжает сочиться из раны. Мы заняты другими мыслями, к тому же уже так привыкли к этому, что даже не задерживаемся и через несколько минут уже позабыли [об этом]. Дом на углу Лудзас и Ликснас спешно обносится проволочным забором. На дворе видны женщины. Они, так же как и мы, сгорают ɇȺɑȺɅɈɋɖ от нетерпения узнать об участи своих близких. На площадках лестницы толпятся женщины с детьми. Большая часть квартир заперта, и мы их взламываем. Внутри обычный вид: разрытые постели, на полу — груды одежды, на столах — остатки еды. Свет горит, бумага на окнах спущена. Повсюду следы торопливых сборов и насилия. Чуть только мы взломаем или отомкнем дверь, как в квартиру вваливаются группы женщин, желая как можно скорее обеспечить ее за собой. В одном случае дело дошло чуть ли не до драки, приходится почти силой наводить порядок. Еще недавно владеющие собой и воспитанные люди превратились в загнанных зверей, борющихся за теплый угол. У одной из женщин родовые схватки. Кто-то из мужчин обещает организовать в этом хаосе помощь. Я и Герцмарк заняты установкой печурок: пробиваем дыры в дымоходы, ставим трубы. На улице стрельба — то реже, то принимает характер настоящей перестрелки. Акция в полном разгаре. На лестнице встречаем двух женщин, у одной на руках маленький мальчик двух-трех лет, за руку она тянет старшего сынишку. Оказывается, что это жена доктора Фрейдмана. Он их спас от второй акции — высылки, спрятав в каком-то старом сарае. Теперь он решил их укрыть в доме для спасенных. Женщины с детьми стремятся по лестнице все выше, но их догоняет резкий окрик — вернуться. Они в нерешительности останавливаются. К ним подбегает еврейский распорядитель и решительно уговаривает спуститься, так как Данцкоп не разрешает здесь остаться. Они медленно плетутся назад. Больше мы их не видали. Под нашими окнами гудят моторы синих автобусов. Они все еще загружаются людьми для поездки в Бикерниекский лес «на работу». На учебном стрельбище по сигналу трубача открывают и прекращают стрельбу. Так и у нас она как будто по сигналу прекратилась, оборвалась, и сразу наступила тишина. Ровно в 12.30 кончилась одна фаза массовых убийств. Говорят, что все уцелевшие теперь в относительной безопасности. Один синий автобус вернулся с полпути, не успев до 12.30 доставить свой груз до места назначения. В нем оказались два врача, отравившиеся по дороге. Теперь их осуждают, но, может быть, они, в конце концов, все же правы. Изредка к нашему дому подъезжает грузовик со спасенными женщинами. На площадке лестницы наталкиваюсь на служащего нашего технического отдела Ботвинкина, нашедшего среди только что прибывших свою жену. Они еще молодые люди и не скрывают ɗɥɶɦɚɪɊɢɜɨɲɁȺɉɂɋɄɂ Иосиф Ботвинкин. Фото 1923 года Сарра Ханна Ботвинкина. Фото 1931 года своей радости. На время забыто все, кроме встречи. Стараюсь радоваться за них, но одновременно появляется чувство зависти, и еще острее проступает страх за участь моей жены и детей. Еще наталкиваюсь на моих знакомых Скольник — мать с двумя дочерьми. [Сам] Скольник35, неплохой художник, погиб в первых числах июля. Они несколько дней прятались в погребе, не пожелав переселяться в лагерь. Если бы их нашли, то тут же убили бы, но они рискнули, и им посчастливилось. Нашу работу мы выполнили и собираемся в «маленькое гетто». Жаль покидать женщин, чужих, но теперь нам близких и почти родных. Хорошо, что хотя бы часть [их] спаслись, мы будем им помогать всеми силами, ведь каждая женщина и каждый ребенок теперь являются как бы символом наших собственных жен и детей. Теперь, задним числом, мы себя грызем, что не сумели уберечь своих, что их не запрятали, не укрыли, что дали их угнать, как стадо овец. 35 Давид Скольник (1878—1941) — живописец и скульптор, общественный деятель. Родился в Риге. Председатель общества еврейских художников Латвии и член Латвийского общества изобразительных искусств. Вдова Д. Скольника и его дочери — студентки Латвийской академии художеств Ноэми (р. 1917) и Рута (р. 1920) погибли в Рижском гетто. ɇȺɑȺɅɈɋɖ *** Короткий зимний день подходит к концу. По дворам «маленького гетто» снуют люди, мелькают желтые звезды. Все возбуждены. Все обсуждают события дня. Сегодня мы вытянули жребий — жить, а завтра, может быть, падет другой [жребий]. Пока мы работали в доме, предназначенном для уцелевших женщин, мы были отрезаны от «маленького гетто» и теперь узнаем, что в нем происходило. Говорят, что предыдущий подсчет обитателей [оказался] в прямой связи с сегодняшними событиями. Нас оказалось 4400 человек, а уничтожению подлежало десять процентов. 400 с лишком мужчин были сегодня убиты по программе, часть — на охоте, в одиночку. Во всех дворах и домах полицейские производили обыски в поисках укрывшихся, убивая всех, не явившихся на [улицу] Виляну. Рядом с нами, в доме номер 24, на третьем этаже нашли в кровати мальчика четырнадцати лет, сломавшего на днях ногу. Его выбросили через окно, выбив им же стекла. На тротуаре нашли его изувеченный труп. Интересный случай произошел с другим. На одном из соседних дворов полицейский «накрыл» молодого парня. Тот бросился бежать. Преследователь выстрелил, но промахнулся. Беглец, не растерялся и, бросившись на землю, притворился убитым. Подбежавший полицейский для очистки совести еще раз выстрелил в голову — парень не шелохнулся, хотя пуля Давид Скольник. Фото 30-х годов ɗɥɶɦɚɪɊɢɜɨɲɁȺɉɂɋɄɂ пробила ему щеку, выбила два зуба и вышла через другую. Увидев лужу крови и будучи уверен в своем умении стрелять, охотник отправился дальше. Парню доктор Минц36 наложил повязку, рана [оказалась] неопасной. Из 26 обитателей нашей квартиры пятеро не вернулись. С одним из них, прозванным нами «китайцем», я вчера работал на кладбище при зарывании трупов, сегодня его самого зарыли где-то в Бикерниекском лесу. Сын Абрамсона тоже среди исчезнувших. В комнате освободились пять спальных мест, и те, кто спали вдвоем, уже устраиваются на освободившихся кроватях. Абрамсон никому не разрешает лечь на постель сына, и сегодня она пуста. Откуда-то доходят разные слухи о судьбе наших угнанных женщин и детей. Все почти сходятся на том, что в Саласпилсе — лагерь, что почти все наши там, за исключением, конечно, совсем старых и дряхлых, убитых по дороге. Ползет также другой, пока еще совсем слабый слух, что все убиты, что, разбитые на небольшие группы, все были раздеты и расстреляны из автоматического оружия. Пейське, маленький бледный еврей, уверяет, что это было именно так: он видел человека, двоюродная сестра которого, раненая и полуголая спаслась из общей ямы и теперь скрывается где-то в окрестностях «Квадрата»37. Никто из нас второму слуху не верит, уж слишком он 36 Владимир Михайлович Минц (1872—1945) — выдающийся врач-хирург и ученый-медик. Родился в Динабурге Витебской губернии (ныне Даугавпилс в Латвии), окончил Юрьевский (ныне Тартуский) университет, после чего стажировался в Германии. По возвращении в Россию (1897) поселился в Москве, работал в хирургической клинике, с 1906 года — приват-доцент Московского университета, с 1917 — профессор. Один из основоположников анестезиологии и грудной хирургии в России, создатель хирургической школы; занимался также проблемами нейрохирургии и пластической хирургии, травматологии, ортопедии, гинекологии, урологии, онкологии; автор более 100 научных трудов. В годы Первой мировой войны (1914—1918) руководил хирургическим отделением Главного московского госпиталя, одновременно работая в ряде других лечебных учреждений. В 1918 году оперировал В. И. Ленина после покушения на него террористки Ф. Каплан. С 1920 года жил в Латвии, заведовал хирургическим отделением рижской еврейской больницы «Бикур-холим» (с 1924 года), в 1940—1941 годах — кафедрой на медицинском факультете Латвийского университета. В 1941—1943 годах находился в Рижском гетто, где организовал медицинскую помощь узникам. Погиб в концлагере Бухенвальд в Германии. 37 Из спасшихся от расстрела в Румбульском лесу выжили Фрида Михельсон (урожденная Фрид) и Элла Медалье. Их показания фигурировали на ряде процессов над нацистскими военными преступниками. Обе они ɇȺɑȺɅɈɋɖ Владимир Минц. Фото 1940/41 года фантастичен. Поверить этому можно, только убедившись самому, да и то будешь сомневаться. Мы легче верим в то, чего желаем, и разговоры, и мысли сводятся у нас к тому, чтобы постараться наладить связь с Саласпилсским лагерем. Узнаю´ подробности о судьбе жены и детей доктора Фрейдмана. Когда мы с Герцмарком встретили поднимавшихся по лестнице женщин с двумя детьми, то эта была их третья и последняя попытка спастись. До этого их Данцкоп два раза отправлял на кладбище, но по какой-то нам неведомой причине дежурящие там полицейские или немцы не пожелали их расстрелять. То ли им надоело, то ли шевельнулось чувство жалости — не знаю. В третий и последний раз их отвел сам Данцкоп. Но и тогда дело сделали не до конца. Обеих женщин и старшего мальчика расстреляли, но забыли о маленьком. Его мать держала на руках, и убийцы, как видно, думали, что убили всех. Оказалось, что трехлетний ребенок, освободившись из рук убитой матери, просидел рядом на старой могиле несколько часов. Когда привели следующую группу для расстрела, то ребенка нашли полузамерзшим и покончили с ним прикладом. оставили воспоминания: Михельсон Ф. Я пережила Румбулу. 2-е изд. Рига, 2005; Медалье Э. Право на жизнь // Зильберман Д. И Ты это видел. НьюЙорк, 1989. С. 36—59. Речь в данном случае могла идти о Ф. Михельсон. ɗɥɶɦɚɪɊɢɜɨɲɁȺɉɂɋɄɂ *** После событий предыдущих дней всем становится ясно, что рано или поздно нас всех прикончат. Пророчество нашей старушки Мими сбывается с точностью: мы в мышеловке, и вопрос только в том, когда и как нас уничтожат. Говорят о приближении фронта, многих это хоть и радует, но в то же время рождает сознание приближающейся смерти. Всем ясно, что если даже советские войска освободят Ригу, то нас спасти никому и никогда не удастся. Многие из молодых парней с жаром обсуждают возможность бегства. Мотка сидит перед зеркалом и серьезно изучает свое лицо. Что если покрасить волосы, помыть их перекисью? Но что сделать с черными глазами, явно еврейскими носом и ртом? К тому же эта проклятая буква «р». Изька советует ему не глядеть в зеркало, а мысль о бегстве на время бросить, ведь акция сегодня кончилась, а время само укажет правильный путь. Мотка, вздыхая, закуривает, вешает зеркало на место и, вытащив из-под подушки колоду карт, берется за составление компании [для игры] в двадцать одно. На кухне слышны споры из-за места на плите. По квартире ползет запах картофельных блинов. Герцмарк уговаривает друга убитого «китайца» помыться, так как у него на вороте рубашки гуляют вши. Вошь в общежитии — дурной вестник. Лежу и думаю: неужели это все правда? Неужели это все действительность? Из работников нашего технического отдела назначают группу в несколько человек для приведения в порядок дома, куда вчера поместили женщин. Ботвинника, нашедшего среди спасенных кроме жены даже тещу, Антоколь назначает [в эту группу] в первую очередь. Ботвинник и сегодня не может скрыть своей радости — как бы скромно она ни проявлялась, на фоне нашего горя она слишком ярка. Чувство радости за него всецело поглощается завистью. В глубине души у меня надежда, что, может быть, благодаря тому, что наш домик на [улице] Маза Кална такой незаметный, в нем скрывается моя семья. Хочу как можно скорей попасть в «большое гетто», но пока еще [туда] никого не пускают и нет уверенности, что когда-нибудь пустят. То и дело в помещение технического отдела приходят люди, называющие имена спасшихся. Ни одного знакомого имени, никого из друзей. ɇȺɑȺɅɈɋɖ Улица Маза Кална. Современный вид Из печника я превратился в мастера по всяким ремонтным работам. Чиню замки, делаю ключи и т. д. В работе пытаюсь заглушить мысли, но они лезут, не дают покоя. Все разговоры [какое-то] время вращаются только вокруг дома на углу Лудзас и Ликснас (дом женщин). Есть еще [один] дом, о котором думают, но боятся говорить. Это здание женской больницы «Линас». По слухам, большая часть больных [там] осталась. Теперь они там без больничного персонала медленно умирают. Они никуда не убегут — нечего разоряться на пули. Проходят дни, полные забот и волнений, ночи в тяжелых снах и кошмарах. Но вот, на шестой день проносится весть: пускают в «большое гетто». Большинство на работе. У прохода [в] колючей проволоке — небольшая группа [людей]. Пока еще часовой никого не пропускает. Ждет нашего начальства. Ванд вызвал стража для дачи ему инструкций. Наконец появляется Ванд с полицейскими. Нам разрешают отправиться на [наши] бывшие квартиры и принести съестное и необходимую одежду. Предупреждают: не брать ценностей. Наша группа рассыпается по занесенным снегом улицам мертвого гетто. Повсюду снег. Ни живой души. Сверлит одна-единственная мысль: что дома? В голове проносятся ɗɥɶɦɚɪɊɢɜɨɲɁȺɉɂɋɄɂ всевозможные жуткие образы. Больная фантазия рисует самые страшные картины. Я у ворот нашего двора. Калитка настежь. Виден пустой длинный двор. В глубине — наш маленький «особняк». Меня знобит, нет сил переступить через порог. Меня охватывает еще не испытанное чувство страха. Как вор, подбираюсь к домику. Кругом глубокий снег, дорожки все занесены. Следов нет, значит, нет и жизни. Хочется повернуть [назад] и бежать без оглядки, но другая сила, как магнит, влечет и притягивает. По очереди заглядываю в окна. Бумага спущена. Подхожу к сарайчику и прислушиваюсь. Все тихо. Слышу стук собственного сердца, оно стучит как будто у самой глотки, кажется, вот-вот оно разорвется. *** В комнате темно, чуть теплее, чем на улице. Машинально пробираюсь к столу, где обычно стояла лампа. Она на старом месте. Поворот выключателя — и знакомая картина, рисовавшаяся мне в бессонные ночи, стала действительностью. Обычная молчаливая обстановка, где каждая вещь, каждая тарелка с недоеденной пищей, где на пол брошенный детский чулок кричат о том, что здесь происходило. У меня нет сил, я как подбитый опускаюсь на первый попавшийся стул. Но вот мне кажется, что я схожу с ума. Я ясно вижу, как под скомканным одеялом на нашей кровати что-то шевелится. Край одеяла съезжает на пол, и из-под него, как призрак прошлого, появляется Чарли. Бока его ввалились, на сгорбленной спине остро выступают позвонки. Он отвык от света и с трудом открывает глаза. Я его зову, мой голос кажется чужим. Сижу на кровати. Чарли у меня на коленях, жалобно скуля, лижет мне лицо, руки. В квартире после акции еще никто из чужих не побывал. Кровати не перерыты, только оставлены впопыхах. Вещи почти в таком же состоянии, какими я их помню с моего последнего посещения, когда квартира еще не была пуста. Только дверцы шкафа раскрыты и часть содержимого на полу. Димины книжки и Алина полочка с книгами и фарфоровыми безделушками тоже, как была. На стенах те же картинки. Под Лидочкиной кроваткой — тот же горшочек с замерзшей жидкостью. На ночном столике у маминой кровати лежат мои карманные часы — часы папы. Они стоят. Будильник на кухонном столе тоже мертв. Никого нет, никто моих ɇȺɑȺɅɈɋɖ Лудзас — главная улица Рижского гетто. Видны ограды «малого» и «немецкого» гетто. Фото не ранее 1942 года слез не увидит, к чему себя сдерживать? Я плачу, временами громко рыдаю. Слезы текут, Чарли их слизывает. Он понимает, что у него остался только я, а для меня теперь самое близкое существо — эта жалкая голодная собачонка. Он последний видел Алю и детей, он все эти дни ждал ее возвращения, он был всю свою жизнь ее верным другом, часто — утешением. Аля утверждала, что у него есть душа. Мы над этим смеялись и шутили. В эти минуты я верю, что он страдает так же, как и я. Не знаю, как долго я так просидел. В кладовой — кусок масла и несколько замерзших котлет. Их получает Чарли. Масло кидаю на пол: может быть, вернется кот Цапкин. Мне ничего не надо. Чарли пойдет со мной в гетто. Из-за него могут и меня подстрелить — пусть, я его не оставлю. *** Чарли живет со мной. Изька и Мотка довольны и возятся с ним. Герцмарк боится, что собака разведет насекомых, грязь, болезни и создаст другие неудобства, но не настаивает на ее удалении. ɗɥɶɦɚɪɊɢɜɨɲɁȺɉɂɋɄɂ Эльмар и Чарли. Рисунок Артура Ритова Некоторые из обитателей нашей квартиры протестуют, я с ними ссорюсь и воюю. Удивляюсь, что собака не пытается вернуться на старое место жительства — оно совсем близко, а для собаки — рядом. Если в присутствии Чарли произнести Алино имя, он начинает жалобно скулить и искать [ее]. Раньше я к нему относился довольно равнодушно, теперь он мне дорог. Когда его выпускаю погулять и он долго не возвращается, меня охватывает беспокойство. Он для меня — кусочек Али, маленький, но бесконечно ценный. *** Слухи и предположения о больнице оправдались. Больных оставили на несколько дней без присмотра в неотапливаемом здании с выбитыми окнами. Когда наконец явилась охрана гетто, часть больных, еще не умерших от холода и голода, была на грани безумия. Дикие крики оглашали весь дом. Беспрестанно трещали колокольчики. С ними покончили там же. ɇȺɑȺɅɈɋɖ Зачем спасли Лелю, зарезавшую своего мальчика? Зачем оперировали Розану Гутман? Для чего лечили всех этих больных? *** Уже несколько дней никого не убивали. Наши господа напились кровью вдоволь, они насытились ею, настроение их лучше. К тому же к опасности привыкают, и она перестает пугать. Пусть евреи успокоятся, почувствуют себя уверенней — тем приятнее будет новая акция, тем больше страха они испытают вновь. Евреи привыкают. Привыкают к новой жизни, к новому к [ней] отношению, к сознанию обреченности. Появляются новые мысли. Меняются люди. То, что еще недавно казалось низостью, сегодня приемлемо. Леви — один из погибших жильцов нашей квартиры. Жил он в том же доме, где [жили] Изька и Мотка. Теперь парни заявили, что он их дядя и на этом основании «конфисковали» его чемодан с вещами. Собираются вещи менять на продукты. Аронсон занялся «делами». На [своем] месте работы — фабрике по окраске тканей он работает как «незаменимый» специалист и благодаря этому имеет широкие возможности. Как видно, он собирается после войны сам открыть фабрику, ибо занялся сколачиванием капитала. Все ему суют для обмена на продукты всевозможные вещи: дамское белье, мыло, часы и т. д. Торгует [он] солидно и честно в том отношении, что дает обещанное, но за добросовестность своей фирмы берет львиную долю себе. Мы, не имеющие контакта с внешним миром, волей-неволей вынуждены к нему обращаться. Он же взволновал всех обитателей нашей квартиры. Говорит, что на фабрике встретил знакомого латыша, бывшего рабочего, теперь — полицейского, от которого узнал, что все наши женщины в Саласпилсе, что живут в бывших казармах, стирают для немцев белье, что кормят их неплохо. Полицейский обещал ему увезти на деревню его жену и дочь, за что потребовал целый ворох всяких вещей. У Аронсона требуемые вещи имеются вне гетто, у приятеля-нееврея. Дело только зависит от получения фальшивых паспортов, но и это полицейский обещал уладить, но уже за ценности в виде золота и бриллиантов, а они у Аронсона, по его словам, в достаточном количестве. У нас настроение в связи с этим рассказом улучшилось, почти есть уверенность в том, что наши живы, а это самое главное. ɗɥɶɦɚɪɊɢɜɨɲɁȺɉɂɋɄɂ Для обитателей «маленького гетто» создали новую работу — очистку [опустевших] квартир и сортировку оставшихся вещей. Для этого составляются рабочие команды, имеющие, так же как и все другие, своего Oberjude. Группы эти рыщут по квартирам, отыскивая для немецкого или латышского начальства всевозможные вещи. Для такого-то оберштурмфюрера38, или как там их еще называют, приказывают набрать обстановку для пяти-шестикомнатной квартиры со всеми необходимыми вещами, вплоть до посуды и кухонной утвари. Такому-то эсэсовцу нужен полный дамский гардероб и т. д. Принимающим участие в этой работе разрешается брать себе после работы только съестное, все остальное, если оно даже найдено в собственной квартире, принадлежит государству. Несмотря на это, почти все участники [работы] приносят с собой всевозможные вещи. Это правильно: все эти вещи по праву принадлежат нам, и лучше, если кто-нибудь из нас променяет блузку или брюки на хлеб или масло, чем какой-нибудь немец их использует для себя. И все же мы испытываем неприятное чувство: мы себе кажемся мародерами. Тяжело смотреть, когда видишь, как в покинутой квартире роются люди в погоне за какой-нибудь вещью, может быть, недавно убитых. Вот кто-то наспех засовывает к себе за брюки шелковую дамскую сорочку. Кто-то снимает свои старые ботинки и вместо них надевает найденную обувь. Но постепенно привыкаем, и «организация»39 становится чем-то естественным. В самом начале Садовниковской, у самых ворот когда-то жилого «большого гетто», дом заняла немецкая СД40. Приведение здания в надлежащий вид, в такой, чтобы там все было, как в самой лучшей гостинице, возложено на группу Якобсона. Дом, состоящий из десяти-пятнадцати квартир, должен быть полностью обмеблирован, к тому же со вкусом, каждая квартира должна иметь первоклассную мебель, лампы, посуду и т. д. Технический отдел меня прикомандировал слесарем к якобсоновской группе. В кухне одной из квартир [я] устроил себе нечто вроде походной мастерской, где делаю недо38 39 Старший лейтенант в эсэсовской иерархии. Эвфемизм, использовавшийся немцами вместо слов «кража», «грабеж» и перенятый у них узниками гетто в том же качестве. 40 СД (нем. SD — сокр. от Sicherheitsdienst — служба безопасности) — служба разведки и контрразведки СС (нем. SS — сокр. от Schutzstaffeln — охранные отряды) — главная террористическая организация нацистов в Германии и на оккупированных территориях. ɇȺɑȺɅɈɋɖ стающие ключи, чиню замки и т. д. От поры до времени приходится странствовать со всей группой для разборки мебели, демонтирования ламп и прочих работ. Работа в доме на Садовниковской имеет много преимуществ. Самое большое заключается в том, что мы встречаемся с «нашими» женщинами. Они моют и убирают квартиры, вешают занавески, словом, по-хозяйски наводят уют, [благо]устраивают квартиры. Кроме того, нам разрешили нанести из очищаемых квартир съестные припасы, и благодаря умению Якобсона подъехать к начальству женщины готовят для нас обед. Нами распоряжается небьющий немец — лейтенант СД. Якобсон, хотя и грозит за малейшее нестарание в работе доложить лейтенанту, пока дальше угроз не идет. Вообще-то он тип препаршивый. Виляет и подхалимствует перед немцами, говорит на Hochdeutsch41, и если бы не его внешность, мог бы сойти за самого ревностного поклонника наших СД. Надежда на то, что наши женщины и дети живы, опять ослабела. Во время работы в одном из домов на Садовниковской встретили группу полицейских, из которых один оказался в малой доле человеком. Разговаривал с нами, как с людьми, и даже как будто нас жалел. Ясно, что мы сейчас же стали допытываться, не знает ли он, что и где наши. Вначале он отвиливал от [ответа], но в конце дал понять, что надежды на встречу [со своими] у нас не должно быть, что судьба и жизнь жестоки и т. д. Может быть, мы знаем, что наши убиты, но не можем этому поверить. Может, и это инстинкт самосохранения, ибо, дойди это до нашего сознания, нам незачем и не для чего было бы жить. *** Немцы боятся, чтобы в «маленьком гетто» не вспыхнула эпидемия тифа, и поэтому разрешили устроить баню. Материала, конечно, не дают, и мы заняты розысками его на месте. Поручено это дело Герцмарку, ревностно взявшемуся за это дело. Баня необходима, так как все больше появляется вшей, а соблюдать чистоту довольно трудно. Самое скверное то, что один вшивый и грязный обитатель квартиры напускает своих вшей на остальных, так что никакое соблюдение чистоты не может помочь. На днях мы силой 41 Литературный немецкий язык (нем.). ɗɥɶɦɚɪɊɢɜɨɲɁȺɉɂɋɄɂ постирали нашего «китайца». Хорошо, что он маленький и несильный, в противном случае была бы настоящая драка. Вообще мы превращаемся из миролюбивых людей в раздражительных и злых. Споры и ссоры на каждом шагу. Из-за мелочи в состоянии грызться и ругаться. Чаще всего неприятности происходят из-за плиты. Если кто-нибудь поставит греть воду и сам уйдет, то, вернувшись через пять минут, найдет свою воду отставленной, а на ее месте — чью-нибудь сковороду. Тут-то и начинаются разногласия. Общего питания никак нельзя наладить, так как против него такие типы, как Абрамсон. При общей кухне они только проигрывают в пользу других — голодных, товарищеские чувства им еще не известны. В некоторых квартирах, где живут люди, работающие вместе, уходящие и возвращающиеся одновременно, образовались коллективы. Там имеется свой старший, по очереди убирают и готовят. У них есть определенный порядок, и все живут и питаются одинаково. Некоторые немецкие части, чтобы обеспечить себе постоянных рабочих, устроили своих евреев у себя — «казернировали»42. Положение таких «казернированных» дает некоторую уверенность в завтрашнем дне, нет вечной напряженности и ожидания чего-то, к тому же питание их тоже лучше геттовского. Хуже им в том, что часто не имеют контракта с друзьями, работающими в других местах. Они считаются евреями высшей категории — «Entlauste Juden» (евреями, очищенными от вшей), и им запрещено встречаться с обыкновенными. Место работы в военном квартирном управлении43 является самым лучшим, и многие мечтают туда попасть. Там имеются помещения с койками, и евреи имеют право выбора — оставаться там на ночь или нет. В погребе квартирного управления тайно встречаются с неевреями, и меновая торговля процветает. Это «аристократическая» рабочая команда, в которой много уцелевших бывших тузов. Некоторые евреи-ремесленники устроились в немецких мастерских и только изредка бывают в гетто. [Один] из обитателей нашей 42 От нем. Kasernierung — перевод на казарменное положение; поселение в доме-казарме (вид трудового лагеря у нацистов). 43 Имеется в виду Quartieramt (нем. «квартирная служба») — одна из рабочих команд, в которой работали евреи из Рижского гетто. Занималась тем, что ремонтировала и убирала для гитлеровцев в Старом городе квартиры, из которых были изгнаны евреи. Базировалась в Яковлевских казармах (Jēkaba kazarmas). ɇȺɑȺɅɈɋɖ квартиры, старик-сапожник, носящий по странной случайности имя Шустер44, живет при военной сапожной мастерской. Там он подслушивает радио, и по дням, когда его приводят в гетто, у нас военный совет. Вытаскиваются карты, тайком вырезанные из газет (как известно, евреям запрещено читать газеты), и на время [мы] забываем все наши повседневные заботы. *** Вечером к нам прибегает радостно-возбужденный Мотка. Есть точные сведения о том, что часть наших женщин в Саласпилсе. Какой-то мужчина, живущий в одном доме с нами, только что вернулся из Саласпилса, куда ездил на грузовике с немцами за дровами. Тут же срываюсь [с места] и бегу убедиться. Указанный человек в явно приподнятом настроении, и непонятно, для чего ему нужно говорить неправду. Он рассказывает, как подошел со своими провожатыми-немцами к проволоке, как женщины обрадовались, узнав, что в гетто большая часть мужчин уцелела, говорит, что женщины стирают белье для войск, что дети при них. Правда, большая часть стариков и старух была убита в дороге, но что с тех пор почти никого не убили и обращаются неплохо. Слыша все [это], не имею основания не верить, но в то же время мне все это кажется нелогичным и непонятным. Человек божится и клянется, что говорит всю правду, на радостях целуюсь с ним, обнимаю его. Не могу понять, где правда, где ложь. По всей вероятности, колонны были разбиты на отдельные группы, из которых некоторые еще живы. Может, не хватило заготовленных ям, а пока их выроют, дали отсрочку. Все запутанно и неясно. *** Эйзман — тележник из Двинска. По-немецки говорит очень плохо, его немецкий ничем не отличается от жаргона45, но он этим не смущается и говорит только «по-немецки». Со всеми полицейскими он в самых дружеских отношениях, на «ты» и сообща обделывает делишки. Он нигде не работает, вечно пьян, ходит с палочкой по 44 45 На идише шустер означает «сапожник». Имеется в виду идиш (также новоеврейский, разговорно-еврейский) — один из еврейских языков. ɗɥɶɦɚɪɊɢɜɨɲɁȺɉɂɋɄɂ немецкому образцу. На днях, часов в десять вечера, явился с лейтенантом СД проверять документы. Несмотря на то, что у самого на груди и на спине красуются желтые звезды, бил евреев палкой и кулаком в лицо, непрерывно ругая проклятыми жидами. Самое загадочное то, что у него в кармане заряженный маузер. Даже немцы, видно, делают исключения. Могила ему обеспечена: если немцы его не отправят на тот свет, то об этом позаботимся мы. Ванд тоже загадочная личность. То он кажется самым верным другом и защитником наших интересов, то к нему немецкое начальство слишком снисходительно. Без сомнения, он в глубине души германский патриот, как и большинство немецких евреев, врагами которых являются национал-социалисты, но не немецкий народ. Веди Германия такую же политику, как сейчас, но не затрагивая евреев, они душой и телом были бы ей преданы. В прошлой мировой войне он участвовал, был офицером действующей армии и награжден Железным крестом. *** Я среди знакомых удостоен не слишком для меня лестным прозвищем — зовут они меня еврейским Данцкопом. Это потому, что шляюсь по дворам в поисках голубей. В «большом гетто» я их стрелял для детей. Теперь я их «курю». У меня совсем нет денег, вещей для обмена тоже нет, а для старого курильщика табак важнее хлеба. Есть у меня постоянный покупатель — Каган. Деньги у него есть, к тому же он любит голубей. За пару платит пять марок, за которые [я] у нашего «Майкапара»46 (еврей, приносящий в гетто табак, папиросы и махорку) получаю пачку русской махорки. Недавно я Кагана надул, но так успешно, что он этого даже не заметил. В последнее время голуби поумнели и при моем приближении улетают. Приходится часами их разыскивать. Я работал с Герцмарком по устройству бани, совершая время от времени вылазки в погоне за дичью. Одного голубя я подстрелил с самого утра, другого же никак не удавалось поймать. Тогда я решил голубя заменить галкой — их невиданное множество. Попытка увенчалась успехом, и Каган пообедал одним обыкновенным, а другим — худым и жестким «голубем». 46 Майкапары — семейство, до войны владевшее в Риге табачной фабрикой. ɇȺɑȺɅɈɋɖ Есть у нас квартиры, в которых пахнет жареной селедкой с луком, блинами и даже колбасой. Живут в них полицейские. Так как они чаще других попадают в покинутые квартиры старого гетто, то им удалось «организовать» солидные припасы продовольствия. Живут они тесным коллективом, подчиняются своему «уставу». Это все молодые, здоровые парни с еврейским юмором и приспособляемостью. Среди них имеются восемнадцати-девятнадцатилетние мальчики, некоторые [из них] в дни после акций и даже во время них проявили массу хладнокровия и спокойствия. *** Рядом с квартирой технического отдела, вернее комнатой, которая в то же время является слесарной мастерской, расположена наша община. Там имеется целый ящик собранных после акций паспортов. По ним составлены списки в алфавитном порядке. Туда же поступают все сведения, касающиеся судьбы наших женщин. Там вечная толкотня, и секретарь Ефуне никак не может справиться с публикой. Почти ежедневно мне приходится чинить ему двери. Из продуктов нам по карточкам полагается также мясо. Правда, его очень мало, да и то выдается в виде костей, но все же карточки есть. Многие набожные евреи свои карточки продают, не желая есть трефное47. Ефуне свою мясную карточку, несмотря на просьбу уступить другому, порвал и сжег, не желая способствовать греху. Он не единственный. Никогда не думал, что среди современной молодежи имеется такой большой процент религиозных. В одной из квартир устанавливаются молебны48, в которых участвует довольно большое количество людей. На первом этаже дома по Ликснас, 24, находятся наши сапожная, портняжная и часовая мастерские. В последней встречаюсь с нашим бывшим зассенгофским соседом Розенталем. Он мне с обидой 47 48 Трефное — непригодное в пищу согласно предписаниям иудаизма. Богослужения устраивались в доме по улице Ликснас, 26, под руководством юриста и политика, бывшего депутата парламента Латвии от клерикально-консервативной партии «Агудат-Исраэль» («Объединение Израиля») Симона Виттенберга (1903—1945), который также возглавлял статистический отдел «юденрата» в период существования «большого гетто». Погиб в концлагере Бухенвальд (Германия). ɗɥɶɦɚɪɊɢɜɨɲɁȺɉɂɋɄɂ рассказывает о прислуге Марии, прожившей в его доме больше десяти лет. Перед выселением в гетто он ей оставил много денег и всякого добра, с тем чтобы она ему помогала. Первое время она это делала, но теперь, по некоторым сведениям, подружилась с немцем или немцами, а о нем забыла. В гетто «организовывать» он не ходит и, оставшись без денег, тоже голодает. Вообще, за исключением немногих, большинство из нас хронически голодны, и разговоры все чаще возвращаются к еде. Вопрос о судьбе наших женщин на первом, а о еде на втором месте. Натансон мне рассказал, что его брата, работавшего при погрузке военных грузовиков и утаившего небольшой кусок свинины, там же, на месте, расстреляли. Не думаю, чтобы это помогло, воровать все равно будут. *** У нас открылись аптека и амбулатория. Аптекари и врачи есть, но медикаментов не получаем. Все — как аптека, так и амбулатория — держится на рабочей группе SSP (сборный санитарный пункт). Oberjude группы Б[уби] Крамер там организовал регулярное воровство медикаментов и перевязочного материала. Вся рабочая группа по мелочам проносит в гетто необходимые лекарства и препараты, рискуя при этом очень многим, если не всем. С каждым днем все больше народу уходит на работу, в самом гетто мало желающих работать. Уходя утром в какую-нибудь воинскую часть, люди спокойны, что этот день проживут. Кроме этого, большинство, так или иначе, установили контакт с христианами — покупают или меняют [на] вещи [провизию], узнают политические новости, в то время как остающиеся в гетто вечно находятся под угрозой и варятся в собственном соку. *** Чудесный зимний день, сильный мороз. У меня нет махорки, а курить хочется. Выхожу с Чарли на голубиную охоту. Шныряю по пустынным, заваленным всяким хламом дворам, выглядываю на улицу Виляну, но, как назло, все голуби на крышах или в «большом гетто». На одном из дворов, у самой улицы Виляну, наталкиваюсь на только что пристреленную кошку. Это следы Данцкопа, тренирующегося в стрельбе, сегодня, в виде исключения, — по кошкам. ɇȺɑȺɅɈɋɖ Чарли с интересом подбегает к своему теперь уже мертвому врагу — большому рыжему коту, метко простреленному Данцкопом. Меня кот занимает меньше, я уже в другом конце двора. Чарли же никак не может расстаться с ним. Останавливаюсь, чтобы позвать собаку, но в этот момент из подворотни раздается револьверный выстрел, и Чарли со всех ног мчится ко мне. Появляется зеленая шинель, открывающая по нам огонь. Мигом мы из охотников превращаемся в дичь. В мгновение ока мы на другом дворе, вбегаем в ближайший дом, перебегаем через подворотню в следующий, в котором взбираемся на чердак. Там мы остаемся час-другой. Данцкоп промахнулся, нам повезло. Снова смерть проскочила мимо самого носа. *** Неприятный характер приняла «организация» в «большом гетто». Все, кто только может, стремятся туда. Квартиры, уже много раз перерытые, с разбросанными фотографиями, альбомами, снимками, где нередко узнаешь знакомые лица, с заваленными одеждой и бельем полами, по которым ступаешь, утопая, как в сене, перестали действовать, уже не возбуждают ужаса. Все рыщут в поисках пригодных для обмена вещей. С работы в гетто возвращаются пополневшими от спрятанных под одеждой вещей. В гетто нарождается новая буржуазия — извозчики. Перевозя для нашего начальства вещи из разграбленных квартир, они прячут у себя в санях, в мешках для сена, в рогоже и т. д. «организованные» вещи. При поездке в город за продуктами они при содействии подкупных полицейских ведут меновую торговлю с внешним миром. Квартиры, занятые извозчиками, полны всяких продуктов. Махорки не курят — у них немецкий «Feinschnitt»49. Нередко из квартир наших «буржуев» просачивается дурманящий запах жареного гуся. Водка у них настольный напиток. С ними многие стараются завести дружбу потесней, и им удружить готовы все. Парни они хорошие, помогают друзьям широко и просто. К сожалению, у нас мало «фурманов»50, а желающих попасть в число их друзей слишком много. 49 50 Табак мелкой резки (нем.). Фурман (идиш.) — извозчик. ɗɥɶɦɚɪɊɢɜɨɲɁȺɉɂɋɄɂ *** В нашем техническом отделе работает электриком инженер Каган, маленький нервный человек, бежавший из Германии и теперь все же попавший в немецкие руки. До сегодняшнего дня он мерз в стареньком осеннем пальтишке, сегодня у него чудесное теплое пальто с каракулевым воротником. В доме охраны, в самом начале Садовниковской, у бывших ворот, испортилось электричество. Полиция никак не могла обнаружить причину. Поздно вечером пришли за Каганом. Дали ему, кажется, час времени для починки. Начальник стражи был по обыкновению пьян и поставил условие: починит — награда, не исправит — пуля. Через три четверти часа электричество было в исправности, и Кагану позволили выбрать себе из большой груды нужное пальто. Работать в гетто, не имея связи с внешним миром, становится все труднее. Все время голоден. Стараешься не замечать этого, но чувствуешь слабость, а иногда — головокружение. Нужно наладить контакт, а для этого придется попасть в какую-нибудь рабочую группу. Вообще, сидеть тут в ожидании новой акции, чтобы тебя, как мышь в мышеловке, погрузили в ведро с водой, не стоит. Работающие в городе то и дело встречаются с людьми. У меня тоже имеются кое-какие друзья-христиане, постараюсь с ними встретиться. Кто знает, может, удастся бежать к партизанам, может, [получить] фальшивый паспорт — нужно все испробовать. Все зависит от Oberjud’ов, а большинство из них — сволочи, и чтобы попасть к ним в колонну не зайцем, а легально, нужно платить, а денег у меня нет. У Крамера в SSP укомплектованная команда, но надеюсь на наше старое знакомство, к тому же он исключительно порядочный парень. Миша Лат тоже старается выбраться, он недавно от кого-то узнал, что за деньги, имея старый латвийский паспорт, взамен его можно получить фальшивый. Всегда и повсюду деньги имеют силу, даже у нас можно за них купить любого немца и полицейского, вопрос только — за сколько. Герцмарк ко всему стал относиться по-иному. Он считает бесполезным и бессмысленным спасать свою жизнь. Если все наши близкие погибли, если правда, что все расстреляны в лесах, то наша теперешняя жизнь нам покажется раем, по сравнению с будущей свободой, что все равно никто из нас больше жить не сможет, и чем ɇȺɑȺɅɈɋɖ свободнее и интереснее будет жизнь после разгрома Германии, тем сильнее нас будут грызть картины прошлого. Месть, если даже она будет возможна, сможет дать минутное опьянение, но спокойствия и мира нам дать не сможет. Я с ним не согласен. Мы должны всеми силами стараться выжить. Если мы сами об этом не позаботимся, то даже свидетелей не будет, а мстить нужно не для своего успокоения, а ради памяти убитых, ради справедливости вообще. Наша будущая жизнь должна быть не эгоистической, маленькой, а тяжелой обязанностью, жизнью для расплаты. Сговорился с Крамером и послезавтра пойду с его колонной. Столяру-немцу в SSP начальство поручило выстроить барак для хранения хлорной извести (для нас?)51, используя евреев в качестве плотников, поручив Крамеру таковых достать. Благодаря этому я могу присоединиться. Что же, буду работать плотником. Жаль, что приходится расставаться с Герцмарком. Все рабочие SSP живут в одном доме, занимая целый этаж. Крамер ввел нечто вроде казарменной дисциплины. В некоторых квартирах кровати по-военному в два этажа. По списку назначаются дежурные, уборщики квартир и т. д. В каждой квартире коллективное питание. Все частные продукты и карточки сдаются в общую кухню. Мне предстоит жить в одной комнате с пятью людьми различного возраста. Двоих из них я знаю — Брусованского и Рапопорта. Правда, Брусованского я знаю больше по рижским сплетням. Он запустил апельсином в какого-то из поклонников [своей] жены, и с тех пор в Риге имелись апельсины: яффские, брусованские и разные другие. Это тип буржуя в кубе. Рапопорт — сын купца, сам адвокат-купец, корпорант52, по слухам, чуть ли не покончивший с собой в день прихода Красной армии в 1940 году53. Чувствую, с ним будут стычки. 51 Хлорной известью нацисты засыпали места массовых захоронений своих жертв, опасаясь распространения инфекции от разлагающихся трупов. 52 По всей вероятности, филистер (ветеран) студенческой корпорации. 53 Имеются в виду события 17 июня 1940 года, когда в Латвию был введен контингент советских войск (вдобавок к уже размещенному здесь согласно советско-латвийскому договору о взаимопомощи от 5 октября 1939 года). Вступающие войска вышли встречать противники авторитарного режима К. Ульманиса в надежде на демократические перемены в стране, — всего порядка полутора тысяч человек. Отношение к этому событию левонастроенных людей — как латышей, так и представителей национальных меньшинств в условиях уже шедшей в Европе Второй мировой войны ɗɥɶɦɚɪɊɢɜɨɲɁȺɉɂɋɄɂ О третьем — докторе Гуревиче из Двинска, родственнике Али, много слыхал. Очень славный старик — тихий, со всеми ровный и спокойный. Попал он в Рижское гетто из Двинска при следующих обстоятельствах. В июле 1941 года всех двинских евреев выгнали из города и разместили на лесной поляне, обнесенной колючей проволокой. С наступлением темноты стали подъезжать автомашины с каким-то грузом. Гуревич скоро установил, что это хлорная известь. Зная, для чего немцы ее употребляют, он, когда совсем стемнело, пролез под колючей проволокой и под покровом ночи добрался до избы знакомого русского крестьянина, своего бывшего пациента. Там он скрывался около двух месяцев, а потом приехал под возом сена в Ригу, веря, что в таком большом городе массовые акции невозможны. Гуревич — один из лагеря пессимистов. Зная происшествия в Двинске54, он уверен, что всех наших, отправленных в лагерь, постигла та же участь. Мне предстоит неприятность — взять из нашего маленького общего фонда продовольствия свою долю. С Герцмарком это очень просто, но Мотка и Изька захотят меня надуть, а я постараюсь поделить честно. У нас еще полмешка общей картошки, несколько баночек с консервами и около килограмма сахара. Я бы с удовольствием отказался от дележа, но тогда я буду в новом, крамеровском коллективе совсем «бесприданницей», а этого мне не хочется. не различалось. Произошли столкновения с полицией, которой было приказано не допускать скопления людей на пути продвижения войск. В результате были ранены 29 человек, двое из которых скончались. В течение всего периода германской оккупации нацистская пропаганда приписывала восторженную встречу советских войск евреям вообще — независимо от их социального положения и политической ориентации. Этот оказавшийся чрезвычайно устойчивым стереотип продолжает бытовать среди части населения Латвии вплоть до наших дней. 54 В Двинске (Даугавпилсе) гетто, созданное уже 15 июля 1941 года, насчитывало около 14 тысяч узников — жителей города и окрестных населенных пунктов. «Большое гетто» было уничтожено в ходе акции 1 мая 1942 года, «малое» просуществовало до 28 октября 1943 года, почти все его узники были уничтожены, оставшихся перевели в концлагерь Кайзервальд в Риге. ɇȺɑȺɅɈɋɖ Иосиф Брусованский. Фото 20-х годов *** Кое-как разделили добро, и я со своей кушеткой и с Чарли перебрался на новую квартиру. Мое появление совпало с постановлением Крамера о передаче всего личного продовольствия в общее пользование. Для Брусованского это тяжелое испытание. У него, оказывается, имеется хороший, в несколько килограммов, кусок солонины, солидная банка меду, варенье, сахар, крупа и т. д. Это вносит немного юмора и принимает анекдотический характер. Завтра утром должен пойти работать в SSP. Теперь уже вечер, большинство рабочих колонн вернулось с работы. Мое окно выходит на улицу Лудзас, и если его приоткрыть, то видны ворота в «маленькое гетто». Там видны черные колонны, втекающие за проволоку. На лестнице беспрерывные усталые шаги, захлопали двери, большой дом ожил. Почему-то наших все нет. Дежурный строит всякие предположения, вроде того, что прибыло много вагонов, и будут выгружать после рабочего дня, опасается, не поймали ли на воровстве медикаментов. А наших все нет. Гетто засыпает, я и Чарли тоже спим. ɗɥɶɦɚɪɊɢɜɨɲɁȺɉɂɋɄɂ *** Утро. Вчера на работу в SSP не вышло человек шесть, теперь они собрались на квартире Крамера и обсуждают создавшееся положение, но неожиданно является он сам и рассказывает следующее. У одного из наших — у Морейна завелись насекомые. Он признался одному из немцев в надежде получить мазь против вшей, позабыв совсем о паническом страхе немецких военных перед этими существами. Немец немедленно доложил начальству, что у евреев вши. Поднялся переполох, устроили немедленный осмотр, давший неожиданные результаты, после чего всех отвели в баню, а оттуда в помещение на Елизаветинской, угол Мариинской, где их и оставили на ночь. Теперь они считаются «Entlauste Juden», их жилища должны быть тоже «Entlaust», а пока это не будет произведено, их в гетто не пустят. Кроме того, «Entlauste Juden» не имеют права посещать простых смертных евреев и считаются рангом выше. Тех, что вчера не были на работе и, следовательно, не попали в дезинфекцию, начальство пока на работу не пустит, меня же, как «плотника», велено привести и на месте проверить. Приехал он [Крамер] на грузовике в сопровождении немецкого солдата. Вчерашние «прогульщики» упрашивают их тоже взять с собой, но Крамер неумолим, и минут десять спустя двое евреев, немец и пестрая собачонка мчатся на грузовике по улицам когда-то знакомой, теперь ненавистной Риги. В гетто давно ходят слухи о частичном советском наступлении, о том, что на некоторых участках фронта немцы отброшены. С нетерпением ищу на улицах города приметы, подтверждающие это. Ищу автомашины со следами боя, санитарные машины — ничего нет. Все та же спокойная уверенная походка у немецких военных, та же аккуратность их транспорта, с той лишь разницей, что все машины выкрашены в белый цвет. На машинах надписи: «Вis zum Endsieg», «Heil Hitler!»55 и т. д. SSP расположен в бывшей Цитадели56, напротив здания, в котором [я] когда-то учился. Крамер вводит меня в аптечный склад и докладывает начальству. Через некоторое время появляется немец55 56 «До окончательной победы», «Да здравствует Гитлер!» (нем.). Цитадель — место некогда расположенной рядом со Старым городом (ниже по реке) крепости в Риге. ɇȺɑȺɅɈɋɖ Лазарь Яворковский. Фото 1930 года кий офицер в сопровождении еврейского врача Яворковского57 и Spies’а58 (фельдфебеля). Мне приказывают раздеться, что в холодном складе не очень приятно, к тому же я не совсем уверен, что на мне нет непрошеных гостей. Яворковский внимательно осматривает, но при всей своей честности найти ничего не может, однако недоверчивый Spies при помощи палочки считает своим долгом еще лично в этом убедиться. Наконец, осмотр кончен и меня включают в число «Entlauste Juden». 57 Лазарь Израилевич Яворковский (1910—1995) — врач-гематолог и ученый-медик. Доктор медицинских наук (1965), почетный член Латвийской академии наук (1992). Окончил медицинский факультет Латвийского университета, в 1935—1940 годах работал врачом в Риге. В годы войны узник Рижского гетто, концлагерей Кайзервальд (Рига), Штутгоф (Польша). Бухенвальд (филиал в Магдебурге, Германия). В 1946—1962 годах врач, заведующий отделением Республиканской клинической больницы в Риге, в 1959 году создал в этой больнице первое в Латвии гематологическое отделение. В 1962—1972 годах преподаватель, профессор (с 1968 года) Рижского медицинского института (РМИ), в 1973—1993 годах сотрудник, заведующий отделом РМИ (впоследствии Латвийской медицинской академии). Труды по лейкозам и другим болезням крови. (В период нацистской оккупации Л. И. Яворковскому оказывала поддержку Елена Карловна Францман (1915—1996) — представительница местной двуязычной интеллигенции и многолетняя подруга Людмилы Знотынь, также учившаяся в Лишинской гимназии, впоследствии сеньор студенческой корпорации «Татьяна» и автор превосходных учебников русского языка для латышских школ. Дружба семей Яворковских и Францман продолжалась все послевоенные годы. — Примечание Наталии Каже.) 58 Шпис (нем.) — фамилия. ɗɥɶɦɚɪɊɢɜɨɲɁȺɉɂɋɄɂ В здании напротив аптечного склада находится столярная мастерская. Это небольшая комната, заставленная досками и верстаками, хозяином которой является немец Хегер из Падерборна59. Среди наших у него репутация хорошего парня. Конечно, он, как и все, евреям говорит «ты», считает, что Германия ведет справедливую войну, что в ней виноваты «плутократы», коммунисты и евреи и что при виде зверств, совершаемых над евреями, у него сердце обливается кровью… за Германию. Если, не дай Бог, Германия не победит, то ей придется за это ответить. Он верующий католик и при всех случаях ссылается на предсказания апостолов. Хегер нас четырех, работающих у него евреев, утром угощает хлебом, он нас не бьет и на многое закрывает глаза, но «Mein Kampf»60 — второе евангелие, а фюрер — второй Спаситель; приветствие «Heil Hitler!» произносится как клятва. Из нас четырех, еврейских «плотников», кроме меня еще только один [прежде] работал топором. Это бывший извозчик Киш. Шулькин — коммерсант, а А. Леви — инженер-химик. Шулькин, видно, по своей бывшей профессии привык «мазать», чтó он и теперь делает. Благодаря этому он чаще других греется в помещении и получает от Хегера самую легкую работу. А. Леви смотрит на свое теперешнее занятие как на подготовку к лесной, партизанской жизни. Он мне нравится больше всех остальных, жаль, если такой парень погибнет зря. Мы приготавливаем сруб для большого барака. Материал был привезен сырым, и теперь, в тридцатиградусный мороз, превратился в ледяные брусья. Обрабатывать их трудно, к тому же на голодный желудок еще сильнее мерзнешь, и никакая работа согреть не может. Хегер бегает вокруг нас в тяжелых валенках, закутав лицо шарфом. Хорошо еще, что после каждых двух часов работы на морозе он разрешает нам десять минут греться в мастерской. SSP — одно из лучших мест работы: нас кормят. В час дня мы получаем нечто похожее на суп. Во всяком случае, настоящая, не суррогатная горячая вода с картошкой или брюквой. Ввиду того, что начальником SSP является аптекарь, не приходится удивляться, что ценные продукты — овощи отпускаются, как в аптеке. Все же воду не жалеют, а так как повар — еврей, не жалеющий дров, то супу довольно много, а главное — горячий. Обеда все с нетерпением ждут, 59 60 Падерборн — город в Германии (земля Северный Рейн-Вестфалия). «Mein Kampf» («Моя борьба») — книга, в которой А. Гитлер изложил свои основные идеи. ɇȺɑȺɅɈɋɖ но по разным причинам. Большинство, конечно, из-за калорий, но есть и такие, которые в обеденный перерыв встречаются с друзьями«арийцами». Вот Крамер, например, устроился даже с комфортом. Над нашей мастерской находятся столовая, комната электротехников, где работают старик латыш с сыном и двое еврейских парней, да еще маленькая комнатка — раздевалка мастеров. В этой-то комнатке Крамер два-три раза в неделю встречается с пожилой женщиной, приносящей ему пакеты и газету. Приходить ей относительно безопасно, имея возможность связать свое посещение с электротехниками-христианами. Иные встречаются у церкви, находящейся на нашей территории, другие — за колоннами гаража. С приятельницей Крамера отправил письмо старушке Мими. Скорей бы навести связь с внешним миром. В обеденный перерыв никого из немцев нет, все закусывают у себя или уходят в «Mittagschläfchen»61. Пока у всех проходит гладко, а пока ворон не вспугнули, они смелы. Простых, рядовых вообще не очень опасаются — их встречи мало интересуют, а за Spies’ом устроено наблюдение, так что врасплох ему трудно кого-нибудь застать. Когда-нибудь кто-нибудь, конечно, нарвется, но кто из нас думает о том, что с ним может случиться? И так всем ясно. Наши электротехники-латыши не могут пожаловаться на свою работу. Ее, в сущности, выполняют евреи, они же заняты меновой торговлей. Постепенно наше перекочевывает к ним. Делают они это с видом, будто нам хотят помочь, в цене же себя не забывают. На днях я у старика променял чудный серый кожаный пояс, совершенно новый, с патентованной пряжкой на пачку папирос, несмотря на то, что папиросы эти продаются пачкой по 20 штук. Кто-то из наших дал ему в обмен на сало пару ботинок, но сала не получил, а ботинок своих тоже не увидел больше. С тех пор мена происходит из рук в руки, а обувь для показа дается только на одну ногу. *** Немцы в своих военных сводках сообщают об отражении советских атак, сдав такие-то участки противнику «для сокращения фронта». В связи с этим к евреям повсюду стали относиться хуже, а в гетто то и дело ждут новых акций Возвращаясь вечерами с работы, с замирающим сердцем проходим в гетто. 61 Послеобеденный сон (нем.). ɗɥɶɦɚɪɊɢɜɨɲɁȺɉɂɋɄɂ Сегодня пришли вагоны с медицинскими припасами, и все допоздна грузили. Приближаемся по Московской к улице Жиду ночью. Весь город уже утих, у проволоки гетто горят костры стражи. Искры, как жучки, подымаются и разлетаются по сторонам. Монотонно скрипит снег под тяжелыми шагами колонны. Мы поднимаемся в гору по [улице] Жиду, перед нами уже встает стена еврейского кладбища, слева колючая проволока «большого гетто». Вдруг колонна замедляет шаг, все встрепенулись, все стараются увидеть, разгадать. Метрах в ста за оградой люди с факелами, в полицейских шинелях. Стоят они кольцом, окружающим группу людей с мешками за спиной, кто-то кричит, что-то приказывая. Акция, но какая? Кого? Куда? Никто ничего не знает. Пришибленные плетемся дальше. Что у нас в «маленьком гетто»? У нас ничего нового, акции нет, без перемен. «На Шипке все спокойно», «большое» же гетто за сегодняшний день частично заселили. Прибыли евреи из некоторых оккупированных немцами стран62. Больше всего австрийских, чешских и немецких, но есть будто бы 62 Первые евреи из европейских стран (так называемые Reichsjuden (нем. «евреи из рейха»), или «немецкие евреи», поскольку говорили по-немецки) стали прибывать поездом из Германии в Ригу, на станцию Шкиротава, 29 ноября 1941 года ночью. Поскольку место для их размещения не было предусмотрено, 942 человека из них уничтожили в Румбуле утром 30 ноября, перед прибытием туда колонн евреев из Рижского гетто. 1—8 декабря в Латвию прибыли четыре транспорта — всего 3747 человек из Нюрнберга, Штутгарта, Вены и Гамбурга, которые были размещены в концлагере Юнгфернгоф (Юмправмуйжа) в окрестностях Риги (территория бывшего аэродрома «Румбула»). В начале 1942 года в Латвию были привезены 19 тысяч евреев из других стран. Около 2000 престарелых и слабых людей, не способных передвигаться самостоятельно, были убиты прямо на станции Шкиротава, и над их могилами оккупанты позднее проложили новый рельсовый путь, существующий и поныне. Всего из «рейха» (т. е. из Германии, Австрии и Чехии) в Латвию, по неполным данным, были депортированы 24 603 еврея (из них в Латвии были убиты около 11 тысяч человек, выжили 1073 человека) и еще по нескольку тысяч (точное количество не установлено) — из Венгрии и Литвы. Многие, особенно молодые мужчины, погибли от непосильного труда на строительстве Саласпилсского концлагеря. Вещи вновь прибывших евреев конфисковывались «в пользу Великой Германии». Часть их забирало местное нацистское начальство и отправляло своим семьям в Германию, а часть раздавалась в качестве подачек местным коллаборационистам. 10 декабря 1941 года около 1000 евреев, прибывших из Кельна, стали первой группой «евреев из рейха», помещенной в Рижское гетто. В феврале 1942 года их там насчитывалось около 11 тысяч человек. ɇȺɑȺɅɈɋɖ Вид Рижского гетто и другие евреи. Прислали людей различного возраста — стариков, женщин с маленькими детьми. Нас это окрыляет новой надеждой: значит, наши тоже где-нибудь, может, в Австрии, Чехословакии, во всяком случае, тут видна политика расселения, а не уничтожения. Кто-то говорит: хотят латышским шуцманам63 доставить удовольствие, собираются Латвию превратить в кладбище для европейских евреев. Глупости, больная фантазия. *** Странный народ немецкие евреи. При первой же встрече через проволоку они накинулись на нас с руганью, что из-за нас, мол, проклятых «Ostjuden»64 и коммунистов, они теперь страдают, и все в таком роде. Мужчины, блюстители внутреннего порядка, с повязкой на рукаве и с неизменной палкой, всем своим существом отражают 63 Нем. Schutzmann — название полицейских в Германии (до 1945 года). Так называли и коллаборационистов, служивших в созданных нацистами на оккупированных Германией территориях вспомогательной полиции и полицейских (шуцманских) батальонах. Их также называли полицаями. 64 Восточные евреи (нем.). ɗɥɶɦɚɪɊɢɜɨɲɁȺɉɂɋɄɂ Прибытие «евреев из рейха» на станцию Шкиротава в Риге. Декабрь 1941 года типичных немцев; если бы им Гитлер дал возможность, они, наверно, вступили бы в национал-социалистическую партию и были бы примерными эсэсовцами. На некоторых домах «большого гетто» появились красные кресты с надписью: «Wien», «Prag» и т. д. Это санитарные пункты. Вообще в «большом», теперь переименованном в «немецкое», гетто с первых же дней установился строгий порядок65. С первых же дней 65 В отличие от узников «малого гетто», оставшихся после акций 30 ноября и 8 декабря без своих семей, обитатели «немецкого гетто» жили семьями. Там сохранялись признаки общинной жизни: выходцы из конкретных городов селились по соседству, и даже для обозначения улиц гетто они использовали названия своих городов. Каждая группа имела своего старосту. Для каждой группы немцы выбрали специального полицейского, представителей и старших рабочих колонн. К 1943 году в «немецком гетто» сложилась довольно разнообразная общественная жизнь, включавшая обучение в школе, лекции (в частности по литературе и истории), художественную самодеятельность. Однако рождавшихся в гетто детей охрана уничтожала. Действовал молельный дом. Евреи из Германии, исповедовавшие католицизм, тоже имели свою молельню (хотя их постигла та же судьба, что и соплеменников, исповедовавших иудаизм). До 2 ноября 1943 года все узники «немецкого гетто» были переведены в концлагерь Кайзервальд в Риге (с филиалами). ɇȺɑȺɅɈɋɖ новых [его] обитателей выгнали на работу. Прибыв из более нежных стран, не имея подходящей одежды, они имеют фантастический вид. Ноги почти у всех обмотаны мешками, мужчины повязывают голову платками, так что трудно определить, кто мужик, кто баба. Уже через неделю становится известно, что присланные люто голодают. Не имея связи и знакомых, без малейших припасов, они живут исключительно на еврейский паек, но их мы жалели не больше других, нам всем невесело. Тяжело, очень тяжело видеть их детей. Еще задолго до того, как выйдет на работу первая колонна рижских евреев, они жмутся к своему забору из колючей проволоки. Когда мы проходим, к нам тянутся множество детских ручонок в ожидании кусочка хлеба. Их разгоняют, бьют палками, но при проходе следующей колонны они опять у проволоки. Им запрещено просить, мы не имеем права давать, [но] все же они просят, а мы даем что можем. Дать голодному ребенку кусочек хлеба — преступление, карающееся в лучшем случае избиением, а может быть, и пулей. В газетах появился призыв к гражданскому населению жертвовать для любимых защитников культуры, мерзнущих в необъятных «Большое гетто» в Риге перед вселением в него «евреев из рейха» ɗɥɶɦɚɪɊɢɜɨɲɁȺɉɂɋɄɂ русских пространствах, теплые меховые вещи. В гетто приказ: «В течение вечера сдать все меховые вещи, неисполнение приказа строго карается». На [улице] Лудзас, в доме стражи, приемочный пункт. Растет куча шуб. Взамен выдаются дрянные пальто, обноски. Гдето находят шубу, вместе с ней забирают ее владельца. Дров в гетто не привозят, кормят еле-еле, теперь начинают раздевать. Посмотрим, что еще придумают. Мне приходится расстаться с Чарли. На работу брать его не могу, так как Шпис грозится его пристрелить, дома же мои сожители«аристократы» боятся, кабы собака не развела грязь и с ней заразу. В конце концов собака в нашей жизни, может, и блажь, может, стыдно о ней думать и тем более говорить, а все же мне тоскливо оставаться без нее. Немцы любят собак, и я Чарли подарил солдату SSP. Сегодня я возвращаюсь еще более одиноким. Чарли и Аля в моих мыслях неизменно рядом, и пока был со мной Чарли, мне он казался какой-то символической связью с ней. Теперь все только в одной фантазии, некого погладить. *** Бедный доктор Гуревич. У него на руках появились невероятной величины нарывы — карбункулы с двумя-тремя головками, величиной с яйцо. Вечером Яворковский ему делает перевязки и кладет компрессы. Все же он каждый день ходит на работу и всеми силами старается остаться «здоровым». Немцам нужны работники, а не больные. Он сильно похудел, но ежедневно бреется и, несмотря на свои семьдесят, упорно сохраняет версию о шестидесяти. Брусованский занят только сохранением своего здоровья. Встает он раньше всех, производит холодное обтирание, подмываясь одеколоном. Не знаю, что с ним будет, когда эта драгоценная влага кончится. *** Чарли удрал от немца, а ко мне он не явился, странно. Сегодня в обед, с часу до двух, жду Мими. Придет ли? Что она скажет? Получила ли вообще письмо? Один вопрос сменяет другой. ɇȺɑȺɅɈɋɖ Мелания Миллер (Мими) с дочерью Эльмара Ривоша Лидией. Фото ок. 1940 года *** Сегодня для нас, «плотников», хороший день. Для скрепления сруба нужны всякие скобки, болты, глухари66 и т. д. На складе SSP таковых нет, и Киш предлагает Хегеру съездить к знакомому кузнецу. Для Киша это, конечно, повод, чтобы встретиться со знакомым, для Хегера — просто развлечение. Киш уже постарается затянуть время, мы же пока не будем так мерзнуть на дворе. Двое из нас все время в мастерской и топят плиту, куда поставили сворованную у немцев картошку. Один, попеременно, на постройке копошится для отвода глаз начальства. С нетерпением жду обеденного перерыва. Обед. Спешим наверх. Там уже много народу. Все спешат за своей обеденной посудой. Наши набожные евреи, их человек пятнадцать, уже собрались в дальнем углу и приступили к молитве. Общего супа они не едят, боясь случайно приблудшей трефной косточки. Супа еще не принесли, а мне не хочется из-за него рисковать не встретить 66 Глухарь — большой болт с шестигранной или квадратной головкой под ключ. ɗɥɶɦɚɪɊɢɜɨɲɁȺɉɂɋɄɂ Мими. Поручаю Леви приберечь мою порцию, а сам бегу на двор. По обе стороны Цитадельной [улицы] — здания SSP, так что ничего удивительного, что по ней шныряют люди со звездами, к тому же эта улица так малолюдна, что встретить гражданское лицо довольно трудно. Несколько раз перехожу улицу, мой наблюдательный пункт за белой церковью67. Вот Яворковский шагает через двор, за ним — с безразличным видом какая-то женщина с пакетиком. Они где-то исчезают. Кто-то со звездой, спрятавшись за колонной гаража, впивается взглядом в какую-то приближающуюся по улице фигуру. Время так медленно тянется, что боюсь, не подходит ли уже обеденный перерыв к концу. Но вот та самая фигура, за которой мы оба следим, приближается, и уже издали я в ней узнаю знакомую. Теперь я уже могу ясно разобрать лицо Мими, в руке она сжимает какой-то сверток, боязливо озирается по сторонам. Я не знаю, как поступить: пойти ей навстречу — нельзя, опасно, остаться на месте — она пройдет не заметив. Позвать тоже нельзя. Первый раз она проходит, не заметив меня. Пройдя мимо церкви, она в нерешительности останавливается и идет назад. Была не была. Как ни в чем не бывало, выхожу из своего убежища, нагоняю ее и мимоходом бросаю слова: — Иди за мной, не бойся, — и продолжаю путь. Никого на нашем дворе нет, только голуби да воробьи. На расстоянии восьми-десяти шагов за мной ковыляет Мими. Ключи от плотницкой у меня, и я прямо направляюсь туда. Мими смело следует за мной. Я запираю за ней дверь и хочу спросить, сказать, но не нахожу слов. Старая, сморщенная рука с материнской нежностью гладит мою небритую щеку. Хочется закрыть глаза и плакать, но у нас больше нету слез. Может быть, у нас уже вообще нет человеческих чувств? Чарли у Мими, он удрал от немца и пришел в свой старый дом. Мими не вытирает зеркало шкафа, там внизу — отпечатки ручек моей девочки, и она их не хочет лишиться. Она все знает: все убиты, никого нет, только память осталась. Неужели это правда? Неужели тридцать тысяч человек, безоружных, беззащитных, выгнали в лес, раздели и убили, истребили, как не истребляют никаких вредных зверей? Этого не может быть. Как это совместимо с понятием «человек» — пусть немец, латыш, но все же они люди? 67 Имеется в виду церковь Святых Петра и Павла в Цитадели. ɇȺɑȺɅɈɋɖ Если это все же правда, то доза слишком велика, она не действует. Я себе просто не могу этого представить. Мими во сне видит Алю, Анну Григорьевну, моих детей. Она ежемесячно отсыпает для меня сахар, для меня же бережет масло. У нее четыре курицы. Часть яиц она променяла на папиросы и принесла мне. Через неделю она опять придет, теперь пора уходить — скоро появятся немцы. Киш остался доволен поездкой. Кузнец угостил их водкой, Кишу сунул каравай хлеба и обещал в случае отступления немцев спрятать его у себя. Киш сообщил радостные известия с фронта, умолчав о судьбе наших близких. Перед уходом в гетто Крамер нам раздает всевозможные лекарства. Мы их запускаем в штаны. Так каждый вечер. Мне так не хочется возвращаться в гетто, хочется бежать, но куда? Поближе к фронту, но как ты туда доберешься, когда население в нас видит врагов, которых предать в руки властям — святое дело, когда каждый ребенок тебя или ненавидит, или боится? Когда вчерашний член МОПРа сегодня предатель? Плетемся в гетто, не зная для чего, не зная зачем. *** Сижу у Герцмарка. Он все еще живет в той же комнатке с Изькой и Моткой, вместо меня поселился старичок Вагенгейм. Вчера Герцмарк был удостоен великой чести и доверия. В баню явился Эйзман. Как обычно, он был под градусом, ругал «паршивых жидов». Оставшись в чем мать родила, поручил Герцмарку сберечь револьвер — заряженный, в полной исправности. А на днях баня работала на наших «буржуев» — извозчиков. В бане была водка, закуска, пели песни. Баня стала чем-то вроде клуба, куда собирается знать. Организаторы и строители этого заведения с полным правом горды. Не имея ни надлежащих труб, ни котлов, соорудили весьма пригодную баню. Голь на выдумки хитра. Рядом с маленькой комнаткой Герцмарка, во второй — большой спит больной старик. Он лежит целыми днями без ухода и выглядит, как мертвец. При первом посещении немцев или патриотов его отправят на тот свет. Это никого не огорчит — станет одной кроватью больше. За день на морозе устаешь, хочется спать, я ухожу к себе. ɗɥɶɦɚɪɊɢɜɨɲɁȺɉɂɋɄɂ Отправка евреев из Рижского гетто на принудительные работы *** В «немецком гетто» опять что-то происходит. Людей сажают на грузовики, увозят на «работу», с которой никто не возвращается. На место увезенных прибывают другие. У нас тоже чего-то ждут и вечером собираются небольшими группами и обсуждают создавшееся положение. Наша еврейская полиция уверяет, что волнения необоснованны, но спокойствия это не дает. Многие из Oberjuden хлопочут о «казернировании» своих рабочих колонн. Все считают благом не жить в гетто. На днях при возвращении с работы, подымаясь по улице Жиду в гору, повстречали нескольких полицейских. Один подошел к нашей колонне и наугад ударил палкой, попавшей портному Меллеру в глаз. Теперь глаз запух, и не знаем, чем кончится. *** Начальство SSP организовывает поездки в гетто. Официально считается, что едут, например, за зубоврачебным кабинетом. Фактически же это просто охота за трофейными подарками для своих жен, детей, невест. Хегер получил машину, [чтобы ехать] в гетто ɇȺɑȺɅɈɋɖ для «организации» пригодных инструментов. Он едет со мной и еще одним евреем — электротехником. Нужны сверла, пилы, долота и т. д. Шофер тоже участвует в поисках. Ходим по разгромленным квартирам. У Хегера сынишка шести лет, и детские вещи ему пригодятся, хоть это не инструменты, все же они попадают в машину. Почему же нет, ведь этих детей больше нет, им никогда эти штанишки, рубашонки и чулочки не будут нужны, а маленькому Гансу они как раз впору. Дамское белье тоже пропадает зря, а в Германии такие вещи дороги. Помолимся за души грешников. По пути захожу к себе на [улицу] Маза Кална. Там уже побывали [до нас] и перерыли все. На стенах висят те же картинки, ночной горшочек на том же месте. Дверь открыта, холодно и пусто. Показываю Хегеру фотографию Али с детьми, он вздыхает. — Это война, — говорит он и прячет в карман Димины шерстяные чулки. Я вырываю наугад снимки из альбома и прячу в карман. Хегер доволен: он набрал инструменты и «мелочь» для семьи. Проезжаем по улицам гетто. У некоторых домов стоят военные грузовики — тоже приехали «организовывать». И гетто кажется мне большим трупом, на котором справляют пир стервятники. Шофер бодро ведет машину, гетто позади, мы опять в SSP. *** Морозы держатся все такие же — 25—30 градусов ниже нуля. Последняя партия ампул для инъекций вся замерзла, и все стекло полопалось. Убытки, слава Богу, большие. Гуревич стал случайным свидетелем занятного диалога. Apotheker68 докладывает Oberapotheker’у: — Осмелюсь доложить, что все ящики с ампулами погибли. — Как? Почему? Кто виноват? — Конечно, евреи. — Каким образом? — Да очень просто: мороз 30 градусов ниже нуля! Немецкое ржание. Гуревича они не видели, и можно было подшутить над фюрером. 68 Аптекарь (нем.). ɗɥɶɦɚɪɊɢɜɨɲɁȺɉɂɋɄɂ К слову, Apotheker, сам того не зная, все же прав, так как к порче медикаментов мы тоже причастны, при погрузке особенно небрежно бросая ящики, снабженные надписью «Осторожно». Хегер надеется за постройку сарая получить двухнедельный отпуск — по примеру своего коллеги из другой части SSP и поэтому заставляет нас энергичней работать. Обращение его [с нами] тоже стало заметно грубее, теперь он нас то и дело ругает и понукает. Бить пока не бьет, но уже несколько раз замахивался. Хороший немец, но все же скверный человек. *** Прошла еще одна ночь. В домах «маленького гетто» люди пробуждаются, над нашей комнатой раздаются шаги, пора вставать. Хорошо бы натянуть на голову одеяло и спать без конца. Так не хочется видеть эту проклятую улицу Виляну с толпящимися и мерзнущими людьми, этих Дралле (служащий Arbeitsamt’а) и Станке (начальник Arbeitsamt’а, немецкий офицер) с их помощниками. Но лежать нельзя: пойдут искать по квартирам, а накроют — по голове не погладят. На кухне у нас уже возня — кипятят воду. Один за другим лениво покидают постели. В коридоре перед раковиной очередь, с трудом удается кое-как умыться. Все торопятся и нервничают. Сборы на улице Виляну каждое утро — событие. Относительно спокойны евреи, имеющие постоянное место работы. Их забота — скорей стать в свою колонну и с ней выбраться за пределы гетто. Там их ожидает уже известная работа, встреча с уже знакомым начальством — пусть дурным, но все же знакомым. В колонны, предназначенные для разных воинских частей или фабрик, никого из посторонних не пускают, за этим строго следят Oberjuden. Неорганизованные представляют собой дичь, за которой охотятся получившие случайное разрешение на еврейскую рабочую силу. Чаще всего это работа по погрузке или выгрузке пароходов — труд тяжелый, голодный, связанный часто с побоями и издевательствами. Эти люди находятся между двух огней: с одной стороны — страх остаться в гетто и быть накрытым, с другой — неуверенность в сегодняшнем дне. Со всех дворов стекаются люди на улицу Виляну. Издали уже слышны немецкие окрики да скрип снега под мерзнущими шага- ɇȺɑȺɅɈɋɖ ми. У входа, за колючей проволокой то и дело раздаются выкрики, называют всевозможные служебные места: HKP, «Luftwaffe», SSP и т. д. Это вызывают пришедшие за своими рабочими немецкие конвоиры. Обыкновенно это простые рядовые, уже знающие своих евреев. У ворот стража строго пересчитывает колонну, немилосердно «отрезая» всех лишних. Есть менее скверные места работы, и к таким колоннам всегда стараются примоститься лишние, чужие, имеющие иногда возможность стать в самом конце. Если даже посчастливится надуть конвоира, то при контроле у выхода это почти никогда не удается. Несмотря на это, каждое утро много «зайцев», и колонны «отрезают». Быть «отрезанным» плохо потому, что тогда уже нет возможности попасть в другую колонну, может быть, на хорошую работу. Их тут же хватают получившие на них временные права. Особенно усердствует Дралле. Он местный немец, полулатыш, одет в штатское — черное пальто с котиковым воротником, дающее ему возможность незаметно шмыгать среди выстроившихся тесными шеренгами людей. Заметив кого-нибудь, стоящего в стороне, он сзади подходит, хватает за рукав или ворот и, ударяя пойманного резиновой дубинкой, тащит к воротам. Он неутомим и весь поглощен своим занятием. Колонна за колонной покидает улицу Виляну. Есть рабочие места, [как] «Кабель», которые не имеют постоянных рабочих, и каждое утро их заново набирают. Самое отпугивающее на «Кабеле» — отношение начальства. Помимо очень тяжелой работы, производящейся на молу при сильном ветре и морозе, где в получасовой обеденный перерыв негде укрыться, где не дают даже горячей воды, бьют просто из любви к этому делу. Ежедневно с «Кабеля» возвращаются покалеченные. Недавно одному пожилому человеку немец-инженер вышиб сапогом глаз. Синяки и кровоподтеки там считаются обыденным явлением. Добровольно на «Кабель» никто не идет, предпочитая попасть на любую неизвестную работу. Вот к воротам подходит полицейский с запиской на определенное число евреев. Дралле с ним входит на улицу Виляну, как торговец скотом в загон. Полицейский просит людей покрепче, и Дралле с охотой берется за ловлю. В загоне становится все меньше людей. Последнюю сформированную колонну куда-то угоняют, но спрос на нас еще не удовлетворен, и конвоиры с записочками еще ждут у ворот. Отряд полицейских рассыпается по дворам в поисках увиливающих. Из квартир, подвалов, чердаков выгоняют ɗɥɶɦɚɪɊɢɜɨɲɁȺɉɂɋɄɂ Евреи из Рижского гетто, ведомые на принудительные работы по улице Вальню спрятавшихся и больных. Кое-кого пристреливают, остальных, избитых, угоняют на работу. Прошло еще одно обычное, спокойное утро в гетто. *** Вечером меня навещает незнакомый человек. Это Або Сальнер, работает в Государственной библиотеке истопником — пилит дрова и топит печи. Там библиотекарша, по его словам, святая женщина. Они вместе оплакивают судьбу обреченных. Библиотекарша эта дружна с Л[юсей] З[нотынь]. Л[юся] интересуется моей судьбой, и Сальнер согласен разузнать о моей судьбе в картотеке гетто и через библиотекаршу передать ей от меня записку. Пишу ей, назначая день и час свидания. *** У меня, помимо голубей, появился новый способ добывания махорки. Так как наша жилплощадь при нормальном размещении кроватей слишком мала, то все больше входят в моду двухэтажные ɇȺɑȺɅɈɋɖ койки. За устройство такой воздушной койки можно получить пачку махорки, а то и немецкого табака. Доски натаскал из погреба соседнего дома, разобрав стенку дровяного сарайчика. На втором этаже, говорят, легче уберечься от вшей, и поэтому работы у меня хватает. На лестнице каждого этажа нашего дома имеется уборная для нескольких квартир. От перегрузки центральные трубы замерзли и не действуют. Теперь сходить в это место — целое событие. Большинство нашей публики думает только о моменте, забывая, что существуют еще другие люди. Кое-как, стоя на пороге, заливают пол. Все покрыто льдом и вонючей жидкостью. На полу расставлены ведра и банки, но они мигом наполняются, и к ним добраться можно только по положенным досочкам. Многие ходят прямо на двор. Что будет, когда весной все и повсюду начнет таять? Кто думает о весне? Теперь зима, до весны далеко. Теперь мы иногда возвращаемся с работы на машинах. Вот и сегодня, проработав больше обыкновенного, подъезжаем к гетто. Как и всегда, на душе неспокойно, чего-то ждешь. У поворота на улицу Лудзас машину останавливает какой-то немец. Наши провожатые собираются в кучку. Слышатся слова «dicke Luft»69. Брезент на машинах плотно закрывают, приказывают молчать, и через несколько Або Сальнер. Фото 1923 года 69 Опасность (нем.). ɗɥɶɦɚɪɊɢɜɨɲɁȺɉɂɋɄɂ Людмила Знотынь (слева) с подругой Мильдой Буцен на бульваре Бривибас в Риге. Фото конца 30-х годов минут наши грузовики ускоренным ходом мчатся в обратном направлении. Куда — мы не знаем, но по тону провожатых чувствуем, что они хотят нас от чего-то спасти. Есть и среди сволочей люди, редко, но все же есть. Мы не знаем, куда нас везут, мы все же довольны, что проведем ночь вне гетто. Мы опять в том же доме, где нас держали, пока газировали наших вшей, — на углу Елизаветинской и Мариинской. Завтра мы узнаем, что происходило в «маленьком гетто». Теперь нужно отдохнуть. Ходим в одних носках — в доме никто не должен знать, что в одной из квартир 120 евреев. Провожатые привезли нас на свой риск и страх, узнав от стражи, что в гетто неспокойно. Лежим вповалку, холодно, снятся тяжелые сны. Наутро, чуть свет, пока весь дом еще спит, спускаемся тихо по лестнице, выстраиваемся колонной и идем на место работы. В течение дня надеемся узнать, что было в гетто. День проходит, но сведений никаких нет. После почти бессонной ночи день тянется ɇȺɑȺɅɈɋɖ как-то особенно долго, мороз кажется еще жгучей, работа — еще трудней. Вот опять темнеет, день прошел, и под командой Шписа мы опять выстраиваемся колонной, сегодня идем пешком. Прошли Старый город, вот рынок, где [будто] по какому-то негласному распоряжению люди выбегают из колонны и спешат стать у какого-нибудь угла, чтобы потом бегом догонять остальных. Сегодня особенно много желающих облегчиться — это от возбуждения. Гетто нас пугает и в то же время влечет, как магнит. Узнать, увидеть. *** Мы ничего не увидели. В «маленьком гетто» все спокойно, но из «немецкого гетто» вчера увозили [людей] на автобусах. Стража спьяна перепутала. В квартире Крамера сидит адвокат Е. Он производит впечатление сумасшедшего. В гетто его не было два месяца, он скрывался на Церковь Святых Петра и Павла в рижской Цитадели. Довоенное фото ɗɥɶɦɚɪɊɢɜɨɲɁȺɉɂɋɄɂ квартире знакомого латыша, платил большие деньги, но нервы не выдержали вечного напряжения, и сегодня он вернулся в мышеловку. На людях и смерть красна — гласит поговорка. Уже январь, скоро весна, а о разгроме немцев все не слыхать. Под Москвой их будто бы отбили, даже отбросили назад, но Москва так далеко от нас, даже Псков и тот далек. Время тянется бесконечно, а надежда кажется самообманом. Видел Сальнера. Его библиотекарша передала мое письмо Л[юсе] З[нотынь], обещавшей прийти ко мне на свидание. С нетерпением жду. Мерзну за колонной гаража. Вдали на Цитадельной улице появляется высокая женская фигура, быстрым шагом приближающаяся к месту встречи — белой церкви. Иду ей навстречу. Она, видно, меня не узнает, или я ошибся. Она даже не смотрит на меня. Неужели это не она? Неужели она меня больше не знает? Я поворачиваюсь, догоняю и перегоняю ее. Это она, без всякого сомнения, но в последний момент ее покинула смелость, и теперь она спасается бегством. Спасибо ей, что хотя бы пришла. Встреча с нами слишком опасна, а мы это иногда забываем. *** Дети немецких евреев почти исключительно живут нашими подачками. Утром и вечером они нас поджидают, и многие им бросают за проволоку свертки съестного. У некоторых мужчин имеются свои постоянные маленькие друзья, регулярно получающие завтрак и ужин. На квартире рядом с нашей вместе с Крамером живет Аршон. Это большой хамоватый парень, говорят, даже вор. У него «своя» маленькая девочка, о которой он заботится с чисто отцовской нежностью. Для нее у него всегда [припасен] пакетик с чемнибудь «хорошим». Несмотря на строгости, Аршон всегда ухитряется ей [что-нибудь] передать. Сегодня он на работе опять кое-что выменял, и в кармане у него лежит заботливо завернутый пакетик чего-то вкусного. *** Совсем недавно по ту сторону проволочного забора было мертвое царство. После того как отзвучали последние выстрелы, умолк детский плач и окрики пьяных шуцманов, в «большом гетто» воца- ɇȺɑȺɅɈɋɖ Шолом Аршон. Фото 1927 года рилась тишина. Последние следы акций скрыл под своим покровом снег уходящего 1941 года. По опустошенным квартирам с разбитыми окнами и выломанными дверьми гулял ветер. Единственными признаками жизни были узенькие тропинки голодных кошек и случайно забредшей бездомной собаки. Но вот с недавних пор часть «большого гетто» опять ожила. Появились новые обитатели — евреи из порабощенных немцами стран. Сколько их — этого никто точно не скажет, но их немало. Есть чешские, австрийские, бельгийские и даже германские [евреи]. Прислали одиноких, где-то, как-то схваченных, прислали детей без родителей, прислали целые семьи. Они, как и мы когда-то, устраиваются, хлопочут, тащат обломки досок, трубы для печурок, собирают домашнюю утварь. Они, как и мы в свое время, думают и хлопочут о вещах, нужных для жизни, жизни нелегкой, но все же жизни. Из нашей квартиры видна часть улицы Лудзас с примыкающими к ней кварталами. Стоим у окна и молча наблюдаем за суетой людей, привезенных на убой. Каждый из нас невольно устремил взгляд туда, где была еще совсем недавно его каморка. Там теперь возится с уборкой какая-нибудь чужая женщина, в постельке моей девочки, может быть, спит чужой маленький ребенок. Жутко думать, что всех этих людей постигнет та же участь, что где-то, в ɗɥɶɦɚɪɊɢɜɨɲɁȺɉɂɋɄɂ каком-то учреждении уже назначен день, а может быть, и час новой акции. *** Чем больше у нас душевных сил, тем легче нам справиться с голодом. У детей душевных сил мало, они, как маленькие зверьки, голод для них — враг, с которым они не в силах бороться. Страшно видеть голодающих детей. Легче самим голодать, чем пройти мимо голодного ребенка, не поделившись с ним последним. Заграничные, немецкие евреи голодают, с ними — их дети. По сравнению с новыми обитателями гетто, мы пока еще богаты. Наш карточный паек, правда, не слишком велик, скушав недельную порцию хлеба в один прием, все еще чувствуешь голод, но зато у нас некоторая связь с внешним миром, где мы можем у наших «доброжелателей» в лице некоторых солдат, шуцманов и дворников променять золотое кольцо на буханку хлеба, шелковую рубашку убитой жены — на кусок колбасы и т. д. У них этих возможностей пока нет, а жить на еврейский паек, посоленный побоями, в суровую зиму сорок первого — сорок второго года — задача нелегкая. Схема Рижского гетто в ноябре—декабре 1941 года: 1 — ворота «большого гетто»; 2 — «юденрат» и еврейская полиция; 3 — еврейская «биржа труда»; 4 — охрана гетто («вахе»); 5 — Старое еврейское кладбище; 6 — больница «Линат-Гацедек» (впоследствии лазарет СС); 7 — «женское гетто»; 8 — дом на улице Маза Кална, 5, где жила семья Эльмара Ривоша ɇȺɑȺɅɈɋɖ Вид Рижского гетто Наша рабочая группа из 15—16 человек решает всеми средствами поддерживать и подкармливать голодающих, в первую очередь — детей. Уславливаемся, что, уходя на работу и возвращаясь с нее, будем передавать через проволоку пакетики. Поступок противозаконный: вершители наших судеб запретили всякие передачи, всякое сношение с вновь присланными. Некоторые за разговоры и передачу кусочка хлеба были жестоко избиты патриотами с зелеными лентами. Но у многих из нас были дети, может быть, они еще где-нибудь живы, может, они так же протягивают через колючую проволоку ручонки, может, и они жалобно просят и молят добрых людей о подачке. А потом многих [угрозы] перестали пугать, многие к ним привыкли. Дело патриотов — караулить, а наше — их обманывать. Зимний вечер. В гетто возвращаются колонны людей с желтыми звездами. Они стекаются со всех концов города. Каждый раз возвращение волнует. Неизвестно, что за день произошло, кого убили, избили или забрали, неизвестно, что за новые распоряжения появились на заборе у ворот. Неизвестно, бьет ли сегодня стража, или она занята пьянством, а нами в таком случае меньше интересуются. Все это как-то возбуждает, и шаги становятся быстрей, а усталость и голод куда-то на время исчезают. ɗɥɶɦɚɪɊɢɜɨɲɁȺɉɂɋɄɂ Наша колонна сворачивает на Лудзас. С правой стороны тянется забор из колючей проволоки нашего «маленького гетто», слева — «большого», теперь «немецкого». С каждым шагом напряжение в колонне растет, ряды становятся менее стройными, люди стараются скорей узнать или увидеть новое. Сегодня, кажется, контроль серьезный, издали доносятся брань и окрики. Детских голосов не слышно, видны только маленькие фигурки, тесно прильнувшие к заграждению, видим протянутые ручонки. У самого входа в гетто, у полицейского дома, затемненный фонарь слабо освещает остаток нашего пути. У нас сегодня снисходительный провожатый, мы этим пользуемся, и наша колонна подходит как можно ближе к стороне «немецкого гетто». Некоторым удается передать скупые подарки из рук в руки, в ответ летят приглушенные слова благодарности. Мы все уже как будто освободили карманы, да и уж слишком близко подошли к страже, теперь кое-что передать слишком рискованно. Голова нашей колонны почти под фонарем, сейчас начнется контроль, наш провожатый-солдат уже подходит с бумажкой к дежурящим шуцманам, но в этот момент раздается дикий окрик, поток ругательств: — Паршивые жидовские свиньи, кто бросил пачку, сейчас же выходите, или вы все мне за это ответите! По нашим рядам проходит жужжание, все себя чувствуют виноватыми, но каждый уверен, что его не видели. По колонне проносится шепот: — Кто бросил, какой дурак бросил под самым носом стражи? В ответ из задних рядов передают: — Это Аршон, Аршон бросил через проволоку. Наша колонна стала, за ворота нас не пускают. С пьяным, искаженным от гнева и так уже звериным лицом медленными шагами приближается немец. Громко и четко повторяет свой приказ. Все притихли, сейчас что-то должно произойти. И вот за мной раздается громкий голос Ашрона: — Господин лейтенант, я бросил детям хлеба… Короткая, четкая немецкая команда: — Марш сюда! От колонны отделяется крупная, неуклюжая фигура Аршона. Ровным спокойным шагом она приближается к вытянутой фигурке в военном, останавливается в двух-трех шагах от приказавшего. Мы все как-то замерли. Спокойно, холодно и деловито поднимает- ɇȺɑȺɅɈɋɖ «Еврейки из рейха» на улице Рижского гетто ся рука с собачьей плеткой, удар в лицо, еще удар и поток проклятий и брани. Фигура Аршона — как каменная глыба, ее нагайкой не свалить, это делает сильный и точный удар кулака. Избитого, всего залитого кровью, мы втаскиваем Аршона к себе. Мы омываем ему лицо, два передних зуба смываем вместе с кровью. Кто-то спрашивает: — Как, Аршон, завтра дашь девочке свой завтрак? Каким-то чужим голосом звучит ответ: — Как же, ведь ей каждый день хочется кушать. *** Снова пришлось пережить унизительное сознание своего бессилия. Воскресенье, и мы не работаем. Ясный солнечный день. Мы толпимся у дверей нашей лавки на углу улиц Лудзас и Ликснас. За проволокой у костра греется часовой. По Лудзас движется колонна немецких женщин70, они работали на уборке домов в «большом 70 Имеются в виду еврейские женщины из стран Западной Европы. ɗɥɶɦɚɪɊɢɜɨɲɁȺɉɂɋɄɂ гетто». Хочется взглянуть на женские лица, и мы ждем их приближения. На противоположном углу, отделенном от нас двойным рядом колючей проволоки, стоит один из хозяев «немецкого гетто» — фон Копиц. Серое элегантное пальто, зеленая шапочка с пером, в руках увесистая палка с набалдашником. Фон Копиц ждет возвращения своих подчиненных. Усталые женщины с узелками (им разрешают брать с собой найденное съестное) приближаются к углу. Фон Копиц что-то им кричит. Женщины быстрым шагом сворачивают на улицу Ликснас, как видно, сделав слишком маленький круг, приблизившись слишком близко к «фону». С проклятиями и руганью сыпятся удары по не успевшей отойти на должное расстояние колонне женщин. Он бьет, не разбирая куда, — в лицо, в грудь, по голове. — Verfluchte jüdische Schweine71! Постовой солдат щелкает затвором. В бессильной злобе мы стараемся не глядеть. Без единого крика колонна в том же порядке удаляется по улице Ликснас, слышна только брань фон Копица. Гетто молчит. *** Некоторая связь с внешним миром наладилась и у меня. Изредка приходит Мими. Как и в первый раз, я ее принимаю в плотницкой. Была у меня и Л[юся] З[нотынь], но она так боялась, что был рад за нее, когда она ушла. Бежать из гетто некуда. Мими боится меня у себя прятать, да я и сам не хотел бы быть у нее, но мысль о бегстве ни на миг меня не покидает. Сруб нашего сарая уже готов, приступаем к возведению постройки. Вообще-то собирались построить кирпичный фундамент, но ввиду сильного мороза решили строить на сваях. Для этого копаем ямы, в которых ставим метровые бревна толщиною в 35—40 сантиметров. Мороз держится беспрерывно 20—25 градусов, и Хегер большую часть дня проводит в мастерской, выбегая от поры до времени к нам для контроля. Единственный нам доступный вид саботажа заключается в том, что мы зарываем сваи, поддерживающие все здание, льдом, надеясь, что весною, когда лед растает, все здание покосится. Жалкий вид саботажа! 71 Проклятые жидовские свиньи! (нем.). ɇȺɑȺɅɈɋɖ *** Настроение в гетто нервное, все уверены, что скоро будет акция. Сегодня все начальники колонн получили приказ сократить число своих людей на определенное число. Из наших 120 завтра могут пойти в SSP только 80 [человек]. В обязанность Крамера входит вычеркнуть 40 человек, в первую очередь стариков и плохих рабочих. Не зная точно причины, люди постарше панически боятся попасть в число исключенных, будучи уверены, что остаться в гетто равносильно смерти. Бедный Крамер поставлен в тяжелое положение, но действует он строго и решительно. Среди вычеркнутых из списка находится также и Бр[усованский]. Все его просьбы и мольбы оставить его в колонне на Крамера не действуют. Бр[усованский] плачет, умоляет заменить его кем-либо другим, поскольку ему угрожает опасность, обвиняет Крамера в сознательном убийстве — ничто не помогает. Тогда он обращается ко мне с мольбой спасти его и остаться [в гетто] вместо него. Меня удивляет его психология. Он-то уверен, что оставшимся грозит смерть, и ему не стыдно просить товарища по койке спасти его, пожертвовав собой. Я ничего страшного в том, чтобы не пойти в SSP не вижу, и соглашаюсь, но все же Крамер Бр[усованского] с собой завтра не берет. Акции никакой не было, просто ввиду сильного снегопада нужны люди для очистки улиц, вот и велели создать «трудовые резервы». В SSP был плохой день, подавляюще подействовавший на нас. Шпис узнал о встрече Ш. с какой-то «арийкой». Когда он выбежал, то ее уже не было, но у Ш. был пакетик с папиросами и чем-то съестным. Шпис потребовал немедленно назвать имя «преступницы», чего Ш., конечно, не сделал. Тогда немец позвонил в гестапо72, а до прихода полиции бегал по двору с пистолетом в руках, опасаясь бегства Ш. Ш. увели в гестапо, его участь предрешена. Встречам конец. Нужно искать новое место работы и встреч. В SSP больше не пойду, пока опять буду работать в техническом отделе гетто. Наше «маленькое гетто» опять расширяется. Прибыла партия евреев из Литвы. Приехали они совершенно без вещей, даже самых необходимых. Выгнали их утром на работу, а вечером погрузили в 72 Гестапо (нем. Gestapo — сокр. от Geheime Staatspolizei) — государственная тайная полиция, фактически действовала на территории «рейха»; на оккупированных территориях так называли полицию безопасности СД. ɗɥɶɦɚɪɊɢɜɨɲɁȺɉɂɋɄɂ Прибытие в Рижское гетто евреев из Литвы товарные вагоны и отправили в Ригу. Теперь они устраивают себе углы в части пустого и разграбленного «большого гетто», присоединенной к нашему. Мы кое-как чиним двери досками, заколачиваем выбитые окна. Ходят они по домам, нищенствуя. Многие воруют, и нам приходится строго следить за квартирами. Узнаём от литовцев73, что в Ковно74 существует настоящее гетто, что оставшиеся после общей акции евреи живут с семьями, что разрыва семейств там не было. Вообще того, что [было] в Латвии, в Литве не наблюдалось. Видно, все же многое зависит от активности и сочувствия местного населения. Да и то характерно, что не нас посылают в Литву, а литовцев к нам75. 73 74 То есть литовских евреев. Ковно — историческое название города Каунаса в Литве. В августе 1941 года в его пригороде Слободке (Вилиямполе) было устроено гетто, куда были согнаны 29 760 евреев, в том числе из Германии, Австрии, Франции и других стран Европы. Девятый форт Каунасской крепости был превращен в лагерь уничтожения, где проводились массовые расстрелы евреев. 75 Судьба еврейского населения Литвы вряд ли может считаться лучшей, чем у евреев Латвии. Так, в Слободке 25 июня 1941 года за одну ночь местными коллаборационистами были убиты около 800 евреев, сожжены ɇȺɑȺɅɈɋɖ *** Некоторые из крамеровской группы уже нашли себе новые места работы. Лучшим из них считается «Quartieramt». Там в погребе они встречаются со свободными людьми, процветает меновая торговля и всякие купли-продажи. Пока там еще никого не поймали, и почти «безопасно». На большинство «хороших» мест работы можно попасть, уплатив Oberjude определенную сумму, а она бывает солидной и в отдельных случаях даже крупной. Есть места работы, по-разному хорошие и плохие. Так, в одном — хорошее питание, но строгий надзор и грубое обращение, в другом — тяжелая работа на голодный желудок, зато относительная свобода. Большинство мест, конечно, плохо во всех отношениях, но есть редкие исключения, где и то, и другое сносно. К последним принадлежат предприятия, где работают всего несколько человек, главным образом в качестве специалистов. Я интересуюсь местом работы с относительной свободой. Жить, работая только в гетто, становится невозможно из-за голода, запасы все вышли, а на карточки работающему человеку не прожить. *** Встретил старого знакомого Вальденберга. Он работает у своего друга — инженера Аккермана, имеющего что-то вроде строительной конторы. Всего в рабочей группе пять человек, все ремесленники, за исключением самого Вальденберга, являющегося их старшим. Работа там нетрудная. Кормить, правда, не кормят, но зато нет надзора. Вальденберг обещает мне поговорить с Аккерманом и устроить [меня] там плотником. Бежать из гетто все равно нужно, а угадать точно момент никто не в состоянии. В нашем положении действовать — значит потерять или выиграть, бездействие же означает бесспорный проигрыш. У меня на руках появились какие-то незаживающие ранки. Одна из них становится все больше и не заживает. На голове тоже что-то в этом роде. Думаю, что от недостатка питания, а может, каеврейские дома и осквернены синагоги. В первые же недели германской оккупации ими было уничтожены около 4000 евреев в Каунасе и около 2000 — в Вильнюсе. До середины октября 1941 года на территории Литвы было убито свыше 80 тысяч евреев ɗɥɶɦɚɪɊɢɜɨɲɁȺɉɂɋɄɂ кая-нибудь инфекция. С нетерпением жду ответа от Аккермана, пока что чиню квартиры литовских евреев. Многие из них не хотят выйти на работу вне гетто и скрываются. В связи с этим участились облавы и контроль остающихся. Мы, рабочие технического отдела, снабжены соответствующими бумажками с печатью Arbeitsamt’а, но несмотря на это, нас тоже иногда ловят, лупят и отправляют на какую-нибудь срочную работу. Каждый вечер чего-то ждут, и это треплет и так уже расшатанные нервы. Ночью прислушиваемся ко всякому шороху, к шагам на лестнице, к выстрелу на улице. Снятся то вкусные блюда, близкие люди, то картины «акций» и убийств. Январь подходит к концу, на Восточном фронте «без перемен». Аккерман дал согласие взять еще двух евреев — плотника, [т. е.] меня, и жестянщика. Вальденберг поручает мне такового найти. Ремесленников осталось мало, но в конце концов нахожу одного из уцелевших. Это парень лет 25—26, зовут его Бушкин. Узнав, что на месте работы можно встречаться с христианами и менять вещи на продукты, он с радостью хватается за эту возможность. Мы уславливаемся утром встретиться на улице Виляну у входа. Я почему-то не сомневаюсь, что скоро распрощаюсь с гетто, но никому о своих планах не говорю — предатели имеются даже среди нас, а болтунов еще больше. Нисон Бушкин. Фото 1927 года ɇȺɑȺɅɈɋɖ Теперь каждое утро усердно «отрезают» колонны. Нужны рабочие в порт и на «Кабель». Люди стараются приходить на улицу Виляну как можно раньше, чтобы занять место в начале колонны. Очень боязливые выходят почти ночью. Если посланный за нами конвоир опоздает и придет после выгона на работу, он рискует нас не найти, а мы — попасть в порт или на «Кабель». За аккермановскими людьми приходит его родственник Жанис, хороший парень, но пьяница, и Валленберг все время нервничает — только бы Жанис не опоздал. Но все в порядке: у Жаниса на записке с печатью Arbeitsamt’а красуется отметка «5 Juden»76, и нас, аккуратно пересчитав, выпускают за проволоку. Чтобы сократить путь, Жанис ведет нас через железнодорожное полотно к Рыцарской улице77. Через полотно дороги переходить воспрещается, но еще темно, и можно проскочить мимо постов. Странно проходить по городу не в колонне, а маленькой группой с гражданским конвоиром. Проходим по Столбовой улице78 мимо дома, где я вырос. Дом на месте, улица та же, но как все изменилось с тех пор, когда я мальчиком с деревянной шашкой в руке мчался с ребятами нашей дворовой команды воевать с другими мальчишками. Шагаем мимо кино «Северный полюс», куда меня с сестрой повел папа на первый для нас фильм «Фальшивый купон». Теперь вся наша жизнь кажется какой-то фальшивой подделкой. Входим во двор дома по Стрелковой79, 17, — место нашей работы. Во дворе маленький домик — склад материалов и нечто вроде мастерской. Там уже несколько русских парней и старик-плотник, тоже русский. Первый раз за все время [войны] чувствую, что попал в среду людей, нас не презирающих, относящихся к нам подружески — [как] к союзникам. От них же узнаём последние сведения с фронта — советскую сводку. Становится легче на душе. Работа наша заключается в мелких ремонтах в целом ряде домов на этой улице. Работаем без звезд вместе с христианами. Никто не понукает, не ругает. Удрать проще простого, но удрать невозможно по разным причинам. Во-первых, некуда, а кроме того, это сейчас же, при возвращении группы, станет известно начальству, и 76 77 78 79 5 евреев (нем.). Историческое название улицы Бруниниеку. Историческое название улицы Стабу. Русское название улицы Стрелниеку. ɗɥɶɦɚɪɊɢɜɨɲɁȺɉɂɋɄɂ Двор на улице Стрелниеку, 17. Современный вид начнутся всякого рода репрессии к остальным. Остается навести связь с внешним миром. В обеденный перерыв беру молоток, сверло и ручную пилу, надвигаю шапку поглубже на глаза и ухожу. У меня за последние месяцы выросли солидные рыжие усы, делающие мое лицо чужим. Я спокойно, быстрым шагом иду к Николаевской улице80 по тротуару. Мимо проходят военные, люди с зелеными повязками, но на меня никто не обращает внимания — мало ли рабочих ходит по городу. Интересно, как меня встретит Руди А[нкравс]? Я уже несколько месяцев ничего о нем не знаю. Живет ли он еще на Николаевской, 63? В воротах дома сталкиваюсь с каким-то жильцом, спрашиваю, где живет А[нкравс]? Получаю любезный ответ и стучу в указанную дверь. Впускает меня женщина в халате, в которой узнаю жену А[нкравса] Виву. Мы друг друга не знаем — мельком раз ее видел. Руди нет дома, но она меня не отпускает. Усаживает за стол, уго80 Историческое название улицы К. Валдемара. ɇȺɑȺɅɈɋɖ щает кофе с концентрированным сладким молоком, передо мной появляются бутерброды с сыром, ветчиной. Мне неловко, но пью стакан за стаканом, а бутерброды тают во рту. Тепло и уютно — как сказочно хорошо жить на свободе! Руди ушел по делу, и неизвестно, когда вернется. Прошу ему передать, что был и прошу [его] завтра зайти в домик во дворе [на] Стрелковой, 17. Риска нет — туда ходит много всевозможных людей. На прощанье Вива мне сует в карман пакет съестного и папиросы. Есть хорошие люди, но почему их так мало? Жанис обделывает с евреями разные делишки. Больше всего его интересуют принадлежности дамского туалета — чулки и обувь. За них [у него] можно получить шпик, хлеб и масло. Бушкин не зевает и обменял шелковые чулки и дамскую сорочку на масло. Он его разрезал и, упаковав в плоские пакетики, запрятал под одеждой. Меня он тоже упросил перенести через ворота гетто пакетик. Сую его между [телом и] рубахой под поясом. Опять пересекаем полотно железной дороги, но на этот раз нас замечают патриоты в повязках. — Куда ведешь своих жидов?! Жанис что-то бормочет в оправдание. — Ну, смотри — еще раз поймаем, отправим всех туда, где их жены скучают! Последние слова резанули, как ножом. Неужели они знают, что наши убиты, и только мы не смеем этому поверить и надеемся?! *** Жду с нетерпением завтрашнего дня — что скажет Руди, придет ли? Вечером захожу к Сереже Гуревичу. Живет он теперь с А[ликом] Герцфельдом, Николаем и еще с кем-то в доме напротив нашего. Они устроились сравнительно хорошо. Даже фотография отца А[лика] красуется на столике рядом с его кроватью. Сережа променял кое-какие вещи на цианистый калий. Говорит, что это самое ценное и необходимое, но его трудно получить. Он знает о моем намерении смыться, но просит как-нибудь раздобыть коробку, запрятанную мною в подполье на улице Маза Кална. У меня тоже [папины] золотые часы и несколько колечек там зарыты. Нужно ɗɥɶɦɚɪɊɢɜɨɲɁȺɉɂɋɄɂ будет как-нибудь попасть в «немецкое гетто» и забрать, не знаю только, как это устроить. *** Анкравс не побоялся и встретился со мной. Предложил у него скрываться, он уверен, что в ближайшие месяцы немцев разобьют, и согласен рисковать. Теперь у меня осталась задача попасть к себе на Маза Кална, а потом удрать. Для ремонта печей нужна глина, а она лежит на территории «большого гетто». Антоколь получил разрешение отправить туда за глиной под конвоем несколько человек, [и] я в их числе. Глина замерзла, ее приходится ломать, работа затягивается, и наш конвойный солдат уходит погреться. Я пользуюсь этим и исчезаю в «немецком гетто». Стучусь в свою бывшую квартиру. Там уже живут немецкие евреи — две женщины и худой, болезненный мужчина. В комнате опять порядок. Вещи все знакомые. Нет только детской кроватки — она не нужна. Под плитой аккуратно сложены дровишки из когдато наших стульев. Объясняю, кто я и зачем пришел. Женщины ахают, роняют слезы, но дело делом и своя выгода на первом месте — [они] дают мне топор, предварительно заручившись обещанием принести им за разрешение ломать пол шпик или масло. Лихорадочно выламываю доску — как будто ошибся местом. Но нет — вот коробка. До свидания, дорогие немецкие евреи! Все проходит благополучно, конвойный ничего не заметил. Мы минуем ворота, таща сани с глиной и кирпичами. Сегодня последний день, еще одна ночь в гетто, что будет завтра — неизвестно. На меня находит глупая сентиментальность. Хочу проститься с друзьями, больше всего тянет к Толе — двоюродному брату Фени. У него альбом с ее снимками. Я могу взять любой. Выбираю маленькую карточку, где она на пляже с подругой [Раей]. Карточки Али и Фени мирно лежат рядом в моем бумажнике. Толя — полицейский-орднунгист81 и уверен, что знает больше других о положении в гетто, советует еще не уходить: в гетто, мол, безопаснее. Может быть, [он] прав, но пусть каждый живет своим умом. 81 Ordnungsdienst — служба порядка (нем.). Так официально называлась еврейская полиция в Рижском гетто. ɇȺɑȺɅɈɋɖ Утром 4 февраля 1942 года ухожу с колонной Сережи в Quartieramt. Людей [в колонне] много — [это] самая большая рабочая группа. Считают кое-как, отсутствие одного человека [при возвращении] не заметят. В карманах у меня бритвенные принадлежности и разная мелочь. Звезды отпороты и держатся лишь на булавках. Еще полумрак, и на улицах мало народу. В длинном здании Quartieramt’а, бывшем ЗАГСе, люди расходятся по местам своей работы. Я захожу в уборную, снимаю звезды и выскальзываю на улицу. Через узенькую щель между домами выхожу на Яковлевскую82. Прощайте, друзья, прощай гетто! 82 Историческое название улицы Екаба.